Алексей Паевский и Анна Хоружая ВООБЩЕ ЧУМА! История болезней от лихорадки до Паркинсона
Научпоп Рунета
0.0 Введение
Позвольте представиться. Нас зовут Алексей Паевский и Анна Хоружая. Когда мы встретились четыре года назад, один из нас был уже опытным научным журналистом, а другая — молодой студенткой-медиком, делающей первые шаги на этом поприще. Так возникли отношения «учитель-ученик».
Но научная журналистика — это, на самом деле, средневековое ремесло, в котором ученик лепит горшки, а учитель их разбивает и требует переделать. Поэтому требовалось место, где можно было бы много писать. Так возникла идея создать совместный блог. Анна предложила блог по истории медицины, однако сильно сомневалась, что такого еще нет в рунете. Мы спросили у опытнейшего медицинского журналиста и блогера Алексея Водовозова, есть ли такой блог в природе, и получили ответ: «Если сделаете, то будет». Так мы стали соавторами. Блог появился в июле 2015 года и за месяц стал популярным.
Чуть позже мы создали портал Neuronovosti.Ru и начали время от времени писать исторические материалы по неврологии. Постепенно выкристаллизовался жанр «истории о болезнях». Мы не руководствовались каким-то специальным принципом, о какой болезни сейчас писать — что «зацепило» в данный момент, о том и рассказывали своим читателям. Издательство ACT любезно предложило нам издать эти истории. Мы переработали и дополнили процентов на 80 наши старые материалы и написали новые. Не все уместилось в первый выпуск, но так или иначе, перед вами — двадцать две нозологии из многих тысяч, которые знает Международная классификация болезней. Конечно, первая книжка получилась со значительным неврологическим уклоном, профессиональная деформация в действии. Но есть и другие истории, и не только о неврологии. А, значит, возможно, будет и продолжение «Историй о болезнях». Задел уже есть.
Нельзя не сказать «спасибо»: во-первых, Алексею Водовозову за идею блога, во-вторых, Анне Гуллер из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии за то, что постоянно снабжала нас редкими статьями и книгами, из которых мы почерпнули массу ценной информации для книги, а также сэру Джеймсу Хью Кэлему Лори, создавшему на экране незабываемый образ врача, и обратившего внимание всего мира на многие редкие и забытые заболевания.
1.0 Чума
Если выбирать среди заболеваний такое, которое может претендовать на то, чтобы стать синонимом самого выражения «смертельная болезнь», то долго искать не надо. С древних времен и до космической эры это была и будет чума. Действительно, латинское «pestis» в переводе означает просто «зараза», и слово «мор» в древнерусской летописи тоже будет, вероятнее всего обозначать чуму, а писатели-фантасты, пытаясь придумать заболевание, которое будет убивать целые планеты, не долго думая, называют его космической чумой[1]. «Чума на оба ваши дома» — страшное проклятие из Шекспира — предполагает смерть представителей как Монтекки, так и Капулетти. А поговорка «пир во время чумы» стала названием одного из произведений великого Пушкина.
Это неудивительно, ведь чума на самом деле такое заболевание — смертельное и заразное, которое могло уничтожать целые города и страны.
Смерть от чумы действительно страшна — человек покрывается болезненными наростами, превращающимися в язвы, или не менее болезненными раздувающимися лимфатическими узлами (бубонами), пульс взлетает до 140, появляется аритмия, пневмония с кровохарканьем… У чумы много форм: легочная, кожная, бубонная, иногда — септическая или мгновенная, развивающаяся очень быстро. Результат был один — смерть. До появления работающей терапии заразиться чумой было практически равно смертному приговору: 95 процентов заболевших бубонной формой и 100 процентов легочной умирало. Если началась эпидемия, единственным спасением было запереться в доме и никуда не выходить — может быть пронесет.
Сейчас мы знаем, что болезнь вызывается бактерией, а переносится блохами от грызуна к человеку. Но тогда, конечно, эпидемия навевала ужас.
Чума в истории
Крошечная бактерия Yersinia pestis оставила глубочайший след в культуре и истории человечества. Чума упоминается в Библии — и не раз. Вот, например, из Первой книги Царств, когда Господь насылает кару на филистимлянский город Азот: «И отяготела рука Господня над Азотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами, в Азоте и в окрестностях его».
Уже в древности чума вызывала не просто эпидемии — пандемии, когда смертельное заболевание поражало практически всю Ойкумену. Первая пандемия, известная нам, случилась в VI веке нашей эры при византийском императоре Юстиниане I. Точнее, «Юстинианова чума» началась при нем, в 541 году, сам император умер четверть века спустя, в 565 году, а чума, вышедшая из Египта, еще 15 лет гуляла по всему обитаемому миру. А отдельные эпидемии не прекращались еще два века. Кстати, недавно немецкие ученые воссоздали штамм возбудителя этой чумы. Исследование было опубликовано в журнале Molecular Biology and Evolution.
Анализ генома бактерии показал, что Юстинианова чума была вызвана той же бактерией Yersinia pestis, что и бубонная чума, разразившаяся в середине XIV века. Ученые выявили 30 уникальных для штамма чумы мутаций и структурных изменений, которые «помогли» бактерии стать особо смертоносной.
XIV век принес в Европу «Черную смерть» — пандемию чумы, пришедшую из Китая. Тогда в результате бушевавшей в 1346–1363 году чумы вымерла треть населения нашего континента — 25 миллионов человек. Кстати, про «черную смерть», термин, ставший синонимом названия болезни, нужно сделать отступление: никто в XIV веке так чуму не называл. «Огромная смертность», «великая опасность», «великая чума»… Только в XVII веке голландец Иоанн Понтан, описывая эпидемию, вспомнил фразу Сенеки atra mors. Но забыл, что на латыни atra переводится не только, как «черный», но и как «много». Когда Блок писал «нас тьмы и тьмы», он тоже не имел в виду, что мы — афророссияне… Так и закрепился ошибочный перевод в европейской литературе. А ведь потом она возвращалась: «Вторая чума» 1361 года, «Третья чума» 1369… Пандемия коснулась даже такой крупной и богатой республики как Господин Великий Новгород: археологи фиксируют резкое сокращение территории города в это время, а псковские летописи оставили даже описание самого заболевание: «Бысть во Пскове дроугый мор лют зело, бяше тогда се знамение: егла кому где выложится жолоза, то въскоре оумираше». Здесь четко описано образование бубонов, набухших лимфоузлов. Редкость для древнерусских текстов.
Именно чума сформировала понимание заразной болезни, именно она помогла придумать первые меры обеззараживания и карантина, а одеяние чумных докторов стало чуть ли не символом средневековой медицины (да, каемся, и одной из картинок-заставок нашего блога).
Кстати, нужно сказать, что не вся «чума» оказалась на поверку чумой. Современные исследования, опирающиеся на изучение ДНК останков жертв, показывают, что, например, знаменитая Афинская чума, разразившаяся на втором году Пелопонесской войны в 430 году до нашей эры и спутавшая все планы великого полководца Перикла, не была чумой. В 2006 году была опубликована работа по изучению ДНК зубной пульпы останков людей, умерших в эту эпидемию. Никакой бактерии чумы в останках не обнаружено. А вот возбудитель брюшного тифа присутствует.
Именно чума стала первым бактериологическим оружием — как в кавычках, так и без. Средневековые источники часто упоминают, как при помощи трупов умерших заражали воду, трупы катапультировали через стены осажденных городов (так было, например, при осаде Каффы), а во время Второй мировой войны японский отряд 731 экспериментировал в Китае, Манчжурии и Корее, заражая местных жителей (отметим, что отряд вообще занимался оружием массового поражения, и в его состав входили самые разные группы, в том числе и работавшие с сибирской язвой, холерой и тифом, но по чуме была отдельная выделенная группа). Японцы вывели штамм, в 60 раз вирулентнее природного, и создали специальные керамические бомбы, которые были начинены инфицированными блохами. К счастью, до применения дело не дошло, а руководители группы предстали перед судом на Хабаровском процессе, который, к сожалению, распиарен меньше Нюрнбергского.
Для того, чтобы справиться с чумой, нужно было понять, как она возникает и открыть ее возбудителя. Удивительно, но это случилось уже после открытия микробов, которые вызывают такие болезни, как туберкулез, сибирская язва, дифтерия и холера. И сделали это два удивительных человека, проживших меньшую часть своей жизни в Европе.
Японский гений Китасато
Сибасабуро Китасато родился 29 января 1853 года в небольшом селе Окуни в провинции Хито на острове Кюсю. Сын сельского старосты, он решил поначалу делать военную карьеру, однако родители посоветовали ему стать врачом и поступать на медицинский. В 1872 году в Японии уже закончился период Эдо, время сегуната, и уже началась эпоха Мэйдзи. Япония стала открытой страной, в ней появились иностранцы — в гораздо большем количестве, чем раньше. И во время обучения в медицинском училище города Кумамото, совсем недавно бывшем столицей феодального княжества Кумамото, Китасато повстречал голландского врача Константа Георга ван Мансвельта (1832–1912). Этот человек был еще из тех голландцев, которых допускали в Нагасаки — единственный порт в Японии, принимавший европейские корабли в период изоляции. Именно ван Мансвельт распознал медицинский и научный талант Китасато. Он направил юношу в столицу, рекомендовав ему продолжить обучение в Европе.
В 1875 году юноша поступил в медицинское училище в Токио. Учился упрямый Китасато сложно, порой конфликтовал с бюрократией — и в итоге, когда он окончил это училище, получив степень в 1883 году (!), это уже был медицинский факультет Токийского университета. В 1885 году первый в Японии профессор бактериологии Огата Манасори направил толкового 32-летнего ученого, своего ученика, на стажировку в Берлин, к знаменитому Роберту Коху, где через стенку с ним работал другой ученик — Адольф Эмиль фон Беринг, с которым они стали друзьями.
В 1889 году Китасато впервые в мире выделил культуру опаснейшей бактерии — столбняка, о чем сообщил 27 апреля 1889 года на съезде немецких хирургов. Через год Китасато сделал важнейшее открытие, сумев доказать, что в поражаемых столбняком нервах нет самой бактерии Clostridium tetani. Нервы убивает выделяемый ею тетанотоксин. И уже через год они вдвоем с Берингом разработали сывороточную терапию столбняка, а затем и дифтерии. И Китасато, и Беринга десять лет спустя номинируют на Нобелевскую премию по физиологии или медицине 1901 года — самую первую «медицинскую нобелевку» в истории. Но вот несправедливость: Берингу премию дадут, а Китасато — нет, хотя статус премии позволял ее разделить. Печально, тем более, что у Китасато к тому моменту заслуг было уже гораздо больше. Интересно, что, работая у Коха, Китасато создал еще и собственный вариант химической посуды: толстостенную колбу для вакуумного фильтрования. У нас эту колбу принято называть колбой Бунзена или Бюхнера, но можно встретить и название «колба Китасато».
В 1892 году Китасато вернулся в Японию уже в статусе профессора медицины. И здесь у него произошел конфликт с его учителем. Дело в том, что в Стране Восходящего Солнца тоже была заметна заболеваемость странной болезнью бери-бери, что означает на сингальском языке дважды повторенное слово «слабый». Дословно я бы перевел это название как «слабый в квадрате». Питавшиеся рисом заключенные или военные «получали» довеском комплекс из трех неврологических проблем: энцефалопатию Вернике (поражение среднего мозга — нарушение координации движений — атаксия, параличи, нарушения зрения, сумеречность сознания), корсаковский синдром (невозможность запоминать текущие события — часто бывает с алкоголиками по той же самой причине, что и при бери-бери), и их комбинацию — синдром Корсакова-Вернике.
Теории возникновения этого заболевания тоже существовали, даже две. Поскольку в «режимных» бери-бери в питании всегда фигурировал рис, его быстро начали подозревать. Одна теория считала, что в рис попадает некий яд, другая — что в рисе не хватает жиров и белков. Как мы увидим, принципиально вторая теория была лучше.
Бактериолог Огата решил, что раз сейчас в мире мода на открытие новых инфекций, вот и его ученик отличился, то и бери-бери вызывается микробами. А он был главным авторитетом в науке Японии на то время. Но вот беда — в 1890 году уже вышла статья Христиана Эйкмана «Полиневрит у цыплят» (о нем читайте в главе «Тиаминовые истории»), которая показала, что если кормить людей нешлифованным рисом, то бери-бери не возникнет. Потом (в 1901) году стало ясно, что рисовая шелуха содержит тиамин, то бишь витамин В, и его-то отсутствие и вызывает все симптомы. Но уже после выхода статьи будущего нобелевского лауреата 1929 года стало понятно, что микробы к бери-бери имеют такое же отношение, как кометы к эпидемии гриппа (была и такая версия).
Вернувшийся Китасато осмелился спорить со своим учителем. А спор с учителем в Японии — это совсем не то, что спор с учителем в Германии (Китасато часто спорил с Кохом, а после его отъезда с Кохом разругался Беринг). Дома его объявили чуть ли не предателем, однако Китасато уже нахватался европейской предприимчивости к своему упрямству. Тем более, став первым японцем-европейским профессором и отвергнув предложения ведущих западных университетов (после открытия столбнячного токсина он был экзотической звездой европейской науки), Китасато мог рассчитывать на большее, чем подобострастно взирать на профессора Токийского университета.
Поэтому наш герой нашел, как сейчас модно говорить, инвесторов, и открыл Институт инфекционных болезней, став во главе одного из первых научных институтов страны (кстати, двух своих благотворителей, вложивших деньги в институт и быстро вернувших средства за счет производства сыворотки от столбняка, Китасато бесплатно лечил до конца их дней).
Через два года после возвращения в Японию главного инфекциониста страны (Китасато то бишь — кто теперь вспомнит Огату) по просьбе правительства направили в Гонконг. Там разразилась эпидемия чумы. И именно там два человека независимо друг от друга открыли возбудителя чумы — Александр Персеи (кстати, тоже связанный с дифтерией — он открыл дифтерийный токсин вместе с Эмилем Ру) и наш герой.
Позже в литературе развернулись настоящие баталии на тему — открыл ли Китасато возбудителя или нет (в открытии Иерсена никто не сомневается). Однако сейчас принято считать, что Китасато все же выделил именно Yersinia pestis, возбудителя чумы, который носит имя французского сооткрывателя, а то, что его первые сообщения были очень неопределенны, и что Китасато сначала не смог определить, грамположительные или грамотрицательные эти бактерии, объясняется тем, что его культура была загрязнена пневмококками.
Что же, можно сказать, что на этом научная история Китасато заканчивается, но на смену исследователю, который и к своей 42-й годовщине совершил немало открытий, пришел выдающийся организатор медицины. Который часто фокусировался именно на чуме. Так, в 1911 году мы застаем его борющимся с эпидемией чумы в Манчжурии, в том же году он возглавляет японскую делегацию на международной противочумной конференции в Мукдене… В 1913 году он, сын сельского старосты, получает за научные и медицинские заслуги титул дансяку (некий аналог баронства)… И тут же снова ввязывается в конфликт — годом позже его институт инфекционных болезней включают в состав Токийского императорского университета, альма-матер Китасато, «назначившей» его предателем — Китасато выходит в отставку в знак протеста и тут же организует маленькое скромное заведение: Институт Китасато…
Он дожил до 78 лет и умер от инсульта. До конца дней он что-то делал: организовал фирму по производству термометров (существует и поныне), создал и возглавил Медицинскую ассоциацию Японии…
А напоследок — еще один примечательный факт. В 2015 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине получил Сатоши Омура, сумевший выделить из почвы бактерии-производители препаратов против гельминтов, вызывающих страшные заболевания в Азии и Африке — речную лихорадку, слоновую болезнь… К тому времени Омура полвека проработал в Институте Китасато: главном наследии первооткрывателя бактерии чумы.
Гражданин мира Йерсен
Еще один герой борьбы с чумой, который точно и безоговорочно открыл чумную палочку и внес большой вклад в победу над самой чумой, был поистине гражданином мира. Он родился в Швейцарии, жил в Германии, Франции, на судах, в Гонконге и в Меконге, а последние 40 лет из своих 80 прожил во Вьетнаме. Он не застал своего отца, тоже Александра Йерсена, преподавателя естественных наук в колледжах Моржа и Обона, но любовь к познанию нового, видимо, передалась Александру Иерсену-сыну по наследству.
…В 1935 году Йерсен признавался внуку Луи Пастера, что стал микробиологом, потому что в молодости прочитал книгу о Пастере и решил попасть в этот дивный мир великих ученых. Сказал — сделал! Сначала учился медицине в швейцарской Лозанне, затем — в немецком Марбурге, а затем — в вожделенном Париже. И юноша сумел обратить на себя внимание! В 1886 году, когда ему исполнилось всего 23, знаменитый Эмиль Ру пригласил его работать в Пастеровскую лабораторию в Эколь Нормаль Супериер. Работать у самого Пастера, кумира юности!..
Йерсен сразу же включается в научную работу — вместе с Ру они разрабатывали вакцину от бешенства. Двумя годами спустя он защитил докторскую диссертацию, посвященную экспериментальному исследованию развития туберкулеза (читайте в нашей книге главу об этом заболевании), работал два месяца у Коха…
В следующем году Йерсен — уже сотрудник свежесозданного Пастеровского института — снова по приглашению Ру, и снова вместе с Эмилем они трудились над разгадкой тайн микробов. На этот раз им противостояла дифтерия. И именно Ру с Йерсеном поняли, что не сам микроб убивает человека, а выделяемый им токсин. Это чуть позже поможет Эмилю Берингу создать противодифтерийную сыворотку и получить Нобелевскую премию.
А Йерсена после открытия захватила муза дальних странствий. В 1890 году он внезапно уезжает во Французский Индокитай — работает врачом на судах Messageries Maritimes, курсировавших по маршруту Сайгон-Манила, а затем — Сайгон-Хайфон, участвует в качестве врача-исследователя в знаменитой экспедиции Огюста Пави по Меконгу…
В 1894 году французское правительство направило Йерсена в Гонконг, где разразилась эпидемия маньчжурской легочной чумы. Английские госпитали закрыли перед ним двери, и Йерсен расположился в маленькой хижине, где занялся изучением болезни. Удивительно, но в условиях, гораздо худших, чем были у Китасато, он получил лучшие результаты и выделил возбудителя чумы на пару дней раньше. О том, что возбудитель чумы найден, Александр Йерсен объявил 20 июня 1894 года.
Но Йерсен, в отличие от Китасато, не остановился на этом. Он сумел доказать, что те же самые бациллы, которые потом назовут в его честь Yersinia pestis, присутствуют в грызунах, что наводило на мысли о способе передачи заболевания: блохи. Этот результат был доложен в том же году Французской академии наук старшим коллегой Иерсена, Эмилем Дюкло.
В 1895 году Иерсен вернулся в Париж — на два года, продолжить работы над чумой в более оснащенной лаборатории. Нужно было придумать способ борьбы с болезнью. Сывороточная терапия тогда уже была освоена, и Иерсен вместе с Ру, Альбером Кальметтом (вы узнаете о нем чуть больше, когда прочитаете про вакцину БЦЖ в главе про туберкулез) и Амадеем Боррелем (в честь которого названа вызывающая боррелиоз бактерия Borrelia) разработали противочумную сыворотку и вакцину. После чего Иерсен счел свой долг науке отданным и уехал в Индокитай. Навсегда. 8 января 1902 года он стал первым главой Ханойского медицинского университета и проработал на благо своей новой родины более 40 лет, умерев во время японской оккупации Вьетнама. Иерсена очень чтут во Вьетнаме, но почти забыли в родной Швейцарии. Говорят, к 120-летию со дня открытия чумной палочки посол Швейцарии во Вьетнаме уговорил известного швейцарского режиссера Стефана Клееба снять о Иерсене полуторачасовой документальный фильм.
И напоследок два маленьких факта: во-первых, Александр Иерсен был семь раз номинирован на Нобелевскую премию по физиологии или медицине за открытие возбудителя чумы (одна из номинаций была еще и за создание противочумной сыворотки). А во-вторых, вьетнамские буддисты считают Иерсена бодхисатвой — существом, достигшим просветления, но отказавшегося от нирваны ради спасения других. Жаль, что человечество лишилось шанса иметь нобелевского лауреата-бодхисатву, в честь которого назван возбудитель чумы.
Можно ли победить чуму?
Итак, Иерсен, Ру, Кальметт и Боррель создали сыворотку и вакцину против чумы. Это заметно снизило и заболеваемость, и смертность. Но эпидемии продолжались. Перелом наступил после Второй мировой войны, когда были открыты и получили распространение антибиотики. Смертность от чумы упала до 5-10 %, однако надеяться на то, что чума полностью исчезнет с лица Земли, подобно оспе, не приходится. Если вирус без человека жить не может, то у бактерии чумы есть природные резервуары. Она преспокойно выживает в земле. И поэтому ежегодно в мире регистрируются новые заболевания без тенденции к снижению уровня. По данным ВОЗ, в 2010–2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 со смертельным исходом.
Как бактерия выживает в земле? Недавние исследования показали, что Yersinia pestis может жить внутри встречающихся повсюду в земле одноклеточных амеб. Такую способность им обеспечивает выделение белка, который защищает бактерию от пищеварения протиста. Об открытии сообщается в журнале Applied and Environmental Microbiology.
Ученые по отдельности вырастили три штамма чумной палочки, связанные с эпидемиями, вместе с распространенным лабораторным штаммом свободноживущей почвенной амебы Acanthamoeba castellanii в среде, благоприятной для последней. Потом они убили всех находящихся вне клеток амеб бактерий, затем лизировали (разложили ферментами) самих амеб и поместили результат в среду, благоприятную для роста бактерии. Только после успешного лизиса им удалось вырастить палочку.
Полное собрание русских летописей. Т. V, вып.2. с.27 «DNA examination of ancient dental pulp incriminates typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens». International Journal of Infectious Diseases 10 (3): 206–214. DOI: 10.1016/j.ijid.2005.09.001.
Howard-Jones, Norman (1973). «Was Shibasaburo Kitasato the Co-Discoverer of the Plague Bacilllus?». Perspectives in Biology and Medicine. 16 (Winter): 292–307. doi:10.1353/pbm. 1973.0034.
Solomon, Tom (July 5, 1997). «Hong Kong, 1894: the role of James A. Lowson in the controversial discovery of the plague bacillus». Lancet. 350 (9070): 59–62. DOI: 10.1016/S014PMID 921 7728 La Peste Bubonique A Hong-Kong (Ann. Inst. Pasteur. 8: 662–667).
Yersinia pestis resists predation by Acanthamoeba castellanii and exhibits prolonged intracellular survival. Javier A. Benavides-Montaho and Viveka Vadyvaloo. Applied and Environmental Microbiology.
Posted online 28 April 2017, DOI: 10.1128/AEM.00593-17 /
2.0 Туберкулез
Около 1485 года на свет появилось знаменитое полотно «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли. Далеко не все знают, что на самом деле на этой картине не просто некий абстрактный мифологический сюжет. Любой флорентиец тех лет узнал бы в боттичеллевской Венере первую красавицу Флоренции, жену родственника знаменитого мореплавателя Америго Веспуччи (того самого, в честь которого Америка названа Америкой), Симонетту Веспуччи. В эту прекрасную девушку были влюблены все — политики и художники, музыканты и простые люди… К сожалению, ее жизнь вряд ли можно назвать счастливой: она прожила всего 23 года, умерев от болезни, часто уносивших знатных людей.
Присмотритесь к ее образу. Вам не кажется несколько странной поза Венеры? Противоестественно опущено левое плечо девушки, да? Все так. Именно это — вкупе с крайне преждевременной смертью — и позволило поставить диагноз красавице: чахотка. Она же — туберкулез. Вы спросите, какое плечо имеет отношение к респираторному заболеванию? На самом деле, как говорят фтизиатры — специалисты по туберкулезу — не бывает только туберкулеза волос и ногтей. Все остальное это заболевание тоже поражает. Характерное опущение плеча говорит о том, что у девушки, помимо легочной формы, развился и костно-суставный туберкулез, поразивший плечевой пояс.
Давние знакомые
Английский писатель и проповедник Джон Баньян, живший и творивший в XVII веке называл туберкулез «капитаном среди несущих смерть». Неудивительно, ведь в те годы, по данным историков медицины в Лондоне туберкулезом болел каждый сотый. А в XIX веке туберкулез стал причиной каждой четвертой смерти в Европе. Да и сейчас, несмотря на то, что первое противотуберкулезное лекарство появилось более 60 лет назад, в мире от туберкулеза умирает ежегодно около 1,7 миллионов человек. Целый Новосибирск! И, кстати, больных туберкулезом в мире (по данным ВОЗ на 2015 год) более десяти миллионов. Это больше, чем когда-либо в истории человечества. Понятно, что это связано с ростом населения, но все же… Кстати, и динамика тревожащая — например, в 2009 году больных было на миллион меньше. Столетиями туберкулез не щадил никого и нигде — он унес у нас Чехова и Надсона, у украинцев — Лесю Украинку, у норвежцев — Нильса Абеля, у англичан Джейн Остин и Шарлотту Бронте, а у всей Южной Америки — Симона Боливара.
Давайте постараемся разобраться, что же это за болезнь, и как человечество пытается с ней бороться.
Как давно люди знакомо с туберкулезом? Про человечество не скажем, но вот в 2001 году вышла интересная статья, которая рассказала о секвенировании ДНК вымершего бизона. Две независимые лаборатории показали: уже 17 тысяч лет назад (возраст бизона установили радиоуглеродным методом) микобактерии туберкулеза уже поражали несчастных животных.
Археологам и антропологам известны останки людей, которым несколько тысяч лет, с характерными костными изменениями, а первые тексты с описанием болезни имеют возраст более 3000 лет (Индия) и 2000 лет (Китай).
Чахотку прекрасно знали в Древней Греции, называя ее φθίσις (отсюда и фтизиатры). Но если Гиппократ считал туберкулез не заразным, а скорее наследственным, то, например, афинский ритор Исократ в IV веке до нашей эры уже превосходно понимал, что больной «фтизисом» может заразить другого.
Великий Авиценна, живший 1400 лет спустя, уже описал туберкулез почти современно, верно определив и путь передачи — воздушно-капельный. Конечно, тогда лечить его не умели: рекомендовали отхаркивающие средства, покой, тепло, хорошее питание — и молиться, что организм справится с болезнью.
Любопытно, что в средние века туберкулез, вероятно, сильно поддерживал легенды о вампирах. Посудите сами: в семье кто-то умирает, а затем остальные члены семьи начинают тоже слабеть, бледнеть и один за другим умирать. Неудивительно, что люди считали, будто первый умерший высасывает кровь или просто силу у своих родичей.
Туберкулез был настолько разнообразен и настолько важен для истории, что за борьбу с ним вручили сразу три нобелевские премии. Хотя слово «туберкулез» встречается в формулировке лишь к одной из них.
Взлеты и падения Роберта Коха
Кох родился 11 декабря 1843 года в местечке Клаусталь-Целлерфельд в Нижней Саксонии в семье горного инженера. Роберт оказался очень одаренным ребенком: уже в пять лет он поразил своих родителей тем, что научился самостоятельно читать, рассматривая газеты. В этом же возрасте его отдали в начальную школу, а через три года он уже поступил в гимназию. Кох учился с удовольствием и выказывал явный интерес к биологии. Что, очевидно, и определило его дальнейший выбор: в 1862 году он поступил в Геттингенский университет, где увлекся медициной. Именно здесь, в Геттингене, в то время преподавал знаменитый анатом Якоб Генле, труды которого были первыми ласточками в области микробиологии (впрочем, еще он известен как первооткрыватель петли в нефроне почки, теперь известной как петля Генле). Возможно, именно его лекции пробудили у юного Коха интерес к исследованиям микробов как возбудителей различных заболеваний.
В 1866 году Роберт Кох получил степень доктора медицины и в течение полугода работал в знаменитой берлинской клинике Шарите — под руководством великого Рудольфа Вирхова. Кстати, именно Вирхов будет регулярно подвергать критике микробную теорию Коха, противиться распространению его открытий и даже мешать карьере. Поначалу Вирхов вообще прямо говорил ученику, чтобы тот не тратил попусту времени на ерунду и занимался лечением людей.
Но уже в следующем году Кох женился на Эмме Фрац и получил место в больнице в Гамбурге. Еще два года молодая семья переезжала из города в город, пока наконец не осела в Раквице, где Кох устроился в местную лечебницу для душевнобольных. Но, кажется, размеренная жизнь была совсем не для него. Несмотря на сильную близорукость, Кох сдал экзамен на военного врача и отбыл в полевые госпитали начавшейся в 1870 году Франко-прусской войны, где он столкнулся не столько с хирургической практикой, сколько с молниеносно распространяющимися в окопах холерой и брюшным тифом.
Через год Роберт демобилизовался, а в 1872 году получил должность уездного санитарного врача в Вольштейне. Именно в этот период жена подарила ему на 28-летие новый микроскоп. И скоро медицинская практика отошла на второй план: Кох все дни напролет пропадал за окуляром подарка. И вспышка сибирской язвы среди местного крупного и мелкого рогатого скота оказалась очень кстати.
Основываясь на опыте Пастера, который уже пытался найти возбудителя этого заболевания, Кох проводил многочисленные опыты над мышами. При помощи «прививок» крови, взятой из селезенки здоровых и умерших от сибирской язвы животных, он пытался заразить подопытных грызунов. Результаты экспериментов позволили ему подтвердить предположение, что сибирская язва может передаваться через кровь.
Правда, это Коха не удовлетворило. Он хотел также проверить, может ли сибирская язва передаваться без непосредственного контакта с заболевшим скотом. Роберт получил чистые культуры бактерий и тщательно их изучил, подробно зарисовывая и описывая процесс размножения Bacillus anthracis, попутно отмечая их уникальную способность пережидать неблагоприятные условия.
Результатом этой кропотливой работы стал труд, который при содействии профессора ботаники Университета Бреслау Фердинанда Кона был опубликован в 1876 году в передовом ботаническом журнале Beiträge zur Biologie der Pflanzen, детище Фердинанда Кона (который, кстати, относил бактерий к растениям). Несмотря на протесты Вирхова, считавшего, что болезни имеют внутреннюю природу, а их причина — «патология клеток», Кох приобрел определенную популярность, но не расстался со своей крошечной лабораторией в Вольштейне. Еще четыре года он совершенствовал методы окрашивания и фиксации микроскопических препаратов, а также изучал различные формы бактериального инфицирования ран. В 1878 году он опубликовал свои работы по микробиологии.
Известность приносит свои плоды: в 1880 году Роберта Коха назначили советником в Имперском бюро здравоохранения в Берлине. Именно здесь у него появилась возможность собрать лучшую в его жизни лабораторию. Исследовательская работа сразу пошла в гору. Кох изобрел новый микробиологический метод — выращивание чистых культур бактерий на твердых средах. Например, на картофеле. А также новые методы окрашивания, позволяющие легко разглядеть и идентифицировать бактерии при помощи микроскопа. Уже через год он опубликовал работу «Методы изучения патогенных организмов» и вступил в полемику с коллегой по микробиологическому цеху Луи Пастером по поводу исследований сибирской язвы. Ученые развернули настоящую войну на страницах научных изданий и в публичных выступлениях (вообще, такие войны очень характерны для науки конца XIX — начала XX века, достаточно вспомнить о Первой нейробиологической войне между Камилло Гольджи и Сантьяго Рамон-и-Кахалем).
Именно в этой лаборатории, укомплектованной отличными кадрами, оснащенной мощными микроскопами, лучшими материалами и лабораторными животными, Кох приступил к исследованию главного «убийцы» того времени — туберкулеза. Выбор темы, однако, многим его коллегам показался странным: большинство экспертов считало чахотку наследственным заболеванием. Ведь статистика показывала, что эта болезнь чаще всего распространяется внутри семей.
Тем не менее доктор Кох счел туберкулез обычной «природной» инфекцией. Работая в одиночку, тайком от коллег, он заперся в лаборатории почти на полгода — до тех пор, пока не смог выделить и вырастить культуру туберкулезной палочки Mycobacterium.
24 марта 1882 года Кох представил свои выводы на ежемесячной встрече Общества физиологов в Берлине (опять же, злокозненный Вирхов не дал выступить Коху на широком собрании берлинских медиков), по-настоящему ошарашив коллег, которые не могли не только аргументировано апеллировать, но и аплодировать.
Семнадцать дней спустя, 10 апреля 1882 года, Кох опубликовал свою лекцию «Этиология туберкулеза», и факт открытия возбудителя смертельного заболевания не только стал новостным поводом для крупных медицинских изданий, но и облетел первые полосы ведущих газет по всему миру. В течение нескольких недель «Кох» стало именем нарицательным.
Но Роберт Кох не остался почивать на лаврах. Он уехал в правительственную научную экспедицию в Египет и Индию, где охотился на возбудителя холеры. И нашел его: он выделил микроб, который назвал холерным вибрионом. Это открытие принесло ему не только дополнительную популярность, но и премию в 100 тысяч немецких марок.
Но уже довольно скоро, в 1885 году, доктор Кох вернулся к «любимому» туберкулезу, сосредоточившись теперь на поиске способов лечения этого заболевания. К тому времени он уже успел разойтись со своим учеником Эмилем Берингом (о нем подробно читайте в главе о дифтерии): они поспорили отнюдь не по поводу одного места из Блаженного Августина, а о том, может ли человек заражаться туберкулезом от животных. Кох, к тому времени уже «забронзовевший» авторитет, считал, что не может, а молоко и мясо зараженных животных безопасно. Ученик считал, что Кох неправ. Этого «великий» не стерпел, и между ними случился разрыв (хотя время показало, что прав был Беринг).
Кох спешил открыть свое средство от туберкулеза. В 1890 году ему удалось выделить туберкулин — вещество, вырабатываемое туберкулезной палочкой в процессе жизнедеятельности. Ученый полагал, что оно способно помочь в лечении чахотки, и 4 августа 1890 года без тщательной проверки объявил: средство от туберкулеза найдено. Короткий и бурный триумф — ведь после открытия возбудителей «сибирки», чахотки и холеры выше авторитета в медицине, чем у Коха, не было. Но триумф обернулся трагедией и волной остракизма.
Выяснилось, что туберкулин вызывает серьезные аллергические реакции у больных туберкулезом. Посыпались сообщения о смертях от туберкулина. А потом оказалось, что и эффективность лекарства невелика. Туберкулиновые прививки не давали иммунитета к чахотке.
Интересно, что семнадцать лет спустя именно этот эффект туберкулина позволил применить его для туберкулиновой пробы — теста, диагностирующего туберкулез. Его разработал австрийский педиатр, ассистент иммунолога-нобелиата 1908 года Пауля Эрлиха, Клеменс Пирке. Пирке был блестяще образованным аристократом, именно он ввел в оборот слово «аллергия». Потом пробу Пирке (втирание в царапину на предплечье туберкулина) заменила всем известная подкожная проба Манту (которую на самом деле изобрел не французский врач Шарль Манту, а немецкий врач Феликс Мендель).
Тем не менее карьера Коха продолжила продвигаться. Ему присудили звания врача 1-го класса и почетного гражданина Берлина. Спустя год он стал директором вновь созданного Института гигиены в Берлине и профессором гигиены в Берлинском университете.
И снова исследовательская жилка (и чувство вины, и желание реванша) не дало Роберту Коху жить спокойно. В 1896 году он отправился в Южную Африку, чтобы изучать происхождение чумы крупного рогатого скота. И хотя ему не удалось определить причину чумы, он смог локализовать вспышки этого заболевания, делая здоровым животным инъекции препарата желчи зараженных. Затем Кох исследовал в Африке и Индии малярию, лихорадку Черной Воды, сонную болезнь у крупного рогатого скота и лошадей. Результаты своей титанической работы он опубликовал в 1898 году после возвращения в Германию.
Дома он продолжил исследования и в 1901 году на Международном конгрессе по туберкулезу в Лондоне сделал заявление, породившее в научных кругах много споров: бациллы человеческого и коровьего туберкулеза различаются. Ученого подвергли критике, но время показало, что он был прав (кстати, это тоже было предметом спора Коха и Беринга, и тут уже ошибался Беринг; хотя сейчас известно, что туберкулез у животных и человека могут иногда вызывать другие, близкородственные М. tuberculosis, виды микобактерий, способные преодолевать межвидовой барьер).
В 1905 году Роберта Коха удостоили Нобелевской премии по физиологии и медицине «за исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза». Но уже в 1906 году он вернулся в Центральную Африку для продолжения работ по изучению сонной болезни (африканского трипаносомоза). Он нашел, что синтезированный Эрлихом и Хата в 1905 году атоксил (на путать с современным энтеросорбентом из диоксида кремния, тогда это было органическое соединение мышьяка!) может быть эффективен при этом заболевании так же, как хинин против малярии.
До самого конца жизни Кох продолжал исследования по серологии и микробиологии. Он умер 27 мая 1910 года в санатории в Баден-Бадене. Смерть его тоже привела к интересным событиям. Тело Роберта Коха было кремировано, однако в Пруссии в то время законодательно не было разрешено захоранивать урны на кладбищах. В результате было принято решение создать мавзолей Коха прямо в институте его имени. 10 декабря 1910 года состоялась церемония захоронения праха. Этот мавзолей можно посетить и поныне, увидеть там портрет Коха, прочесть эпитафию: «Роберт Кох — работа и успехи». И просто побыть наедине с великим ученым, очень непростым человеком, без сомнения достойным вечной памяти и благодарности человечества.
Мечты о солнце Нильса Финзена
Вторым героем борьбы с этим недугом, отмеченным Нобелевской премией всего за год до собственной смерти стал малоизвестный ныне датчанин, Нильс Рюберг Финзен, первый и единственный нобелевский лауреат — уроженец Фарерских островов. На самом деле Финзен получил премию раньше Коха, еще в 1903 году, но чтобы соблюсти логику изложения, мы решили рассказать сначала о том, кто открыл возбудителя этой болезни, а потом о том, кто смог победить одну из ее форм.
Итак, Нобелевская премия по физиологии и медицине 1903 года — всего лишь третья в истории — и снова за инфекционные заболевания (о лауреате 1901 года Эмиле Беринге вы прочитаете в главе о дифтерии, а о лауреате 1902 года, сэре Рональде Россе — в «малярийной» главе). Формулировка Нобелевского комитета: «В знак признания его заслуг в деле лечения болезней, особенно обыкновенной волчанки, с помощью концентрированного светового излучения, что открыло перед медицинской наукой новые широкие горизонты» («inrecognition of his contribution to the treatment of diseases, especially lupus vulgaris, with concentrated light radiation, whereby he has opened a new avenue for medical science»).
Удивительное дело, большинство «естественнонаучных» нобелевских лауреатов, о которых нам доводилось писать, жили весьма долго, 80–90 лет. Наш нынешний герой — фигура, наоборот, трагическая.
Первый в истории датский нобелевский лауреат умер, не достигнув 44 лет, и получил Нобелевскую премию, будучи уже при смерти. Его болезнь стала решающим аргументом за присуждение премии, хотя это нисколько не умаляет его заслуг, ведь эта же болезнь еще в трехлетием возрасте стала толчком к его нобелевским работам.
Лирическое отступление. Автор этой главы читает довольно много научно-популярных лекций. И одна из самых востребованных — лекция «Медицина будущего», которая имеет своим эпиграфом фразу: «Я посмотрел все сезоны телесериала „Доктор Хаус“, где я могу забрать свой диплом врача?». Это чистая правда. Все серии «Хауса» автор лекции посмотрел и может засвидетельствовать: самый частый диагноз, который звучит в сериале, — волчанка. Правда, кажется, попалась Хаусу она всего раз. Кто ж мог подумать, что волчанка у Хауса и волчанка в вердикте Нобелевского комитета 1903 года — это две совершенно разные болезни? Впрочем, обо всем по порядку.
Нильс Рюберг Финзен родился в столице датских Фарерских островов, Торсхавне, в 1860 году. Его отец происходил из древней исландской семьи (родословную Ганса Финзена прослеживали аж до викингов X века), на Фареры они переселились только в 1858 году. Отец был госслужащим, с 1871 года — префектом Фарерских островов. Мама Финзена, Иоганна Софи Каролина Кристина Форман, происходила из копенгагенской семьи (впрочем, она тоже родилась и выросла в Исландии). Несмотря на всю свою «исландскость», маленький Нильс с детства говорил на языке Гамлета (но не «Гамлета»). Мама умерла, когда Финзену было четыре года, и воспитывала его бабушка, Элизабет Кристина Форман, которую наш герой пережил всего на несколько лет. Вообще, влияние старшего поколения семьи на Финзена было велико, недаром его назвали в честь деда по матери, Нильса Риберга Формана.
Финзен рос болезненным, в три года у него даже подозревали менингит, хотя, вероятно, на самом деле это было воспаление перикарда. В итоге юный Нильс постоянно утомлялся и уже в детстве сумел заметить, насколько ему становится лучше в редкие солнечные фарерские дни. Позже он с семьей переехал в Рейкьявик (в XIX веке Исландия не была независимой), где картина болезни стала еще более четкой.
«Дайте солнышку внезапно проглянуть сквозь тучи в пасмурный день и посмотрите, как все изменится вокруг! — писал он потом. — Насекомые, только что совсем сонные, пробудятся и расправят крылья; ящерицы и змеи выползут, чтобы понежиться на солнце; защебечут птицы. Да и мы сами почувствуем себя так, будто сбросили тяжелую ношу».
Впрочем, Фареры и Исландия — это хорошо, но достойный университет был только в Копенгагене. В 1882 году Финзен поступил в университет, первым из семьи переехав «на материк» (вся семья вернулась только в 1884-м). Напомним, что именно в это время научный и медицинский мир бурлил по поводу открытий Роберта Коха.
Финзен не сразу погрузился в исследования влияния света на живых существ. Самые ранние его идеи относятся к 1887 году. Как пишут историки науки, первыми объектами изучения для него стали кошка и водомерки. Финзен заметил, что кот на крыше предпочитает лежать в солнечных пятнах, уходя из тени. Та же история получилась с водомерками на воде, за которыми Финзен наблюдал с моста. Дальше последовали саламандры и головастики. Стало понятно, что свет может быть не только полезным, но и причинять вред.
Уже в 1877 году английские исследователи Даунс и Блант выяснили, что солнечный свет может подавлять развитие и даже убивать болезнетворные бактерии. А Финзен показал, что солнечный свет, падающий на хвост головастика, может привести к воспалению тканей. Действие ультрафиолета оказалось еще сильнее, чем предполагалось… Так Финзен пришел к идее фототерапии.
В 1893 году он начал использовать свет для лечения последствий натуральной оспы. Как оказалось, красный свет ускоряет заживление рубцов. «Красные комнаты» Финзена показали себя успешно, и наш герой направил свои усилия на более страшное заболевание — волчанку.
Здесь надо внести ясность. Та волчанка, о которой идет речь в сериале про доктора Хауса, называется системной красной волчанкой. Она же lupus erythematodes, она же болезнь Либмана-Сакса. Это аутоиммунное заболевание, иммунная система человека атакует его собственные клетки. До сих пор лечение этой волчанки — дело очень непростое. Но о ней мы поговорим в следующей книге, если таковая будет.
Волчанка же, с которой боролся датский врач, называется вульгарной (обыкновенной) волчанкой и вызывается микобактериями туберкулеза — теми самыми палочками Коха, которые поражают и кожу лица. Это туберкулез кожи (помните, мы говорили, что не бывает только туберкулеза ногтей и волос).
Почему же два таких разных заболевания называются одинаково? Потому что пациент с любым из них, протекающим в тяжелой форме, выглядит так, как будто бы его лицо покусал волк — по-латыни lupus. Во времена Финзена обезображенные вульгарной волчанкой люди становились изгоями, и таких людей было много.
Финзен взял борьбу в свои руки. Он создал специальную «финзен-лампу» — дуговую лампу, в которой свет производился пропусканием тока в 25 ампер через угольные электроды. Ее свет сначала проходил сквозь воду, поглощавшую красную часть спектра, а затем оставшаяся фиолетовая и ультрафиолетовая части концентрировались кварцевыми линзами (обычное стекло поглощает УФ-часть спектра). Каждый день по два часа экспозиции, и через несколько месяцев туберкулез кожи отступал.
Появились и печатные работы, сделавшие Финзену имя. Первая вышла в 1893 году и называлась «Об эффектах, вызываемых светом на коже». Вторая, вышедшая в том же году, — «О лечении оспы».
А дальше Финзену повезло (и медицине вместе с ним). В ноябре 1895 года к нему пришел глава компании Kobenhavns Elektriske Lysstation i Gothersgade, владевшей, в числе прочего, первой в Дании электростанцией. Один из ведущих инженеров компании, Нильс Моргенсен, страдал волчанкой. Финзен помог, и у него появились деньги и свой институт светолечения, открытый 23 октября 1896 года. В 1896 году вышла монография Финзена, посвященная лечению волчанки. За 1896–1900 годы через его институт прошло 800 больных. 50 % полностью выздоровело, еще 45 % почувствовало значительное улучшение. В 1901 году вышел итоговый труд Финзена — «Фототерапия».
Однако триумф Финзена в терапии никак не мог помочь ему самому. Он слабел, терял силы. Но, увы, псевдоцирроз печени Пика (болезнь Ниманна-Пика) не лечится светом. Даже у нобелевских лауреатов.
С присуждением Нобелевской премии Финзену все оказалось не так просто. Конечно, он был номинирован на нее, и не раз. В 1903 году на рассмотрение Нобелевского комитета теми, кто имеет право номинировать на премию, была представлена 81 номинация (и гораздо меньше кандидатов). Финзена номинировали восемь раз, а среди соперников были не получившие своей премии в первые два года великие Кох, Павлов, Мечников, Эрлих; многократно номинировался не менее великий, но так и не дождавшийся в итоге своей премии Эмиль Ру. Споры были очень ожесточенные. При этом яростно сопротивлялись вручению премии своему земляку и датчане: к примеру, отец и дед будущих нобелевских лауреатов по физике, выдающийся физиолог Кристиан Бор (1855–1911) снобистски считал, что Финзен — никто в академической науке и никакой медицинский теоретик, а давать премию практику-физиотерапевту не стоит (надо сказать, что Финзен начинал свои исследования светотерапии вообще в должности прозектора).
Спас ситуацию ректор Каролинского института, глава Нобелевского комитета по физиологии и медицине Карл Аксель Хампус Мернер, который не поленился несколько раз за 1903 год съездить в финзеновский институт и понять, что Финзену осталось жить не больше года. Сам же Мернер считал, что открытие Финзена полностью соответствует завещанию Нобеля в части максимальной пользы человечеству, а значит, пусть сам Финзен и не великий медик-теоретик, зато его потрясающая интуиция и талант терапевта уже спасли множество жизней.
Премия была присуждена. Сам лауреат уже не мог приехать на вручение и прислал короткое приветствие-благодарность. Ему становилось все хуже. Тем не менее свежеиспеченный лауреат продолжал работать и в инвалидном кресле, продолжал верить в целительную силу солнца и даже оборудовал на крыше своего дома площадку для солнечных ванн. Увы, солнце лечит не все: в 1904 году, как и предсказывал Мернер, 43-летний Финзен умер на руках у своей жены.
Сейчас имя первого датского нобелевского лауреата известно гораздо меньше, чем имена отца и сына Боров (кстати, говорят, что внук Нильса Бора, физик-гидродинамик, сетовал, что он работает в такой области, что ему-то премия точно не светит). Несмотря на это, заслуженность премии Финзена и поныне не вызывает сомнений: если системную красную волчанку доктор Хаус искал регулярно, волчанка обыкновенная сейчас практически искоренена (в отличие от обычного туберкулеза).
Туберкулёз идет на три буквы
Что же с лечением и профилактикой остальных форм туберкулеза? Первый серьезный прорыв случился в 1906 году и совершили его два француза, Альбер Кальметт и Камиль Герен. Как, вы не слышали их фамилий? Готовы спорить, что вы слышали аббревиатуру, в которую они входят. Правда, в этой аббревиатуре скорее всего, не было букв «К» и «Г». Дело в том, что в 1906 году эти два замечательных бактериолога (а Герен был еще и отличным ветеринаром, и это важно), опираясь на уже старый спор Беринга и Коха, показали, что ослабленную бактерию бычьего туберкулеза, Mycobacterium bovis, можно использовать в качестве вакцины. Способ аттенуации (ослабления) бациллы придумал норвежский исследователь, Кристиан Фейер Андворд. Он показал, что, если выращивать культуру на питательной среде из желчи, картофеля и глицерина, вирулентность бациллы снижается до минимума. Препарат назвали «бацилла Кальметта-Герена», или BCG. По-русски — «БЦЖ». Прививки БЦЖ до сих пор входят в обязательную программу вакцинации ребенка на 3–5 день жизни. Как показывает огромная статистика, вакцина не гарантирует стопроцентной защиты от туберкулеза, однако заболеваемость вакцинированных детей в шесть раз ниже. Первое медицинское применение вакцины состоялось в 1921 году, а уже через четыре года Альбер Кальметт лично передал советскому иммунологу Льву Тарасевичу штамм бациллы, которая была зарегистрирована в СССР как БЦЖ-1. Первые массовые иммунизации в нашей стране прошли в 1928 году в очагах туберкулеза.
Кстати, туберкулезом польза вакцины БЦЖ не исчерпывается. Она, как ни странно, помогает при некоторых видах рака мочевого пузыря.
Однако иммунизация иммунизацией, а лечить туберкулез все никак не получалось. Чтобы ситуация изменилась коренным образом, на сцене должен был появиться еще один герой. Удивительно, но его не учитывают при перечислении наших соотечественников-лауреатов Нобелевской премии. А зря, ведь он — земляк Пирогова, кроме того — какое-то время он жил в родном для одного из авторов книги городе.
Зельман Ваксман — главный «почвенник» фармакологии
Зельман Абрахам Ваксман действительно родился в Российской империи, в селе Новая Прилука Винницкого уезда Подольской губернии. Папу его звали Яков Ваксман, маму — Фрейда Лондон. Ну и, как у нас в Одессе любили шутить, в графе «национальность» смело можно было писать «таки да».
Российское образование Ваксмана составили местный хедер (религиозная начальная школа у евреев) и одесская гимназия № 5 (один из авторов книги рассматривал ее как вариант завершения своего школьного образования, но выбрал Ришельевский лицей). Впрочем, наш герой прожил в России всего 22 года. После смерти матери, в 1910 году, он, подкопив денег, перебрался в США — достаточно обычная история для человека его национальности и его времени: Зельман хотел иметь хорошее образование, но с его «пятой графой» это ему не светило ни при каких обстоятельствах. Тем более сестры его уже жили в Нью-Джерси (кстати, как раз в этом штате чудил доктор Грегори Хаус). У девушек там была ферма. Вероятно, именно почвенничество сестер (в буквальном, а не в российско-политическом смысле) и повлияло на карьеру Ваксмана.
Он давно интересовался биологией, а фермерская жизнь, по его словам, вселила в него «желание выяснить химические и биологические механизмы земледелия и его основные принципы». «Рядом с землей я решил искать ответ на многочисленные вопросы о цикличности жизни в природе, которые начали вставать передо мной», — писал будущий нобелевский лауреат. В 1911 году он поступил в учебное заведение, которое в наше время стало престижным университетом, а тогда было всего лишь колледжем Рутгерса. Свой научный интерес Ваксман направил на изучение микробиологии почвы.
В 1915 году в его жизни произошли два важнейших события: он получил магистерскую степень и гражданство США. Теперь можно было полноценно заниматься наукой. Удивительно, но в те годы (а, напомним, микробиология к тому времени уже двигалась на полной скорости, свои «микробиологические» Нобелевские премии получили и Беринг (см. главу про дифтерию), и Кох, о котором мы уже рассказывали, и Росс с Лавераном (см. главу про малярию)) роль микроорганизмов в почве почти вообще не учитывалась. А Ваксман этим заинтересовался. Уже в качестве студента-исследователя в Беркли, куда он временно перешел из Рутгерса, он заинтересовался актиномицетами — бактериями, которые могут образовывать ветвящийся мицелий.
Получив степень PhD, Ваксман вернулся в Рутгере, где начал читать лекции, а потом и подниматься все выше по преподавательским ступеням — от адъюнкт-профессора в 1925 году до профессора микробиологии в 1943. И все это время он изучал почвенных микробов. Особенно его интересовало то, как микробы могут бороться друг с другом, — фактически это была микробная экология почв. Что важно, занимаясь научной работой, Ваксман не забывал и о популяризации своей области, что со временем принесло ему широкую известность.
Этапным стал 1932 год. Тогда уже было понятно, что надежды Коха, который открыл возбудителя туберкулеза и, как поначалу казалось, нашел и средство борьбы с ним, не оправдались. Да и сам Кох к тому времени уже 22 года как умер, а туберкулез продолжал убивать миллионы людей. К тому времени стало известно, что палочка Коха быстро погибает в почве, и Американская национальная ассоциация по борьбе с туберкулезом обратилась к нашему герою с просьбой попытаться понять, что же в земле так опасно для микобактерии, вызывающей это заболевание?
Ваксман взялся за работу. Сначала он проверил «нулевой факт»: взял культуру микобактерий и удостоверился в том, что они действительно погибают в почве. Конечно, было понятно, что убивает их не сама почва, а продукты жизнедеятельности каких-то других микроорганизмов. Но каких? Пришлось перепробовать десять тысяч разных штаммов. Первый успех пришел в 1940 году, когда из актиномицетов Actinomyces griseus было выделено вещество, которое назвали актиномицин. Он прекрасно убивал все микобактерии, но вот беда — попутно гибли и подопытные животные (морские свинки). Штамм переименовали в Streptomyces griseus и продолжили поиски. В 1942 году было найдено новое вещество — стрептотрицин. Оно было лучше, но вот терапевтическое окно оказалось очень узким: от лечебной дозы до смертельной оставался очень маленький интервал. Ваксман занялся очисткой стрептотрицина (как раз тогда прогремел очищенный пенициллин Флеминга), а продолжение поисков возложил на сотрудников.
Новое вещество, от которого микобактерии мерли как мухи, а морские свинки оставались здоровыми, удалось выделить аспиранту Ваксмана, Альберту Шацу. Так появился стрептомицин, второй в истории антибиотик (кстати, и сам термин «антибиотик» принадлежит Ваксману). В своей статье «Подлинная история открытия стрептомицина» Шац пишет: «Это случилось 19 октября 1943 года около двух часов дня, когда я понял, что был открыт новый антибиотик».
А затем последовала весьма неприятная история спора о приоритете. Ведь новый антибиотик — это не только слава и будущая Нобелевская премия, но и значительные деньги от фармкомпаний. Так вот, Ваксман хотел единоличные права на стрептомицин, и Шац был вынужден начать тяжбу. Правда, стороны в итоге пришли к досудебному соглашению, в результате которого Шац получил некое финансовое вознаграждение и подтверждение «правового и научного статуса сооткрывателя стрептомицина».
Но отношения с Ваксманом были безнадежно испорчены, и, кстати, до конца своей жизни Шац так и остался PhD, занимаясь публичным отстаиванием своего приоритета в открытии стрептомицина (помните Охотника из «Обыкновенного чуда» Шварца?). Нобелевскую премию он тоже не получил. Все-таки само направление поиска антибиотиков почвенных бактерий, безусловно, оставалось за Ваксманом.
Давайте теперь немножко поговорим о самом стрептомицине, первом эффективном средстве от туберкулеза. Если называть вещество по номенклатуре, то получится весьма длинное слово, для произнесения которого еле-еле хватит половины урока химии: 0-2-Дезокси-2-(метиламино) — альфа-L-глюкопиранозил (1→2) — 0–5 — дезокси-3 — С-формил-альфа-L-ликсофуранозил (1→4) — N·N1-бис (аминоиминометил)-D-стрептамин.
Как работает стрептомицин? Одним из классических механизмов действия антибиотиков: связывается с 30S-субъединицей рибосомы микобактерии и не дает ей синтезировать белок, за счет чего бактерия гибнет. Кстати, поиск и дизайн новых молекул, способных взаимодействовать с рибосомами, на основе рентгеноструктурного анализа самих рибосом — одно из самых востребованных направлений современной биофизики, в котором работает, например, одна из четырех женщин — нобелевских лауреатов по химии, Ада Йонат.
Интересный факт: в длинном списке из 122 номинаций 1952 года на Нобелевскую премию по физиологии и медицине Ваксман встречается всего четыре раза (были и более популярные имена — например, выдающийся немецкий бактериолог и гигиенист Пауль Уленгут, так и не получивший своей премии, хотя номинировавшийся на нее 40 раз). Впрочем, Ваксман суммарно номинировался аж 45 раз, и чаще всего в 1950 — 16 раз. И один раз в том же 1952 году был-таки номинирован Альберт Шац. Но премию дали Ваксману единолично. На вручении премии представитель Каролинского института Арвид Волгрен сказал: «В отличие от открытия пенициллина профессором Александром Флемингом, которое было в значительной степени обусловлено случаем, получение стрептомицина стало результатом длительного, систематического и неутомимого труда большой группы ученых». Ваксмана назвали «одним из величайших благодетелей человечества».
И кстати, другие слова, сказанные на вручении Ваксману Нобелевской премии, оказались пророческими: пионерский опыт поиска антибиотиков (а читай шире — препаратов против всяческих вредителей человеческого организма) в почве действительно стал важнейшим инструментом современной фармакологии. 63 года спустя половину Нобелевской премии по физиологии и медицине 2015 года получили Уильям Кэмпбелл из США и Сатоси Омура из Японии, создавшие препарат против гельминтов ивермектин. Его основой послужило вещество, выделяемое родственным «родителю» стрептомицина организмом Streptomyces avermitilis. Которое обнаружили где? Правильно, в почве. Одного из японских полей для гольфа. Хорошее эхо Нобелевской премии Ваксмана, не правда ли?
Любопытно, что если в 40-е годы от стрептомицина умирали все формы туберкулеза, сейчас первый осознанно найденный антибиотик — не самое успешное средство для борьбы с этой болезнью. Времена меняются, палочка Коха меняется вместе с ними. Микобактерия туберкулеза уже выработала устойчивость к этим антибиотикам, и приходится применять что-то посильнее. В препаратах первой линии, кроме стрептомицина — этамбутол, изониазид, пиразинамид и рифампицин. Однако устойчивого к этим препаратам туберкулеза слишком много, и часто приходится применять другие препараты, дающие более сильные побочные эффекты.
Прошло более сотни лет после открытия возбудителя туберкулеза, а в мире продолжает умирать от этой болезни больше миллиона человек в год. Для примера — вот данные Всемирной организации здравоохранения за 2010 год: 8,8 миллионов новых случаев, и до 1,45 миллиона смертей! Нужно сказать, что сейчас есть еще одна причина, которая помогает туберкулезу собирать свою жатву. Эта причина называется ВИЧ. Из тех 1,45 миллиона жертв 350 тысяч — носители ВИЧ. ВИЧ и туберкулез вообще считаются «сладкой парочкой»: ВИЧ подхватывает туберкулез в танце и разносит его по планете. Увы, казалось бы, загнанный в гетто тюрем и ночлежек, туберкулез снова вырвался на свободу.
Thomas, М. Daniel. «The history of tuberculosis». Respiratory Medicine. 100: 1862–1870. doi: 10.1016/j. rmed.2006.08.006.
Rothschild BM, Martin LD, Lev G, et al.(August 2001). «Mycobacterium tuberculosis complex DNA from an extinct bison dated 17,000 years before the present». Clin. Infect. Dis. 33 (3): 305-11.
Luca, S; Mihaescu, T. «History of BCG Vaccine». Maedica. 8: 53-8. PMC 3749764.
Bonah C (2005). «The ‘experimental stable’ of the BCG vaccine: safety, efficacy, proof and standards, 1921–1933». Stud Hist Philos Biol Biomed Sci.36 (4): 696–721. doi: 10.1016/j.shpsc.2005.09.003.
3.0 Порфирия
За милым, романтичным и немного слащавым образом вампира в лице Роберта Патиссона из фильма «Сумерки» прячется длинная история рассказов о вампирах, начинавшаяся как народные предания и взорвавшая литературный мир романом Брэма Стокера «Дракула» — самым экранизируемым литературным произведением в мире. Мало кто знает, что классический облик вампира, связанного с кровью и боящегося дневного света, имеет в своей основе реальное заболевание — порфирию.
Название порфириновой болезни произошло от красивого греческого слова «порфирит;», которое переводится как «багряный» или «пурпурный». А все потому, что при этом недуге моча и кал приобретают багровый цвет из-за появления в крови красноватых порфиринов, которые всеми возможными способами из организма начинают выводиться. Эти вещества в норме обнаруживаться не должны, но у «счастливчиков», в чьей ДНК произошел сбой, перестает нормально синтезироваться гем — небелковый компонент главного переносчика кислорода в нашей крови, который «живет» в эритроцитах. Вместо него в кровь из печени, либо красного костного мозга (в зависимости от разновидности недуга) выходят его предшественники, которые под действием солнечного света превращаются в порфирины, крайне токсичные для организма.
Распространенность этой патологии достаточно высока, особенно в небольших поселениях, где, всего одна или несколько семей, представители которой часто скрещиваются между собой (такой замкнутостью как раз поплатилась британская королевская семья). Раньше предполагалось, что она встречается где-то у одного на 200–500 тысяч человек, но современные данные демонстрируют немного иные цифры: от 1:500 до 1:1 000 000.
Эпидемиологи считают, что заболеванию одинаково подвержены все народности и расы: от европейцев до австралийских и американских аборигенов. Такая «всеядность» заболевания связана со сложностью синтеза гема, который включает в себя около десятка химических реакций при участии восьми ферментов. Ферменты — те же белки, которые кодируются разными генами, и в гене каждого из них «что-то может пойти не так».
Кстати, полной пространственной структурой гемоглобина, а также пониманием проблем, которые с ним могут возникнуть, мы обязаны английскому биохимику Максу Фердинанду Перуцу, который за это вместе со своим коллегой Джоном Кендрю получил в 1962 году Нобелевскую премию по химии. А в 80-х годах он заложил научный фундамент по анализу того, как взаимодействуют тяжелые объемные белки и легкие низкомолекулярные соединения, на котором сейчас строится современный каркас производства лекарственных препаратов в фармацевтической индустрии.
Но мы отвлеклись. Формы порфириновой болезни встречаются самые разные, а источниками метаболитов гема может быть как печень (печеночная порфирия), так и костный мозг (эритропоэтическая порфирия), ведь и там, и там идет его воспроизводство, а, значит, возможны сбои и дефицит ферментов, который, как считают иностранные специалисты, не обязательно опосредован генетически. Хотя русские эксперты с этим мнением не согласны.
Вариабельность же генетических дефектов воистину огромна. Например, для одной из печеночных разновидностей — острой перемежающейся порфирии (привет последней серии первого сезона «Доктора Хауса»!) — ген точно локализован и расшифрован. Он находится в длинном плече 11 хромосомы и состоит из 15 экзонов. И только для него одного известно около сотни мутаций! Количество форм наследования (аутосомно-доминантная, аутосомно-рецессивная, сцепленная с Х-хромосомой) тоже не особо вдохновляет. Но что поделать — мы сложно устроены, да.
При всем многообразии клинической картины (здесь и острые боли в животе, и учащенное сердцебиение, и боли в спине вместе со слабостью, парезами в руках, ногах и снижением чувствительности из-за полинейропатии) суеверный страх людям внушает лишь одна из основных черт больных порфирией — их сильная светобоязнь и связанный с этим особый облик. Порфирины, наполняющие кровь бедолаг, на свету взаимодействуют с кислородом и образуют страшно токсичные активные радикалы, которые начинают вовсю «крушить» мембраны клеток. Это проявляется ожогоподобными реакциями кожи — болезненными волдырями, язвами, трещинами а иногда и повреждением хрящей носа и ушей.
При этом нормального гемоглобина организму не хватает, ведь метаболизм работает, по сути, вхолостую, хотя компенсаторные механизмы позволяют вырабатывать тот его уровень, который необходим хотя бы для существования. Поэтому все органы, в том числе и мозг, находятся в гипоксии, отчего часто возникают изменения и в психической сфере, поведении.
Обреченные быть нечистью
А теперь представьте: встречается вам ночью при свете луны в какой-нибудь темной подворотне такой не особо приветливый человек с обезображенными лицом и скрюченными в судорогах пальцами. Тут во что угодно поверишь.
Вот средневековые жители и верили. И устраивали расправы над так называемыми вампирами и оборотнями, с массовыми сожжениями и повешениями. Только за одно столетие, начиная с 1520 года, в одной лишь Франции казнили более 30 тысяч человек, признанных оборотнями.
Впервые на связь болезни и исторического фольклора в лице людей-кровососов указал доктор Ли Иллис из Великобритании, который в 1963 году опубликовал статью «О порфирии и этиологии оборотней» в журнале «Труды Королевского медицинского общества». В своей работе исследователь подробнейшим образом изложил сравнительный анализ сохранившихся исторических свидетельств, где описывались вурдалаки, и симптомов порфириновой болезни в запущенной стадии.
Его образы удивительно совпадали: сухая кожа вокруг губ и десен, из-за чего обнажаются резцы, характерный красноватый цвет зубов, который придают накапливающиеся порфирины, тонкая и сильно чувствительная к солнцу кожа, деформированные ушные раковины и нос, психические расстройства и весьма агрессивное поведение. Вот вам и типичный представитель какого-нибудь городского кошмара времен Ван Хельсинга.
Подобную точку зрения в своей книге «Вампиры» 1973 года высказывала и американская писательница фэнтези Нэнси Гарден. В 1985 году вышла статья биохимика Дэвида Долфина для Американской ассоциации содействия развитию науки. Она называлась «Порфирия, вампиры и оборотни: этиология европейских легенд и метаморфоз» и широко популяризовала идею в обществе.
Долфин описывает почти те же самые картины заболевания, какие до него нарисовал Иллис: во-первых, чувствительность к солнечному свету, чье незначительное действие способно вызвать серьезное обезображивание. Во-вторых, по этой причине избегание солнечного света и ведение какого бы то ни было образа жизни только ночью. Долфин также считал, что поскольку в настоящее время порфирию можно лечить инъекциями продуктов крови, то столетия назад больные, возможно, стремились вылечиться, употребляя кровь внутрь. Ну и, наконец, что? Чеснок! Он, по мнению биохимика, содержит химическое вещество, которое усугубляет симптомы порфирии, заставляя страдальцев избегать его (кого-то напоминает). Непонятно только при таком раскладе только одно: откуда взялась боязнь серебра и осиновых кольев? Автор явно чего-то недоговаривает…
На самом деле при некоторых правильных умозаключениях ошибался Долфин тоже достаточно. Да, солнце «токсично» для порфириков, но не настолько, чтобы за пару минут сделать из кожи, даже тонкой, кровоточащую рану. Есть некоторые формы болезни, для которых характерна немедленная фоточувствительность, однако, она проявляется жжением и неприятными ощущениями на коже как минимум через 30 минут солнечных ванн. К тому же пероральное вливание в себя даже литров крови не приведет к какому-либо значительному положительному результату, так как после агрессивной среды желудка от гемоглобина остаются разве что «рожки да ножки» — лишь один гем. Да, он способен «пережить» пищеварение и поглотиться клетками кишечника, но…
Плюс теория была отвергнута несколькими профессиональными историками и исследователями фольклора. Они указывали на неточные описания характеристик оригинальных оборотней и вампиров из легенд и попытку притянуть симптомы болезни «за уши». Ну и резонно замечали, что подобные сравнения потенциально стигматизируют и без того страдающих людей.
Кажется, финальную точку в этом щепетильном вопросе и в окончательном разрушении мифа ставит Энн Кокс в работе, опубликованной в 1995 году в Postgraduate Medical Journal. Там она объясняет:
«Поскольку считалось, что фольклорический вампир может свободно передвигаться в дневное время, в отличие от варианта XX века, врожденная эритропоэтическая порфирия не может так легко объяснить фольклорного вампира, но может быть прекрасным объяснением вампира современного видения. Кроме того, фольклорный вампир, когда его раскапывали, всегда описывался как выглядящий вполне здоровым („как это было в жизни“), в то время как из-за уродовавших аспектов болезни страдальцы не прошли бы тест эксгумации. Лица с врожденной эритропоэтической порфирией также не жаждут крови. Фермент (гематин), необходимый для облегчения симптомов, не всасывается при приеме внутрь, поэтому кровь не оказывает благотворного влияния на страдающего. Наконец, самое главное — это тот факт, что отчеты о вампирах были очень распространены в XVIII веке, а врожденная эритропоэтическая порфирия является чрезвычайно редким заболеванием с редчайшими описанными проявлениями, что делает ее маловероятным объяснением фольклорного вампира».
Стоит развеять еще один миф насчет легендарного Влада III Цепеша, он же Дракула. Многочисленными таинственными историями окутаны земли маленького уголка Восточной Европы — бедной Трансильвании, которую со времен падения Римской империи терзали амбициозные средневековые правители. Сейчас эта территория принадлежит Румынии, но в XV веке там было очень неспокойно — тогда она находилась в ведении Венгерского королевства и то и дело подвергалась нападкам как со стороны турков, так и со стороны молдаван.
Действительно, примерно до 1436 года Влад, еще будучи подростком, жил вместе с семьей в трансильванском городке Сигишоаре, который сохранился и по сей день. Нет, он не был правителем Трансильвании, но два раза становился господарем Валахии (сейчас также территория Румынии на юге, между Карпатами и Дунаем). Прозвище «Дракула», точнее, «Дракул» он унаследовал от своего отца, Влада II, который в 1431 году стал рыцарем Ордена Дракона. Впоследствии же сам прибавил к нему окончание «а». А вот «Цепешем» Влада стали называть только после смерти, и то по описаниям обиженных и оскорбленных турок, которые именовали его «Kazikli» от турецкого слова «kazik» или «кол». По-румынски это звучало как «ţeapă» и означало то же самое.
Несложно догадаться, что такое прозвище Дракула получил потому, что любил казнить своих врагов, сажая их на колья, а особенно доставалось именно туркам. Ведь повод ненавидеть их у Влада III был и немалый. Во-первых, они постоянно покушались на вверенные ему земли. Во-вторых, его родной младший брат, с которым он некоторое время прожил в Турции во время отцовского политического договора, подвергся сексуальным домогательствам (больная тема) со стороны наследника турецкого престола Мехмеда, возглавившего страну впоследствии и оставившего брата при себе.
Но и это еще можно стерпеть, если бы не «в-третьих» — когда Османская империя в очередной раз начала «нагнетать» и пошла со 120-тысячным войском на Европу, все ограничилось Валахией и бесстрашием Дракулы, да так бы успешно (с точки зрения Европы, конечно) и завершилось бы, если бы не родной брат Влада III. Он сделал вид, что вернулся на путь праведный, выведал, где в тылу армии брата скрывались беззащитные жители, затем сбежал обратно к султану и сдал «родину» на одном дыхании, получив взамен от султана обещание стать «государем» этих земель. Что, в общем, и было сделано. В итоге еле спасшегося в Венгрии Дракулу еще и обвинили в предательстве и сговоре с турками, за что упекли за решетку на 12 лет.
Да, Влад III слыл не слишком уравновешенным человеком, легко срывающимся в гнев и порой очень жестоким. Однако назвать его совсем несправедливым все же нельзя, тем более о многих его хороших делах говорится и в древнерусской «Повести о Дракуле воеводе», которая появилась в середине 1480-х годов из-под пера русского посла Федора Курицына, гостившего ранее при дворе венгерского короля с официальным визитом. Многие историки склонны доверять ей больше, нежели злой и обличающей поэме мейстерзингера (попросту — певца третьего сословия) Михаэля Бехайма «О злодее…».
И самое главное — нет, Дракула не болел порфирией и вообще не занимался ничем таким «странным», а прототипом знаменитого романа Брэма Стокера стал только потому, что его автор в 1890 году в Лондоне после одного из спектаклей отлично провел время за ужином с востоковедом Арминием Вамбери из Будапештского университета и услышал от него впечатляющую историю про жизнь и судьбу восточноевропейского воина и правителя. И, конечно же, умело вплел некоторые детали его биографии в образ героя книги.
Биохимия и английская корона
Если же говорить о человеке, который впервые описал заболевание подробно (не Гиппократ, хотя он был раньше) и, даже более — пришел к пониманию механизмов того, почему оно развивается, то нужно устремить свой взгляд в 1871 год (к слову, именно в то время молодой Гентингтон активно собирал информацию о своих хореических пациентах). Персоной, познакомившей мир с порфириями, стал Эрнст Феликс Иммануэль Гоппе-Зейлер — немецкий врач, физиолог, химик и, на минуточку, основатель принципов современной биохимии и молекулярной биологии.
Порой удивляешься тому, насколько тесен был научный мир XVIII–XIX веков. Все всех знали, многие общались, еще больше — числились учителями одних или учениками других. Так и Гоппе-Зейлер. Как подобает будущему крупному ученому, он изучал медицину сразу в нескольких местах: Галльском, Лейпцигском, Берлинском, Пражском и Венском университетах. В Берлине он в 1850 году получил звание доктора, поработал 4 года у знаменитого Рудольфа Вирхова, побывал на должности профессора прикладной химии Тюбингенского университета и завершил свой жизненный путь в качестве профессора физиологической химии в Страсбурге.
За свою довольно долгую карьеру Гоппе-Зейлер успел сделать очень многое как для чистой науки, так и для ее организации, продвижения. В первую очередь заслуга его в том, что он обнаружил один из пигментов крови и открыл его обратимое окисление, благодаря которому тот может выполнять в организме роль переносчика кислорода. Ученый дал ему имя «гемоглобин». Кроме того, ему удалось даже выделить вещество в кристаллической форме и доказать, что оно содержит железо. В связи с этим он изучал и всяческие нарушения метаболизма гемоглобина, которые объединил под единым термином «порфирии» в статье «Das Hämatin».
Его другие многочисленные исследования включают изучение гноя, желчи, молока, мочи и прочих биологических субстратов. Он провел расширенный анализ эмали зубов, доказав ее родство со скальными апатитами и сходство с зубами ископаемых и живых животных. Во время своего пребывания в Берлине он опубликовал ряд трактатов о составе транссудатов (воспалительной жидкости), а затем сравнивал их возможные составы. Он продемонстрировал присутствие мыльной основы в крови и лимфе, которое в то время обычно отрицалось, а также попытался расшифровать, почему в моче появлялось специфическое вещество — индикан, истинное значение которого (активность гниения белков в кишечнике) раскрыл лишь его ученик Бауманн. Хитозан, кстати — продукт разложения хитина — это тоже дело его научной мысли.
Каков учитель — такие и последователи. В 1869 году ученик Гоппер-Зейлера, молодой швейцарский врач Иоганн Фридрих Мишер, работая в лаборатории средневекового замка в Тюбингене, обнаружил в ядре клетки нуклеиновые кислоты, которые назвал нуклеином — по образу и подобию места, в котором он их нашел — «nucleus». К числу прославленных учеников Гоппер-Зейлера также можно отнести и нобелевского лауреата 1910 года Альбрехта Косселя, исследователя белков и нуклеиновых кислот.
Стоит несколько слов сказать и об еще одной знаменитой жертве порфирии, которой стал не просто один человек, а целый род. Для этого мы перенесемся во времена создания Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Долгое время ходили толки о некоем психическом заболевании, которое проявлялось у короля Георга III в виде полностью бесконтрольных припадков с 1788 года и вылилось в итоге в регентство над ним старшего сына. Первая попытка сделать какой-то анализ этого недуга была предпринята в 1855 году, через тридцать пять лет после смерти Георга III, и автор пришел к выводу, что все дело было в острой мании. После этого еще некоторые исследователи ставили королю маниакально-депрессивное расстройство, пока за дело в 1966 году не взялись Ида Макальпин и Ричард Хантер. Им принадлежало первое предположение о том, что причиной помутнения сознания короля стала именно соматическая патология. Причем, через 2 года у них же в качества дополнения к предыдущему вышел большой труд, повествующий о порфирии, царившей в королевских домах — у Стюартов, Ганноверов и прусских монархов.
Тем не менее многих экспертов эти работы не удовлетворили, и поиски продолжились. В книге «Пурпурная тайна: гены, безумие и королевские дома Европы» описываются, в конечном счете, безуспешные попытки найти генетические доказательства порфирии в останках членов королевской семьи, которых «подозревали» в носительстве коварных генов. В 2005 году появилось еще одно предположение, что причиной заболевания Георга III мог быть мышьяк (который запросто может вызывать похожие на порфирию симптомы), который давали ему с сурьмой.
Несмотря на отсутствие прямых доказательств, мнение о том, что Георг III (и другие члены королевской семьи) страдал порфирией, достигло такой популярности, что многие забывают, что эта история может быть всего лишь гипотезой. В 2010 году очередной исчерпывающий анализ исторических записей привел авторов к выводу, что наличие у венценосных особ порфириновой болезни — просто результат ложной и выборочной интерпретации современных медицинских и исторических источников. Хотя кто знает… Вряд ли бы Королеве Елизавете II понравились ассоциации ее родственников с болезными, похожими на вурдалаков. Вот и отрицают все.
Лечить будем?
Будем. Несмотря на то что порфирия — это в большинстве своем сбои в воспроизводстве гена из-за генетических дефектов, заболевание вполне успешно лечится переливанием крови или ее компонентов, что улучшает состояние больного, хотя и не избавляет его от недуга полностью (лишь симптоматическое лечение). Во-первых, таким образом восполняется нехватка гема в организме, и анемия облегчается. Во-вторых, гем, поступающий извне, подавляет дальнейший синтез своего дефектного переносчика кислорода через механизмы обратной связи. Это эффективно отключает конвейер и останавливает производство токсичных порфириновых промежуточных продуктов.
Как ни странно, может помочь и кровопускание (пожалуй, это один из немногих случаев, где оно реально полезно). Процедура позволяет быстро удалить из крови токсичные вещества, так и норовящие превратиться в порфирины. В большинстве случаев нормализация состояния может наступить уже в течение нескольких дней после острой атаки заболевания.
Тем не менее при более серьезных формах патологии все же поступают более радикально, например, удаляют селезенку, либо прибегают к трансплантации костного мозга, которая способна заменить собственные мутантные стволовые кроветворные клетки (при эритропоэтических порфириях) на полностью здоровые и функционирующие. Однако, такое лечение лучше проводить уже в первые годы жизни.
Конечно, в более долгосрочной перспективе надежду дает генная терапия, которая позволит вырезать патологические гены и заменять их нормальными, используя вирус в качестве вектора (метод доставки). Но это пока — лишь разговоры о будущем.
Сох, Ann М. Porphyria and vampirism: another myth in the making. Postgraduate Medical Journal, 1995. 71 (841): 643–644.
Hoppe-Seyler F. Das Hämatin. Tübinger Med-Chem Untersuch, 1871. 4: 523-33.
Macalpine I, Hunter R (January 1966). «The „insanity“ of King George 3d: a classic case of porphyria». Br MedJ. 1 (5479): 65–71.
Macalpine I, Hunter R, Rimington C (January 1968). «Porphyria in the royal houses of Stuart, Hanover, and Prussia. A follow-up study of George 3 d’s illness». Br. Med. J. 1 (5583): 7-18.
Peters T.J, Wilkinson D (2010). «King George III and porphyria: a clinical re-examination of the historical evidence». History of Psychiatry. 21 (81 Pt 1): 3-19.
4.0 Малярия
В 2010 году в Журнале американской медицинской ассоциации, весьма авторитетном издании, известном под своим акронимом JAMA, главный (на тот момент) археолог Египта Захи Хавасс, а позже — министр по делам древностей, опубликовал результаты масштабного исследования мумии Тутанхамона и некоторых других мумий, найденных рядом с ним.
Основные два типа исследований, которые проводились с молодым фараоном через тридцать три века после его смерти — это компьютерная томография (фактически — послойное рентгеновское исследование тела с восстановлением посредством сложных математических алгоритмов трехмерной структуры) и секвенирование ДНК его останков. Оба метода принесли неожиданные результаты. Про исследование КТ мы не будем говорить, оно касается отбрасывания разных странных диагнозов типа синдрома Марфана (о нем тоже можно будет прочесть в этой книге), а вот изучение ДНК показало наличие в тканях фараона (и еще трех мумий) одноклеточного организма Plasmodium falciparum. Возбудителя малярии.
Так что наш фараон достоверно болел малярией, и более того: Захи Хавасс делает вывод, что Тутанхамон и умер от малярийного энцефалита. В своем выборе причины смерти Хавасс опирается на то, что в гробнице были обнаружены «фрукты и листья, которые можно использовать в лечении малярии». Что ж, весьма возможно, что герой знаменитой песни группы «Наутилус Помпилиус» стал первой известной науке жертвой малярии — болезни, от которой и поныне в мире умирают до трех миллионов человек в год. До сих пор, несмотря на то, что возбудитель открыт уже более 130 лет назад, и лекарство тоже хорошо известно. Малярия — вообще уникальное заболевание: с ним связано целых четыре Нобелевских премии, абсолютный рекорд. И рассказ об этих премиях достаточно полно расскажет не только об изучении «плохого воздуха» — именно так переводится название болезни, но и о лечении малярии, и о том, как можно использовать малярию в медицинских целях.
Шарль Альфонс Лаверан: открытие возбудителя
Наш первый герой родился в Париже, но в детстве много времени провел в Алжире вместе с отцом, который был военным врачом и военно-медицинским директором. Так еще ребенком Лаверан увидел места, где ему предстояло сделать главное открытие своей жизни.
Семейные традиции не оставили выбора молодому человеку. Как и отец, он поступил в Императорскую военно-медицинскую школу в Страсбурге, а в 1874 году — всего в 28 лет — стал профессором кафедры военной медицины и эпидемиологии знаменитого военного госпиталя Валь-де-Грас в Париже. Это была большая честь для молодого медика, ведь до него эту должность занимал его отец. В первом же трактате по военной медицине Лаверан много места уделил малярии: она почти не встречалась во Франции, но была настоящим бичом Алжира и расквартированной там армии. Поэтому по истечении контракта с кафедрой, в 1878 году, Лаверан отправился в эту французскую колонию лечить солдат и изучать малярию.
О важности и актуальности борьбы с малярией можно смело говорить и по сей день. Это заболевание и в XXI веке уносит от полутора до трех миллионов жизней в год. Что же можно говорить о старом добром XIX веке, когда все было «природным» и никого не лечили «химией»! Смертность тоже была вполне себе «естественной». Естественно, огромной.
В 1870-х годах в науке уже получила распространение идея о том, что болезни, по крайней мере некоторые, могут вызываться микроорганизмами. В 1876 году эта теория была впервые подтверждена экспериментально — Роберт Кох обнаружил бактерию сибирской язвы.
К 1879 году теория миазмов (неких испарений с болот, которые и вызывают малярию) уже не рассматривалась как главенствующая. Ученым уже стало понятно, что возбудитель малярии существует. (Хотя, конечно, были и упрямцы, например, американец Ньютон публиковал работы по теории миазмов аж в 1895 году!). К тому времени боролись две теории: по воздуху передается возбудитель или через питьевую воду.
Когда нашему герою было два года, немецкий врач Герман Мекель обнаружил в крови больных малярией некие яйцеподобные образования с черными пигментными пятнами. И все ученые находили темный пигмент в сухих мазках крови больных. Первые два года работы в Алжире Лаверан разбирался в трудах немецкого ученого Ахилла Келша, который исследовал тот самый темный пигмент, считая его важным диагностическим признаком малярии, но в 1880 году, в отличие от своих предшественников, Лаверан начал изучать свежую кровь больных. Он пытался найти возбудителя малярии.
6 ноября 1880 года наш герой, работая в военном госпитале в алжирском Константине, рассматривал в микроскоп кровь молодого солдата. Он уже замечал у пациента в крови тельца в форме полумесяца, но сейчас, взяв кровь прямо во время приступа малярии, увидел в ней сферические образования со жгутиками. Вот как сам Лаверан описывал собственное открытие: «На периферии этих телец были видны тонкие прозрачные нити, которые очень координировано двигались и, без сомнения, могли принадлежать только живым существам». Возбудитель был обнаружен, и он оказался не бактерией (прокариотом, одноклеточным организмом без ядра), а простейшим — более сложно устроенным существом.
Удивительно, но ученый использовал для этого только микроскоп с увеличением максимум в 400 крат и свое зрение. Сейчас, для того чтобы увидеть малярийный плазмодий в крови, используют окрашивание, разработанное в 1891 году нашим соотечественником Дмитрием Романовским специально для определения малярии (окрашивание по Романовскому-Гизе). Кстати, Романовский придумал его после признания работ Лаверана.
Уже 23 ноября, после доклада Лаверана на конференции Парижской академии медицины, в «Бюллетене академии» вышла его короткая статья. Впрочем, ведущие врачи и микробиологи не приняли его всерьез. Еще бы! Медицина и сейчас остается очень консервативной и завязанной на авторитеты, а уж тогда… Представьте себе, на крупной конференции появляется сравнительно молодой и никому не известный военврач из Алжира и говорит, что сумел найти возбудителя малярии. Да кто он вообще такой?
Но Лаверан продолжил работу. За год он обследовал около 200 пациентов и в крови 148 из них обнаружил паразитов. 24 октября 1881 года на очередной конференции он обобщил результаты исследований и дал имя открытому паразиту — Oscillaria malariae (сейчас возбудителей относят к роду Plasmodium).
В 1882 году Лаверан приехал в Рим: в Италии в то время было очень много случаев заболевания малярией. Но, увы, коллеги не восприняли его аргументы всерьез. Что? Тельца Лаверана? Да, конечно, такое есть, сами видели, но мы не верим в микробов. Это просто погибшие эритроциты.
Но Лаверан продолжал свои работы в Италии и упорно стоял на своем. И к 1884 году он сумел убедить ведущих специалистов страны в области малярии, в том числе Этторе Маркияфаву, Камилло Гольджи (да, он не только хорошим гистологом был) и в последний момент не получившего заслуженную «Нобелевку» Амико Биньями. Более того, в итоге он сумел убедить в том, что малярию вызывают именно простейшие, а не бактерии, даже таких скептиков, как Луи Пастер и Эмиль Ру. И только главная микробиологическая звезда тех лет, успевший схлопотать «звездную болезнь» Роберт Кох, позабыв, как сам пробивал себе дорогу против мнения Рудольфа Вирхова, упорствовал до 1887 года.
Кстати, сам Лаверан терпеть не мог термина «малярия». Во-первых, из-за того, что в самом названии подразумевалась неправильная этиология заболевания (от итал. mala aria — «плохой воздух»), а во-вторых, из-за того, что термин был уж очень размытый. Сам он предпочитал название «палюдизм», тоже иногда встречавшийся еще в прошлом веке в медицинской литературе. Именно его он использовал во втором издании (1898 года) своей монографии про возбудителя малярии. К тому времени свою работу по описанию жизненного цикла плазмодия проделал и Рональд Росс, опередивший Лаверана с Нобелевской премией на пять лет.
Так, никому не известный человек первой же своей научной работой и особенно тем, что не отступился от своих выводов, сумел снискать уважение коллег и стать ученым мировой величины.
Как мы уже сказали, в 1884 году наш герой добился признания своих результатов.
Это принесло ему известность в научном мире, ему присудили почетную премию Бреана, но вот французские военные врачи так и не приняли точку зрения коллеги. В результате, когда в 1896 году истек срок его работы в Валь-де-Грас, он не смог получить по военному ведомству лабораторию для исследований.
Лаверан уволился в запас и поступил в Пастеровский институт, где получил и лабораторию, и достаточное количество времени, чтобы продолжить изучать простейших как возбудителей заболеваний, обращая внимание в первую очередь на другой бич тропиков — сонную болезнь (даже сейчас она уносит около 50 000 жизней в год).
Еще одна важная работа, которой Лаверан подвел итог своей военной карьере, — это его трактат о гигиене в военной медицине. Эта книга, как говорят, и сейчас читается очень свежо. Интересно в ней встречать и жесткую критику в адрес военных властей за ужасную организацию медицинской гигиены в войсках во время Крымской войны.
В 1907 году Альфонс Лаверан получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Он был далеко не фаворитом, если судить по числу номинаций: всего две из 94. Столько же получили, скажем, тот же первооткрыватель переносчика сонной болезни Дэвид Брюс или только что ставший лауреатом Сантьяго Рамон-и-Кахаль (а что, было бы уникальное событие — премию два года подряд получает один и тот же человек). Но премию присудили Лаверану. Возможно, свою роль сыграло то, что в 1906 году он получил премию Московского международного медицинского конгресса.
Нобелевскую лекцию Лаверан не читал: умер шведский король Оскар II, и церемонию отменили. Но в собрании нобелевских лекций его фамилия числится: текст своего несостоявшегося выступления Лаверан написал и передал в Нобелевский комитет. «В течение 27 лет я беспрестанно занимался изучением простейших паразитов человека и животных и, по-моему, без преувеличения, могу сказать, что внес существенный прогресс в этой области», — писал он.
Что ж, к этому нечего добавить, разве только, что деньги, полученные в качестве премии, он потратил не на себя, а на создание в Пастеровском институте лаборатории тропической медицины, в которой он и проработал еще полтора десятка лет до самой своей смерти.
Рональд Росс: полный цикл и борьба за премию
С первыми годами жизни Рональда Росса связано много путаницы. Так, иногда его, подобно Резерфорду («первый новозеландский лауреат»), называют первым непальским нобелевским лауреатом, исходя из записи в биографическом справочнике: «родился в 1857 году в Алморе, Непал». Но Алмора, родина известного йогина Сатьянанды Сарасвати, была непальской 25 лет (с 1790 по 1815 год, когда непальцы потерпели поражение от английских войск именно при Алморе). Напомним, что к моменту рождения сэра Росса Индия была колонией Англии и оставалась ею еще 90 лет после того.
Далее. В той же растиражированной везде биографии пишут, что Росс родился в семье «офицера британской армии». Нужно отметить, что его отец, сэр Кэмпбелл Клэй Грант Росс, тоже родился в Индии, и на момент появления на свет сына ему было 33 года. Отец Росса к концу карьеры был генералом Британской Индийской Армии, не самым последним человеком в стране. С Индией оказалась связана и научная карьера Рональда.
Впрочем, сначала пришлось отправиться в Англию. Отец отправил Рональда к дяде и тете, когда ребенку исполнилось восемь: пришла пора учиться в школе, а образование в Индии было так себе. На Туманном Альбионе хороших школ, колледжей и университетов было больше. И уже в юности разносторонняя натура Росса взяла свое: он проявлял интерес и талант к музыке, математике, прозе и поэзии, а также живописи. При этом медицины и биологии в списке интересов Росса не было. Однако через какое-то время юноша понял, что лучше Моцарта ему сонаты не писать (а зачем тогда?), да и папа настаивал, и в 1874 году, несмотря на первые места на состязаниях в математике и живописи (за год до того Росс выиграл Оксфордско-Кембриджский конкурс по рисунку), поступил в медицинский колледж ев. Варфоломея. Несмотря на то, что Росс постоянно отвлекался на написание стихов и рассказов, через пять лет он его окончил, и в 1881 году отправился в Индию — работать в специальной колониальной организации под названием «Медицинская служба Индии».
Впрочем, первые годы своей работы Росс… скажем так, не очень стремился спасать людей. «Я пренебрегал своими медицинскими обязанностями. Я всегда был занят, но литературным трудом, и ничего не делал для того, чтобы помочь людям найти причины тех болезней, которые, возможно, являются главным бичом человечества», — писал он потом.
Но времена меняются, меняются и люди. К моменту своего первого отпуска «на большой Земле», в Англии, который случился через семь лет после начала работы, Росс дозрел до того, чтобы включиться в гонку за микробами и разгадать загадку заболевания малярией, самой распространенной болезнью Индии.
В 1888 году Росс получил диплом сотрудника сферы здравоохранения, который выдают Королевское общество врачей и Королевское общество хирургов (за ним он и ездил в Лондон), и прослушал курс бактериологии профессора Эдварда Клейна из того же колледжа св. Варфоломея.
Теперь надо сказать о двух выдающихся ученых, ставших нобелевскими лауреатами чуть позже Росса. В 1880 году Шарль Луи Альфонс Лаверан (будущий лауреат 1907 года, о котором мы уже говорили), работавший в Алжире, выяснил, что малярия вызывается одноклеточным паразитом, плазмодием Plasmodium falciparum. Через год вышла статья «Паразитарный характер заболевания малярией: описание нового паразита, найденного в крови больных малярией». В следующем десятилетии другой будущий лауреат, великий гистолог и микроскопист Камилло Гольджи (лауреат 1904 года, и совсем за другое — Гольджи стал основателем современных нейронаук), показал, как размножается плазмодий у человека. Оставалось неясным, как человек заражается малярией.
Росс (не оставивший в Индии занятий литературой, написавший там роман «Дитя океана», придумавший систему стенографии и сделавший еще много чего) включил в свою деятельность изучение крови больных индусов под микроскопом. И ничего не увидел. И те научные статьи, которые он читал в Индии (напомним, Интернета и проекта sci-hub тогда не было), говорили то же самое: паразитов не видно. Росс сам опубликовал четыре статьи, в которых громил плазмодийную теорию Лаверана и предлагал новую: болезнь вызывает не воздух, а накопление кишечных ядов.
Следующий его отпуск в Англии состоялся в 1894 году. И вот там Россу посчастливилось встретить опытного врача Патрика Мэйсона, который был на 13 лет старше него и работал в Тайване, Китае и Гонконге. К тому времени он успел сделать важное открытие: доказал, что слоновость (элефантиаз), еще один бич Азии, вызывается паразитическими червями, личинки которых переносят комары. Мэнсон и выдвинул гипотезу, что комары разносят заразу. Правда, сам он считал, что комары только пьют кровь больного, а потом как-то заражают плазмодием воду.
Росс загорелся теорией Мэнсона, а тот, будучи влиятельным человеком, добился направления Росса в Индию. В Секундерабаде ученый начал охоту за комарами. И тут позволим себе процитировать биографический справочник, потому что даже сквозь сухие строчки биографии можно увидеть эмоции автора:
«В Секундерабаде Р. начал гистологические исследования комаров с целью найти у них плазмодиев. Однако его работе мешало отсутствие помощи со стороны начальства, незнание Р. энтомологии и то, что он упорно продолжал писать романы и стихи. Кроме того, в Индии было очень мало научной литературы, и у Р. не было материалов по научной классификации комаров, поэтому он был вынужден сочинить собственную классификацию.
В течение двух лет Р. изучал обычных комаров и наконец в стенке желудке комара рода Anopheles обнаружил пигментированные цисты, сходные с плазмодиями, найденными Лавераном в крови больных малярией». Так что упорство и энтузиазм Росса сумели победить и его безалаберность, и отсутствие интереса начальства, и отсутствие нужных книг.
Сам Росс потом писал следующее: «Вывод о том, что плазмодии созревают в организме комаров определенного вида, решил проблему малярии. Дальнейшее направление работ стало совершенно ясным, и было очевидно, что наука и человечество одержали очередную победу».
Впрочем, до победы было далеко. Из Секундарабада его перевели в Раджпутану, где вообще не было малярии. У людей. Зато была у птиц, и Росс принялся экспериментировать с пернатыми. Именно там, на птицах, он сумел полностью воспроизвести жизненный цикл малярийного плазмодия и показать, что именно укус комара заражает малярией. Исследования длились до 1898 года, после чего Росс уволился и уехал в Англию, завершив экспериментальную карьеру.
И тут нужно упомянуть еще одного человека, который был полностью достоин разделить с Россом в 1902 году Нобелевскую премию — итальянца Джованни Батисту Грасси. Именно он сумел независимо от Росса показать: малярия переносится от человека к человеку комарами одного вида — Anopheles (по-гречески это означает «бесполезный»). Более того, именно он первым смог провести эксперимент, в ходе которого заразил человека малярией при помощи укуса комара. И именно Грасси с коллегами поставил важнейший эксперимент, окончательно доказавший правоту ученых: в самой «малярийной» местности Италии он выбрал одну железнодорожную станцию, где тщательно закрыл все окна во всех помещениях москитными сетками, провел строгий инструктаж с живущими там людьми, постаравшись свести к нулю укусы комарами. В итоге почти никто из 112 подопытных не заболел (в отличие от 415 человек «контроля»).
И вот в 1902 году (а тогда обсуждение и присуждение Нобелевской премии велось более открыто) Нобелевский комитет начал склоняться к тому, чтобы разделить премию между Россом и Грасси. В итоге Росс начал активную кампанию по обвинению Грасси в плагиате и мошенничестве. Комитет призвал «независимого» арбитра, Роберта Коха (тоже будущего лауреата), который вынес вердикт о том, что Грасси не заслуживает премии.
Росс получил премию и (девять лет спустя) дворянский титул, посвятив себя профилактике и эпидемиологии медицины, очередным попыткам покорить Парнас, хлопотам о созданном им в 1926 году Институте тропической медицины своего имени и прославлению этого самого имени.
Кстати, вот кому действительно повезло, так это биографам Росса. Сэр Рональд Росс бережно хранил все документы, письма и вообще все вещественные «сувениры», связанные с собой.
Последняя идея Росса, которую он активно продвигал, действительно спасла миллионы жизней: он полагал, что только уничтожение малярийных комаров сможет победить болезнь.
Юлиус Вагнер-Яурегг: польза от малярии
Третий герой «малярийной нобелевской саги» родился в старинном австрийском городе Вельс, известном под именем Овилия еще с древнеримских времен (впрочем, в 477 году его разрушили до основания варвары, и снова статус города он получил три четверти тысячелетия спустя). Его родителями были чиновник Адольф Йохан Вагнер и его жена Яуернигг Ранцони. Впрочем, просто Юлиусом Вагнером будущий нобелевский лауреат пробыл всего 26 лет. В 1883 году его отец был удостоен низшего дворянского титула риттера и стал зваться Вагнер Риттер фон Яурегг. Правда, уже в конце жизни — а после Первой мировой в Австрии титулы отменили вовсе, и в итоге осталось Юлиус Вагнер-Яурегг.
Деньги и связи у семьи были, поэтому и среднее, и высшее образование молодой человек получил весьма и весьма хорошее: сначала престижная Шоттенгимназиум, затем — медицинский факультет Венского университета. Шесть лет, с 1874 по 1880 годы, он совмещал учебу с работой ассистентом у знаменитого Соломона Стрикера в Институте общей и экспериментальной патологии. Стрикер был знаменит в первую очередь своими трудами по гистологии и исследованием внеклеточного матрикса.
В 1880 году Вагнер (тогда еще просто «Вагнер») стал доктором и ассистентом Стрикера. В тот же год он познакомился с молодым учеником Жана Мартена Шарко — Зигмундом Фрейдом. Знакомство переросло в дружбу двух психиатров, которая продлилась долгие десятилетия. Правда, направление их мысли было противоположным — если Фрейд пытался понять, какие соматические проблемы вызываются психическими отклонениями, то Вагнер думал о неврологических основаниях психических проблем.
Заболевания, на которые обратил внимание в своей работе Вагнер Риттер фон Яурегг, были кретинизм и прогрессивный паралич. Первый представляет собой замедление умственного и физического развития на фоне недостаточности работы щитовидной железы. В те годы зоб и кретинизм были очень частыми «гостями» в приемных врачей Центральной Европы, особенно в Швейцарии. Именно Вагнер-Яурегг в 1898 году смог показать, что эти болезни связаны с недостатком йода в пище. Уже после Первой мировой он убедил австрийское правительство выпускать йодированную соль. Его коллега, нобелевский лауреат Эмиль Теодор Кохер убедил сделать то же самое правительство Швейцарии.
С прогрессивным параличом (так его называли у нас, в мировой литературе его именовали dementia paralytica) ситуация была совсем иная. На самом деле это инфекционное заболевание — сифилис. Точнее, третичный сифилис, самая поздняя стадия, когда бледная спирохета попадает в мозг и вызывает распад личности, паралич и почти всегда летально. На конец XIX века 15 % «клиентов» домов умалишенных составляли именно пациенты с прогрессивным параличом. Так что да, в те годы сумасшествие было, в конечном счете, заразно. Ротация коек в этом случае была почти стопроцентной: заболевание убивало за четыре года.
Но остается это слово «почти». Как писал сам Яурегг, «наибольший интерес для врача представляет изучение случаев выздоровления при неизлечимых болезнях». Кто-то выживал, и нужно было понять, почему. Он заметил, что чаще всего выживают те, кто во время своей болезни болел чем-то еще. Особенно «удачным» случаем была тифоидная лихорадка. В 1887 году Яурегг предположил, что от прогрессивного паралича лечит высокая температура тела. И начал разрабатывать свой метод пиротерапии. Сначала, после работ Коха и первой эйфории с туберкулином, Яурегг пытался заражать туберкулезом и лечить потом туберкулез туберкулином. Тут его постигла двойная неудача — и лихорадка была слабенькая, и Кох ошибался — туберкулин не излечивал туберкулез.
Потом появилась надежда номер 606 — Пауль Эрлих разработал препарат сальварсан, который лечил сифилис. Но с третичным сифилисом он не справлялся.
Поэтому Яурегг обратил внимание на малярию: легкая трехдневная форма ее лечится хинином, и оказалось, что при правильно подобранных штаммах, сроках лихорадки до начала лечения и тактике ведения больного — выздоравливают до 85 % пациентов. Этот успех пришел к Яуреггу в 1917 году.
Кстати, некоторые специалисты считают, что в обстановке строгой секретности от нейросифилиса лечили и Владимира Ильича Ленина. Однако данных по этому пока что нет: некоторые медицинские документы вождя мировой революции засекречены до 2024 года…
Были у Яурегга и иные «достижения». Так, он предлагал лечить шизофрению, «вызванную чрезмерной мастурбацией», стерилизацией пациентов. Сам психиатр, конечно же, отмечал улучшение в состоянии пациентов.
В 1927 году пожилой Яурегг получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине. На тот момент он был едва ли не самым возрастным лауреатом в этой номинации: ему уже стукнуло 70.
Метод пиротерапии просуществовал недолго: уже в 1940-е годы пенициллин стал способом номер один при лечении нейросифилиса. Так остается и поныне. Любопытно, что до сих пор остается неизвестным, как точно работает его метод. Вероятнее всего, высокая температура просто убивает бледную спирохету. Но, поскольку сейчас никто не экспериментирует с методом Яурегга, то достоверно выяснить это не удалось.
На Нобелевской церемонии представитель Каролинского института сказал: «Лауреат предоставил нам средство для эффективного лечения серьезной болезни, которая до настоящего времени считалась устойчивой ко всем формам терапии и неизлечимой».
Ту Юю и бессмертный Гэ Хун: наконец-то лекарство
В XXI веке малярия не раз и не только в связи с Тутанхамоном оказалась болезнью, связывающей глубокую древность и современную медицину.
В 2015 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине наконец-то дали за подлинную медицину, а не за молекулярную или клеточную биологию. В числе трех лауреатов ее получила китаянка Ту Юю — за создание первого эффективного лекарства от малярии, артемизинина.
Препараты против малярии — разной силы и эффективности — были известны достаточно давно. После Второй мировой войны препаратом номер один стал хлорохин. Он появился в 1947 году и применяется до сих пор — но в первую очередь при аутоиммунных заболеваниях, а не при малярии. Почему так? Дело в том, что малярийный плазмодий слишком быстро выработал устойчивость к этому препарату, и в начале 1960-х встал вопрос о замене.
Китаянка Ту Юю работала в Институте традиционной медицины в Пекине и ставила своей целью найти растения, которые помогают при малярии, выделить из них активные вещества, а затем сделать на их основе мощное лекарство. Она провела скрининг экстрактов 2000 трав, но результаты были не очень радужными до тех пор, пока дело не дошло до обыкновенной полыни однолетней, она же Artemisia annua. И вот тут началось странное, а точнее — маловоспроизводимое. Какие-то экстракты не работали, какие-то работали. И тогда Ту Юю обратилась к древним источникам. Точнее — к труду великого китайского мудреца Гэ Хуна, жившего в IV веке. Даосская традиция, давшая Гэ Хуну прозвище «Мудрец, объемлющий первозданную красоту», считает его святым и бессмертным. Более всего Гэ Хун известен трудом «Баопу-цзы», эдакой Большой китайской энциклопедией, но написал он и несколько медицинских трактатов.
Так вот, в труде «Рецепты для неотложных случаев» Ту Юю нашла ключевой момент: при получении экстракта полыни для борьбы с малярией нужно использовать холодную воду, а не горячую, как это обычно делается. Оказывается, действующее вещество полыни просто разлагается в горячей воде. Дальнейшее было делом техники. Выделенное действующее вещество получило название артемизинин, в 1980-х его наконец-то начали применять по всему миру. Потом уже сама Ту Юю синтезировала дигидроартемизинин, более стабильный и более эффективный.
Сколько людей удалось спасти благодаря общему труду Ту Юю и Гэ Хуна, подсчитать трудно. Можно утверждать, что интерес к истории медицины помог сохранить жизни нескольким миллионам человек. Или нескольким десяткам миллионов. Или… В общем, в 2013 году артемизиновую противомалярийную терапию получило 392 млн человек.
Конечно же, премию стоило бы присудить совсем иному человеку (человеку ли?), автору трактата «Рецепты при неотложных случаях». Вы скажете, Гэ Хун уже более полутора тысяч лет, так же мертв, как и Тутанхамон? Как тут не вспомнить Коровьева и Бегемота. Протестуем! Гэ Хун — бессмертен! Кстати, с этим согласны все китайские приверженцы даосизма, которых и поныне немало (ведь в Китае всегда считалось доблестью иметь трех учителей — в буддизме, в конфуцианстве и в даосизме). Поэтому, рассказывая о Ту Юю, нельзя не сказать и о Гэ Хуне.
Итак, Гэ Хун родился в 283 году. С детства он был приверженцем даосской традиции Саньхуанвэнь. То бишь, «письмена трех владык» — или «письмена трех августейших», как ее часто называют. Пожалуй, можно назвать два принципа этой школы: во-первых, никакой семейственности, нужен персональный и сторонний Учитель, а во-вторых, главная цель — личное бессмертие. А, значит, алхимия, медицина, травы, яды, металлы, грибы. Кое-кто еще и сексуальные практики упоминает. Ну, куда же без них быть бессмертным! Гэ Хун имел наставников и в конфуцианстве, и в даосизме, был чиновником, подавлял восстания, но больше всего его привлекали алхимия и систематизация знаний. Он много, очень много читал — и его доставала всякая чушь, написанная товарищами по Саньхуанвэнь. В итоге, Гэ Хун засел на четыре года и написал, пожалуй, первую в мире научно-популярную энциклопедию. Называется она «Баопу-цзы». Точнее, не совсем так. Прозвище «Мудрец, объемлющий пустоту» дали автору, а с автора прозвище перекинулось на книгу. Такая себе китайская «Британника» IV века нашей эры. Кстати, в ней было и про лженауку (про всяких шарлатанов-псевдоучителей) и даже про самолет (кроме шуток — из дерева жожоба и крыльями из бычьей кожи). Ну, и разумеется, много-много про медицину. Потом Гэ Хун, как и многие авторы, написав свою главную в жизни книгу, вроде бы умер.
Хотя кто знает: по легенде, перед смертью Гэ Хун срочно вызвал своего друга и покровителя, губернатора Гуанчжоу Дэн Юэ, но тот задержался, и прибыл на гору, когда Гэ Хун был уже мертв. Дэн Юэ, открыв гроб, обнаружил, что тело Гэ Хуна остается легким и гибким без признаков трупного окоченения или одеревенения. А потом, во время похорон, ученики удивились легкости гроба, открыли его и увидели, что гроб пуст. Гэ Хун вошел в даосский пантеон как бессмертный (шицзесянь, «освободившийся от трупа»), получивший бессмертие через смерть и воскрешение.
Вакцина: не прошло и века
24 апреля 2017 года Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что с 2018 года в трех странах Субсахары (Гана, Кения и Малави) начнется первое в истории ограниченное применение вакцины от малярии. Завершение третьей фазы клинических испытаний вакцины RTS.S прошло не очень заметно в прессе, а ведь ее успех — это очень важное событие для всей медицины. Во-первых, это своеобразный антирекорд сразу по двум показателям: препарат разрабатывали почти 30 лет, потратив на него полмиллиарда долларов, и это будет рекордный срок от выявления патогена (1880 год) до создания вакцины (более 130 лет). А во-вторых, это вообще первая в истории вакцина не от вируса или бактерии, а от паразита-эукариота.
Вероятно, низкая медийная видимость этого события связано с тем, что вакцина не предотвращает заболевание полностью, а лишь снижает его вероятность: подтвержденных случаев малярии на 36 %, а угрожающих случаев — на 32 %. Впрочем, в мире, где малярия ежегодно уносит почти полмиллиона человек, и такая эффективность — на благо. Другое дело, что, как отмечают специалисты, в условиях беднейших стран Африки будет сложно организовать нужную схему вакцинации (она требует четырехкратного введения вакцины), но это покажет пилотная часть проекта в 2018–2020 года. И, если вакцина будет работать, кто знает — может быть, создатель первой эффективной вакцины от малярии получить пятую «нобелевку»?
Zahi Hawass et al., JAMA, vol. 303(7), pp 638–647, 2010 Malaria Fact sheet № 94. WHO. March 2014.
Nadjm В, Behrens RH (2012). «Malaria: An update for physicians». Infectious Disease Clinics of North America. 26 (2): 243-59. doi:10.1016/j.idc.2012.03.010.
«The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1907: Alphonse Laveran». The Nobel Foundation.
«The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1902: Ronald Ross». The Nobel Foundation.
5.0 Хорея Гентингтона
Итак, — хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могилы тьма,
Нас не смутит твое призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может… полное Чумы!
Не зря мы начали с гимна чуме из, конечно же, «Пира во время чумы», вышедшего из-под пера несравненного Александра Сергеевича Пушкина. В этой небольшой пьесе как нельзя более точно передана атмосфера безысходности эпидемии, в очередной раз накрывшей средневековый город, в данном случае — Лондон (эта пьеса — результат перевода пьесы «Чумной город» шотландца Джона Вильсона), когда люди в крайнем отчаянии предавались празднеству. Но почему мы вдруг снова заговорили о чуме, хоть и посвятили этому целую главу?
Дело в том, что с ней неразрывно связан знаменитый исторический эпизод, который затем даже превратился в медицинский термин, характеризующий сейчас одно из самых распространенных неврологических заболеваний, стоящих на генетическом фундаменте. И мы даже не сомневаемся, что те из вас, кто смотрел доктора Хауса (привет, доктор 13-я!), прекрасно о нем знают, ведь благодаря этому сериалу недуг обрел свою современную известность и популярность.
Ну что, догадались, о чем пойдет речь? Естественно, о болезни Гентингтона. Удивительно, как всего лишь три несчастных семьи, эмигрировавших из Англии в одну из ее основных колоний, принесли в своих генах «зло», поразившее впоследствии всю Америку. Настойчивости распространения такой «бомбы» замедленного действия «позавидовала» бы любая инфекция, которая то сокрушает тысячи людей, то отходит в тень, поверженная антибиотиками и вакцинами. Болезнь Гентингтона же расползается постепенно, но непрерывно, передавая свой мутантный ген из поколения в поколение, и какого бы то ни было спасения от этого (кроме как носителям мутации отказаться от потомства) до сих пор не найдено.
Чума и святые пляски
Но мы отвлеклись. Итак, перенесемся на мгновение в средневековую Европу, когда в очередной раз над головами бедных европейцев разверзлась чумная пасть, жадно поглощающая жизни десятками тысяч. Тогда никакого лечения не существовало, кроме истовой молитвы, исповедей, причастий и тщательного соблюдения всех церковных обрядов. Но коли уж по календарю выпадали церковные праздники, тем более — праздник Святого Вита (да, правильно писать с одной «т» — St. Vitus), то как же не воздать ему почестей и не попросить о покровительстве и исцелении?
Святой Вит, кстати, был римским мучеником на заре христианства при пока еще «живой» Римской империи. Причем, мальчик, а ему тогда было, по одним источникам семь, по другим — двенадцать лет, имел в отцах сицилийского сенатора и принял под влиянием своего наставника христианство. Прибыв в Рим для того, чтобы изгнать бесов из сына императора Диоклетиана, Вит справился с задачей успешно, но заставил императора негодовать, всего лишь отказавшись молиться римским богам. В честь этого возмутительного непотребства его отправили сначала в клетку со львами, которые, к слову, праведника не тронули, а потом в котел с кипящим маслом, которому уже было все равно.
Все это свершилось в 303 году. Когда христианство заняло доминирующую позицию, Вита провозгласили святым, и праздник в его честь до сих пор отмечается католической церковью 15 июня.
Так вот. Праздник этот всегда сопровождался пирами и танцами, и отчаявшиеся европейцы были настолько убиты горем по умершим от чумы родным и устали от бедствий, что никакая эпидемия не могла остановить их неистовое и бурное истерическое веселье, которое было своеобразной попыткой искупления грехов и просьбой святому смилостивиться и даровать здоровье. Оно заставляло их плясать в прямом смысле до упаду, и истощенные голодом и мором люди, не в силах остановиться, падали замертво на городские мостовые.
Эта описанная летописцами картина, судя по всему, родила в те же Средние века еще одно странное предание, охватившее сначала Германию, а потом и другие европейские страны. Согласно ему, если в этот день станцевать перед скульптурой святого, то здоровые заработают заряд бодрости на весь год вперед, а больные получат долгожданное выздоровление.
Поэтому в этот день вокруг часовен, церквей и скульптур, посвященных Святому Витту, скапливались толпы странно и экспансивно двигающихся людей, желающих исцелиться, либо зарядиться божественной силой, и это зрелище послужило хорошей иллюстрацией и вторым названием хорее (с греческого χορεία — вид танца) — двигательному расстройству, часто напоминающему по проявлениям резкий, несуразный и непроизвольный танец. Но хорея или хореический гиперкинез — это лишь одно из проявлений болезни Гентингтона, синдром, который имеет место и при некоторых других недугах.
Этот факт выяснился только потом, но до второй половины XX века, пока не открылась истинная причина, кроющаяся в гене белка гентингтина, хореей Гентингтона называли все, что подходило под весьма подробное описание, сделанное Джорджем Гентингтоном в 1872 году. Однако, история недуга начинается задолго до него и даже его дедушки, который тоже занимался наблюдением странных патологических телодвижений. И чтобы узнать истоки, мы с вами обратимся к истории нескольких семей, которые в далеком 1630 году в числе еще 700 пассажиров погрузились на корабль знаменитого флота Джона Уинтропа (который организовал большое переселение протестантов и стал губернатором Массачусетской колонии) и отправились из Англии на другой материк, который сулил счастье и свободу…
Американские истории
Стоит воздать должное тем людям, которые исправно вели архивы, что позволило отследить судьбы этих семей, построить генеалогические древа и предоставило обширные просторы для деятельности исследователям на многие годы вперед. За изучение взялись Фредерик Тилни, который прослеживал имена предков одной «хорейной» семьи с самого 1636 года — то есть с их прибытия в колониальный Коннектикут. Сюда добавим самого Джорджа Гентингтона, Чарльза Уотерса, Ирвинга Лайона, Кларенса Кинга, Бартона Синклера и других специалистов, которые стали пионерами в сложнейшей задаче отследить распространение злосчастного гена в восточных штатах.
В списке среди 700 иммигрантов значились несколько мужчин и их жен из небольшой деревни Буреш в Саффолке, особенно привлекающих наше внимание. Им пришлось буквально бежать в Новый Свет, потому что в те годы Церковь была исключительно безжалостна к тем людям, кого она считала «одержимыми». Суеверия множились и подкреплялись на административном уровне указами, ярлыки раздавались направо и налево, а за каждую посаженную в тюрьму «ведьму» правительство выплачивало 20 шиллингов. Колдовство считалось смертельным грехом, и сотни «странных» граждан подвергались пыткам, утоплениям и казням, как враги человечества.
Поэтому двое братьев, Уилки и Николс (все имена героев далее изменены), обладавшие в некоторой степени тем, что считалось «одержимостью», и уставшие от гонений, отбыли вместе со своими семьями на флоте Уинтропа. Уилки, по профессии плотник, был старшим из них и отцом семерых детей.
С самого начала эта семейка не отличалась мирным нравом. Братья и их сыновья стали печально известными руководителями в сомнительной колониальной истории. В течение первых десяти лет в «карьере» Уилки, судя по отчетам Массачусетса, появилось несколько арестов, связанных с его экспрессивностью и некоторой агрессивностью. А жена Уилки, Присцилла, пытаясь прокормить нищенствующую семью, стала работницей лицензированного «дома развлечений» в Бостоне.
Долго Уилки не прожил, но из записей о его смерти и завещания удалось узнать, что одна из его дочерей вышла замуж, и эта пара присоединилась к колонии в Ист-Хэмптоне на Лонг Айленде (остров на юге нынешнего штата Нью-Йорк), сформировав исторический «стержень» хореи Гентингтона на Лонг-Айленде.
Старшего сына Уилки и Присциллы обвинили в 1641 году в «смуте», а позднее осудили за кражу серебра. Другой сын умер в нищете, оставив после себя лишь 25 фунтов, а третий сын женился на Элизабет Уорн, дочери «старика» Уорна — неуправляемого диссидента, которого преследовали и неоднократно штрафовали за «пренебрежение общественным поклонением». Этот молодой человек тоже не прожил много лет, и после его смерти Элизабет снова вышла замуж и мигрировала обратно в Старую Англию, бросив свою дочь от первого мужа — тоже Элизабет.
Эта девушка приобрела известность в качестве знаменитой Гротонской ведьмы, а подробный отчет о «жестоких движениях и волнениях ее тела» есть в колдовской литературе 1671 года. К слову, уличения в колдовстве ее мать все-таки не избежала. Новый муж обвинил ее в том, что после их ссоры у ребенка, которого Элизабет успела родить от него, возникли странные мучения. Вооружившись сиим фактом, он нажаловался в соответствующие «органы». Просидев трое суток в тюрьме, Элизабет созналась, что в Америке носила в чреве «дьявола», и понесла за это наказание (какое — архивы умалчивают).
Младший брат Уилки, Николс, привез в Новый Свет свою жену Эллин, Поскольку на флоте свирепствовал голод, а семья тоже была бедная, Николс увлекся шарлатанством, и архивы хранят несколько записей о штрафах, в числе которых «приговорен к выплате 5 фунтов за попытку вылечить цингу водой, не имеющей ценности, которую он продал за очень дорогую цену; должен быть заключен в тюрьму до тех пор, пока не заплатит свой штраф или не обеспечит его выплату…» Оттуда же выяснилось, что в 1653 году Эллин повесили за колдовство.
В семье одного из сыновей Николса и Эллин почти все потомки страдали хореей. Это относилось и к их дочери, которая вышла замуж за представителя третьей «хореической» семьи Джефферс, также переехавшей на флоте Уинтропа в Америку, где у всех детей, кроме одного, проявлялись гиперкинезы. Внучку Эллин, Мерси Дисбороу, дважды судили за «разжигание» эпидемии ведьмомании в 1692 году, но затем миловали из-за отсутствия достоверных улик. Сын Джефферса стал отцом нескольких детей, и его потомство, с одним исключением, показало явные признаки наследования заболевания.
Джефферсы, как и Николс, жили в штате Коннектикут. Отец семейства попадал в записи о тяжелых преступлениях, после которых его товарищам выносили суровые приговоры. Его старший сын и вовсе был приговорен к смертной казни по обвинению в убийстве, но затем ему назначили менее суровое наказание, после чего он стал сильно религиозным человеком. Пожалуй, он стал единственным в семье, чьи потомки вредный ген «потеряли», потому что в семьях остальных сыновей и дочери он продолжал «цвести буйным цветом».
Об одном из отпрысков остались вполне подробные данные, и благодаря этому можно отследить его историю заболевания. Это был как раз тот сын, который женился на дочери Николса. Он стал видным общественным деятелем, депутатом, но в возрасте 44 лет был вынужден покинуть пост, так как начал страдать неизвестной патологией. Он болел до 60 с небольшим, пока не умер, а все его дети тоже имели во взрослом возрасте характерные симптомы, так как и отец, и мать носили в себе патологическое сочетание нуклеотидов.
Охота на ведьм
Нужно сказать, что в колониальном штате Коннектикут с 1647 по 1697 год законодатели, церковники и юристы регулировали свои фанатичные убеждения в колдовстве на самом что ни на есть государственном уровне, не отличаясь по жестокости приговоров при этом от Старой Англии. Некоторые нервные и психические расстройства признавались работой дьявола, а людей с ними карали весьма жестоко и подвергали гонениям.
Эту концепцию породило появление определенного типа людей, в чем, конечно, немало поучаствовали несчастные «хореические» семьи. Обычно это была женщина, которая до определенного момента оставалась нормальной в общественном понимании этого, а потом начинала меняться как внешне, так и в поведении, движениях.
Эти изменения не могли ускользнуть от глаз подозрительных соседей, которые рассматривали такие метаморфозы как свидетельство ее сговора с дьяволом и спешили доложить об этом охотникам за ведьмами. Все странные движения бедной больной женщины, признавались бесовскими провокациями. Естественно, обвиняемые крайне редко признавали себя повинными в связях с нечистыми силами, а признания из них выбивались с помощью пыток.
Что интересно, в Европе по понятным причинам подобных «подозрительных» людей не жаловали, но считалось, что жертва демонического духа превращается в оборотня. Вполне возможно, что отличительной чертой этого превращения становился непроизвольный характер поведения — человек переставал себя контролировать. За это как раз принимались рывковые движения, несуразная танцевальная походка, неловкость и вычурность, вынужденность движений. Возможно, такие проявления придавали особое значение вере в то, что хорея, как и оборотневый облик, была чем-то вроде «шкуры».
В свете современных клинических наблюдений не нужно особо богатого воображения, чтобы понять, почему классические образы ведьм в западном обществе «надевали» на больных. В штате Коннектикут все еще стоит в одном из лесистых районов хижина, называемая много лет назад «Домом ведьм», потому что в ней были изолированы родственники хореоидной женщины — судя по всему одной из потомков либо Джефферсов, либо Уилки, либо его брата.
Удивительно, но даже в XX веке веке последователи оккультизма все еще верили, что эти хореические гиперкинезы контролируются так называемыми земными духами. По их мнению, это существа, которые ненавидят людей, ошибочно или злонамеренно ищут себе восприимчивых жертв и безжалостно их мучают со всеми клиническими последствиями, одаривая к тому же безумием. Очевидно, что оккультисты не разделяют менее сверхъестественную точку зрения нейробиологов и неврологов, согласно которой во взрослом возрасте развивается селективное разрушение определенных частей мозга, и чем дальше болезнь прогрессирует, тем больше проявляется когнитивный спад.
Но хватит о ведьмах. Пора поговорить о том времени, когда хорея приобрела свои медицинские корни. А случилось это благодаря заслугам сразу нескольких ученых. Еще в 1842 году первое упоминание о хорее появилось в письме Чарльза Оскара Уотерса, которое опубликовали в первом издании журнала «Practice of Medicine». Уотерс описывал форму хореи, включая заметки о ее прогрессии и наследуемости, которую голландские поселенцы юго-восточного района штата Нью-Йорк локально называли «magrums», что значило что-то типа беспокойства, нервозности, неудобства. Часто про детей, которые все никак не успокаивались, говорили, что в них «завелись магрумы».
В 1863 году уже более полно о наследственном характере болезни, позднем начале — преимущественно во второй половине жизни — и прогрессирующей деменции писал Ирвинг Лайон, который в том числе занимался и исторической слежкой, о чем мы упомянули перед американской историей.
Преемственность поколений
Но на полвека раньше него за дело взялся дед Гентингтона — Абел Гентингтон, который, будучи врачом, отправился на Лонг-Айленд заниматься медициной и обнаружил у старых переселенцев хорею странного вида. Его сын, Джордж Ли Гентингтон, который тоже остался врачевать в этих кругах, дополнил его описания и даже попытался классифицировать недуг.
Тем не менее типы хореи (ведь это просто синдром, набор клинических симптомов) тогда отличать не могли и «сваливали» в одну кучу все, что видели, приписывая это одному и тому же заболеванию. Его редкость, путаница с другими более распространенными неврологическими состояниями, неадекватное понимание роли наследственности в этиологии и публикация «жидких» первоначальных клинических отчетов там, где невозможно выявить и проследить все возможные варианты, только способствовали задержке в распознавании патологии.
Именно поэтому полноценное, большое и подробное описание болезни, объединившее все ранее известные случаи, исторические данные, включая генеалогию, которое сделал Джордж Гентингтон, оказалось настолько ценным. Первоначально, конечно, болезнь называлась просто «хореей», подчеркивая клинику в виде отрывистых танцевальных движений, а также «наследственной хореей» и «хронической прогрессирующей хореей», но появились и весьма внушительные намеки на ее «самодостаточность».
Интересно, что при огромном количестве биографий Гентингтона многие из них иногда нагло врут, приписывая Джорджу несуществующих п-юродных братьев (например, Джордж Самнер Гентингтон, который всего лишь учился с ним в одной медицинской школе), либо делая его излишне аскетичным в научном плане — выпустил из-под пера всего одну статью — про семейные хореи (на самом деле две). Но мы дадим только правдивую и исторически подтвержденную информацию.
Джордж Гентингтон родился в 1850 году и вырос в уединенной сонной деревушке Ист-Хэмптон, которая находилась в восточной части Лонг-Айленда. Благодаря тому, что его дед и отец были высокоинтеллектуальными, порядочными, добрыми и интеллигентными людьми (образ врача того времени в принципе не мог выглядеть как-то иначе), мальчик впитал от них лучшие качества и унаследовал способности, которые позволяли ему, среди прочего, точно наблюдать и правильно обобщать то, что в его окружении происходило интересного или необычного.
Однажды, около 1860 года, во время профессионального обхода с отцом, случилась ситуация, которая отложилась в его памяти на долгие годы.
«Когда мы с отцом ехали по лесистой дороге, ведущей из Ист-Хэмптона в Амман, — писал Джордж Ли, — мы натолкнулись на двух женщин, мать и дочь. Обе были высокие, худощавые, почти как трупы, обе странно скручивались, кланялись, гримасничали. Я стоял в изумлении, даже в страхе. Что это могло означать? Мой папа остановился, чтобы поговорить с ними, и после мы отправились дальше. С этого момента мой интерес к болезни никогда не иссякал полностью».
Так и вышло, что путь молодого человека лежал в сторону медицины. Отец рано начал вводить его в тонкости специальности, давал изучать научные труды. Помимо этого Джордж имел неограниченный доступ к заметкам своего отца и деда по делам медицинской практики. При этом он отлично рисовал, играл на флейте и мастерил из тончайших деталей правдоподобные модели кораблей.
В 18 лет он начал регулярно практиковать со своим отцом, затем учился и весной 1871 года окончил Колледж врачей и хирургов Колумбийского университета в Нью-Йорке (на тот момент ему было всего 20 лет). После он вернулся в Ист-Хэмптон и продолжил работать с отцом.
Молодой Гентингтон обращал особенное внимание на встречающиеся случаи особой формы хореи и подробно изучал записи о ней, которые на протяжении нескольких десятилетий делали его отец и дед. Но на этом он не останавливался и вникал в другие известные формы хореи, в течение лета и осени 1871 года, делая предварительные записи для своей будущей статьи. В конце концов он написал первоначальный «проект» своего эссе, а карандашные заметки и исправления его отца, тщательно отредактировавшего статью, до сих пор можно разглядеть в оригинальной рукописи.
В конце года его брат, женившийся в Померойе (штат Огайо) и получивший высокий пост священнослужителя, позвал Гентингтона переехать и открыть практику там. Джордж немного подумал и согласился, взяв пока не опубликованный труд с собой. В феврале же 1872 года выдалась возможность прочитать его перед членами Академии медицины Мидлпорта, и работа была принята настолько хорошо (ее автор, к слову, тоже), что ее сразу отправили в редакцию журнала «Medical and Surgical Reporter» в Филадельфии и опубликовали в номере от 13 апреля 1872 года.
Статья называлась «О хорее», и в ней Гентингтон обобщил весь накопленный семейный опыт, а также собственные изыскания, многодневные брожения по научной литературе и медицинским выпискам. После двух тысяч слов о возникновении, симптомах и лечении хореи статья заканчивается следующими словами:
«И теперь я хочу обратить ваше внимание, в частности, на ту форму болезни, которая существует, насколько я знаю, почти исключительно на восточном конце Лонг-Айленда. Она сама по себе характерна и, по-видимому, подчиняется определенным законам… Наследственная хорея, как я ее назову, ограничивается определенными и, к счастью, несколькими семьями и передается ими, реликвией, из поколения в поколение.
Об этом стараются не говорить и вовсе не упоминают, кроме как из крайней необходимости, называя болезнь „это расстройство“ („that disorder“). В ней обычно участвуют все симптомы общей хореи, только усугубляющиеся, почти никогда не проявляющиеся до взрослого, среднего возраста, а затем постепенно, но верно нарастающие, на что часто уходят годы, до тех пор, пока несчастного страдальца не постигнет крушение его прежнего „я“…».
Помимо этого, Гентингтон очень верно отразил и аутосомно-доминантный тип наследования патологии (пока, однако, даже не подозревая об этом): «если у одного или обоих родителей проявились симптомы болезни… один или несколько потомков почти неизменно от нее пострадают… Но если они случайно пройдут жизнь без нее, то нить будет порвана, а внуки и правнуки первоначальных хорейных семей могут быть уверены, что они освободились от этого недуга».
Сэр Уильям Ослер интересовался хореей в целом и был настолько впечатлен бумагой Хантингтона, что в своей «рецензии» ссылался на статью как на «повседневную литературу о малой хорее, в конце которой он (доктор Гентингтон) описал форму, назвав ее наследственной хореей, встречающуюся в восточной части Лонг-Айленда и хороню известную его отцу и деду, которые практиковали в этой местности». Он также заключал: «В истории медицины очень немного случаев, где заболевание было бы описано более точно, графически правильно и кратко».
Этот интерес Ослера, в сочетании с его значительным медицинским влиянием, помог быстро распространить осведомленность и знания об этом заболевании (которое с его легкой подачи стало называться хореей Гентингтона) во всем медицинском сообществе, и к проблеме подключились в том числе европейские врачи: например, Джозеф Ландузи, Камилло Гольджи и Джозеф Жюль Дежерин. Да так активно подключились, что до конца века большая часть исследований по этой теме была европейской по происхождению. К концу же 19-го века исследования и отчеты о болезни были опубликованы во многих странах, и заболевание получило статус общемирового.
Новая страница: генетическое «лицо»
Далее уже в XX веке английский биолог Уильям Бейтсон с помощью родословных больных семей установил, что болезнь Гентингтона имеет аутосомно-доминантный характер наследования (то есть даже если в генотипе есть всего один мутантный ген, заболевание даст о себе знать в полной форме). А если есть некий ген, то нужно его найти, так как исследователям необходимо знать, с кем бороться.
Поиск главной причины значительно улучшился в 1968 году, когда американский психоаналитик Милтон Векслер создал Фонд наследственных заболеваний (HDF), потому что его жене годом ранее поставили болезнь Гентингтона. Фонд задействовал в исследовательском проекте по этому заболеванию более сотни ученых, которые в течение более чем 10 лет трудились над поиском злополучного гена. В 1983 году, благодаря тому, что подключились две изолированных венесуэльских деревни, Барранкитас и Лагунетас (всего около 18 000 человек), где наблюдалась необычайно высокая распространенность заболевания, появилась информация о крупном прорыве: приблизительное местоположение гена обнаружено.
В ходе этого проекта разработали методы маркировки ДНК, которые, помимо всего прочего, стали важным шагом в создании проекта по расшифровке генома человека.
И, наконец, в 1993 году исследовательская группа выделила точный ген НТТ, кодирующий белок гентингтин (Htt) и находящийся на коротком плече 4-й хромосомы (4р16.3), где число повторов нуклеотидной последовательности цитозин-аденин-гуанин во много раз превышает нормальное (больше 36). Это было первое аутосомное заболевание, для которого удалось найти локус с помощью генетического анализа сцепленных генов.
В этот же период времени с помощью трансгенных мышей обнаружили, что чем длиннее мутантные ген (а, соответственно, и мутантный белок mHtt), тем тяжелее болезнь проявляется. А именно потому, что белок накапливается в ядрах клеток, образуя значительные ядерные включения. Ну а термин «хорея Гентингтона» заменили на «болезнь Гентингтона», потому что, как выяснилось, сама по себе хорея развивалась не у всех пациентов, большую важность здесь имели именно когнитивные и поведенческие сбои.
Увы — наука развивается, а лекарство все еще не найдено. Но разработки активно ведутся, и совершенствуются как методы диагностики, так и возможные варианты лечения. Например, в Университетском колледже Лондона в 2017 году создали тест крови, который позволит предсказать, когда у человека начнется болезнь и как быстро она будет прогрессировать.
Группа исследователей во главе с нейробиологами из Центра болезни Гентингтона использовала биоматериалы 366 пациентов, включенных в международный проект TRACK-HD. В рамках него за больными наблюдали три года и выявили следующий факт: уровни целевых белков повышены у всех носителей мутантного гена белка гентингтина, и в их крови концентрация белка была в 2,6 раза выше, чем в группе контроля, и это значение поднималось с минимального в стадию начальных проявлений до заметно увеличенного уже на 2-й стадии болезни.
Среди тех носителей мутантного гена, у кого не было симптомов на старте исследования, концентрация нейрофиламентов смогла предсказать время дебюта заболевания. У добровольцев с повышенным уровнем нейрофиламентов болезнь началась в первые три года после проведения анализа. Такой анализ крови сможет значительно удешевить скрининг.
А вот вылечивать, и то с оговорками, пока научились только животных. Исследователи из Нидерландов и Швеции провели анализ способов модифицирования генома с помощью РНК и выявили самый перспективный, — так называемая РНК-«шпилька».
Метод заключается в манипуляции белков и ферментов матричной РНК (мРНК), которая отвечает за перенос закодированной информации с ДНК для синтеза других белков. В конце интерференции наступает подавление синтеза определенного гена. Можно сказать, что метод заставляет «замолчать» некоторые гены. ShRNA работают в клетке очень долгое время (около трех лет), а также намного реже приводят к ошибочному «оглушению» других генов, поэтому их использование пока наиболее перспективно.
Но, возможно, будущее принесет нам более эффективные плоды. В 2017 году провели вторую фазу плацебоконтролируемого исследования нового препарата для лечения болезни Гентингтона. Изучаемое лекарство — так называемые антисмысловые олигонуклеотиды, которые неселективно блокируют синтез гентингтина. В результате выяснилось, что у группы, получавшей препарат, содержание мутантного гентингтина снижалось примерно на 60 %. Сейчас планируется третья, международная фаза исследования: так что надежда есть.
On the Transmission of Huntington ’s Chorea for 300 Years-the Bures Family Group, by P. R. Vessie, M.D., Journal of Nervous and Mental Diseases, December, 1932, Vol.76, p.553.
Douglas J. Lanska. George Huntington (1850–1916) and Hereditary Chorea. Journal of the History of the Neurosciences: Basic and Clinical Perspectives, 2010. Volume 9, Pages 76–89.
Van der Weiden RM. George Huntington and George Sumner Huntington. A tale of two doctors. Hist Philos Life Sei. 1989; 11(2):297–304.
Lauren M Byrne, Filipe В. Rodrigues, Prof. Kaj Blennow, Prof. Alexandra Durr, Dr. Edward J. Wild et.
Neurofilament light protein in blood as a potential biomarker of neurodegeneration in Huntington ’s disease: a retrospective cohort analysis. The Lancet, 2017, Volume 16, No. 8, p. 601–609.
Sebastian Aguiar, В ram van der Gaag, Francesco Albert Bosco Cortese. RNAi mechanisms in Huntington ’s disease therapy: siRNA versus shRNA. Translational Neurodegeneration, 2017.
6.0 Дифтерия
…1613 год навсегда вошел в историю Испанию как «год удавочки». Эпидемия заболевания, которое заставляло людей задыхаться и умирать, почему-то очень полюбила эту страну. Недуг приходил в 1597, 1599, в 1600 году… Но в 1613 году эпидемия была особенно разрушительна для Испании. Именно испанцы и оставили первое описание заболевания, которому предстояло сыграть ключевую роль в изучении и лечении инфекций.
Добактериальная эпоха
Симптомы были очень четко выражены — сначала лихорадка, затем добавлялась бледность, слабость, отек шеи, трудность глотания и дыхания, серо-белые пленочки-мембранки на небе, и в итоге смерть от удушья.
Так эту болезнь и называли — Garrotillos. На самом деле слово Garrote означает нехитрое приспособление — палку с петлей на ней. Надевали эту петлю на шею, и постепенно скручивали до окончательного удавления. Так в Испании в средние века любили казнить.
Любопытно, что и чуть ли не единственное реалистичное изображение первой (и единственной сколько-нибудь эффективной до появления основных героев этой главы) помощи тоже оставил нам испанец. На полотне Франсиско Гойи, которое обычно называют «Лазарильо де Тормес», написанном в 1808–1812 году, изображен доктор, пытающийся выскрести серые мембранки с гортани задыхающегося ребенка.
Именно удушье обычно становилось причиной смерти от «удавочки». Доводилось читать версию, что так Гойя почтил память одного из своих детей, скончавшихся от этого заболевания.
Этим самые мембранки-то и дали современное название болезни. Правда, случилось это в два этапа. В 1826 году французский врач Пьер Фидель Бретонно, почитатель изобретателя стетоскопа Рене Лаэннека, опубликовал первое детальное описание болезни, основывающееся на эпидемии 1818–1821 годов. И нарек заболевание дифтеритом, от греческого διφθερα — содранная кожа. Именно мембранки, а не часто случающиеся кожные язвы заставили дать такое название. Кстати, именно Бретонно ввел в широкую медицинскую практику единственный прием, который мог спасти задыхающегося человека в последней стадии болезни: трахеотомию, разрез трахеи через горло. Больной мог снова дышать.
Первая трахеотомия была сделана в 1825 годах. Так что благодаря этому медику удалось начать спасать хоть кого-то: до Бретонно за почти 300 лет описано всего 28 случаев трахеотомии, а после него она стала гораздо более массовой. Кстати, именно Бретонно, который прожил 83 года, принадлежит идея, высказанная им в 1855 году, что дифтерия может быть инфекционным заболеванием и переноситься микроорганизмами. Что до названия болезни, то его потом заменили на «дифтерия», поскольку в складывающейся медицинской классификации, окончание «-ит» стали носить названия воспалений, построенные по принципу «название органа+ит»: неврит — воспаление нерва, отит — воспаление уха, эндокардит — вызванное бактериями или вирусами воспаление сердца и так далее.
В XIX веке из ста заболевших дифтерией детей гарантированно умирало не менее пятидесяти. В Европе ежегодно погибали тысячи людей, и врачи никак не могли облегчить их агонию и страдания. До появления бактериальной теории возникновения болезней и плеяды блестящих бактериологов во главе с Луи Пастером и Робертом Кохом медицина была бессильна. Дифтерия не щадила никого — ни детей королевской крови, ни самих врачей.
В 1878 году произошел самый, пожалуй, резонансный случай смерти, а точнее — двух смертей от дифтерии. В ноябре эпидемия поразила двор герцога Великого герцогства Гессенского. Первой заболела старшая дочь жены герцога, британской принцессы Алисы (дочки королевы Виктории и принца Альберта) — Виктория. Вечером пятого ноября Виктория сказала маме, что у нее что-то с шеей: движения стали скованными. Мама не придала особого значения, сама поставила диагноз — паротит и сказала: будет забавно, если все его подхватят. Очень смешно, конечно. Наутро у девочки диагностировали дифтерию, после чего заболели все дети, кроме принцессы Елизаветы. 12 ноября заболела шестилетняя Алике (будущая последняя русская императрица), затем Мария, Ирена, Эрнст Людвиг — и затем сам герцог.
Несмотря на то, что самой тяжелой больной была Алиса — ей даже назначили паровой ингалятор, который облегчал дыхание девочки, пребывавшей на грани жизни и смерти, умерла — совершенно внезапно — Мария. Ночью от стенки дыхательных путей отслоилась мембранка и перекрыла доступ кислорода. Несколько недель мать держала смерть сестры в тайне от остальных детей, но, когда ей пришлось открыться сыну, тот обезумел от горя, и Алиса-старшая нарушила запрет на физический контакт с больным. Болезнь дочери королевы Виктории была скоротечна: 14 декабря она умерла. Это была трагедия государственного масштаба, с которой может сравниться, пожалуй, что смерть дочери экс-президента США Гровера Кливленда. 12-летняя Рут Кливленд умерла 7 января 1904 года через четыре дня после постановки диагноза.
Не щадила болезнь и ухаживавших за пациентами с дифтерией врачей. Уже в 1890-х годах великий канадский врач Уильям Ослер писал в своих «Принципах и Практике Медицины», что он не знает другого такого заболевания, убившего больше врачей и медсестер, чем дифтерия.
По-хорошему, лечение дифтерии даже в те годы было симптоматическим. Давайте посмотрим две публикации о терапии «дифтерита» из Медицинского обозрения Спримона за 1879 год — они на соседних страницах. В первом случае пересказывается метод удаления дифтеритического налета при помощи губки, укрепленной на проволоке: этот нехитрый инструмент вводится в полость зева и трением удаляет «дифтеритические пленки». Такую процедуру рекомендуется проводить раз в день, «пока не прекратится образование новых пленок» (как видите, лечение то же самое, что мы видим на картине Гойи, только изменился инструмент).
Из дополнительного лечения — полоскание хлористым калием и запрет на молоко и сахар, поскольку тогда считалось, что белый налет — это грибок, а молоко и сахар способствуют его росту.
Второй случай рассказывает о том, как — при том же удалении налета — одиннадцатилетнему пациенту помогло применение салициловой кислоты. И здесь налицо медикаментозная борьба с другим компонентом дифтерии — высокой температурой: уже тогда активно применялось вещество-предшественник аспирина, салициловая кислота, впервые выделенная из ивовой коры.
Клебс, Лефлер, Ру, Беринг и другие
Вообще, раз уж мы начали говорить о медицинской литературе, надо сказать, что в 1870-1890-е годы дифтерия была звездой медицины. По данным Index Medicus, в 1892 году один процент (!) всей медицинской литературы мира был посвящен дифтерии. Ровно в сто раз больше, чем в 1982 году.
Дочь и внучка королевы Виктории не дождались совсем немного. Уже в 1870-х годах ситуация начала меняться. В 1876 году Кох опубликовал статью о возбудителе сибирской язвы, в 1881 году Пастер придумал предохранительную прививку от этого заболевания, в 1882 году случился триумф Коха: открыта микобактерия туберкулеза, и сопротивление «старой школы» во главе с Рудольфом Вирховом, отрицавшей инфекционную природу болезней сошло на нет.
Часто пишут, что первый ход в длинной и запутанной партии человечества против дифтерии сделал немецкий бактериолог Фридрих Леффлер, первооткрыватель возбудителя сапа. В 1884 году он сумел открыть бактерии, вызывающие дифтерию — палочки Corynebacterium diphtheriae. На самом деле, это не так, и не зря другое название бактерии — бацилла Клебса-Лефлера. Еще за год до своего соотечественника в дифтеритных пленках бактерию обнаружил другой выдающийся немец, Эдвин Клебс (в современной микробиологической номенклатуре он оставил свое имя роду бактерий клебсиелл, названным в его честь и вызывающим разные болезни — от пневмонии до цистита). Этот человек вообще умудрялся делать многое до того, как это повторят другие ученые и станут известными благодаря повторению. Так, Клебс описал в 1884 году акромегалию за два года до Пьера Мари, за четверть века до экспериментов Ильи Мечникова и Эмиля Ру показал в опытах по инокуляции шимпанзе заразность сифилиса, за девять лет до Коха научился культивировать бактерии… Так и тут.
Тогда, правда, открытую бациллу называли иначе: в текстах конца XIX века можно встретить Microsporon diphtheriticum, Bacillus diphtheriae, и Mycobacterium diphtheria.
Хотя не нужно думать, что Лефлер здесь совсем ни при чем. Это тоже был выдающийся человек, сделавший очень много для изучения микробов, борьбы с ними и использования их на благо человека. Кроме того, что Фридрих Лефлер открыл возбудителя сапа, он открыл еще возбудителя чумы свиней и бациллу рожистого воспаления, а в 1897 году вместе с Паулем Фрошем — возбудителя ящура, первый вирус животных. А в 1891 году он открыл вирус тифа мышей и использовал его как бактериологическое оружие против набегов грызунов.
Так вот, именно Лефлер первым выделил бактерию дифтерии в чистом виде и смог культивировать ее для дальнейших исследований: ведь в пленках с гортани больных было полно и других бактерий, обитающих в норме на слизистой горла. И именно Лефлер именно на бацилле дифтерии и морской свинке показал правоту так называемых четырех постулатов Коха:
1) Микроорганизм постоянно встречается в организме больных людей (или животных) и отсутствует у здоровых;
2) Микроорганизм должен быть изолирован от больного человека (или животного) и его штамм должен быть выращен в чистой культуре;
3) При заражении чистой культурой микроорганизма здоровый человек (или животное) заболевает;
4) Микроорганизм должен быть повторно изолирован от экспериментально зараженного человека (или животного).
Если эти четыре постулата верны, можно считать доказанным, что именно этот микроорганизм и вызывает болезнь. Сейчас эти постулаты, доложенные Кохом на международном конгрессе в Берлине в 1890 году, носят название постулатов Коха-Генле, поскольку они базировались на идеях полувековой давности, обнародованных еще в 1840 году учителем Коха, патологом Якобом Гейле, которому тогда был всего 31 год. Добавим, что первоначально Кох говорил о трех первых постулатах, о которых говорят как о триаде Коха.
Впрочем, дальше Леффлер продвинуться не смог, но в своих записях дал ключ к разгадке: «Эта бацилла всегда остается на месте в омертвелых тканях, заполняющих горло ребенка; она таится в одной какой-нибудь точке под кожей морской свинки, она никогда не размножается в организме мириадами, и в то же время она убивает. Как это может быть? Надо полагать, что она вырабатывает сильный яд — токсин, который, распространяясь по организму, проникает к важнейшим жизненным центрам. Несомненно, что этот токсин можно каким-то способом обнаружить в органах погибшего ребенка, в трупе морской свинки, и в бульоне, где эта бацилла так хорошо размножается. Человек, которому посчастливится найти этот яд, сможет доказать то, что мне не удалось продемонстрировать».
Впрочем, следующий шаг в победе над заболеванием был сделан в стороне от микробиологии. И история его начинается еще в 1858 году, в Париже. Как мы помним, чаще всего дети при дифтерии умирают, потому что задыхаются. Воспаление дыхательных путей, стеноз гортани, одним словом — круп. Да, уже тогда была трахеотомия, но мало кто мог ее сделать вовремя. Как справиться с этим без трахеотомии, задумался парижский педиатр Эжен Бушут, который потом прославился изобретением офтальмоскопии. 18 сентября 1858 года он представил Академии наук свой доклад с результатами применения расширителя сжавшейся гортани небольшой трубкой. Так в мир вошло интубирование (см. доктора Хауса). Однако Академия отказала в поддержке, коллеги, как водится, травили и критиковали врача — и он махнул рукой на интубацию и переключился на другие темы, благо в медицине их было всегда много. Дети продолжали гибнуть, взрослые тоже, и ждать пришлось еще 27 лет.
Инициативу перехватил американец, посвятивший всю свою жизнь педиатрии и хирургии — Джозеф О'Двайер, который представил метод интубации 2 июня 1885 года. По счастью, в Нью-Йорке не было чванливых французских академиков, и метод победоносно зашагал по миру. Кстати, чуть позже методику интубации (с подробным расположением врача и маленького пациента на коленях у медсестры) расписал Антуан Марфан, про синдром имени которого вы можете прочитать в одной из глав этой книги.
А вот теперь настало время ученика Пастера — Эмиля Ру. Именно он сумел доказать, что, во-первых, дифтерийная палочка действительно вызывает болезнь, но все смертельные последствия дифтерии вызваны не самой бактерией, а вырабатываемым ею токсином. Во-вторых, Ру показал, что для того, чтобы выделить достаточное количество токсина, бактерии требуется время (именно поэтому все первые опыты в попытках выделить токсин из зараженных дифтерией морских свинок были неудачны). И именно Ру сумел выделить этот токсин и впрыскиванием его морской свинке получить тот же эффект, что и от дифтерийной палочки. Три статьи с одинаковым названием «Contributions à l’étude de la diphtheria», опубликованные в 1888–1890 годах в «Annales de l’Institut Pasteur», стали этапными в медицине. Нужно сказать, что вместе с Ру это продемонстрировал еще один врач, которого до сих пор добрым словом вспоминают во Вьетнаме — Александр Йерсен, о котором уже много было сказано в главе о чуме.
Следующий (но не последний) шаг сделал другой Эмиль, Эмиль Адольф фон Беринг, единственный человек из всех упомянутых, кому борьба с дифтерией принесла Нобелевскую премию. У среднестатистического россиянина фамилия «Беринг» вызывает в первую очередь образ мореплавателя Витуса Беринга и Берингова пролива (в скобках заметим, что известный еще с учебников хрестоматийный портрет путешественника, хотя и портрет Витуса Беринга, но не мореплавателя, а датского поэта и историка, дяди мореплавателя). Но это не наш случай. «Наш» Беринг — немец, уроженец нынешней Польши, старший из двенадцати детей скромного прусского учителя, ученик великого Коха, рассорившийся со своим учителем. Впрочем, до Коха свое медицинское образование Адольф Эмиль фон Беринг получал на военной службе: его семья не могла платить за университетское образование, а на «военке» было все бесплатно. Именно поэтому aima mater (или mutter?) Беринга стала Akademie für das militärärztliche Bildungswesen (по-нашему, Военно-медицинская академия). Ссора Беринга с Кохом, у которого работал сравнительно молодой ученый, случилась именно на эту тему: Беринг (как позже выяснилось, справедливо) утверждал, что мясо больных туберкулезом животных опасно, бактерии одни и те же, а «поймавший» звездную болезнь Кох не стерпел вторжения в область своего незыблемого авторитета. Но об этом читайте в главе о туберкулезе.
Вместе с японским коллегой Сибасабуро Китасато (он не стал нобелевским лауреатом, но стал первооткрывателем возбудителя чумы — также читайте соответствующую главу), с которым он работал в Институте гигиены Роберта Коха, Беринг выяснил, что если сыворотку крови перенесших дифтерию и выздоровевших морских свинок ввести заболевшим животным, те выздоравливают. Значит, в крови переболевших появляется какой-то антитоксин, который нейтрализует токсин дифтеритной палочки. Это случилось в 1890 году.
Кстати, любопытный факт. Сейчас, благодаря вакцине АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), на слуху сочетание двух заболеваний — дифтерии и столбняка. Но мало кто знает, что и в борьбу со столбняком Беринг внес свой вклад. В университете Марбурга Беринг работал в одном здании с Хансом Хорстом Мейером (соавтором теории Мейера-Овертона, по которой рассчитывается развитие наркоза, и замечательным фармакологом), и именно Беринг привлек Мейера к изучению действия токсина столбняка, что в итоге привело и к созданию антистолбнячной сыворотки.
Рождественской ночью 1890/91 года безнадежно больные дети получили первую сыворотку. Многие были спасены, успех был оглушительным, вслед за Берингом Ру вместе с Огюстом Шалу начал эксперименты по сывороточной терапии на 300 больных детях в Некеровской детской больнице…
Тем не менее, смертность снизилась всего в два раза, многие дети по-прежнему умирали. И тут Берингу помог еще один будущий нобелевский лауреат, коллега и друг Пауль Эрлих, будущий изобретатель «препарата 606» (сальварсана) и победитель сифилиса. В 1897 году он сумел наладить масштабное производство сыворотки, рассчитать правильные дозировки антитоксина, создать стандарты определения концентраций сыворотки и повысить эффективность вакцины. В 1908 году Эрлих разделил Нобелевскую премию по физиологии или медицине с нашим соотечественником Ильей Мечниковым совсем за другие дела — за работы по иммунитету. Еще до этого, в 1895 году, производство сыворотки началось в США. Н. К. Mulford Company в Филадельфии начала использовать метод получения вакцины в крови лошадей, который разработали американские бактериологи Уильям Холлок Парк и Германн Биггс.
А премия «за дифтерию» — первая в истории Нобелевских премий — досталась Берингу. Если бы «Нобелевку» за победу над дифтерией давали бы сейчас, то ее, вероятнее всего, ее вручили бы всем троим: Ру, Берингу и Леффлеру. Или Ру, Берингу и Эрлиху, например. Или вообще Ру, Берингу и Китасато. Устав премии это позволяет, все герои на 1901 год были живы. Но впервые «разделение» Нобелевской премии по медицине случилось позже, в 1906 году. А при выборе первого в истории лауреата борьба была нешуточной.
В базе данных номинаций на сайте нобелевского комитета можно посмотреть, что номинантов в 1901 году было аж 83! Среди номинантов на первого медицинского «Нобеля» можно встретить и учителя Беринга, Коха, ставшего лауреатом четырьмя годами позже, и Мечникова с Павловым (у последнего целых восемь номинаций). Беринг был номинирован шесть раз, Ру — один, Леффлер — ни разу. Выбор Нобелевского комитета пал на Беринга. Кстати, Эмиля Ру можно назвать одним из самых больших нобелевских «неудачников»: его номинировали на премию 115 раз, с 1901 по 1932 годы, и ни разу выбор нобелевского комитета не пал на него. А вот сам Ру, в числе прочих, номинировал — и вполне успешно — в 1908 году Илью Мечникова. И ведь не одной только дифтерией славен этот потрясающий человек. За Пьером Полем Эмилем Ру и участие в создании вакцины от сибирской язвы, и работы по холере птиц, сифилису, пневмонии, столбняку, туберкулезу… Не говоря уже о руководстве Пастеровским институтом в течение сорока лет и создании первого учебного курса по микробиологии.
Как говорилось в вердикте комитета, премия была присуждена «за работы по серотерапии и прежде всего за ее использование в борьбе против дифтерии, что открыло новое направление в области медицинских знаний и тем самым дало в руки врача победоносное оружие против болезни и смерти». Как видите, первые мотивировки комитета были весьма цветасты и ныне сохранились только в премии по литературе (да и за сами мотивировки пора дать премию по литературе).
Впрочем, в своей нобелевской лекции фон Беринг отдал должное своим предшественникам. Во вступлении к ней он признал, что сывороточная терапия (серотерапия) была основана на теории, предложенной Леффлером в Германии и Ру во Франции, согласно которой бактерии Леффлера не сами по себе вызывают дифтерию, а вырабатывают токсины, которые способствуют развитию болезни. Без этой предварительной работы Леффлера и Ру не было бы сывороточной терапии дифтерии. Интересно, что на нобелевском банкете краткая речь в честь Беринга профессора и ректора шведского Королевского Каролинского медико-хирургического института графа Карла Мернера (одновременно и председателя Нобелевского комитета по физиологии или медицине) и ответная речь Беринга звучали… на немецком. Да, тогда это был международный язык науки.
Мернер, чествуя Беринга, заявил, что благодаря Берингу (а также Пастеру и Коху) «орды бактерий» становятся все более «дисциплинированными толпами», а также выразил благодарность от имени тысяч спасенных пациентов. В ответном слове Беринг (а нужно помнить, что это была первая нобелевская речь на банкете в истории) сказал, что Швеция, несмотря на свое небольшое население, вносит огромный вклад в ход человеческой истории. А также обещал, что потратит денежную премию на борьбу с туберкулезом. И пригласил шведских исследователей поработать в его лаборатории в Марбурге, «чтобы проконтролировать, как я буду выполнять свое обещание».
Постнобелевский период: вакцина
Но вернемся к болезни. Борьба с ней была далеко не окончена. В том же «нобелевском» году случилась трагедия: в Сент-Луисе 10 из 11 инокулированных детей погибли. Оказалось, что лошадь, в крови которой производили сыворотку, была заражена столбняком. Такой же случай случился в Кемдене, в Нью-Джерси. Эти два случая стали ключевыми в формировании правил биологической безопасности при фармакологических производствах.
В 1904 году австриец Клеменс Пирке (помните пробу Пирке из главы про туберкулез?) и венгр Бела Шик (потом он станет известным американским педиатром) описывают первый случай сывороточной болезни: при введении слишком большого количества сыворотки или просто при гиперчувствительности, организм дает ответную иммунную реакцию. Неудивительно, что через два года после описания такого явления именно Пирке предложил медицине термин «аллергия».
Однако способа вакцинировать от дифтерии пока что не находилось. И здесь настала пора поставить последнюю важную точку в борьбе с болезнью. Это сделал француз Гастон Рамон, по забавному стечению обстоятельств — муж внучатой племянницы Эмиля Ру, Марты Момон. Кстати, ко дню свадьбы — в 1917 году, знаменитый дедушка был еще вполне активным ученым.
В 1923 году Рамон сделал замечательное открытие: оказалось, что если обработать дифтерийный токсин формальдегидом, он теряет большую часть токсических свойств, и его можно без опаски вводить человеку. Болезнь не наступает, а антитела к дифтерийному токсину появляются. То же самое, как показал Рамон, верно и для столбняка. Принципы получения дифтерийного и столбнячного анатоксинов используются и поныне, почти сто лет спустя. Удивительно, но почему-то открытию Рамона уделяют гораздо меньше места, чем работам Беринга. Хотя еще неизвестно, какое из открытий спасло больше жизней.
Вакцина постепенно улучшалась, сыворотка для терапии тоже. Тем не менее, заболевание дифтерией все еще оставалось опасным: в межвоенные десятилетия в среднем в США, например, в год заболевало от ста до двухсот тысяч человек, а погибало 13–15 тысяч. То есть около 10 процентов.
В 1943 году дифтерия решила, что Второй мировой войны самой по себе слишком мало для человечества, и полыхнула эпидемией. Впрочем, войны всегда сопровождаются увеличением заболеваемости. Миллион заболевших привел к 50 000 умерших. Конечно, на фоне миллионов жертв Второй мировой это «немного», но пятьдесят тысяч — это, например, население Мончегорска. Целого города.
К счастью, именно во Вторую мировую войну началось массовое производство антибиотиков, которые стали эффективным способом лечения дифтерии (правда, сейчас против этой болезни назначают не случайно открытый Флемингом пенициллин, а его разновидность, бензилпенициллин и эритромицин).
И вот, в 1949 году медициной всего мира была принята на вооружение знаменитая АКДС: адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. Взвесь убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов (анатоксином называют препарат из бактериального токсина, который сам по себе не имеет явных токсических свойств, но дает возможность крови выработать антитела).
С 1974 года Всемирной организацией здравоохранения она включена в расширенную программу иммунизации для развитых стран. Болеть дифтерией стали гораздо, гораздо меньше. Однако…
Хорошо известно, что непривитые дети в странах, где вакцинация поставлена на хороший уровень, не болеют потому, что существует коллективный иммунитет. Однако стоит набраться критической массе… Так случилось с дифтерией после распада СССР. Контроль за прививками ослаб, чувство свободы создавало ощущение, что законы эпидемиологии уже не действуют, и страны бывшего СССР в 1994 году захлестнула новая эпидемия дифтерии. Началось все на излете перестройки — даже в России заболеваемость увеличилась с 0.4 случаев на 100 000 человек в 1989 году (839 заболевших) до 26,6 в 1994 году. В тот год в стране заболело почти 40 тысяч человек, а всего в бывшем СССР — почти 50 тысяч, из которых умерло 1746 человек. При этом если в России умирало 2,8 % заболевших, то, например, в Литве и Таджикистане — 23 процента. Врачи просто забыли, как лечить дифтерию!
К счастью, сейчас вроде бы удалось взять под контроль эту болезнь, однако антипрививочники вносят весомый вклад в разрушение иммунитета. Поэтому прежде чем отказаться от вакцинации своего ребенка, подумайте о цифрах, которые мы привели абзацем выше.
7.0 Болезнь Паркинсона
Сценарий церемонии открытия Олимпийских игр всегда до последнего держится в секрете. За несколько дней становятся известны основные штрихи, но некоторые ключевые моменты остаются в секрете до самого конца. Так, никто до последнего момента не знает, кто будет зажигать олимпийский огонь.
В 1996 году в Атланте организаторы заметно нервничали: они были совсем не уверены, сможет ли человек-легенда справиться со своей ролью. Тем не менее, в присутствии 80 000 зрителей величайший боксер современности Мохаммед Али уверенно поднес факел и зажег олимпийский огонь на стадионе.
Организаторам было чего бояться: спортсмен уже 12 лет боролся с неизлечимой болезнью, носящей имя британского врача Джеймса Паркинсона. К тому времени Али даже говорил уже с трудом, но факел сумел удержать. 16 лет спустя Али снова принял участие в церемонии: в Лондоне во время процедуры подъема олимпийского знамени, знаменосцы ненадолго остановились перед стоящим Мохаммедом Али, но спортсмен был бледной тенью даже самого себя в Атланте. Ему помогли прикоснуться к знамени XXX Олимпиады и подержаться за него несколько секунд. До открытия XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро спортсмен не дожил несколько месяцев. Так убивает болезнь Паркинсона: медленно и неотвратимо. Иногда она отбирает только способность нормально двигаться, иногда поражает еще и ум, и эмоции.
Даже сейчас мы до конца не знаем, как и почему она возникает, не умеем ее лечить — только облегчать, пусть и надолго, симптомы. И при этом болезнь Паркинсона занимает почетное второе место после болезни Альцгеймера в числе нейродегенеративных заболеваний. Она не щадит никого: не только Мохаммед Али стал известным пациентом с этим заболеванием. Иоанн Павел II закончил свой земной путь в борьбе с болезнью Паркинсона, Джордж Буш-старший также доживает свои дни с нею, звезда фильмов «Назад в будущее», Майкл Джей Фокс борется с заболеванием с 1991 года — и как успешно: недавно он сумел выйти на сцену с гитарой!
Но давайте сначала расскажем о том человеке, который дал имя заболеванию, и чья наблюдательность позволила увидеть неизвестную болезнь прямо на улице.
Джеймс Паркинсон, наблюдательный человек, политик и палеонтолог
Джеймс Паркинсон родился 11 апреля 1755 года в Восточном Лондоне в семье хирурга Джона Паркинсона. Отец его был важным человеком, он занимал пост руководителя (Anatomical Warden) в Хирургической компании, профессиональном сообществе британских хирургов (эта организация сменила в 1745 году Компанию цирюльников и сама была сменена в 1800 году существующей и поныне Королевской коллегией хирургов). Его крестили в церкви святого Леонарда неподалеку от дома. В 1783 году здесь же он обвенчается с Мэри Дейл, которая родит ему шестерых детей, здесь он станет церковным старостой, здесь же он будет похоронен в 1824 году.
В возрасте 21 года Паркинсон уже получил медицинскую профессию и, не без протекции отца, видимо, стал членом Хирургической компании. Впрочем, он и вправду был талантливым практиком: в 1777 году он был уже награжден престижной серебряной медалью за опыт реанимации. Кстати, мало кто знает, но Паркинсон был еще и одним из первых членов Royal Humane Society. Но не той организации Humane Society, которая сейчас занимается правами животных и помощью им по всему миру, а той, которая наградила его серебряной медалью и занималась реанимацией и первой помощью людям, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях — некоего подобия скорой помощи.
На следующий год после женитьбы Паркинсон потерял отца и наследовал его хирургическую практику в Хокстоне. Вообще, нужно сказать, что, как и его отец, Джеймс умудрялся сочетать образ «провинциального» потомственного врача (потом практику Паркинсонов наследует сын, а потом — внук нашего героя) и буйную активность во всех областях жизни. Медицины ему было мало, и он стал политическим активистом и писателем. Сохранилось много памфлетов Джеймса Паркинсона, писавшего под псевдонимом Старый Хуберт, вдохновленных Великой французской революцией. Они его и прославили — для начала. Стоит вчитаться в названия: «Убийство короля», «Бюджет народа», «Революция без кровопролития»… Он даже как-то был задержан по так называемому делу Popgun Plot, некоего заговора с целью убийства Георга III из духового ружья, прямо как в рассказе «Пустой дом» Артура Конан-Дойла (на самом деле, никакого заговора, конечно же не было).
Впрочем, где-то к сорока годам Джеймс Паркинсон преобразился из политика-агитатора в просветителя и ученого. Так, в 1799 году вышел его научно-популярный текст, обращенный к британским семьям с призывом уважать медицину и заботиться о своем здоровье. Ему же принадлежат и первые труды в Британии по проблемам аппендикса, а в 1812 году он уже ассистировал своему сыну во время первой на Туманном Альбионе операции аппендицита. Историки медицины, помимо всего прочего, называют Паркинсона основателем современной детской медицины и современной теории воспитания: он описал возникновение гидроцефалии, подробно изучил патологию детского аппендицита, написал работы по эпидемиологии бешенства в применении к детям, выступал против жестокого отношения к детям — за 150 лет до Бенджамена Спока (и, в отличие от него, применял свои взгляды и к своим детям).
Он сам страдал от подагры — и выпустил книгу, посвященную этому заболеванию. Но, конечно же, самый важный вклад в современную медицину Джеймс Паркинсон сделал, описав второе по распространенности сейчас нейродегенеративное заболевание… В 1817 году издательство Whittingham&Rowland выпустила книгу члена Королевской коллегии хирургов Джеймса Паркинсона «Эссе о дрожательном параличе», в которой он обобщил шесть клинических случаев. Интересно, что почти все эти люди не были его пациентами, поскольку Паркинсон был врачом «лондонской провинции», он просто много ходил — и много видел. Поэтому нескольких пациентов со схожими симптомами («просящая поза», тремор рук, отсутствие мимики) Паркинсон увидел просто на улице.
Нужно отметить важную вещь: «Эссе о дрожательном параличе», в котором описывались первые случаи недуга, Паркинсон написал и опубликовал в возрасте 64 лет. Если бы дело было в начале 1900-х, а не в 1817 году, то велика вероятность, что он получил бы Нобелевскую премию. Много ли вы знаете достижений, сделанных на седьмом десятке лет, за которые дали «нобелевку»? Мы с ходу назовем, пожалуй, только лоботомию.
Увы, современники эту книгу не отметили — неврологические заболевания в начале XIX века были не в большом почете. Заново переоткрыл находку Паркинсона «Наполеон неврозов», Жан Мартен Шарко, который, кажется, приложил руку к открытию или изучению, или наименованию почти всех нервных болезней. Ровно 60 лет спустя, в 1877 году он описал эту болезнь заново и предложил назвать этот «дрожательный паралич» болезнью Паркинсона (maladie de Parkinson).
Но политикой и медициной активная натура Джеймса Паркинсона не ограничилась. Он был одним их первых ученых-палеонтологов. Будучи сооснователем Лондонского Геологического общества (это произошло 13 ноября 1807 года в масонском пабе), он активно искал и изучал окаменелости. Уже в 1804 году вышла его книга «Органические останки Прошлого мира», в которой был описан гигантский ленивец мегатерий размером со слона, живший в плейстоцене — одновременно с мамонтами. Знаменитый современник Паркинсона Гидеон Мантелл, двадцатью годами позже описавший игуанодона, назвал книгу Паркинсона первой попыткой научного взгляда на окаменелости. Паркинсон за два года до смерти успел выпустить еще одну книгу, «Введение в ориктологию» (ориктология — это устаревшее название науки об ископаемых — прим. авт.), ставшую популярной настолько, что выходили ее популярные переложения.
Вклад Джеймса Паркинсона в создание палеонтологии был столь велик, что его имя дали одному из видов вымерших морских черепах, Puppigerus Parkinsonii, найденному, должно получится «найденному» в лондонских глиняных отложениях.
И еще один удивительный факт: несмотря на всю славу и известность Джеймса Паркинсона при жизни, до наших дней не дошло ни одного достоверного портрета великого медика и ученого. Только карикатуры. Тем не менее в научной и популярной литературе (не говоря уже об интернете) можно встретить два фотопортрета Джемса Паркинсона, однако ни один из них не принадлежит автору болезни. И все же, эти «фактоиды» встречаются минимум в 10 академических статьях о болезни Паркинсона. Любопытный факт: эти два человека — действительно британцы и Джеймсы Паркинсоны. Один из них даже был врачом, только стоматологом. Другой же собирался стать на лекарскую стезю, но уехал в Новую Зеландию. Но наш герой не мог оставить после себя портрета в силу очень простых причин: он умер до изобретения дагерротипии.
Был ли Паркинсон первым?
Самое поразительное то, что на самом деле, вероятно, болезнь Паркинсона справедливо было бы переименовать.
Дело не в том, что в самых разных медицинских записях за последние четыре тысячи лет можно найти симптомы этого заболевания. Например, есть они и в китайском медицинском тексте 2600 г. до н. э., и индийском раннем трактате «Чарака-самхита», посвященном Аюрведе на две тысячи лет моложе (любопытно, что в аюрведической традиции эти симптомы было положено лечить препаратами, полученных из растений рода мукуновых, которые содержат достаточное высокое количество леводопы, речь о которой пойдет дальше), и у Галена около 200 г. н. э, и у Авиценны около 1000 года, и у Леонардо да Винчи в 1500 году, и у Франсуа Буасьера в 1763 году… Это были просто описанные симптомы, не выделенные в заболевание. Однако был врач, который более чем за столетие до Паркинсона опубликовал полное описание заболевания. Как установил выдающийся историк медицины, Аксель Каренберг, в 1690 году венгерский врач Ференц Папаи Париц в своем многотомном произведении Corporis, в главе, посвященной заболеваниям головы, описал прогрессирующее заболевание, «происходящее из мозга», характеризующееся гипокинезией без потери чувствительностью, ригидностью, тремором, неустойчивой походкой. Полный комплект симптомов болезни Паркинсона, вкратце изложенный уже в первых предложениях «Эссе о дрожательном параличе»! Почему же никто не заметил этого выдающегося исследования?
Дело в том, что Pax Corporis, несмотря на латинское название, был написан… на венгерском языке! И никогда не переводился ни на один язык мира. Не переведен он и сейчас. Поэтому, увы, пока что мы имеем дело с болезнью Паркинсона, а не болезнью Папаи. Как сказал нам Каренберг (мы имели честь выступать с ним на одном семинаре Федерации европейских нейробиологических обществ по истории науки в качестве приглашенных лекторов), он, конечно, подал данные в эпонимическую комиссию с тем, чтобы название болезни поменять на болезнь Папаи-Паркинсона, но надежды на переименование такого знаменитого заболевания мало.
Итак, в конце XIX века благодаря Шарко болезнь получила свое название и прочно закрепилась в медицинском словаре. Однако для хоть какого-нибудь понимания ее потребовался вклад еще двух человек, без которых рассказ об этом недуге будет неполон. Интересно, что два сделанных ими важнейших открытия, были совершены с разницей всего в семь лет.
Фридрих Леви и его тельца
Нашего очередного героя очень нетрудно спутать с нобелевским лауреатом Отто Леви, который получил Нобелевскую премию за открытие явления химической передачи нервного импульса. Тоже немецкий нейро-ученый, тоже эмигрировавший в США, жили они примерно в одно и то же время, но фамилии их пишутся в родном языке несколько по-разному (тот — Loewi, «наш» — Lewy), в русском же они отличаются всего двумя точками над «е». Ну и тем, что Отто Леви очень известен, а Фридрих — почти забыт. По крайней мере, его сколь-нибудь полной биографии на русском не найти.
Фриц Якоб Хайнрих Леви родился 28 января 1885 года в медицинской семье. Его отец, Хайнрих Леви был врачом общей практики и носил почетное звание Sanitatsrat («советник медицины»), которым в Германии награждали врачей. Мама Фридриха, урожденная Мильхнер, тоже была не из простых: она состояла в родстве с Паулем Эрлихом (тем самым, кто разделит «нобелевку» с Ильей Мечниковым) и со знаменитым дерматологом Феликсом Пинкусом, в честь которого названа болезнь Пинкуса.
Традиционно после окончания средней школы (это случилось в 1903 году), Леви отслужил год в прусской армии, в кавалерии и в 1904 году поступил на медицинский факультет Университета Фридриха Вильгельма в Берлине. В немецкой академической среде было принято менять университеты по ходу обучения, и на летний семестр 1906 года Леви поехал в Цюрих. Там, в местном университете и состоялось первое знакомство Леви с нейроанатомией и неврологией, поскольку лекции ему там читал сам Константин фон Монаков. Фон Монаков вообще-то родился на Вологодчине, в селе Бобрецово, но, когда ему исполнилось 10, его семья эмигрировала в Швейцарию через Германию. Монаков учился в Цюрихе, работал в Питере, а на интересующий нас момент он уже стал корифеем нейронаук, директором Института анатомии мозга и пользовался непререкаемым авторитетом.
Когда Леви выпустился (1908 год), то отправился в путешествие со своим отцом. Три месяца он провел в Индии, где изучал местную систему здравоохранения и строение мозга низших животных. В 1910 году наш герой наконец-то получил вожделенную медицинскую лицензию, а через год — защитил докторскую диссертацию, посвященную слуховой системе кролика и кошки. Став полноценным врачом и ученым Леви отправился на два года в Мюнхен где работал у человека, фамилия которого сейчас у всех на слуху, однако никто не хотел бы, чтобы она ассоциировалась именно с ним: у Алоиса Альцгеймера. Именно работая у Эмиля Крепелина и Алоиса Альцгеймера в Королевской психиатрической клинике, Леви и открыл в 1912 году странные внутринейронные тела включения, которые мы сейчас называем тельцами Леви. В том же году он написал главу в руководстве по неврологии, посвященную этим включениям.
Сейчас мы знаем, что эти тельца состоят из фибрилл белка альфа-синкулеина и других белков, и они — характерный признак деменции, поражения умственных способностей. До сих пор идут споры о взаимоотношении так называемой деменции с тельцами Леви и болезни Паркинсона: это два разных заболевания или две формы одного и того же. Видимо, все же второе.
В том же году, 26 сентября, Леви женился на протестантке Хильде Марии Лохнштейн (что говорит о том, что Леви все же не был ортодоксальным иудеем, как это иногда пишут безо всяких оснований).
Во время Первой мировой Леви отслужил хирургом на фронтах Первой мировой, побывав и в России, и во Франции, и в Турции, и даже опубликовал в 1920 году книгу «История военного госпиталя Айдар Паша», где делился опытом организации немецкого военного госпиталя: ведь он работал не только хирургом, но и гигиенистом и эпидемиологом, и внес немалый вклад в военную медицину.
В год возвращения в Берлин, в 1919 году, в Париже наш следующий герой, Константин Третьяков, в своей докторской диссертации, в которой он предположил, что болезнь Паркинсона «находится» в так называемой черной субстанции, предложил называть обнаруженные Леви включения «тельцами Леви». Сам Леви был противником теории Третьякова — он предлагал в качестве «гнезда» болезни другой отдел базальных ганглиев — бледный шар. Время показало, что прав оказался Третьяков. Но название включений в нейроны закрепилось.
Следующие 13 лет в жизни Леви были очень бурными со всех сторон: он развелся, женился заново, на Флоре Майер-Гордон, сбежавшей от мужа-моряка из США, но главным делом в жизни нашего героя стало создание в Берлине независимого Института неврологии, который в итоге открылся 1 июля 1932 года. Стартовал Леви в качестве директора института крайне успешно, но очень быстро к власти в стране пришли нацисты. Будучи на отдыхе в Швейцарии, Леви связался со знаменитым физиком Лео Сцилардом, который в итоге помог ему эмигрировать. Сначала наш герой решил выбрать Южную Африку, затем поработал немного в Аргентине и, наконец, осел в декабре 1934 года в США, где и провел оставшиеся 16 лет своей жизни. В 1940 году он получил гражданство, сменил имя с «Фриц Хайнрих» Lewy на «Фредерик Генри» Lewey, отслужил три года врачом в американской армии и успел перед своей смертью в 1950 году создать первое в США отделение по хирургии периферических нервов.
Константин Третьяков: 50 оттенков чёрного
Биография второго героя изучения болезни Паркинсона во втором десятилетии XX века не менее извилиста и причудлива. Он родился 8 января 1893 года (26 декабря 1892 года по старому стилю) в не так давно присоединенных к Российской империи среднеазиатских землях, в Новом Маргилане. Теперь это узбекская Фергана. Он тоже был потомственным медиком — его отец, Николай Третьяков, был военным врачом. И не просто врачом, а участником первой экспедиции по Памиру. Достаточно быстро семья переехала в Сибирь, в Иркутск. Что мать Константина, что ее дети отличались вольнодумством, за что и страдали. Сначала одного сына, Николая, за участие в волнениях выгнали из колледжа, потом самого Константина вынудили сдать экзамены экстерном, а затем и мать выслали из Иркутска. Вот вам и уникальный случай — кем надо было быть, чтобы сослали ИЗ Сибири! Но между первым и вторым эпизодами биографии семьи Третьяковых состоялся важнейший момент в жизни Третьякова-младшего: дабы оградить детей от политики и ее последствий, родители отправили детей учиться за границу. В Парижский университет. Неплохо для начинающих революционеров. Любопытно, что даже маститый историк всего, что связано с болезнью Паркинсона, самый цитируемый автор по этой тематике, профессор Эндрю Лис допускает ошибку: он пишет, что Третьяков сразу же пошел в интернатуру Общественного госпиталя Парижа в 1913 году к знаменитому хирургу Эдуару Кирмиссону (до сих пор выполняются косметические операции Кирмиссона), но только что приехавший из России юноша провалил экзамены, став 255-м в списке 294 кандидатов и стал экстерном.
Увы, к тому времени Третьяков уже два года как учился в Париже — и источник самый вернейший, автобиография самого Константина Николаевича, написанная им на должность заведующего кафедры нервных болезней Саратовского медицинского института. Но это, конечно, мелочи.
Важно другое: Третьяков трудился усердно и самоотверженно и в итоге в 1917 году стал главой лаборатории мозга при кафедре нервных болезней медицинского факультета Парижского университета. Но главное — он стал учеником Пьера Мари, одного из ближайших учеников великого Шарко, оставившего свое имя в множестве медицинских эпонимов (самый знаменитый — болезнь Шарко-Мари-Тута).
Именно Мари стал научным руководителем диссертации Третьякова, которая получила название «Contribution a Tetude de Tanatomie pathologique du locus niger de Soemmering avec quelques deductions relatives a la pathogenie des troubles du tonus musculaire et de la maladie de Parkinson». To есть, «Патологическая анатомия черной субстанции Зоммеринга с некоторыми дискуссионными вопросами патогенеза нарушения мышечного тонуса при болезни Паркинсона». В этой работе Третьяков и сформулировал нигерную теорию формирования болезни Паркинсона. Нет-нет, к афроамериканцам эта теория не имела никакого отношения. Третьяков предположил, что симптомы заболевания вызваны гибелью нейронов в черной субстанции (Substantia nigra, отсюда и название). Это часть среднего мозга человека, которая относится к так называемой экстрапирамидной системе. Если гибнут нейроны этой субстанции (почему так происходит, достоверно неизвестно до сих пор), то нарушается негростриарный путь, передача импульса по которому обеспечивается вырабатывающими дофамин нейронами черной субстанции.
Теория Третьякова сделала его знаменитым, несмотря на то, что господствующей теорией возникновения болезни Паркинсона она стала только почти через два десятка лет: в 1938 году немецкий врач Рольф Хасслер опубликовал результаты вскрытий многих пациентов с болезнью Паркинсона, подтвердившие правоту к тому времени уже советского ученого.
Интересный факт: докторская диссертация Третьякова стала единственной его работой, посвященной болезни Паркинсона. Кстати, Эндрю Лис говорит, что из опыта Джеймса Паркинсона и Константина Третьякова каждый ученый должен сделать важный вывод: неважно, сколько статей вы написали, важно — каких. Джеймс Паркинсон написал одну крошечную книжку по неврологии, у Третьякова вышла только одна статья по болезни Паркинсона… «Я написал 700 статей, но променял бы их все на одну уровня работы Третьякова или Паркинсона», — говорит Лис.
Через четыре года Третьякова пригласили работать руководителем отделения неврологии и заведующим научно-исследовательской деятельности в Центральной психоневрологической больницы бразильского штата Сан-Паулу, где наш соотечественник трудился с 1923 по 1926 год и занимался самыми разными патологиями — от нейросифилиса и нейроцистициркоза (личинки червей-паразитов в нервной ткани) до бокового амиотрофического склероза и эпилепсии. А затем… Затем Константин Николаевич получил очень заманчивое предложение: переехать в США, в университет и госпиталь Джонса Хопкинса.
Почему-то Третьяков отправился из Бразилии в США через Европу. И там его переманили в СССР. Огромное влияние на то, чтобы привлечь талантливого невролога в нашу страну оказал Владимир Бехтерев… Непонятно, почему Третьяков поехал: мать его умерла в 1917 году, отец в 1918, сестра в 1920 году, да и брат Николай, вернувшийся в Россию, погиб в Гражданскую войну в стычке с корниловцами.
Вернувшись, Третьяков вынужден был снова подтверждать все свои умения — а на хороших местах уже сидели ученые и врачи, и никто не хотел их освобождать. В итоге в 1931 году ему подвернулась «по конкурсу» профессорская должность в Саратове — где он и проработал еще 25 лет, создал отличную школу врачей, но ничего сравнимого со своей докторской диссертацией, увы, уже не оставил…
Спасительная леводопа
До середины XX века вариантов лечения болезни Паркинсона особо не было, да и теория Третьякова до появления обширных знаний о нейрохимии терапевтического развития не получила. Напомним, что в своей монографии Джеймс Паркинсон, описывая симптомы, указал: «Чувства и интеллект остаются сохранными».
Сейчас мы уже знаем, что это не так. Деменция (слабоумие) развивается на поздних стадиях и значительно затрудняет лечение пациентов. Мы уже коснулись этого, рассказав о деменции с тельцами Леви. То, что слабоумие не описано в «Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона, легко объясняется тем, что в начале XIX века пациенты с болезнью Паркинсона практически не имели такой продолжительности жизни, как сейчас, и не доживали до развития деменции.
Главную роль в патогенезе болезни Паркинсона играет недостаток нейромедиатора дофамина (если вы встречаете вещество «допамин» — не пугайтесь, это то же самое). Роль дофамина в центральной нервной системе очень многогранна, одна из его основных функций — передача сигналов в черной субстанции и стриатуме. Стриатум, по-видимому, играет ключевую роль в поддержании общей двигательной активности тела, а также в точной координации движений. В то же время его работа контролируется черной субстанцией среднего мозга. Массовая гибель производящих дофамин нейронов черной субстанции (а точнее, ее компактного вещества, более известного нейробиологам как pars compacta) как раз и приводит к болезни Паркинсона.
О роли дофаминовой недостаточности в развитии болезни говорил еще шведский ученый Арвид Карлссон в 1959 году. Спустя 40 лет это открытие принесло ему Нобелевскую премию по физиологии или медицине 2000-го года.
Сегодня известно, что биохимическим предшественником дофамина и всех медиаторов группы катехоламинов в организме выступает аминокислота тирозин. Фермент тирозингидроксилаза через «навешивание» гидроксогруппы (ОН) превращает тирозин в леводопу (L-DOPA). В свою очередь, фермент L-DOPA-декарбоксилаза превращает леводопу в дофамин, который, в свою очередь, становится предшественником норадреналина и адреналина.
Сам по себе дофамин не способен проходить через гематоэнцефалический барьер — мощную линию обороны и контроля, мешающую поступлению в мозг всего того, что «плавает» в нашей крови. А вот леводопа проходит его отлично. Это и определило ее яркую фармакологическую судьбу.
Леводопа — сокращение от L-3,4-дигидроксифенилаланина (L-3,4-dihydroxyphenylalanine, L-dopa). Буква L в названии указывает на то, что мы имеем дело с левовращающим оптическим изомером молекулы.
Если вы давненько не сталкивались с органической химией, то фраза «левовращающий изомер» легко может вас смутить. Но на самом деле тут все просто: большинство органических молекул имеют так называемый ассиметричный атом углерода — углерод, связанный с четырьмя разными заместителями. Четыре его соседа могут соединяться с ним двумя разными способами, которые дадут два разных вещества. Эти вещества имеют один и тот же состав, а по строению представляют собой зеркальное отражение друг друга, как левая и правая руки. Самое интересное, что в чистом виде растворы таких веществ вызывают вращение плоскости поляризации проходящего через них света в разные стороны. Поэтому их и называют левыми и правыми оптическими изомерами: L- и D-изомерами, от латинского laevus — левый и dexter — правый (прямо как герой известного сериала Dexter).
L- и D-изомеры чаще всего обладают несколько разными биохимическими и фармакологическими свойствами, что не удивительно, ведь в состав живых организмов как правило входит лишь один из двух изомеров каждого вещества.
Впервые леводопу синтезировал химик Казимир Функ в 1911 году (тот самый Функ, который выделил и синтезировал первые витамины и придумал само слово «витамин»). Два года спустя биохимику Магнусу Гугенхайму, работавшему в швейцарской лаборатории фирмы Рош, удалось выделить это вещество из садовых бобов Vicia faba (помните аюрведическую медицину?). Сам дофамин синтезировали еще раньше — в 1910 году, но за следующие 30 лет ни он, ни леводопа не привлекали к себе большого внимания. Неудивительно, ведь функция этих важнейших веществ в организме человека оставалась неизвестной.
Но все резко изменилось в 1938 году, когда Петер Хольтц с соавторами открыл фермент декарбоксилазу ароматических L-аминокислот, которую позже так же назовут L-DOPA-декарбоксилазой. Эта и дальнейшие работы группы Хольтца позволили понять схему синтеза медиаторов-катехоламинов, что поставило леводопу и дофамин в ряд важнейших метаболитов мозга. Однако, еще ничто не говорило о роли самого дофамина, как медиатора.
Следующая важная веха в нейрофизиологии была пройдена в 1956–1957 годах, когда уже упомянутый нами Арвид Карлссон провел серию экспериментов, которые навсегда вписали его имя в историю.
В его экспериментах подопытные кролики вводились в состояние двигательного ступора сильнейшим транквилизатором — растительным алкалоидом резерпином. Внутривенное же введение леводопы приводило к тому, что опустившие уши и бесчувственно лежащие на полу клетки животные практически мгновенно вскакивали на ноги. Одновременно действие леводопы усиливалось блокаторами моноаминоксидазы — фермента, окисляющего дофамин.
Наконец, в начале 60-х австрийский нейрофармаколог Олег Харникевич обнаружил резкое снижение дофамина в стриатуме пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. После этого факты выстроились в логичную схему: дофамин необходим для поддержания двигательной активности организма, а леводопа — его прямой биохимический предшественник.
Подгоняемый желанием проверить эту теорию, Харникевич обратился к венскому невропатологу Вальтеру Биркмайеру, предложив ему 2 грамма леводопы для клинических опытов. Внутривенное введение леводопы приводило к быстрому, хотя и лишь временному улучшению состояния пациентов с болезнью Паркинсона. Эти первые опыты открыли новую эру в истории лечения нейродегенеративных заболеваний, сделав леводопу настоящим золотым стандартом в терапии болезни Паркинсона. Те надежды (и разочарования), которые вызвала леводопа в медицинском мире, были очень хорошо показаны в автобиографической книге Оливера Сакса, который лечил с ее помощью похожее заболевание — летаргический энцефалит. Вы могли видеть ее экранизацию, которая называется «Пробуждения» с великолепным Робертом де Ниро в главной роли.
Попадая в кровь, леводопа лишь частично всасывается в мозг, а оставшаяся часть метаболизируется до дофамина в периферической нервной системе, вызывая такие эффекты, как потерю аппетита, тошноту и увеличение артериального давления. Для того, чтобы их предотвратить, леводопу в препаратах совмещают с карбидопой — блокатором L-DOPA-декарбоксилазы. Эта мера снижает расщепление леводопы до дофамина в периферической нервной системе, а значит — увеличивает количество препарата, которое успевает дойти до головного мозга.
Странное лечение, которое работает
Кроме леводопы, которая в сочетании с карбидопой по-прежнему остается единственным эффективным препаратом для лечения заболевания, есть и еще одна надежда. Этому виду лечения в прошлом году исполнилось 30 лет, оно эффективно, оно позволяет ослабить самые жестокие двигательные симптомы, но… Никто до сих пор до конца не понимает, как оно работает. Этот метод называется: глубокая стимуляция мозга или DBS.
В DBS длинные и тонкие, толщиной в миллиметр электроды вживляют в мозг, подводя их к цели размером меньше кукурузного зерна, расположение которой тщательно выверено по данным томографии. Электроды обеспечивают мягкую электрическую стимуляцию субталамического ядра, что может привести к облегчению двигательных симптомов болезни Паркинсона. Около 10 000 страдающих этой болезнью человек в год по всему миру переносят DBS-операции. И уже накопилась статистика о более чем 140 000 человек с подобными имплантами. И тем не менее, пока что очень мало известно о том, как именно DBS восстанавливает нормальное функционирование моторных сетей головного мозга. Впервые такая операция прошла в 1987 году в Гренобле — и этот пациент до сих пор жив. Неудивительно, что сами врачи называют этот метод средним между наукой, искусством и шаманством.
«Мы просто взрываем мозг непрерывной стимуляцией. Самое удивительное, что такое грубое вмешательство так хорошо помогает, — говорит Джилл Острем, невролог из Университета калифорнии в Сан-Франциско (UCSF). — Представьте, что мы могли бы сделать, если бы мы могли вмешиваться более тонко и индивидуально».
Новая надежда
Была и еще одна идея, как помочь пациентам с болезнью Паркинсона. Действительно, если какая-то часть нейронов погибла, может быть, пересадить туда новые? Донорские. Конечно, никто не говорит о том, чтобы пересаживать пациенту целый кусок мозга умершего человека, трансплантация мозга пока что невозможна. Но если ввести в черную субстанцию просто культуру подходящих нейронов? Может быть, они приживутся? Такие эксперименты ведутся уже четверть века.
Не так давно шведские медики сообщили о смерти пациента, который прожил с донорскими нейронами целых 24 года. Уже через три года пациенту оказалась не нужна леводопа. Более того, через десять лет после трансплантации развившиеся тогда методы нейровизуализации показали, что функция дофамина и вновь образовавшиеся нейронные связи еще сохранялись.
Вместе с тем, ученые отмечают, что постепенно положительный эффект от трансплантации сошел на нет, после того, как болезнь распространилась на другие области мозга. К тому же, чужие нейроны — это чужие нейроны. Но за последние десять лет клеточные технологии совершили огромный рывок, и нам уже не нужны нейроны другого человека: мы можем выращивать собственные. Это стало возможным после работ Синьи Яманаки из Японии, который научился получать из обычных клеток, например, кожи, стволовые клетки — а уж из них мы можем вырастить что угодно. Например, дофаминергические нейроны черной субстанции. Неудивительно, что Яманака в 2012 году получил Нобелевскую премию. Прорыв в лечении болезни Паркинсона состоялся тоже в Японии.
В самом конце 2017 года в Японии было объявлено о наборе в экспериментальную группу добровольцев для тестирования принципиально нового способа лечения болезни Паркинсона. Это стало возможным после громкого успеха более чем двухлетнего испытания метода на макаках, опубликованного в одном из августовских номеров авторитетнейшего журнала Nature за 2017 год. Авторы из японского Университета Киото и шведского Университета Лунда получили 11 линий клеток-предшественников дофаминергических нейронов, перепрограммировав клетки от здоровых людей (восемь человек) и пациентов с болезнью Паркинсона (три), а затем имплантировали их в мозг 11 яванских макак с моделью заболевания. В этой модели в мозг макак вводили нейротоксин, который разрушает дофаминергические нейроны черной субстанции и вызывает симптомы болезни Паркинсона. Результаты эксперимента имели два важнейших аспекта: во-первых, трансплантация человеческих дофаминергических нейронов, долгосрочно улучшила симптомы болезни на 40–55 % (улучшение продолжалось 21 месяц), а во-вторых — минимум на протяжении 24 месяцев ни на позитронно-эмиссионной, ни на магниторезонансной томограммах не обнаруживались какие-либо новообразования. Второй результат даже более важен, ибо то, что трансплантация нейронов вызывает улучшение у больных Паркинсоном известно давно, а вот избавиться от плюрипотентности промежуточных клеток удается не всегда, и тогда в месте трансплантации новых клеток возникают опухоли.
Теперь у добровольцев возьмут образцы их кожи, получат генетически идентичные дофаминергические нейроны и приступят к клиническим испытаниям. Что ж, сейчас весь мир ждет результатов этих испытаний, затаив дыхание: у людей с болезнью Паркинсона появилась новая надежда.
Parkinson J (2002). «An essay on the shaking palsy. 1817». J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 14 (2): 223-36; discussion 222. doi: 10.1176 / appi. neuropsych. 14.2.223.
Аксель Каренберг: мосты Калининграда и болезнь Паркинсона /.
F. Н. Lewy. «Paralysis agitans. I. Pathologische Anatomie». In: M. Lewandowsky (Hrsg.): Handbuch der Neurologie. Berlin: Springer Verlag 1912, 920–933.
Lees AJ (September 2007). «Unresolved issues relating to the shaking palsy on the celebration of James Parkinson’s 250th birthday». Mov. Disord. 22 (Suppl 17): S327-34. doi:10.1002 / mds.21684.
8.0 Болезнь Альцгеймера
Если бы мы говорили о математике, то вопрос о природе болезни, про которую мы расскажем в этой главе, можно было бы отнести к «загадкам тысячелетия». Новые лекарства, техника и технологии помогают увеличивать продолжительности жизни, и теперь средний возраст человека гораздо больше, чем когда-либо. Здорово, не так ли? Но есть у этой медали и обратная сторона: общество начало сталкиваться с такими заболеваниями, о которых люди древности могли даже и не беспокоиться. Одно из таких заболеваний — это болезнь Альцгеймера, которую иногда пугающе называют современной «чумой» или «эпидемией XXI века».
Написано о ней уже столько тысяч знаков, напечатано столько статей, обзоров, отчетов и монографий, что впору создавать библиотеку. Но при этом как было множество теорий ее возникновения, так и осталось, а ученые все еще не пришли к единому выводу, почему же все-таки в мозге начинает накапливаться злополучный белок, который постепенно выводит из строя нервные клетки.
После первого описания недуга прошло уже 110–111 лет, а лекарства все нет. С этой точки зрения тяжелейшие инфекции кажутся даже более «безобидными», так как эра антибиотиков, начавшаяся в первой половине XX века, позволила если не полностью избавиться от бактериальных атак, то хотя бы взять их под жесткий контроль и успешно вылечивать то, что раньше оказывалось фатальным. Здесь же все наоборот: болезнь постепенно и очень незаметно зажимает возрастного бедолагу в свои безжалостные тиски, по крупицам отбирая у него сначала память, потом — чувство времени и черты себя, интерес к жизни, желания, и в итоге оставляя ему лишь глотательный рефлекс. На все это в среднем отводится около 7 лет.
И таких «пострадавших» с каждым годом становится все больше. Одна статистика предрекает, что если сейчас по всему миру «заразой» охвачено около 44 миллиона человек (и Альцгеймер, и прочие виды деменции), то к 2025 году их количество превысит 55 миллионов. Другая утверждает, что к 2050 году абсолютная заболеваемость увеличится в четыре раза. Наибольшее распространение недуг, по данным Международной ассоциации по болезни Альцгеймера, получил в Западной Европе и Северной Америке, где вообще болеет каждый девятый американец, достигший 65-летнего возраста, и каждый третий, достигший 85-летнего возраста.
Десятилетиями бьются фармацевтические гиганты, чтобы найти желанное лекарство, которое хотя бы остановит непрерывный ход болезни (об обращении вспять даже говорить не приходится). Сейчас помощь больным обходится министерствам здравоохранения различных стран в десятки и сотни миллионов долларов, одни США потратили на это в 2016 году 236 миллиардов. Еще большие суммы уходят на все доклинические и клинические этапы создания лекарственных средств, и, к сожалению, безрезультатно.
Но об этом мы поговорим чуть позже, а пока давайте узнаем, кем же был тот ученый, давший человечеству в руки сложнейший паззл, который еще предстоит сложить современным исследователям. Почему его фамилию сейчас знает даже ленивый, а сам он «сводит с ума весь мир», и особенно — дам в возрасте?
Алоис Альцгеймер родился 14-го июня 1864 года в Маркбрайте — маленькой Баварской деревушке на юге Германии, где его отец работал нотариусом. Когда Алоис был еще маленький, семья Альцгеймеров переехала оттуда, чтобы он имел возможность учиться в Королевской гуманистической гимназии. Позже, избрав в качестве своего пути медицину, юный Алоис стал студентом медицинских университетов в Асхаффенбурге, Тюбингене, Берлине и Вюрцбурге (по итогам обучения в котором он написал свою докторскую диссертацию и получил степень в 1887 году).
Его настоящая медицинская карьера началась годом позже в 1888-ом в качестве врача-ординатора психиатрической больницы (the Hospital for Mentally ill and Epileptics) во Франкфурте на Майне. Нужно сказать, что там он проработал семь лет и дошел до должности главного врача.
Продолжил свою карьеру Альцгеймер в качестве помощника старшего врача в муниципальной больнице для больных лунатизмом и эпилепсией (Municipal Hospitalfor Lunatics and Epileptics), которой руководил Эмиль Сиоли.
Даже работая, Алоис не переставал учиться своей основной специальности — психиатрии, но его внимание также привлекала и невропатология. Он начал интересоваться исследованиями коры человеческого мозга, ее анатомией. На протяжении своей работы он собрал немалый архив данных аутопсийных исследований, которым пользовался всю свою научную карьеру. После того, как он год проработал в больнице Эмиля Сиоли, к его работе присоединился Франц Ниссль.
Ниссль к тому моменту уже успел прославиться своей революционной техникой окрашивания нервных клеток, которая до сих пор применяется в нейробиологических лабораториях по всему миру. Между двумя учеными возникла близкая дружба, они проводили дни напролет, работая с пациентами, а вечерами обсуждали полученные результаты. Исследователи вместе изучали патологическую и нормальную анатомию коры головного мозга. В итоге их работа вылилась в большой сборник трудов, состоящий из шести книг, который назывался «Гистологическое и гистопатологическое изучение коры головного мозга» и был опубликован в период с 1906 по 1918 год.
В 1895 году Ниссль переехал в Гейдельберг для работы с известным немецким психиатром того времени Эмилем Крепелином, родоначальником нозологической психиатрии (которая предполагала, что в основе каждого расстройства лежат определенные патоморфологические и органические нарушения мозга). Сам Алоис в это же время стал директором городской больницы во Франкфурте. Именно здесь его и ожидала та роковая встреча, благодаря которой современные ученые из множества лабораторий по всему миру ломают головы, чтобы разгадать загадку болезни, названной впоследствии его именем.
Так чей же случай болезни описал ученый? Его пациенткой стала 51-летняя Августина Детер, которую муж поместил в больницу из-за ее ухудшающегося психического здоровья. Она имела не совсем классический комплекс симптомов: дезориентация, мания преследования, провалы в памяти, бессонница, а также затруднения с чтением и письмом. Этим и заинтересовался исследователь.
Стоит сказать, что подобные признаки ослабления интеллекта наблюдались и ранее, но описывались у людей гораздо более старшего возраста. Их приписывали сенильной или старческой деменции, но не классифицировали как-то особо.
Если углубиться в историю, то упоминания об этой деменции можно найти еще в трудах древнегреческих и древнеримских философов. Наиболее старинные записи принадлежат знаменитому Пифагору, который разделил жизнь человека на пять этапов, оканчивающихся 7, 21, 49, 63 и 81 годами. Два последних он определил как senium или старость — период упадка физической силы и регрессии ума. Первым же описанием деменции можно считать его слова: «Сцена смертного существования завершается после долгих лет, до которых, к счастью, мало людей доживает. Ибо система возвращается к слабоумию первого этапа младенчества».
Для определения «слабоумия» он использовал понятие «imbecility», которое стало синонимом гиппократовскому «paranoia». Естественно, Гиппократ не мог не принять участие в классификации болезней ума и отвел «паранойе» место именно для обозначения деградировавших в старости умственных способностей, которые он объяснял возрастным разладом жидкостей в теле человека (приводившим, по его умозаключениям, в принципе ко многим болезням).
«Отметился» в этом деле и Аристотель, резонно указывающий на то, что весьма пожилые люди уже бесполезны на высоких административных должностях, ибо «не так много осталось от хваткого ума, который помогал им в молодости, и от способностей, которые служили интеллекту и называются суждением, воображением, силой рассуждения и памятью. Они видят, что их разум постепенно притупляется, и понимают, что они едва могут уже выполнить свою функцию». При этом его авторитет и вполне объяснимое невежество (ведь он не был врачом), заключающееся в уверенности, что центр интеллекта — это сердце, а мозг всего лишь — некая охлаждающая его железа, долго мешало врачам того времени выйти на верный путь и к верному пониманию.
Однако, вернемся к нашей пациентке Августа Детер, которая долгое время оставалась без фамилии и проходила по многим медицинским документам как Августа Д. Она наблюдалась у Алоиса Альцгеймера 11 лет, и все время симптомы продолжали прогрессировать. Доходило вплоть до появления галлюцинаций и крайней агрессивности, во время которой женщина не узнавала мужа и могла устраивать драки как с ним, так и с подходящим на помощь персоналом.
Сохранились и заметки, найденные в 1996 году, в которых доктор фиксировал свои беседы с Августой. Вот некоторые примеры (записи 26 и 29 ноября 1901 года):
— Какой год сейчас?
— 1800.
— Вы больны?
— Второй месяц.
— Какой сейчас месяц года?
— 11-й.
— Как он называется.
— Последний, если не последний.
— Какой именно?
— Я не знаю.
— Какого цвета снег?
— Белый.
— Сколько пальцев на руке?
— Пять.
— Сколько у вас ног?
— Две.
— Как вас зовут?
— Августа.
— А фамилия?
— Августа.
— Как зовут вашего мужа?
— (замялась, потом ответила) Августа.
— Что вы едите?
— Шпинат (ест мясо на самом деле).
— Напишите «5».
— Пишет «женщина».
— Напишите «8».
— Пишет «Августа».
Альцгеймер заключил, что болезнь «убила» сначала чувство времени и места. Августа едва могла вспомнить подробности своей жизни и часто давала ответы, которые не имели ничего общего с вопросом и были бессвязными. Ее настроение быстро колебалось между тревогой, недоверием, эскапизмом и «нытьем». Врачи не могли позволить ей бродить по палатам, потому что она могла «приставать» к другим больным, которые в ответ бы нападали на нее.
В последующие недели он продолжал задавать ей вопросы и записывать свои ответы. Она часто отвечала:
«О, Боже!» и «вроде бы я потеряла себя». Казалось, она осознает свою беспомощность. В ходе изучения пациентки Алоис Альцгеймер назвал ее случай «болезнью забвения».
Конечно, Альцгеймер не первый раз наблюдал полное вырождение психики у пациентов, но известные ему пациенты имели очень преклонный возраст, чаще всего сильно за семьдесят. Августа Детер была намного моложе — всего 51, поэтому вплоть до начала 70-х годов XX века болезнью Альцгеймера называли именно проявления деменции до 65 лет.
В начале 1906 года пациентка совсем слегла и стала крайне слабой. В последние дни ее жизни температура подскочила под сорок, началось двустороннее воспаление легких. Спасти ее не смогли, и 8 апреля она умерла.
Патологоанатомы после вскрытия описали причину смерти довольно лаконично: «Утром произошел exitus letalis. Причина смерти: септицемия (заражение крови — прим. авт.). Анатомический диагноз: умеренная гидроцефалия (внутренняя, внешняя), церебральная атрофия, атеросклероз малых церебральных кровеносных сосудов, двусторонняя пневмония, нефрит». Альцгеймер подробнейшим образом изучил мозг и обнаружил то, что и подозревал: наличие специфической болезни, которая поражала мозговую ткань. В итоге эта женщина стала самым ранним случаем описания патологии.
В 1902 году Эмиль Крепелин пригласил Альцгеймера поработать с ним в Гейдельберге. Годом позже они вдвоем приехали в университетскую психиатрическую клинику в Мюнхене, где его карьера в качестве ученого достигла наивысшей точки. Работы, сделанные в тот период времени, привели к тому, что Альцгеймер продемонстрировал, как диагноз, поставленный на основе изучения гистологических препаратов, может использоваться для ответа на клинические вопросы. Интересно, что в своих работах он указал на тот факт, что процессы, лежащие в основе дегенеративного заболевания, никак не зависят от воспалительных реакций.
Удивительно, но все те выводы и заключения, которые сделал Алоис Альцгеймер, основаны на его исследовательской работе и уже на протяжении более 100 лет не исправлены, не слишком изменены, а только всецело и полностью подтверждаются.
На съезде психиатров в ноябре 1906 года в Тюбингене Альцгеймер представил свою работу по «специфической болезни коры головного мозга», где описывал клинические и нейропатологические особенности своей умершей пациентки. По итогам патологоанатомических исследований мозга он указывал на то, что у пожилых людей часто встречается истончение коры. Ученый также отмечал два отклонения в мозге от нормы, а именно нейрофибриллярные сгустки, представляющие собой измененный цитоскелет (тонкие трубочки, поддерживающие внутреннюю организацию) нервной клетки и нейротоксические отложения размером с «просяное зернышко» — амилоидные бляшки, находящиеся во внеклеточном пространстве. В своем выступлении Альцгеймер отметил, что слабоумие его пациентки Августины Детер было связано именно с поражением мозга.
Вторым случаем деменции, который исследовал ученый, стало не вполне ясное, но очень похожее на болезнь Августы заболевание 56-летнего мужчины Йоханна Ф. Его поместили в университетскую психиатрическую клинику 12 сентября 1907 года, и умер он через три года. Аутопсия его мозга показала изменения, аналогичные первому случаю.
В течение 5 лет после первого описания разные врачи отправили в печать описания еще 11 подобных пациентов, негласно объявляя патологию болезнью Альцгеймера. Однако, официально термин ввел в обиход Крепелин в 1910 году, посвятив синдрому целую главу восьмого издания его «Учебника психиатрии». Но там он допускал такую приписку:
«Альцгеймер описал уникальную группу случаев с очень тяжелыми клеточными изменениями.
…Клиническое значение этой болезни Альцгеймера все еще в настоящее время неясное. Хоть анатомические данные и позволяют сделать предположение, что это вариант особо тяжелой формы старческого слабоумия, в какой-то степени это противоречит тому обстоятельству, что болезнь иногда начинается уже в конце 40-го года. В таких случаях, по крайней мере, нужно было бы принять „senium ргаесох“, если это не вопрос, возможно, уникальной болезни, которая более или менее независима от возраста… Возможно, существуют связи с той или иной из ранее описанных картин пресенильной деменции».
Интересно, что даже сюда мог закрасться дух соперничества, что поспособствовало столь скорому наименованию патологии, похожими формами которой в одно и то же время… занимались сразу двое исследователей. Причем, один из них — сам Альцгеймер — принадлежал, конечно же, крепелинской и немецкой школе, а другой — Оскар Фишер, о котором знают очень немногие — пражской школе. Фишер в то время активно занимался нейрональными проблемами и широко описывал некие бляшки, которые разрушали нейроны. Но то, что Альцгеймер первым назвал, помимо бляшек, еще и нейрофибриллярные клубочки, позволило Крепелину (намеренно или ненамеренно — кто знает?) «наградить» их основной ролью в развитии болезни и отдать пальму первенства своему протеже.
Стоит отметить, что сам Альцгеймер все-таки был человеком исключительным, и даже если Крепелин и воспользовался своим академическим положением, то сделал это совершенно не зря. Профессор (это звание не заставило себя долго ждать) сделал не только немало других неврологических открытий, но и стал талантливейшим педагогом. Наблюдатели описывали незабываемое зрелище его уроков так: «Альцгеймер с его большой головой склонялся над микроскопом, на его шее висело пенсне на шнурке, а сам он всегда был с сигарой, которую опускал всякий раз, когда необходимо было прокомментировать или объяснить что-то студенту».
Также рассказывали, что в конце дня на скамье каждого студента можно было найти сигарный окурок, отмечающий его перемещения по лаборатории. Его ровный нос возвышался на крупном круглом лице над густыми усами, а глубокие глаза пронизывали внимательным, будто сканирующим взглядом. Густой баритон и статная фигура добавляли его образу уважения и доверия.
За очень короткий промежуток около 30 лет в понимании недуга произошел значительный прогресс. Исследователи вместо одной болезни Альцгеймера, под гребенку которой косили все старческие «болячки ума», обнаружили три отдельных физиологических отклонения — сосудистую дисфункцию, сдвиги в биохимических процессах в головном мозге и нейронные перестройки — каждое из который коррелировало с деменцией у пожилых людей. Кроме того, оказалось, что чистое «слабоумие сенильного типа» можно обнаружить в поразительно молодом возрасте. Поэтому ученые следующие десятилетия вплотную занимались характерными признаками болезни Альцгеймера, отличающими ее от старческой деменции, и провели подробные наблюдения как на гистологическом, так и на поведенческом уровнях.
Не отставал и сам «отец». Финальные три года своей жизни Альцгеймер посвятил исследованиям и клинической работе. Он сконцентрировал все свои усилия на изучении изменений в глиальных клетках при различных болезнях мозга. Его наиболее известная работа того периода была связана с псевдосклерозом Вестфаля-Штрюмпеля, который сейчас носит название болезни Вильсона. В этой работе он выделил две различные формы изменений в ядрах глиальных клеток, названные альцгеймеровским типом I и II.
Споры о том, сенильная деменция и болезнь Альцгеймера — это одно и то же или разные вещи, шли достаточно долго. Даже в 1960-х еще не находились значимые отличия, хотя к 1929–1932 годам ряд исследователей установил генетическую предрасположенность к развитию заболевания в семейных случаях. В итоге в конце 70-х — начале 80-х их объединили в одно понятие «сенильная деменция альцгеймеровского типа» (Senile Dementia of the Alzheimer’s type (SDAT).
Последние 25 лет XX века пошла широкомасштабная исследовательская работа. Начатая в начале 1980-х годов, она открывала новые бесчисленные грани болезни, экспоненциально улучшая понимание и в то же время увеличивая сложность разгадки причин. В 1991 году появилась амилоидная гипотеза (патологическое отложение белка бета-амилоида в виде бляшек), которая долгое время «правила балом», пока не начала трещать по швам из-за того, что препараты, настраиваемые на всевозможные звенья ее патогенеза, попросту не работали.
Одновременно взялись за изучение тау-гипотезы, согласно которой все патологические механизмы запускались из-за нарушений в нормальной структуре тау-белка, вследствие чего его нити начинают слипаться между собой и образовывать нейрофибриллярные белки. Генетики открыли «виновников» семейной формы болезни, которыми оказались гены АРОЕ и в меньшем проценте случаев — АРР, пресенилина 1 и пресенилина 2.
Все это активно изучается для того, чтобы найти против патологии эффективное средство. Амилоидные белковые бляшки в ткани мозга появляются за годы, даже десятилетия до проявления первых клинических симптомов. По мнению многих исследователей, к тому времени, как «проступает клиника», делать что-либо уже поздно. Поэтому светлая цель для любого ученого, бросающегося на поиски чудодейственного лекарства — ограничение прогрессирования недуга, прежде всего, на ранней стадии. Но когда не знаешь, с чем бороться, ситуация осложняется в десятки раз.
Сейчас появились относительно новые теории воспалительной и аутоиммунной природы болезни Альцгеймера, а также многие данные говорят за активное участие в патологическом процессе глиальных клеток. К чему приведут они — покажет время. Пока же фармацевтической промышленности похвастаться особо нечем.
Существует фраза, бытующая в среде ученых и врачей, работающих с болезнью Альцгеймера: «Если вы — больная „Альцгеймером“ мышка, то вам повезло, мы вас вылечим. Но если вы человек — увы». Дело в том, что подавляющее большинство препаратов, разрабатываемых против болезни Альцгеймера и показывающих хорошие результаты на модельных животных, с треском проваливается в клинических испытаниях. За 2002–2012 годы компаниям пришлось остановить 99,6 процентов всех клинических испытаний, связанных с болезнью Альцгеймера.
Очередной провал произошел в 2016 году на третьей фазе препарата, разработанного компанией Eli Lilly. Моноклональное антитело соланезумаб должно было разрушать амилоидные бляшки в мозге пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера, защищая их от более тяжелой формы заболевания. Но увы: две тысячи человек, принимавшие участие в клинических испытаниях, не почувствовали никаких улучшений по сравнению с плацебо.
В феврале 2017 года компания Lundbeck прекратила два своих испытания, Merck закрыл одно из исследований, а Ассега также провалила клинические проверки в поздней фазе. Результаты испытаний фирмы Axovant пока что наиболее крупные, но и они в сентябре 2017 года объявили, что ключевое клиническое испытание поздней стадии для их препарата, интериндина, провести не удалось.
Однако, есть и обнадеживающие данные.
VTV Therapeutics — это небольшая компания в штате Северная Каролина (США), которая испытывает так называемый азелирагон — препарат, ингибирующий рецептор RAGE, в идеале помогая людям с умеренным снижением когнитивной сферы при болезни Альцгеймера. Ожидается, что его третья фаза завершится в начале 2018 года. Компания получила довольно обнадеживающие результаты во втором этапе в отношении препарата, который проверяется уже около 17 лет. Тем не менее, нет никакой гарантии, что он окажется успешным.
Адукамумаб, препарат компании Biogen — ингибитор ВАСЕ (бета-секретазы — фермента, расщепляющего патологический белок), действует согласно амилоидной гипотезе: если «прицелиться» на бета-амилоидные отложения в мозге, то можно их очистить и вылечить недуг. Ожидается, что результаты будут получены в 2019 году или в начале 2020 года.
Ланабецестат, ВАСЕ-ингибитор компании AstraZeneca, тоже готовится к выходу в 2019 году.
Merck, помимо свернутой программы, сейчас работает над еще одним лекарством, также находящимся в третьей фазе и предназначенным для людей в самой ранней стадии патологии. Здесь результаты ожидаются в 2019 году.
И, наконец, у Genentech имеется два препарата на поздних этапах разработки, даже несмотря на неудачи. В феврале Genentech и их партнер, компания АС Immune, запустили пробную стадию 3 для кренезумаба — препарата, нацеленного на амилоидные отложения в мозге. Ожидается, что данные будут получены в 2020 году. Другой же, гантенерумаб, со схожим механизмом действия, не прошел более ранние испытания, и теперь вся надежда на увеличение дозы, которое, возможно, сработает и начало опробоваться на пациентах в 2017 году.
Так что надежда есть.
9.0 Тиаминовые истории
Начало: бери-бери
Эта глава будет не совсем обычной. В ней мы расскажем сразу о нескольких, в одном случае не слишком тяжелых, в другом — опасных для жизни заболеваниях. Несмотря на то что все они по клинической картине разные, у них есть общий знаменатель — одна и та же вызывающая их причина. Только немного в разных контекстах. Эту причину обнаружили лишь в 1911 году, и она стала своего рода революцией в биологической химии, открывшей миру целый класс жизненно необходимых соединений. Наверняка наши читатели уже догадались, что мы ведем речь о витаминах. Заболеванием, открывшим ученым врата в мир небольших, но очень важных для организма молекул, стала болезнь бери-бери, развивающаяся на фоне сильного недостатка витамина В или тиамина. Однако есть у этого недуга и «друзья», которые могут внезапно (или не очень) заявляться не только в отсутствии микронутриентов, но и в некоторых других случаях. Со всеми мы познакомимся.
А чтобы вы смогли глубже проникнуться темой, для начала мы расскажем вам о тех, чьи открытия позволили в итоге как избавиться от жестких авитаминозов, так и найти химическую структуру молекулы витамина. К сожалению, второй персонаж — химик — все-таки не получил Нобелевской премии, а первый ждал ее ни много ни мало почти 40 лет. Хоть до самого открытия он, собственно, так и не добрался, даже предположение о причине наблюдаемого явления сделал не сам, нельзя сказать, что награда оказалась незаслуженной.
Дорога на юг
Христиан Эйкман был седьмым ребенком в семье школьного учителя Христиана Эйкмана и Иоганны Алиды Эйкман. Они жили в небольшом городе Нейкерк в Нидерландах (сейчас в этом городе проживает чуть более 40 тысяч человек). Когда Кристиану исполнился год, вся семья переехала в Заандам — отец получил там должность учителя начальных классов. У папы же учились и все дети Эйкманов.
В 17 лет Христиан получил стипендию на обучение в Военной медицинской школе Амстердамского университета с дальнейшим прохождении медслужбы в армии и выпорхнул из родительского гнезда. Успешно защитив в 1883 году докторскую диссертацию «О поляризации нервов» и женившись на Алтье Вигери ван Эдема, которой впоследствии было суждено умереть от малярии, он стал офицером и уехал с супругой… нет, не в свадебное путешествие, а работать в Нидерландскую Восточную Индию. То бишь, в Индонезию, на остров Ява. Сначала в Семаранг, а затем в крошечный городок Чилачап, на южном побережье острова.
После злосчастной эпидемии малярии, которая его стороной тоже не обошла, из-за чего он был вынужден вернуться на родные «тюльпановые» земли, Эйкман, выздоровев, отправился на какое-то время в Берлин поработать у Роберта Коха, в то время уже первооткрывателя возбудителя туберкулеза. И вот тут молодому начинающему ученому повезло дважды.
Дело в том, что для Нидерландов болезнь бери-бери стала главной проблемой индийских колоний. Доходило до того, что на той же Яве почти любое тюремное заключение становилось пожизненным, хотя и коротким. Тогда это заболевание считалось инфекционным. А кто у нас был главный (и чуть ли не единственный) инфекционист мира? Правильно, Роберт Кох. К нему и послали медицинскую комиссию в лице Корнелиуса Пекелхаринга и Клеменса Винклера.
Но работа главного инфекциониста и опасна, и трудна, а еще иногда сильно выматывает от излишнего внимания со всех сторон. Поэтому Кох «сплавил» делегатам подающего надежды молодого человека, который, к тому же, на Яве уже бывал и наверняка обладал специфическими знаниями (на самом деле не особо). Комиссия сказала «берем, не глядя», и в 1886 году все уехали в Азию.
В следующем году Перелхаринг и Винклер вернулись домой, а Эйкман распрощался с армией и остался в чине первого главы новосозданной «Яванской медицинской школы» — некоего научного учреждения, которое потом станет Университетом Индонезии. Так Христиан еще и первый университет в будущей крупной азиатской стране основал. Ну а помимо этого Эйкману выделили еще две комнатки в военном госпитале в Батавии, в которых и располагалась его лаборатория бактериологии и патологии. Как раз там началась борьба с бери-бери.
Рисовый «заговор»
Само слово «бери-бери» означает на сингальском языке дважды повторенное слово «слабый». Дословно можно сказать «слабый в квадрате». Современная европейская медицина знает это заболевание с 1642 года, когда вышло посмертное издание книги De medicina Indorum («Медицина Индии») голландского врача Якобуса Бонтия (он же Бондт, Якоб де Бондт), работавшего и умершего в 39 лет в Батавии.
Он успел оставить описание загадочной болезни, приводящей к разным неврологическим симптомам: «Некое очень мучительное состояние, которое нападает на людей, называется здешними обитателями бери-бери (что, видимо, означает „овца“). Мне кажется, что те, кто этой болезнью заболевает, сотрясают колени и поднимают ноги при ходьбе, словно овцы. Это своего рода паралич, или, скорее, трепет, ибо он проникает в движения, ощущения рук и ног, по сути, иногда всего тела».
Этот недуг, хоть и описан в МКБ-10 как самостоятельное заболевание, по сути представляет собой симптомокомплекс — несколько патологий, собранных воедино. А точнее — четыре симптомокомплекса.
Сухая бери-бери обычно являет собой комплекс трех неврологических проблем: корсаковский синдром — следующее заболевание, о котором пойдет речь, энцефалопатия Гая-Вернике, которая «выступит» далее по программе, и их комбинация — синдром Корсакова-Вернике. Это и есть те самые «друзья», о которых мы сказали в самом начале.
Мокрая бери-бери тоже бывает с неврологическими симптомами, однако самый большой удар приходится на сердечно-сосудистую систему.
Также существуют известная уже давно детская бери-бери, несколько отличающаяся по симптомам, и кроме этого, с 2004 года выделяют еще и желудочно-кишечную бери-бери, как будто трех разновидностей было мало.
Больше всего при Эйкмане болезнь выкашивала «режимных людей» — военных или заключенных. Теории о ее возникновении тоже существовали, только ни одну пока что подтвердить не могли. А поскольку в «режимных» бери-бери всегда фигурировал рис в питании, его быстро начали подозревать. Но чем заменить рис в Азии? Нечем. Одна теория считала, что в рис попадает некий яд, другая — что в рисе не хватает жиров и белков. Вторая теория оказалась правдивее.
Но как проверить теорию? Экспериментом. А на ком экспериментируют настоящие ученые? На мышах. Но где взять чистых лабораторных мышей? Поэтому Эйкман стал работать с цыплятами. Во-первых, дешевые, а во-вторых, недостатка в них не было.
Начав кормить цыплят исключительно тюремной едой, ученый обнаружил, что цыплята тоже через некоторое время начинают страдать от паралича — основного симптома бери-бери, очень похожего на тот, от которого умирают заключенные. Вскрытие показало воспаление множества нервов. «Много» по-гречески «поли», «-ит» означает «воспаление». Имеем болезнь «полиневрит». Ну хорошо, не болезнь — состояние. Эйкман, как ученик Коха, стал искать возбудителя. Даже «находил» пару раз, но потом снова терял.
Однажды исследователь пришел в виварий и увидел чудо. Вместо умирающих от паралича цыплят его ждали здоровые. Подменили? Нет, те же самые. В чем же дело? Видимо, в рационе. После беседы с работниками вивария оказалось, что пришел другой сотрудник, более принципиальный и возмутился: с какой стати цыплят без погонов поставили на воинское довольствие — и заменил им рис.
Стало понятно, что дело в разных видах риса. Отсюда последовало наблюдение, что все больные бери-бери основой рациона имели блюда из шлифованного, очищенного риса. А если шелуху не счищать, то заболеваемость бери-бери снижается в 250 (!) раз. Это подтвердил друг и коллега Эйкмана Адольф Вордерман в 1897 году, поставив эксперимент на людях. Оказалось, что евшие шлифованный рис заключенные заболевали с вероятностью 1:39. Но когда их перевели на коричневый рис, заболеваемость упала до 1:10000.
В 1890 году вышла статья «Полиневрит у цыплят», в которой была поставлена точка в проблеме бери-бери. Кормите, мол, всех неочищенным рисом, и будет счастье. Однако объяснение этому факту предполагалось банальное — во время шлифовки в рис попадает какой-то токсин, на худой конец — какая-то бактерия.
Чего-то не хватает…
Собственно говоря, история пути Христиана Эйкмана к Нобелевской премии здесь закончилась. Болезнь побеждена, какое-то объяснение предложено, шесть лет спустя он снова женился и навсегда отбыл на материк. Но в Индонезии остался его ассистент Герри Грийнс, продолживший изучать болезнь. В 1901 году он сделал гениальное предположение: люди болеют бери-бери не потому, что в очищенном рисе что-то есть, что их отравляет, а потому, что в нем чего-то нет, необходимого для жизни.
Эта мысль стала настолько революционной, что большинство авторитетов встречало ее в штыки. Банальное следствие из предположения, которое легко проверить: нужно попробовать использовать отвар рисовой шелухи для лечения уже наступившей бери-бери. Но до этого додумался лишь в 1910–1913 годах американский врач Эдвард Веддер.
И теперь очередь за химиком — отцом новой молекулы. Им стал поляк Казимир Функ, который выделил в 1911 году из рисовой шелухи то самое необходимое вещество (на самом деле сначала это был ниацин или никотиновая кислота, витамин В3). Именно он предложил слово «витамины» и предположил, что существует минимум четыре их вида: антиберибери (сейчас мы знаем, что это тиамин или витамин B1), антипеллагра (В3), антицинга (витамин С — это название и сохранилось, аскорбут — аскорбинка) и анти-рахит (витамин D). Сам В3 увидел свет в 1936 году, также с помощью Функа.
Почему же развивается заболевание? Дело в том, что тиамин в организме сразу же фосфорилируется (к нему прибавляется фосфатный остаток), превращаясь в тиаминпирофосфат, и становится коферментом, приводящим «в боевую готовность» ферменты, которые занимаются метаболизмом углеводов.
Когда обмен тиамина в организме нарушается, либо его становится слишком мало, выходит из строя процесс окислительного декарбоксилирования а-кетокислот и частично блокируется метаболизм углеводов. В итоге недоокисленные продукты обмена пирувата накапливаются и оказывают токсическое действие на головной мозг, обусловливая развитие метаболического ацидоза (попросту закисления). Как результат — все симптомы бери-бери: поражения периферических нервов и боли по их ходу, слабость рук и ног, нарушения чувствительности по типу «носков» и «перчаток», парезы и параличи кистей и стоп. К тому же люди начинают сильно худеть, вплоть до крайней степени истощения — кахексии.
В наши дни заболевание практически не встречается, хотя еще 10–20 лет назад появлялись рецидивы. Например, в 1999 году вспышка бери-бери произошла в одном из крупных тюремных центров Тайваня. Высокие показатели заболеваемости и смертности в переполненных гаитянских тюрьмах прослеживались и в 2007 году, пока окончательно не избавились от традиционной практики промывки риса перед приготовлением пищи. В Кот-д’Ивуаре среди группы заключенных, совершивших особо тяжкие преступления, 64 % заболевали бери-бери. Но теперь-то уже знают, как их лечить. Как только начинались тиаминовые инъекции, к выздоровлению приходили около 97 % людей.
Действительно, даже если довести себя до сильного истощения, что иногда бывает с молодыми девушками, желающими во что бы то ни стало выглядеть как эфемерное модельное совершенство, созданное в их сознании, но вовремя спохватиться и пройти лечение, многие симптомы авитаминоза полностью исчезают. Чего не скажешь о других связанных с нехваткой тиамина состояниях…
Синдром Корсакова
Доктор заходит в палату и видит молодую девушку болезненного вида с перебинтованной рукой. Пытается у нее узнать, как случилась травма запястья и как она попала в отделение, но уже с первых секунд разговора понимает — она врет. Но врет не потому, что страдает мифоманией, а потому, что ничего не помнит. И мозг пытается восстановить картину произошедшего с помощью окружающей среды. Как доктор это понял? Все просто: она использует образы его гардероба и собирает из них рассказ, пытаясь сделать его правдоподобным. Однако, специалисту сразу становится все ясно: тут все дело в патологическом состоянии, которое в большинстве случаев возникает из-за хронического алкоголизма, но может сопровождать и травмы мозга, опухоли, а также недостаток питательных веществ.
Наверняка поклонники сериала «Доктор Хаус» (да, мы снова о нем) уже догадались, о каком эпизоде идет речь, а следовательно, поняли, историю какого заболевания мы опишем в этой части главы. Конечно же, это синдром Корсакова.
Знаменательно, что эта патология — одна из немногих, которая была названа в честь русского ученого и под этим именем признана во всем мире. История знает множество примеров, когда открытия делались одновременно или почти одновременно русскими и зарубежными исследователями, после чего мы начинали называть предмет научной мысли именем нашего соотечественника, а все остальные — именем его итальянского, французского, немецкого, английского или американского коллеги.
За примерами далеко ходить не нужно: то же радио Попова-Маркони. Если брать медицину, то приходят на ум гигантские клетки Пирогова-Лангханса, полученные слиянием макрофагов (тканевых чистильщиков) и характерные для гранулем, или болезнь Бехтерева, она же — анкилозирующий спондилоартрит, как ее знают в мире, либо иногда известная там же под именем болезни Штрюмпеля-Бехтерева-Мари. О ней мы поговорим в одной из следующих глав.
Синдром имени Корсакова же признали сразу. Почему? Во-первых, Сергей Сергеевич Корсаков представлял собой крайне высококлассного специалиста: он создал московскую школу психиатрии, внедрил в психиатрических лечебницах по всей Российской империи принцип «по restraint» или «никаких стеснений» и вообще стал в стране основоположником нормальной, адекватной и современной психиатрии, без кандалов, смирительных рубашек и цепей, но с психоневрологическим научным подходом к объяснению «заболеваний души». Во-вторых, он активно ездил по Европе, обменивался опытом с иностранными коллегами и был весьма уважаем в международном медицинском обществе.
Он на самом деле заслуженно добился того, чтобы конец XIX века назвали «эрой Корсакова» в русской психиатрии, его самого — русским «Пинелем» (французский психиатр, впервые предложивший принцип «без стеснения»), а на иностранных сайтах про него писали «the first great Russian neuropsychiatrist». Но как он к этому пришел? Как из его в общем-то вполне неврологической докторской диссертации «Об алкогольном параличе» родился целый психиатрический синдром?
Мыслить как невролог
Широта мысли и прозорливость в Корсакове были заложены еще с раннего детства, когда он, будучи несмышленым розовощеким юнцом, утолял свою любопытство, изучая жизнь скотного двора, слушая добрые и поучительные сказки, которые ему рассказывала мать Акилина Яковлевна, в молодости Алянчикова, и восхищаясь производственным историям из уст своего отца Сергея Григорьевича. Родился он в 1855 году в промышленном селе Гусь-Хрустальный Владимирской губернии, в котором располагался (увы, уже в прошедшем времени) один из крупнейших заводов по производству стекла и хрусталя. А управлял им как раз Сергей Корсаков-старший.
Несмотря на то что Сережа прожил в деревне 10 лет, благодаря высокоинтеллектуальным родителям, няне-гувернантке, приглашенной к детям с их ранних лет (в семье было 4 ребенка), а затем и строгому немцу-гувернеру, он в 5 уже читал, к 10 — неплохо знал иностранные языки, а по приезду в Москву поступил в гимназию сразу во второй класс. В 16 лет он ее с золотой медалью закончил, удостоившись записи на золотой доске почета, и тем же летом поступил на медицинский факультет Московского университета, оказавшись под влиянием легенд русской медицины: знаменитого основоположника московской терапевтической школы Григория Захарьина, чьим постоянным пациентом был Лев Толстой, его ученика Алексея Кожевникова, который выделил невропатологию в самостоятельную науку, а также не менее «звездного» родоначальника русской гистологии Александра Бабухина, который в то время возглавлял медицинский факультет.
Вечерами Сергей с головой погружался в изучение литературы, бережно штудировал фолианты, полностью законспектировав «Рефлексы головного мозга» Ивана Сеченова, а на старших курсах с увлечением читал медицинские лекции «Logons du Mardi» отца неврологии Жана-Мартена Шарко. Его наставником в то время, когда студенты медицинских университетов проходят курсы невропатологии и психиатрии, стал сам Алексей Кожевников, известнейший на тот момент невропатолог и председатель Московского общества невропатологов и психиатров.
В 1875 году Сергей Корсаков окончил университет с отличием, ведь иначе при таком доскональном подходе к вопросу просто не могло быть. При этом за все годы учебы он даром времени не терял и на фронте личной жизни, поэтому успел обзавестись невестой Анной Барсовой, дочерью «дядюшки Павла Петровича» Барсова, субинспектора Московского университета, кого он называл своим «учителем жизни».
Конечно же, как и любой другой уважающий себя профессор и «обладатель» весьма талантливого ученика, Алексей Кожевников, когда к нему обратился главный врач Преображенской больницы Самуил Штейнберг с просьбой дать толкового ординатора, указал на своего любимца Сергея. Как писал «дядюшка» Барсов своему будущему зятю, «кроме Вас Кожевников не мог указать ни на кого…». Так началась настоящая клиническая работа Корсакова, который по предложению Кожевникова через несколько месяцев стал еще и сверхштатным ординатором клиники нервных болезней Московского университета.
Параличи нынче в моде
Крылатое выражение гласит, что если за двумя зайцами погонишься, то ни одного не поймаешь. Актуально оно для многих, но только не для Корсакова, который весьма успешно сочетал все свои работы, а в 1877 еще и научный труд написал — «Курс электротерапии». С этого же момента он потихоньку начал набирать материал для своей докторской диссертации об алкогольных параличах. Личной «базой данных» ему служила для этого «Книга больных, наблюдавшихся в частной практике», которую он завел в 1878 году, а плацдармом для нее (в том числе) — частная психиатрическая лечебница доктора Александра Федоровича Беккер, куда Корсаков устроился через год и где впоследствии воплотил свое знаменитое «без стеснения».
Почему же все-таки алкогольные параличи? Тут все просто. Во все времена, даже ныне, в любой области науки существуют «модные» темы. Но если сейчас множество лабораторий мира сконцентрированы на поисках лекарства от болезни Альцгеймера, то тогда многие представители неврологического общества занимались полиневритами. Снова на гребень волны интереса тему, считавшуюся вполне раскрытой, подняли француз Алексис Жоффруа, который отметился в истории симптомом Жоффруа (у больных с диффузным токсическим зобом пропадают морщины при попытке наморщить лоб) и Эрнст Лейден, кстати говоря, частенько консультировавший императора Александра III и других членов Российского Императорского Дома.
Эти два врача, широко знаменитые в узких кругах, на заре 80-х годов XIX века заново описали полиневрит, чем заставили ученых докторов пересмотреть свои взгляды на его клинику, патогенез и этиологические предпосылки. После этого начался целый «полиневритический переполох», и русские неврологи, конечно, не отставали. А так как полиневриты стали ведущей проблемой кафедры нервных болезней Московского университета, находившейся под руководством Кожевникова, то научный интерес юного ординатора был, можно сказать, предопределен. Мышьяковистые полиневриты взял Дмитрий Сколозубов, свинцовые «застолбил» Лазарь Минор, а Корсакову «достались» алкогольные.
К слову, недостатка в материалах для изучения не было, и молодой врач, обладающий исключительной харизмой, статный, грузный и большой, с громким низким голосом, черной бородой и добрыми, светящимися глазами, обладающими успокоительным эффектом, постепенно набирал клинические случаи, каждый из которых подробнейше описывал в своей «Книге».
Что вижу, о том и пою
То было прекрасное время, когда ученые не гнались за индексом Хирша и не выстреливали каждый год пулеметной очередью статей, дабы закрыть отчет по гранту или кафедральной работе. И, как ни странно (а, может, и закономерно), часто становились знаменитыми лишь по одному труду. Отличным примером этого может служить уже знакомый вам Джеймс Паркинсон, который написал за всю жизнь всего одну работу по неврологии, зато какую!
За период с 1876 по 1887 годы Корсаков не написал ни одного научного изыскания, тем не менее не прекращая скрупулезные сборы и обработку информации. Он, подобно внимательному следопыту, по крупицам собирал симптомы, изучал анатомические основы нарушений при хроническом алкоголизме. К 20 октября 1886 года работа над диссертацией завершилась, и опубликовали ее в начале следующего года. В ней Корсаков объединил 124 описанных в литературе случая и включил еще 20 своих собственных наблюдений, добавив туда объемные патологоанатомические сведения, доказывавшие, что параличи обусловлены множественными невритами (воспалениями нервов) и изменениями в структуре спинного и головного мозга, а также целую палитру дополнительной информации о симптомах, биохимических особенностях, течении и прогнозе.
Стоит ли говорить, каких высоких оценок удостоилась диссертация на ученом совете? Но важно другое. Еще с XVIII века описывались случаи параличей и расстройства чувствительности у хронических алкоголиков, однако, именно Корсаков установил, что это все обязательно сочетается с достаточно специфическими изменениями в психической сфере. И здесь на первый план выходят нарушения в памяти. Они выражаются в том, что пациент постоянно все забывает: что ел, читал, делал, спал ли он, гулял ли, кто к нему приходил.
При этом он помнит, например, кто он, когда родился, как учился (если учился) в школе, кем и как работал.
Забывчивость иногда достигала внушительных масштабов. Корсаков рассказывал о весьма распространенных случаях, когда пациент принимался читать книгу, дочитывал до смешного момента, начинал смеяться и в это время совершенно забывал, почему он смеется. Отсмеявшись, он обнаруживал перед собой книгу, снова начинал читать с начала страницы, доходил до смешного момента, и все опять повторялось. При этом расстройства памяти могли затрагивать и предыдущие дни вплоть до нескольких недель, которые словно стирались без следа.
Но память здесь, судя по описаниям, не терпит пустоты, поэтому взамен потерянных приходят так называемые ложные воспоминания, которые иногда могут выстраиваться в очень логичные и целостные картины жизни. Больные могли рассказывать, что вчера вечером они ходили на концерт симфонического оркестра, а сегодня их навещали друзья, оставившие апельсины, торт и немного денег. При этом пациенты находились на лечении в больнице третий, а то и четвертый месяц, и никаких визитов к ним не было. Эти воспоминания могли детализироваться даже вплоть до замечаний больного о том, что первая скрипка фальшивила или апельсины были слишком кислыми. Такое явление впервые описал немецкий психиатр Карл Кальбаум. В современной психиатрии оно называется конфабуляциями.
Интересно, что способность к суждениям у таких пациентов остается совершенно сохранной. Умело сопоставляя остатки своей памяти, а также то, что находится непосредственно перед ним, больной делает логичные выводы и даже способен правильно анализировать ситуацию. Что иногда приводит его к неутешительным умозаключениям. Память «рушится», как выяснилось, из-за того, что повреждаются таламус, несколько участков коры, отвечающих за обработку воспоминаний, медиальное дорсальное ядро и некоторые другие структуры мозга.
Именно эта форма расстройства психики еще никем не была описана ранее, поэтому произвела в среде врачей фурор. Поскольку Корсаков хорошо общался с иностранными коллегами, его отдельную статью о психических проблемах алкоголиков «Расстройства психической деятельности при алкогольном параличе и отношение его к расстройству психической сферы при множественных невритах неалкогольного происхождения», опубликованную в феврале 1887 года, быстро перевели на многие языки, и оценив ее «прорывное» значение, элементами внесли в учебники по психиатрии. Через 10 лет французский профессор Юстин Мари Жюль Жолли (в честь него назвали тельца Жолли в эритроцитах, которые встречаются при В 12-дефицитной анемии) предложил назвать расстройство Корсаковой болезнью (Morbus Korsakowi).
При дальнейшем изучении вопроса оказалось, что эта форма заболевания может развиваться не только на фундаменте хронического алкоголизма, но и при отравлении другими ядами, быть осложнением тяжелых инфекций, а также исходом хронического голодания. И главное — она имеет определенные органические проявления в виде поражений мозговой ткани, которые и описал Корсаков.
Память «просит» тиамин
Дело в том, что господствовавшее во второй половине XIX века симптоматологическое направление, то есть когда в качестве основы заболевания ставились симптомы, а не то, что их вызывало, полностью себя изжило и не давало психиатрии возможности развиваться дальше. Поэтому корсаковский полиневритический психоз (cerebropathia psychica toxaemica) с конкретными проявлениями, патогенезом, течением и прогнозом сильно добавил «очков» штабу сторонников нозологического направления, которые были уверены в анатомической основе психических заболеваний.
Хоть многие авторы истории психиатрии и считают, что отцом этого веяния стал друг Алоиса Альцгеймера, немец Эмиль Крепелин, трудившийся примерно в это же время, только немного позже (свою знаменитую критику «симптоматологов» он озвучил в своем учебнике «Психиатрия» 1894 года), Корсаков пришел к подобным выводам чуть раньше.
Описание, сделанное русским психиатром на исходе XIX века, было настолько подробным и полным, что за столетие с хвостиком к нему ничего нового практически не прибавили. Да, дополнили список состояний, при которых синдром может развиться: сюда «пришли» атеросклероз сосудов головного мозга и развивающиеся при нем инсульты, опухоли головного мозга, сильный недостаток витамина B1 или тиамина (болезнь бери-бери), гипоксии разного происхождения, черепно-мозговые травмы.
Термин расширился, и появилась необходимость отделять корсаковский психоз, который имеет ту же картину, но используется только в случае хронических алкогольных возлияний, и синдром Корсакова, больше применяющийся при неалкогольных нарушениях памяти. Есть еще третье состояние — энцефалопатия Гайе-Вернике, о которой мы расскажем ниже.
Синдром Корсакова — к сожалению, такое заболевание, которое успешно может излечиваться в весьма небольшом проценте случаев. Когда уже присутствуют органические поражения мозга, функции памяти восстанавливаются сложно, даже если полностью обеспечить человека витаминами и сбалансировать количество воды в организме. Статистика говорит, что этот синдром встречается примерно у 3 % населения, но при жизни ставится лишь в 20 % случаев, так как часто нарушения памяти у пожилых людей принимаются за старческую деменцию и болезнь Альцгеймера.
Стоит быть аккуратными беременным женщинам, так как у них нередко возникает дефицит витамина B1 из-за частой рвоты и обезвоживания. В эту же группу риска попадают подростки и молодые люди (в основном, девушки), желающие похудеть и добровольно отдающие себя в рабство экстремальных диет. Могут пострадать и пациенты, нуждающиеся в гемодиализе, проходящие химиотерапию и, само собой, имеющие проблемы с пищеварительной системой (например, мальабсорбцию — плохое всасывание в кишечнике). Экзотической причиной синдрома может стать даже укус гигантской японской сороконожки мукаде, достигающей в длину до 30 сантиметров.
Профилактировать расстройства памяти можно тиамином в таблетках или внутримышечных инъекциях. Да и лечится он примерно так же, но длительно и чем раньше, тем лучше. Поэтому лучше умышленно не создавать благоприятных для его развития ситуаций, а если вдруг появятся характерные симптомы, ярко обрисованные в сериале «Доктор Хаус» или описанные в книге Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу», то сразу «сдаваться» в руки опытных докторов.
Paller, К. A.; Acharya, A.; Richardson, Brian С.; Plaisant, Odile; Shimamura, Arthur P.; Reed, Bruce R.; Jagust, William J. (1997). «Functional neuroimaging of cortical dysfunction in alcoholic Korsakoff’s syndrome». Journal of Cognitive Neuroscience. 9 (2): 277–293.
Rosenblum, Laurie B. (March 2011). «Korsakoff’s Syndrome». NYU Langone Medical Center.
Энцефалопатия Гайе-Вернике
Из каждого «утюга» нам постоянно твердят, что алкоголь — это наркотик, алкогольные напитки вредят организму, развивается алкоголизм — тяжелая болезнь, которую можно вылечить только в специальном стационаре и то не всегда. Но что на это отвечают беспечные граждане? «Курить вредно, пить вредно, а помирать здоровым жалко». А сколько примеров алкогольной горячки или, в народе, «белочки» знает литературный эпос? Массу: от зеленых человечков с рогами до самых нереальных образов, которые вторгаются в воспаленное сознание горячечного больного и кажутся ему вполне существующими. Но далеко не только галлюцинациями проявляются обострения у хронических алкоголиков.
Помимо сердечных, пищеварительных, эндокринологических и прочих проблем у них проявляется энцефалопатия Гайе-Вернике или, если обращаться к более научному названию — острый верхний геморрагический полиоэнцефалит Гайе-Вернике.
Тут, если изучать одновременно русские и английские источники, наступает большая путаница в названиях, разобраться в которых довольно сложно даже не специализирующемуся на психиатрии врачу. А наиболее правдивый первоисточник классификаций для любого медика — это, конечно, МКБ-10 (возможно, не самый правильный с точки зрения патофизиологов, но истина в первой инстанции для страховой службы и прокуратуры).
Так вот, МКБ-10 приписывает энцефалопатии Вернике код Е51.2, чем говорит, что недуг входит в число болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ и относится к группе «другие виды недостаточности питания», а именно — к недостаточности тиамина. Но вот какая незадача: часто сопутствующий энцефалопатии синдром Корсакова, который тоже развивается из-за недостатка В1 базируется совершенно в другом лагере — психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя — и значится там под кодом F10.6. Тем не менее, есть еще неалкогольный корсаковский психоз, где в качестве виновников фигурируют другие причины, приводящие, опять же, к общему знаменателю тиаминовой нехватки.
А сейчас мы еще больше запутаем ситуацию и скажем, что еще есть синдром Вернике-Корсакова, и энцефалопатия Вернике тут выступает в первом акте, то есть представляет собой его острую стадию, а корсаковский психоз появляется в финале и символизирует ту стадию хронического алкоголизма, когда обычно уже «поздно пить Боржоми». А еще энцефалопатия Вернике — это то же самое, что и синдром Гайе-Вернике.
Но оставим тонкости классификации специалистам, а сами разберемся, кто же такой был Вернике и какое место в изучении недуга занимал Гайе.
От анатомии к патологии
Прежде всего, уроженец Польши Карл Вернике у врачей и всех неравнодушных ассоциируется с речью. Кто читал прекрасное произведение Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу», тот может вспомнить очень яркое описание пациентов с афазией (утрата способности общаться с помощью речи), которые хохотали над речью президента, не понимая ни единого слова, но улавливая все фальшивые нотки в его интонации. Впервые обосновал причину этого явления, которое называется сенсорной афазией, и объединил еще нескольких ему подобных именно немецкий психоневропатолог. Причем, это стало одним из первых кирпичиков в фундаменте нозологической теории психических заболеваний, о которой мы уже говорили.
Карл родился в 1843 году небольшом прусском городишке Тарновиц, который сейчас принадлежит Польше и называется «Тарновские горы». Несмотря на то, что его отец работал чиновником, жила семья скромно, а после того, как тот умер, и вообще стала еле сводить концы с концами. Из последних сил мать обеспечила сыну медицинское образование, которое он получил в своей Alma Mater — Бреслауском университете (ныне Вроцлавский университет), но совсем немного не дожила до его выпуска.
Подаваться в психиатрию Вернике сначала и не думал. Он успешно получил свою медицинскую степень в 1870 году и первые полгода работал ассистентом в офтальмологическом отделении под руководством профессора Острида Форстера в Госпитале Всех Святых (Allerheiligen Hospital) в Бреслау. Прервала идиллию франко-прусская война, и молодой врач отправился на поле боя ассистентом хирурга, где прошел «боевое крещение» и откуда вернулся совсем другим человеком, изменившим свои предпочтения в медицине.
Сильно заинтересовавшись психиатрией, он обратился к своему университетскому наставнику Генри Нойманну, довольно известному немецкому психиатру, который когда-то в студенческие годы пытался увлечь смышленого молодого человека тайнами мозга, но так и «недозавлек».
Психиатрическая переподготовка у Нойманна дала возможность Вернике постажироваться у Теодора Мейнерта в Вене, у которого учился и Зигмунд Фрейд (перенявший и развивший его многие идеи), и, что символично, Сергей Корсаков. Стоит ли говорить, какое сильное впечатление произвел он на молодого и амбициозного Вернике. Это был единственный человек, которого тот считал своим настоящим учителем, упоминал в лекциях и чей потрет повесил потом в своем кабинете.
Мейнерту, кстати, принадлежит первое микроскопическое исследование головного мозга, а также классическое описание зрительных путей. Под его началом Вернике сделал и свое первое открытие в нейроанатомии: описал новую борозду мозга, что случилось в 1872 году.
Годом позже пришло самое важное наблюдение, обессмертившее его фамилию в нейронауках. А дело было так: в 1873 году на прием к Вернике попал пациент, перенесший инсульт. Пациент мог говорить, слух был не нарушен, но он не понимал, что говорят ему. На вопрос, где он живет, пациент отвечал примерно следующее: «Да, конечно. Грустно думдить па редко пестовать. Но если вы считаете барашто, то это мысль, тогда стрепте» (перевод и адаптация — М. Курланд, Р.А. Лупоф, «Как улучшить память»).
Вскоре пациент умер, и Вернике, тщательно изучив его мозг, обнаружил поражение в задней части теменной и височной долей левого полушария. Он сделал вывод: область рядом со слуховой корой мозга участвует в понимании речи.
В 1874 году вышла его основополагающая работа — 72-страничная «Der aphasische Symptomenkompleks» («Афазический симптомокомплекс»), в которой Вернике привел точное описание сенсорной афазии и разложил «по полкам» все известные ему и литературе причины, которые могли к такому результату приводить. Фактически ученый в свои 26 лет (именно столько ему исполнилось, когда вышел труд) открыл первое психиатрическое заболевание (афазию) с точно установленным патологоанатомическим субстратом.
В своей книге Вернике пытался привязать различные афазии к нарушению психических процессов в различных регионах мозга. Позже он открыл, что повреждение дугообразных нервных волокон, соединяющих центр Брока (зона моторной составляющей речи, открытая Полем Брока в 1865 году, при ее повреждении человек утрачивает способность разговаривать) и зафиксированную им область, тоже ведут к моторной и сенсорной афазии.
Теперь та поврежденная зона так и называется — «область Вернике». Конечно, сейчас мы понимаем, что функционально мозг устроен сильно сложнее, и что за понимание слов отвечают не только область Вернике и центр Брока, но это было только начало.
Токсичная недостаточность
В 1881 году Вернике опубликовал три сообщения о фатальной энцефалопатии, которая поразила двух мужчин, уже давно и серьезно злоупотребляющих алкоголем, и женщину, у которой была неукротимая рвота после проглатывания серной кислоты (случайно или намеренно — история умалчивает). Вернике отметил, что у всех трех пациентов наблюдалась одна и та же триада симптомов: острое помутнение сознания, атаксия (мышечный тонус не нарушен, но нет согласования в движениях) и нарушения в работе глаз, называющиеся офтальмопатией (отек дисков зрительных нервов, кровоизлияния в сетчатку, офтальмопарез).
Состояние больных было крайне тяжелым, а угнетение сознания — настолько сильным, что все трое через некоторое время умерли. Проводя аутопсию мозга, Вернике обнаружил точечные кровоизлияния в сером веществе, окружающие третий, четвертый желудочки и водопровод. Он предположил, что это заболевание имеет в большей мере воспалительную и токсическую природу и предложил назвать его острым верхним геморрагическим полиэнцефалитом (с греч. корень «encephal» — мозг и суффикс «itis» — воспаление).
Конечно, тогда он еще не знал, что первопричина всех этих проявлений — не сами по себе токсины, хотя и это тоже, а недостаток витамина B1, который развивается на фоне алкогольных возлияний. Но патологоанатомические выводы сделаны, клиническая картина описана, а имя Вернике — вынесено в название. Через несколько лет к нему присоединился и Сергей Корсаков, описав специфические нарушения психики, которые тоже вошли в основу патологии.
В начале 1905 года Роберт Кох номинировал Вернике на Нобелевскую премию по физиологии или медицине, и, возможно, шансы были высоки, но увы — все перечеркнула трагическая нелепость. 13 июня того же года Вернике поехал кататься на велосипеде в Тюрингенский лес. Там он наткнулся на камень, упал и сломал несколько ребер и грудину, что привело к пневмотораксу.
Помочь выдающемуся ученому не смогли — он умер два дня спустя.
Идентификация дефицита тиамина не производилась вплоть до 1930-х годов, пока Казимир Функ все-таки не совершил свое открытие. А значительная серия исследований М. Виктора и его соавторов (245 хронических алкоголиков с синдромом Вернике-Корсакова и 82 аутопсии мозга) подтвердила как клинические признаки, так и результаты вскрытия, что окончательно установило прочную связь между алкогольной зависимостью, дефицитом тиамина и энцефалопатией.
Пальма первенства — у офтальмолога
Но фигурировала в этой истории еще одна персона, про которую почему-то информации исчезающе мало даже в иностранных источниках, причем, не только на английском языке. А звучит он в составе названия патологии гораздо чаще, как ни странно, именно на русском. Давайте же познакомимся с Гайе или с Шарлем Жюлем Альфонсом Гайе.
Большое спасибо автору статьи про профессора Гайе в журнале «Ophthalmologica» 1905 года — таинственному доктору Hauschild-Chemnitz — за то, что благодаря его некрологу мы смогли хоть что-то узнать об «одном из самых известных офтальмологов современности и старейшем представителе французской офтальмологии».
Родился он в 1833 году в городке Сент-Генис-Лаваль и изучал медицину в Лионе, где и получил впоследствии докторскую степень в 1858 году за работу «Экспериментальное исследование по лигированию артерий» (Etude experimentale sur la ligature des arteres). Его карьера развивалась стремительно, и уже в 1861 он стал одним из ведущих хирургов, в 1865 занял должность профессора анатомии и физиологии в медицинской школе Лионского университета, а в 1870 году сел в кресло главного врача Второго полевого госпиталя Луары.
Пока он занимался хирургией и патологической анатомией, его интерес все больше сдвигался в сторону офтальмологии. В итоге он самостоятельно научился пользоваться офтальмоскопом, овладел техникой глазной хирургии и достиг в этом деле большого мастерства. И когда в Лионе в 1877 году — нужно сказать, впервые во Франции — открыли кафедру офтальмологии, то на пост ее заведующего, конечно же, назначили профессора Гайе.
Из-под его пера вышло множество работ, в том числе гистологические энциклопедии об устройстве роговицы и зрачка и работы о гистологических особенностях разных патологий глаза. Одним из первых он начал осваивать микрофотографию, о чем написал труды «Микрофотография в лабораториях» и «Фотографическая иконография в применении к офтальмологии».
Но нас больше всего интересует первое наблюдение случая острой офтальмоплегии с подробным анатомическим описанием в работе «Энцефалические поражения, локализованные в передних отделах ножек мозга» (Affection encephalique localisee aux etages anterieures des pedoncules cerebraux).
Она была опубликована в 1875 году, на 6 лет раньше работы Карла Вернике и, по сути, предвосхитила его изыскания, став первой исторической главой саги под названием «острый верхний геморрагический полиэнцефалит». Однако, вклад Вернике все-таки неоспорим, ведь именно он интегрировал все симптомы в единую картину.
Интересно, что профессор Гайе был признанным деятелем науки Франции и в разное время занимал престижные посты президента Французского общества медицинских наук, член-корреспондента Academie do Medecine, вице-президента и президента Офтальмологического общества, а также президента Французского общества хирургии. Умер он, однако, чуть раньше Вернике и тоже по несчастливой случайности — в результате автоаварии.
Victor, М., Adams, R. D., & Collins, G.H. (1971). The Werni A clinical and pathological study of 245 patients, 82 with post-mortem examinations. Contemporary Neurology Series, 7, 1-206.
Dr. Hauschild-Chemnitz. Professor Gayet. Zeitschrift jur Augenheilkunde 1905;13:394–395. 10.1159 / 000290345.
Gayet C.J.A. Affection encephalique (encephalite diffuse probable). Localisee aux etages superieurs des pedoncles cerebraux et aux couches optiques, ainsi qu ’ou plancher due quatrieme ventricule et aux parois laterales du troisieme. Observation recueillie // Archives de physiologie normale et pathologique, Paris, 1875. - Vol.22. - P. 341–351).
10.0 Болезнь Шарко-Мари-Тута
Медицина — это одна из тех областей человеческого знания, где очень много имен. Сколько болезней, сколько симптомов носят имена тех, кто впервые описал их? А что делать, если описания вышли практически одновременно? Поступают так же, как и с кометами — пишут через дефис. О комете Чурюмова-Герасименко слышали? Ну вот. Только иногда случается так, что двух фамилий для справедливости не хватает. Так получилось и с «персонажем» нынешней главы — болезнью Шарко-Мари-Тута, которая изменила не один десяток жизней и даже изображалась на полотнах художников. Во всяком случае на одном точно, как установили на очередной конференции представители своеобразного общества любителей истории медицины.
Для начала давайте поговорим об искусстве.
«Мир Кристины» — одно из самых узнаваемых произведений в американской истории изящных наук. Оно создано в 1948 году художником Эндрю Уайетом. Полотно находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке, и на нем изображена молодая женщина, которая, лежа в поле, смотрит на дом и всей своей позой устремлена к нему. Действие происходит в идиллический летний день.
Однако этот образ, который может показаться непосвященному прекрасным, имеет темную сторону. Главная героиня картины — хороший друг и соседка художника Кристина Олсон (правда, позировала Уайету именно для этого произведения его жена). Уайеты и Олсоны дружили, знаменитый дом Олсонов в городке Кушинг штата Мэн часто появлялся на картинах Уайета, а одной из самых известных его работ стал «Вид из окна дома Олсонов» — потрясающе написанное окно с прозрачной занавеской, колышущейся от ветра, и солнечным видом за окном.
На протяжении большей части своей жизни Кристина страдала от таинственного недуга, который постепенно лишал ее возможности передвигаться. Когда ей было 19, она могла делать все, что угодно: бегать по лугам, скакать на коне, прогуливаться в саду и весело щебетать о чем-то со своими подругами на пляже. Но уже в 26 Кристина могла пройти без посторонней помощи только 3–4 шага.
Ее воля к жизни и желание узнавать мир, не смотря ни на что, поразили Уайета, который в итоге решился написать такой вот ее портрет. Почему на картине изображена не сама Кристина Олсон, а молодая жена Уайета Бетси? Дело в том, что когда создавалось полотно, самой Кристине уже исполнилось 55, а художник хотел изобразить героиню в тот момент, когда неподвижность только обрушилась на нее.
Умерла она в возрасте 74 лет, перед этим став окончательно прикованной к инвалидному креслу. Врачи, однако, так и не смогли поставить ей точный диагноз. Это продолжалось вплоть до нашего времени, а именно до 2016 года, хотя в энциклопедиях можно прочесть, что недугом, лишившим героиню полотна способности ходить, был полиомиелит или рассеянный склероз.
Свое предположение относительно диагноза Кристины высказал детский невролог Марк Паттерсон (кстати, главный редактор «The Child Neurology»), профессор клиники Майо. По его мнению, Кристина с высокой степенью вероятности страдала начальной формой болезни Шарко-Мари-Тута — наследственной нейропатией, поражающей периферическую нервную систему.
«Это был интересный случай. „Мир Кристины“ — моя любимая картина, а вопрос о болезни Кристины — это интригующая медицинская загадка. Я думаю, что ее случай лучше всего соответствует профилю данного заболевания», — говорит Паттерсон.
Доклад невролога «Пациент как искусство» состоялся 6 мая на 23-й Исторической клинико-патологической конференции. Этот любопытный форум основали в 1995 году историки медицины во главе с Филиппом Маковяком из Университета штата Мэриленд. Каждый год на конференции разбирается клинический случай некой исторической личности — от Эхнатона до Ленина, Дарвина и Жанны д’Арк (в последнем случае — не причина смерти, а психиатрический диагноз). Такая вот игра ума медицинских светил.
И вот мы подошли вплотную к самому заболеванию.
Первых официальных описаний недуга, который нынче носит код G60.0 в Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) и дополнительное название «наследственная моторно-сенсорная невропатия», было два.
Практически одновременно в 1886 году появилось две работы. В журнале «La revue de medicine» вышла статья маститого и вездесущего Жана Мартена Шарко, которому на тот момент исполнился 61 год, и который уже заработал всемирную известность своими работами в неврологии и описаниями различных заболеваний и симптомов. Вместе с ним в соавторстве шел его 33-летний ученик Пьер Мари, доктор со всего лишь трехлетним стажем. Впрочем, он уже был «Chef de Clinique et Chef de Laboratoire» у Шарко.
Одновременно напечатали и работу 30-летнего лондонского невролога Говарда Генри Тута, лишь год назад получившего заветную приставку MD к своей фамилии. В этих совершенно независимых трудах было полностью описано новое заболевание, которое до сих пор носит имя всех трех авторов этих работ: болезнь Шарко-Мари-Тута (СМТ).
Именно тогда сформулировали и восемь характерных признаков заболевания:
— мышечная атрофия (попросту говоря — отмирание мышц), начинающаяся с нижних конечностей и медленно прогрессирующая вверх;
— позднее поражение ладоней и предплечий;
— частое поражение нескольких членов семей;
— сохранение мышечной активности ближайших к корпусу частей рук и ног;
— фибриллярные сокращения пораженных мышц туловища, плеч, лица;
— вазомоторные (связанные с возбудимостью стенки сосудов) расстройства в пораженных частях конечностей, клинически нормальная чувствительность;
— частые судороги;
— частый дебют заболевания в детстве.
Разумеется, историки науки, покопавшись в медицинских публикациях XIX века, без проблем находят описания случаев этой болезни до трудов Шарко-Мари и Тута — например, у Рудольфа Вирхофа в 1855 году, но никто из авторов не выделял отдельного заболевания и не описывал его признаки.
Правда, французы разошлись с англичанином по поводу причин заболевания. Шарко и Мари, не делая окончательного вывода, все-таки склонялись к поражению спинного мозга, Тут в свою очередь говорил о патологии периферических нервов. И оказался прав: сейчас для постановки диагноза изучают биопсию периферических нервов.
Жан Мартен Шарко
Однако, описывать заболевание было бы неправильно без подробного упоминания о действительно великом враче Жане Мартене Шарко. Если бы этот человек дожил до начала XX века, то с высокой вероятностью стал бы лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине. Увы, он прожил всего 67 лет, но, фактически, создал неврологию как науку. По крайней мере, очень много неврологических заболеваний описано именно им, многие методы лечения предложил тоже он. Не говоря о том, сколько сделали его известные ученики: Жорж Туретт, Поль Рише, Пьер Жане, Альфред Бине, Пьер Мари, Жозеф Бабинский, Владимир Бехтерев и Зигмунд Фрейд.
Родился он в Париже 29 ноября 1825 года в семье бедных ремесленников-каретников, тогда, когда неврология как отдельная наука еще даже не появилась. Он единственный из трех братьев получил высшее образование, так как оказался в школе самым смышленым, за что его и поддержал отец в получении дальнейшего образования. К сожалению, родители не могли позволить себе обучение всех своих детей. Поэтому выбирали, как говорится, «по способностям».
После окончания лицея в 1844 году Жан-Мартен поступил на медицинский факультет Парижского университета. Шарко отлично рисовал, поэтому, впоследствии, уже будучи врачом, он сам воссоздавал образы своих больных и визуализировал анатомические препараты в качестве демонстраций к своим лекциям и книгам.
Жизнь и блестящая карьера французского невропатолога неразрывно связаны с Парижской больницей Сальпетриер (Hospital de la Salpetriere), куда он пришел в качестве интерна в 1848 году. Слово Сальпетриер переводится с французского как «склад селитры». Это странное название появилось благодаря пороховой фабрике, на месте которой и построили больницу в 1684 году в качестве женского приюта для престарелых и нищих, душевнобольных и проституток, а также как тюрьму для женщин, осужденных за воровство, убийство и супружескую неверность. К середине XIX века больница, к счастью, утратила свои тюремные функции.
Ко времени поступления Шарко на службу в Сальпетриер на попечении больницы находилось пять тысяч больных бездомных женщин всех возрастов: от детей до глубоких старух. Большинство из них неизлечимо болели или имели какие-то врожденные аномалии развития, поэтому больница представляла собой эдакий музей живой патологии. Шарко понимал всю необходимость исследований, а так как денег и лабораторного оборудования не поступало, мастерил нужные приборы сам. Своими же силами он в дальнейшем организовал патологоанатомический музей, кабинеты рисунка, скульптуры и фотографии, огромную медицинскую библиотеку. При нем открыли и первое мужское отделение.
Лишь во второй половине XIX века Шарко, наконец, систематизировал сложнейшую семиотику известных на тот момент неврологических болезней и синдромов; он же предложил новые методы диагностики и лечения, создал ведущую в мире школу в области неврологии и гипнологии.
Рассеянный склероз впервые описали еще в XIV веке, Шарко же создал его дифференциальный диагностический ряд и то же сделал для болезни Паркинсона и бокового амиотрофического склероза (БАС, болезнь Шарко или болезнь Лу Герига, о нем мы тоже расскажем). Он, помимо всего прочего, владел и гистологической техникой, поэтому описал не только особенности клинического течения, но и посмертные анатомические признаки рассеянного склероза в мозге — очаги рассеянных бляшек.
Ученый взрастил под своим началом и немало других прекрасных специалистов своего дела. Например, Жиль де ля Туретт, о котором мы поговорим в одной из следующих глав, в 1885 году опубликовал серию клинических наблюдений множественных моторных тиков в качестве самостоятельных двигательных феноменов, и именно с его легкой руки расстройство получило название «болезнь или синдром Туретта».
Кстати, наверняка многим известен душ Шарко. Это плотная и толстая струя воды, которая направляется медицинским работником и под большим давлением «выстреливает» в тело пациента с расстояния 3–5 метров. Благодаря постоянной смене температуры воды с горячей на холодную, а также мощнейшему массажному действию душ обладает поистине будоражащим эффектом, во много раз ускоряя обмен веществ и необходимые процессы регенерации. И эту целебную струю в качестве одного из методов гидротерапии для лечения неврологических заболеваний, как несложно догадаться, предложил Шарко.
Занимался он и истерией. Вплоть до XIX века ее происхождение так или иначе связывали с женской половой сферой. И только в 1859 году Поль Брике упомянул о том, что «истерия — это общее заболевание, изменяющее функционирование всего организма», а в ее патогенезе большую роль придал нарушениям в сфере поведения. Шарко с ним соглашался и полагал, что истерические проявления (параличи, парезы, слепота и так далее) связаны именно с психической деятельностью. Причем, не только полагал, но и экспериментально доказал свою точку зрения, вызывая паралич или нечувствительность кожи у больных истерией при помощи гипноза. Так же при помощи гипнотического воздействия ему удавалось хорошо излечивать эти состояния. Шарко первый стал диагностировать истерию у мужчин (неслыханная дерзость для психиатрии XIX века!).
Наверное, самого известного ученика Жана-Мартена — Зигмунда Фрейда, который потом пошел по стопам учителя в психиатрии — даже как-то осмеяли в Венском Врачебном обществе, когда тот сообщил об описанных в Париже случаях мужской истерии. Кроме этого, у Шарко учился основатель российской нейронауки — Владимир Бехтерев.
Вильгельм Эрб, Альфред Вульпиан, Жиль де ла Туретт, Жозеф Бабинский, Жюль Бернар Люис, Пьер Мари, Дезир Бурневилль, Эдуард Бриссо, Владимир Бехтерев, Александр Кожевников, Ливерий Даркшевич — список еще можно продолжать и продолжать, и все будут имена, отнюдь неврологии не чуждые.
Болезнь Шарко-Мари-Тута
Но все же вернемся к болезни Шарко-Мари-Тута.
Конечно же, современная неврология знает об этом заболевании гораздо больше. Появились дополнительные важные признаки, которые позволяют уже на клиническом этапе предположить более точный диагноз (вкупе с остальными характерными чертами): например, онемение в стопах, высокий свод стопы (pes cavus).
На самом деле, болезнь Шарко-Мари-Тута — это даже не одно заболевание, а четыре. Есть три разновидности, связанные с поражением миелиновой оболочки нейронов (демиелинизирующие нейропатии, СМТ1, СМТ2 и СМТ4) и СМТЗ, которая представляет собой поражение аксонов (аксональная нейропатия).
Эпидемиологические исследования говорят, что сей недуг в среднем поражает от 36 человек на 100 000 населения. Главное, конечно — это то, что знали уже первооткрыватели: заболевание наследственное. Сейчас выявлены гены, ответственные за тот или иной вариант нейропатии. Около 60–70 процентов заболевания связано с дупликацией большого участка короткого плеча 17-й хромосомы.
Для того, чтобы поставить диагноз, используют и генетическую диагностику, и электромиографию, которая констатирует замедленную проводимость импульса по моторным и сенсорным нервным волокнам, и биопсию периферических нервов.
К сожалению, полного излечения этой генетической болезни сейчас не существует. Врачи прибегают к поддерживающей терапии, лечебной физкультуре (тут важно не переусердствовать), специальным протезам и ортопедической обуви.
Увы, о болезни очень мало знают те, кого она не коснулась. Чуть лучше ситуация стала лишь весной 2016 года, когда Марк Паттерсон поставил свой диагноз, ведь об этом случае написали все мировые СМИ. Зато теперь в копилке медицинских загадок, нашедших свое воплощение в предметах искусства, стало на одну меньше.
Marc С. Patterson (2016): A Patient as an Art. 23-th Historical Clinicopathological Conference.
Charcot JM, Marie P (1886): Sur une forme particulière d’atrophie musculaire progressive souvent familiale débutant par les pieds et les jambes et atteignant plus tard les mains. Rev Med (Paris) 6, 97-138.
Tooth HH (1886): The peroneal type of progressive muscular atrophy. London: HK Lewis & Co, Ltd.
11.0 Синдром Туретта
Часто от людей, «нахватавшихся» по верхам того и сего, можно услышать в отношении человека, выкрикнувшего неприличное слово, предположение о диагнозе: «Да у него синдром Туретта!». Ну и объяснение: дескать синдром этот заключается в том, что человек неконтролируемо изрекает обсценнную лексику. Однако, далеко не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Причем, непростая судьба преследовала как первооткрывателя заболевания и того человека, чьим именем оно названо (да-да, это разные люди), так и сам недуг, что в общем продолжается до сих пор. А там, где много неясностей, тут же появляется и множество домыслов, которые мы постараемся в этой главе развеять.
Смеем разочаровать: ни фига подобного! (практически неконтролируемый выкрик). В первую очередь синдром Туретта — это никак не только лишь одна нецензурная лексика, вырывающаяся изо рта поперек желания. Копролалия (именно так на языке профессионалов называется выкрикивание бранных слов помимо своей воли) встречается лишь у небольшого количества страдающих синдромом (около 10 % всех случаев).
Если человек вдруг ни с того, ни с сего дернет головой и крикнет «Ура!» или «Свободная касса!» — это тоже будет характерным признаком синдрома Туретта. Потому что, помимо копролалии, бывает эхолалия или повторение чужих слов, а также палалия — повторение своего слова несколько раз. Кстати, не зря мы сказали «дернет головой». Главные особенности болезни — это тики: моторный (двигательный) и вокальный (то есть любое вскрикивание, всхлипывание, стон, имитация голоса животных и так далее). Диагноз ставят тогда, когда тики (много моторных и хотя бы один вокальный) наблюдают не меньше года.
Стоит сказать, что ни с уровнем интеллекта, ни с продолжительностью жизни этот синдром не связан. Более того, чаще всего он вообще встречается в юном возрасте и в основном стихает к зрелости. Или не стихает.
Все зависит от индивидуальных особенностей мозга и генетики. Но все-таки «тяжелого» Туретта, который бы начинался у взрослых мужчин и женщин, не встретишь.
Точной причины синдрома неврологи пока что не знают. Известно, что в большинстве случаев причина — генетическая. Впрочем, считается, что влиять на заболевание может стрептококковая инфекция, наложившаяся на генетические особенности и аутоиммунный фактор. Существует даже гипотеза, активно обсуждающаяся в литературе, которая описывает болезнь как детские аутоиммунные нервно-психические расстройства, ассоциированные со стрептококковой инфекцией (PANDAS).
Помимо этого, синдром Туретта проявляется после энцефалитов, что говорит о конкретной причине, заключающейся в органическом поражении структур мозга. Сейчас даже известно, каких — таламуса, базальных ганглиев и мозжечка.
А теперь об истории
Название этому заболеванию дал… ну а кто еще, как не Жан-Мартен Шарко, кажется, описавший и давший название чуть ли не половине неврологических синдромов и заболеваний. Впрочем, тут он поделился славой со своим учеником, Жоржем Альбером Эдуаром Брутом Жилем де ла Туреттом, который в 1885 году описал 9 случаев maladie des tics (то бишь, болезнь тиков), 6 из которых пронаблюдал сам, а 3 нашел в литературе. Его 160-летнюю годовщину мир отметил 30 октября 2017 года.
Если же говорить о вообще первом описании синдрома, то можно докопаться и до 1489 года, где в «Молоте ведьм» (Witch’s hammer) описывается одержимый священник с очень похожими симптомами. Жаль, но до современной психиатрии этот бедняга не дожил. Да и «лечение» в те времена, кажется, было с очень серьезными побочными эффектами в виде утопления или ожогов четвертой степени, приводивших к летальному исходу.
Но, честно говоря, если болезнь Паркинсона Шарко назвал в честь Паркинсона вполне обоснованно, то вот синдром Туретта описал первым никак не Туретт.
Первопроходцем тут стал Жан Марк Гаспар Итар, основатель детской психиатрии, придумавший устройство для определения остроты слуха — акуметр. Именно он в 1825 году в статье «Mémoire sur quelques fonctions involontaires des appareils de la locomotion, de la préhension et de la voix» («Научное исследование некоторых непроизвольных функций системы органов, связанной с движением, хватанием и голосом») описал первые 10 случаев того, что Шарко назовет синдромом Туретта.
Как-то раз в 1825 году на прием к уже достаточно широко известному на тот момент психиатру, главному врачу L’Institution Royale des sourds-muets Жану Итару пришла девушка из очень приличной семьи, ведущей свой род вплоть от начала первого тысячелетия. Речь идет о доме де Дампьер, а пациенткой стала 26-летняя маркиза де Дампьер, так и оставшаяся на страницах истории без личного имени.
Девушку беспокоил, по ее словам, время от времени пробегающий по телу будто электрический ток, сопровождающийся непроизвольными подергиваниями мышц, особенно мышц лица. Но больше всего как ее, так и ее родных, весьма интеллигентных людей из высшего общества, смущала вырывающаяся из нежных уст отборная брань в самое неподходящее время на светских приемах. При этом в ее обычном окружении «непристойное» поведение не отмечалось.
Состояние пациентки с течением времени особо не менялось, она пережила несколько поколений врачей и дожила до 80 лет, когда ее осмотрел сам Шарко и даже показывал на своих лекциях в качестве примера психотического расстройства. Ее описание Итаром, а затем самим Шарко как и раз стало первым кирпичиком в работе юного врача-ординатора Жиля де ла Туретта, который по рекомендации своего учителя в 80-е годы XIX века активно занимался систематизацией гиперкинезов или, как выражался Шарко, «наведением порядка в хаосе хорей».
Вторым кирпичом стала попавшаяся ему на глаза опубликованная в 1878 году статья американского врача Джорджа Миллера Бирда, известного неврологии в качестве «отца» термина «неврастения», в которой говорилось о любопытном случае «прыгающего француза из штата Мэн» («Jumping Frenchmen of Maine»).
Это таинственное заболевание впервые идентифицировали во второй половине XIX века в очень обособленной популяции канадских лесорубов французского происхождения. Согласно упоминаниям канадского невролога Ревбена Рабиновича (нет, не родственник того самого Рабиновича, хотя, возможно, корни общие), довольно много «прыгающих» людей проживало в провинции Квебек. Их особенность состояла в том, что они чересчур активно реагировали на любое эмоциональное событие (испуг, страх, волнение, возбуждение), и это проявлялось в подпрыгиваниях, сильной жестикуляции, кривляниях и выкрикивании разных слов. Постоянно прослеживалась и генетическая зависимость: заболевание было характерно для семей, живущих обособленно, и при наличии у дедов практически всегда проявлялось у отцов и их детей, преимущественно мальчиков.
На череду разрозненных упоминаний о популяциях с подобным расстройством, происходивших из Канады, Сибири, Малайзии, Индии и других уголков мира обратил внимание Бирд, после чего появилась его статья с наиболее подробной характеристикой проживающих на севере штата Мэн у озера Г олова Лося (Moosehead) франко-канадских лесорубов. Своеобразие синдрома прыгающего француза включало в себя и тот факт, что люди, по словам автора, были сильно внушаемы и «не могли не повторять слова или звуки, исходящие от человека, который „приказывал“, также, как не могли не бросать, бить что-то, падать, прыгать» или даже совершать насильственные действия по отношению к находящемуся рядом человеку (например, колоть его иголкой).
Вдохновившись «прыгающими французами из штата Мэн», Туретт, почти не глядя и не обращая внимания на явную разницу в триггерных (запускающих) факторах занес их в свою типологию. А разница была, и заключалась она в том, что в основном описываемые им вокальные и моторные тики, которые он наблюдал у пациентов в госпитале Сальпетриер — кузнице многих неврологических кадров — возникали на ровном месте, тогда как для начала «французских прыжков» требовался эмоциональный всплеск.
Кстати, в России первым о тикоподобных расстройствах написал в 1890 году Владимир Бехтерев в статье «О редких формах лицевого тика». И неудивительно, ведь чьим учеником он был? Правильно, Шарко.
Собственно говоря, человек, давший имя болезни, сам прожил короткую и несчастливую жизнь. Болезнь тиков он описывал «походя», без особого энтузиазма в не вдаваясь в скрупулезные подробности, статью опубликовал в возрасте всего 28 лет. То ли потому, что он был слишком молод, то ли из-за недостаточно глубокого анализа (или пофигизма?), но его типология тиков была очень сырой и подвергалась впоследствии немалой критике со стороны профессионального сообщества. Стоит отдать ему должное, он упоминал возможную генетическую причину развития заболевания, но долгое время после этого все равно главенствовала теория психотического характера расстройства как проявление вытесненных в подсознание глубинных психологических конфликтов (привет, дядюшка Фрейд!).
Интересно, что окружение Шарко его тоже, мягко говоря, недолюбливало. Коллеги обвиняли Туретта в отсутствии дисциплины, в импульсивности, невнимательности и даже гипомании. Одним из его наиболее враждебных критиков был Лион Додет, личный друг Шарко, который описывал Жиля де ла Туретта как «уродливого, как папуасский идол, с пучками волос, торчащих на голове».
Додет писал, что он «не был ни хорошим, ни плохим, ни старательным, ни ленивым, ни умным, ни глупым и колебался своим смущенным и злым умом между множеством недостатков, не задерживаясь. У него был хриплый и измученный голос, резкие жесты и странная походка. Он пошел за эксцентриком (речь идет о Шарко), взяв в руки интересную тему, но оставил это дело ради другого, приводя в замешательство его учителей странной манерой делать все только хуже…». Жиль де ла Турет, однако, называл себя «уродливым, как вошь, но умным».
Основной темой его изучения стал гипноз. Однако он же в итоге его и погубил. Туретт занимался людьми с расстройствами психики, пытаясь своим методом «лечения» подействовать на ход болезни. Одна из его неуравновешенных пациенток решила, что Туретт загипнотизировал ее против воли, и выстрелила в него из пистолета.
Он выжил и даже потом читал лекции, но его состояние стало сильно напоминать клиническую депрессию. Добавьте к этому смерть учителя (Шарко) и смерть младшего сына… Да, дело было плохо. Туретт еще успел прославиться статьей об истерии в германской армии, разозлив фон Бисмарка, и закончить свои дни в возрасте 46 лет в сумасшедшем доме — госпитале для душевнобольных в Лозанне.
При всей своей кажущейся безысходности, синдром Туретта — отнюдь не приговор. Исследователи Джеймс Лекман и Дональд Коэн полагают, что люди с генетическими предпосылками заболевания имеют скрытые преимущества, обладая более выраженной осторожностью, повышенным вниманием к деталям, окружению, лучше адаптируются. По многим свидетельствам, дети с «чистым Туреттом», без других патологий, как правило, очень одаренные, и это подтверждается нейропсихологическими исследованиями. А уж сколько ярких личностей с синдромом знает история!
Чего только стоит один английский литературовед Семюэл Джонсон, составивший в 1747 году полный Словарь английского языка. При этом он был выдающимся писателем, которого уважали Джонатан Свифт и другие представители английского литературного сообщества тех лет. Симптомы, описанные его биографом, лордом Джеймсом Босуелом, весьма прямо намекают на диагноз: например, частые «судорожные начала и единичные жестикуляции, которые, как правило, вызывали удивление и насмешки» или «немощь судорожного характера, которая иногда нападала на него, чтобы сделать из него печальное зрелище». О подобных проявлениях рассказывает и доктор Джок Мюррей, перу которого принадлежит множество работ, посвященных истории медицины.
Еще один ярчайшие представитель Ассоциации по изучению синдрома Туретта — футболист Тим Говард, описанный «Chicago Tribune» как «редчайший из существ — герой американского футбола». А всему «виной» — способность к гиперфокусировке, которой наделали его болезнь. Да что там, даже Моцарту приписывают Туретта, хотя эта гипотеза сильно спекулятивна.
Помимо всего, по счастью, сейчас синдром Туретта лечится. Конечно, симптоматически, но почти всегда этого хватает. А очень часто медицина и вовсе обходится без лекарств, потому что в четверти случаев симптомы, ярко проявляющиеся в детском возрасте, после подросткового периода уходят совсем, а около половины пациентов остаются с очень легкой и почти не мешающей жить формой болезни. Эквивалентные же по силе детским или более выраженные тики остаются лишь у 5 % взрослых.
В тяжелых случаях приходится прибегать к сильнодействующим средствам. То есть тогда, когда тики уже мешают жизнедеятельности. Но не подумайте, мы не про костер, мы — про галоперидол и похожие вещества (рисперидон, пимозид и далее по списку). Кстати, именно галоперидол окончательно убедил исследователей в том, что расстройство это органической природы, а врачом, впервые применившим этот вид лечения в 1965 году, стал Артур Шапиро — отец исследования современных тиковых расстройств, «посмевший» доказательно «расстрелять» психоаналитический взгляд на проблему.
Совсем «модерновое» веяние в терапии синдрома сейчас — это глубокая стимуляция мозга. В апреле 2017 года нейрохирурги из двух медицинских центров в США (отделение нейрохирургии Медицинского центра Тафтс в Бостоне и отделение нейрохирургии в Медицинском центре Лэнгона при Университете Нью-Йорка) в статье в «Journal of Neurosurgery» отчитались о семи годах экспериментального лечения, за время которого их руки прошли 15 человек.
Оказалось, что уже в первый постоперационный визит тяжесть симптомов у пациентов снизилась на 37 %, а за период наблюдений — более, чем на 50 %. Лучшим местом для стимуляции, по словам авторов, стало ядро, которое носит латинское название nucleus ventralis posterior lateralis pars orali или VPLo — группа нейронов таламуса, участвующая в моторных функциях, а также соседствующие друг с другом центромедианное и парафасцикулярное ядра (centromedian-parafascicular nuclei).
Leckman JF, Cohen DJ. Tourette’s Syndrome— Tics, Obsessions, Compulsions: Developmental Psychopathology and Clinical Care. John Wiley & Sons, Inc., New York. 1999:18–19, 148–151; 408. ISBN 0-471-16037-7.
Medical History, Dr. Samuel Johnson’s movement disorder by TJ Murray, British Medical Journal, 1979, 1, 1610–1614.
12.0 Болезнь легионеров
Считается, что бум микробиологии пришелся на конец XIX — начало XX веков. Сколько тогда открыли возбудителей, какие титаны трудились в то время! Беринг, Кох, Леффлер, Йерсен, Росс, Лаверан, Шагас… Что осталось на долю инфекционистов второй половины XX века? Только вирусы и методы борьбы с инфекциями… Казалось, какая-то принципиально новая бактерия, к тому же, способная вызывать эпидемию, уже невозможна. Но тут…
…В июле 1976 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, собралось более 2000 ветеранов Американского Легиона. Этот сорок шестой съезд общества был максимально торжественным — ведь он проходил в год 200-летия Декларации Независимости США, подписанной тут же, в Филадельфии. Поэтому съезд проходил в пафосном отеле Бельвю-Стратфорд на углу Брод-стрит и Уолнат-стрит в самом центре города. Мероприятие открылось 21 июля и прошло с большой помпой. После его завершения 61-летний отставной капитан ВВС Рэй Бреннан, вернувшись в свой дом 24 июля, почувствовал себя уставшим. Через три дня, 27 июля, ветеран умер от явного сердечного приступа. 30 июля от такого же «явного» сердечного приступа скончался Фрэнк Авени, 60 лет. Как и еще трое легионеров. В течение 24 часов скончалось еще шестеро — самого разного возраста, от 39 до 82. У всех отмечались одни и те же симптомы — усталость, боль в груди, легочная недостаточность и жар.
К счастью, трое из этих умерших были пациентами одного врача, Эрнест Кембелл, который и забил тревогу. Он обратился в Департамент здравоохранения Пенсильвании. Постепенно стало доходить и до руководителей Американского Легиона, что уж слишком много его членов совершенно неожиданно покинуло этот мир сразу после съезда. Сложив два и два, в США поняли, что участники юбилейного мероприятия стали жертвой неизвестной инфекции. Заболело 182 человека — почти 10 процентов от всех участников, 16 процентов от заболевших — 29 ветеранов — отбыло в мир иной.
Центр по контролю заболеваний (CDC) предпринял невиданные меры по поиску причин загадочной болезни. К сентябрю стало понятно, что искать надо в отеле.
Ученые искали в организме заболевших следы 17 токсичных металлов, которыми их могли отравить, но ни один из них не нашли. Вскоре пришлось отвергнуть и версию с гриппом. Долгое время главным «подозреваемым» был карбонил никеля, но оказалось, что образцы ткани были просто загрязнены этим металлом из-за медицинских инструментов. Врачам пришлось перейти на пластик.
К концу года поиски так и не увенчались успехом, а местные власти уже хотели признать поражение, серьезно пошатнув веру граждан в американскую медицину. Был близок к тому, чтобы сдаться, и Джозеф Мак-Дейд, микробиолог из Центра лечебно-профилактической помощи. На рождественской вечеринке в конце 1976 года коллеги практически заставили его признать себя проигравшим битву с загадочной болезнью. Но в конце года он любил подводить итоги и решил проверить свои последние подозрения.
Результатом этого стало то, что 18 января 1977 года Джозеф Мак-Дейд и Чарльз Шепард все-таки выявили новую грамотрицательную палочку. Микроб получил название легионелла — в честь печально известного съезда. Сейчас к роду легионелл уже относят десятки видов (на 2015-й было известно 58), среди которых и сама Legionella pneumophila — возбудитель заболевания. Оказалось, что эта бактерия «свила себе гнездо» в системе кондиционирования отеля, откуда распространялась по всему зданию. Именно случай в Филадельфии, помимо всего прочего, привел еще и к ужесточению санитарных требований к кондиционерам.
Дальнейшие разыскания показали, что атака на американских ветеранов — это не первое злодеяние легионеллы. Именно она была ответственна за вспышки смертей от «пневмоний» в 1974, 1957, 1959 годах и самом известном случае внезапных смертей в Вашингтонской больнице. Более того, оказалось, что в 1968 году в Мичигане, в городе Понтиак тоже случилась вспышка заболевания, которая кардинально отличалась от болезни легионеров (так назвали новое смертельное заболевание): то же самое, но без пневмонии и без летальных исходов. Но за «понтиакскую лихорадку» тоже отвечает легионелла! Позже выделили еще одну разновидность болезни — лихорадку форта Брагг. Здесь нет пневмонии, но есть сыпь на коже. Эта лихорадка тоже более приятный вариант, чем болезнь легионеров.
Интересно, что первая встреча ученых с бактерией случилась еще раньше всех описанных случаев. В 1947 году ученый по фамилии Джексон выделил из морской свинки некоего «похожего на риккетсии» возбудителя. Риккетсии — это внутриклеточные паразиты (как потом выяснилось, и легионеллы — тоже). Ровно тридцать лет и три года спустя первооткрыватель легионеллы, Джозеф Мак-Дейд показал при помощи ДНК-анализа, что это был возбудитель болезни легионеров.
Патогенез и жизненный цикл бактерии известен мало. Мы знаем, что они обычно живут в амебах — в кондиционер филадельфийского отеля бактерии попали именно с амебами — знаем, что в наш организм они попадают через слизистую респираторного тракта. Но что происходит дальше — мало понятно. В экспериментах в «пробирке» удалось наблюдать, как легионелла размножается в макрофагах — клетках иммунной системы, открытых в 1884 году нашим соотечественником, нобелевским лауреатом Ильей Мечниковым. Вообще-то, макрофаги в нашей крови должны захватывать и переваривать бактерии. Но вот с легионеллами макрофаг, похоже, не справляется. Кстати, то, что легионелла живет в симбиозе с амебами, сильно мешает их уничтожать: амебы часто становятся частью биопленок, которые трудно разрушаются. По-хорошему, единственный способ гарантированно уничтожить легионеллы в воде — это нагрев до 70–80 градусов Цельсия. При такой температуре бактерия погибает мгновенно. При температуре ниже 20 градусов бактерия прекращает размножение.
Тем не менее, болезнь встречается и сейчас, причем в США, стране кондиционеров, количество случаев увеличивается: если в 2000 году в стране регистрировалось 3,9 случая на миллион жителей, то в 2009 уже 11,5. Рост на 192 %! При этом наблюдаются сезонные вариации: большая часть случаев (62 %) случается летом и ранней осенью. Угадайте, почему? Правильно: для США «лето» равно «кондиционеры». Ну и мы помним, что происходит с бактерией если становится слегка прохладно. В Европе на 2011 год зарегистрировано 4897 случаев. Болезнь поражает разных людей с разной силой. Среди факторов риска отмечены пожилой возраст (старше 50 лет), хронические легочные инфекции, курение, терапия глюкокортикоидами. Особенно опасна болезнь для тех, кто перенес трансплантацию органов.
По счастью, для нашей страны легионеллез — редкий гость. Обычно случается всего несколько десятков случаев за год, правда в июле (опять роковой июль!) 2007 года вспышка случилась в Верхней Пышме. Тогда заболело 160 человек, умерло пятеро.
И опять же к счастью, легионелла — бактерия, которая пока еще чувствительна к антибиотикам. Правда, не ко всем: ей чихать на пенициллин и цефалоспорин, а терациклины могут только ослабить ее. Зато эритромицин, левомицетин и ампициллин вполне способны ее побороть.
13.0 Синдром Стендаля
Было ли хоть раз такое, что во время посещения музея, галереи или парка вы видели настолько совершенное творение человеческой мысли, что останавливались в потрясении, как вкопанный, и не могли сделать ни шага, ни вдоха, а ваше сердце паковало чемоданы в стремлении вырваться из груди? Либо это что-то претендовало на ваш чистый рассудок и, не спрашивая, брало в мучительно сладостный плен ваше сознание? Не было? Поздравляем, вы не слишком «образованный» человек. Нет-нет, никаких оскорблений! Наоборот, это даже хорошо, ибо вы не подвержены так называемому недугу «образованного человека» или «синдрому путешественника». Ведь попасть в рабство собственного ума на любое количество времени — не такая уж блестящая перспектива, согласитесь. И наверняка вы уже догадались, о чем пойдет речь в этой главе.
Конечно, о нем — о синдроме Стендаля, наверное, одном из самых таинственных психологических проявлений любви к искусству. Однако, говорить о синдроме с точки зрения именно патологического состояния или расстройства было бы неправильно. Скорее это — индивидуальная физиологическая реакция, обусловленная специфическим количеством и расположением нейронных связей в головном мозге, состоянием нейромедиаторных систем и прочими тонкостями из мира нейрофизиологии. И все же мимо этого «недуга» мы пройти не смогли.
Уже более 500 лет статуя Давида, одержавшего победу над Голиафом, «взирает» с высоты 5 метров на путешественников со всего мира. Сейчас 6 тонн белого мрамора, вышедшие из-под искусных рук Микеланджело, хранятся в Академии изящных искусств во Флоренции, которую можно считать эпидемическим очагом расстройств, охватывающих психику восторженного и впечатлительного туриста.
Он любуется в течение какого-то времени на шедевр, изумляясь все больше его великолепию и совершенству, а потом внезапно осознает, что его сердце бешено колотится в груди, мышцы охватывает паретическая слабость, сознание мутнеет из-за головокружения, и все заканчивается тем, что он в обмороке падает на пол перед другими обескураженными зеваками. Такая реакция может растревожить простых людей, но только не персонал музейных комплексов Флоренции, который не просто привык к подобного рода картинам, но даже обучен тому, что нужно предпринимать в таких ситуациях.
Собственно, это самый банальный, распространенный и безобидный случай синдрома Стендаля. С 80-х годов прошлого столетия многим людям, пострадавшим от психического перевозбуждения, связанного с культурным наследием Флоренции, помощь оказывает служба психиатрической больницы Санта-Мария Нуова.
Принимать таких пациентов старалась психотерапевт Грациэлла Магерини, которая впоследствии стала заведующей отделения психического здоровья больницы и возглавила ассоциацию «Искусство и психология». Она собирала и изучала различные свидетельства синдрома, проводила исследования, касающиеся его этиологии, и в 1989 году опубликовала многостраничный труд, впервые в истории полностью описав расстройство и дав ему специальное название.
Но корни его растут из глубины веков, и упоминания о некоторых симптомах находили в личных дневниках людей, живших еще 200 и 300 лет назад. По-настоящему же прославил его Мари-Анри Бейль, французский писатель, беллетрист и один из тех, кто дал начало психологическому роману (вспомним «Красное и черное», «Пармскую обитель»). Знают его, однако, больше по псевдониму «Стендаль», который он взял, основываясь на названии родного города (Штендаль) своего кумира Иоганна Винкельмана — основателя современных взглядов на античное искусство. Именно под ним писатель опубликовал наиболее важные произведения, включая знаменитое описание путешествия «Рим, Неаполь и Флоренция», опубликованное в 1817 (1818) году.
Кстати, занятный факт: Мари-Анри Бейль написал множество путевых очерков и путеводителей по разным городам Италии, издал «Записки туриста» и стал тем человеком, который ввел слово «туризм» в широкий обиход.
Интересно, что писатель, несмотря на свои литературные пристрастия и желание стать «новым Мольером», долго был военным. Будучи на службе у Наполеона, пороха он так и не «понюхал», но зато принимал участие в русской кампании: побывал в Вязьме, Смоленске, Орше, был свидетелем Бородинского сражения и даже наблюдал, как горела Москва.
К Италии у него имелось особое подобострастное отношение, которое родилось еще в период его юношества и военной деятельности на севере страны. И как раз с Италией связаны его первые книги. После краха наполеоновского строя он на 7 лет поселился в Милане и с невероятным удовольствием погрузился в культуру эпохи Возрождения. Известность «Рима, Неаполя и Флоренции» связана с ярким и необычайно красочным описанием того, что творилось с автором тогда, когда он посещал объекты искусства.
«Я видел шедевры искусства, порожденные энергией страсти, после чего все стало бессмысленным, маленьким, ограниченным, так, когда ветер страстей перестает надувать паруса, которые толкают вперед человеческую душу, тогда она становится лишенной страстей, а значит, пороков и добродетелей… Волнение мое было так велико, что граничило с благоговением. Религиозный сумрак этой церкви, ее простая деревянная крыша, ее незаконченный фасад — все это так много говорит в моей душе. Ах, если бы я мог забыть!..», — писал он в своем дневнике после посещения оформленной работами Джорджо Вазари, Донателло, Джотто церкви Святого Креста (Santa Croce) во Флоренции, где похоронена дюжина великих итальянцев от Галилея и Микеланджело до Россини и Маркони.
«…Я был уже охвачен некой восторженностью при мысли, что нахожусь во Флоренции, в соседстве с великими людьми, чьи гробницы только что увидел. Поглощенный созерцанием возвышенной красоты, я лицезрел ее вблизи, я, можно сказать, осязал ее. Я достиг той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством небесные ощущения сливаются со страстным чувством. Выйдя из Санта-Кроче, я испытывал сердцебиение, жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть». Очень похоже на описанные симптомы туриста рядом с величественной скульптурой Давида, не так ли?
Грациэлла Магерини изучала подобные истории поступавших к ней пациентов больше 20 лет вплоть до 2000-х, и первое десятилетие воплотилось в сотне описаний случаев, которые она привела в книге «Sindrome di Stendhal». Проанализировав все ситуации, симптомы и виды поведения, она сопоставила их с литературными описаниями Бейля и впервые употребила его псевдоним в наименовании «флорентийского синдрома». Здесь же она попыталась дать объяснения феномену.
Туризм — это фактически основной экономический ресурс Флоренции, ведь в среднем его посещают более 10 миллионов человек в год, в том числе около 1 миллиона проходят сквозь галерею Академии изящных искусств и галерею Уффицо. Соотношение числа нестабильных случаев к числу туристов по оценкам сеньоры Магерини было не таким уж большим, но тем не менее могло показать связь между поведенческим кризисом и культурным контекстом его возникновения.
Помимо этого, в городе впечатляющее количество музеев (около пятидесяти) и богатейшие коллекции произведений искусства, которыми буквально «кишит» каждый угол. Основной режим посещения организован вокруг музеев и лавок/рынков/киосков с сувенирами, чтобы люди, путешествующие с туроператорами, могли увидеть максимум в весьма ограниченные по времени сроки. Эти скитания в бешеном темпе, в прямом смысле слова «галопом по европам», представляют реальную опасность, ибо психическая усталость играет важное значение в состоянии здоровья многих туристов. И этот фактор, несомненно, определяющий. «Нужно принимать во внимание время задержки, необходимое для интеграции, реструктуризации, адаптации», — отмечает доктор Магерини.
В ее «копилке» встречались совершенно разные деформации поведения. Она рассказывала и про молодую немецкую туристку, которая лишилась сознания на ступенях одной из Базилик, и про юного американского знатока искусства, который, увидев Давида, на некотором время лишился памяти. Есть случаи и менее «невинные», когда людей накрывала настолько сильная эйфория, что она переходила в гнев, и тогда человека очень трудно было остановить от разрушений.
Это психиатр объясняет так: «В нашем мозге сильные бесконтрольные эмоции превращаются в символы. Символы формируют блоки мыслей, с помощью которых начинается процесс мышления. Это можно объяснить на примере ребенка, который только учится превращать эмоции в связную речь. Когда трансформации эмоции в мысль не происходит, возникают психологические проблемы».
Именно из этих соображений в ее рекомендациях есть пункт, согласно которому по музеям лучше ходить в компании кого-то, с кем можно поделиться своими ощущениями и не давать им разрушать себя изнутри.
Напомним, что симптомов множество: тревога, головокружение, чувство нехватки воздуха, тахикардия, потеря себя и ориентации в пространстве, сильные боли в груди, обморок, амнезия. Симптомы вполне могут походить на стенокардию. В более острых ситуациях возникает чрезвычайное психическое возбуждение, напоминающее психоз, могут приходить галлюцинации, но при таком раскладе поможет уже лишь палата дневного стационара психиатрической лечебницы с «отрезвляющими» инъекциями нейролептиков.
Упоминание о том, как с ним разговаривали культурные объекты, принадлежит Гоголю, также крайне неравнодушному к Италии: «Был у Колисея, и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, что во мне рождались такие прекрасные чувства. Стало быть, он со мною говорил. Потом я отправился к Петру [собор Св. Петра] и ко всем другим, и мне казалось, они все сделались на этот раз гораздо более со мною разговорчивы. В первый раз нашего знакомства они, казалось, были более молчаливы и считали меня за форестьера…».
Все симптомы, как правило, бесследно проходят в течение нескольких часов или дней. Кстати, они характерны отнюдь не только для Флоренции, но и других крупных городов, богатых произведениями искусства, а также красивейших природных мест и ошеломляющих по своей силе и звучанию музыкальных композиций, концертов.
Доктор даже составила усредненный портрет своих подопечных: не состоящие в браке, впечатлительные, относительно молодые люди (преобладающий возраст — 25–40 лет), преимущественно женщины, чаще иностранцы из Восточной Европы, которые путешествуют в одиночку. Эту картину предваряет хорошая образованность, осведомленность о ценности виденного и долгое, вожделенное ожидание поездки.
Интересное наблюдение: культурная «прививка» от синдрома есть у всех итальянцев, так как они живут в этих условиях с рождения, а также у представителей Азии и Северной Америки.
Что же говорит о синдроме Стендаля современная наука и медицина?
Ранее в психиатрических кругах распространялось мнение, что это психосоматическое расстройство. Однако, находились и мнения «против», ибо нарушения со стороны внутренних органов, которые обычно присущи такому заболеванию, в патогенезе синдрома особой роли не играют. Панические атаки — тоже весьма спорное утверждение, так как у них, как правило, нет запускающего фактора (возникают на ровном месте), а после остаются последствия в виде фобий, неврозов и прочих «прелестей» современного городского жителя.
Наиболее близок к феномену реактивный или психогенный психоз, то есть острая реакция на стресс (а что вы думали, стрессы могут возникать только от неприятностей?). Согласно МКБ-10 (Международная классификация болезней 10-го пересмотра — прим. авт.), она развивается у лиц без видимой психической патологии в ответ на исключительный физический и психологический стресс и обычно проходит в течение часов или дней. И при ней как раз имеют место нарушения поведения, бред, галлюцинации и всяческие двигательно-вегетативные реакции. Об этом же говорит опубликованный в 2014 году обзор.
Нейрофизиологи же видят в подобных реакциях усиленные связи между зонами мозга, отвечающими за переработку сигналов от органов чувств (зрение, слух, обоняние) и эмоции.
Поэтому, возвращаясь к началу главы: не спешите радоваться, если вы не проверяли себя во Флоренции. И будьте готовы ко всему, а то мало ли что…
Innocenti С, Fioravanti G, Spiti R, Faravelli C. The Stendhal syndrome between psychoanalysis and neuroscience. Riv Psichiatr. 2014 Mar-Apr;49(2):61-6. doi: 10.1708/1461.16139.
Arias M. Neurology of ecstatic religious and similar experiences: Ecstatic, orgasmic, and musicogenic seizures. Stendhal syndrome and autoscopicphenomena. Neurologia. 2016 Jun 20. pii: S0213-4853(16)30069-X. doi: 10.1016/j. nrl.2016.04.010.
14.0 Синдром Жильбера
«Я вернулся домой… Ядовитая злость мало-помалу заполняла мою душу… Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец». Узнаете цитату? Ну как же? Знаменитый автор строк «…без дураков было бы на свете очень скучно!», «…мирный круг честных контрабандистов…» и прочих шедевров. Конечно, мы говорим о Григории Печорине, которого создал литературный гений Михаила Лермонтова. Не просто так мы здесь приводим его слова, так как Печорин — один из самых известных литературных персонажей, наделенных предметом этой главы — странной и в общем-то доброкачественной наследственной болезнью, без которой он, возможно, не был бы «тем самым» Печориным, со своей импульсивностью, эмоциональной лабильностью, склонностью к депрессии и самоедству. Да-да, корень этого кроется в приходящей желтизне, название которой появилось лишь в 1901 году.
На самом деле ни господин Печорин, ни Наполеон I, которого на заре XX века описали в качестве первого исторического примера простой семейной холемии (если прямо переводить с греческого, то звучит как «желчь в крови»), о своих «особенностях» даже не подозревали. Если считать годами «бурной жизни» Григория 1838-1840-е, так как именно в этот отрезок времени был написан «Герой нашего времени», и учесть факт, что великий французский полководец умер в 1873 году, то становится понятно, почему.
Кстати, часто можно встретить мнение о том, что желтуха была у самого Михаила Юрьевича, иначе почему он так красочно смог описать все симптомы, присущие Печорину. Но подтвердить это мнение фактами не удалось, и домыслы остались простыми домыслами.
Первые попытки объяснить странную интермиттирующую (перемежающуюся) желтуху, зуд, озноб и небольшие диспепсические явления (расстройства пищеварения), которые не были связаны со значительным увеличением и уплотнением печени, что бы наводило на мысли о поражении печеночной структуры и даже, возможно, циррозе, имелись и задолго до 1900-х годов. Но тут есть одна загвоздка: все это имелось с детства и в большинстве случаев носило семейный характер.
Впервые классификацию врожденного синдрома гипербилирубинемии (снова сложное слово, в котором читается греческое αίμα — кровь. Гипербилирубинемия — это повышенное («гипер») содержание пигмента билирубина в крови), состоящую из трех разных нозологий, привел коллектив французских авторов под руководством Николя Августина Жильбера. Но еще до этого он вместе со своими коллегами, Пьером Леребулле и Жозефом Кастаньи, опубликовал небольшую заметку о билиарном диатезе в бюллетене Общества врачей больниц Парижа, после чего Жильбер и Леребулле уже более подробно рассказали о простой семейной холемии в журнале «Медицинская неделя» («Semaine medicale»). Именно этот труд дал начало синдрому Жильбера.
Чтобы наши читатели чуть глубже понимали, о чем идет речь, для начала немного расскажем о том, что такое билирубин, откуда он берется и почему его вдруг становится много.
Дело в том, что красные клетки крови, которые переносят кислород — эритроциты — не живут долго. Их «трудоспособный возраст» ограничен лишь 3–4 месяцами (около 120 суток), после чего они отправляются на свое «кладбище», которое больше напоминает биоорганический перерабатывающий завод — в селезенку. Там высвобождается переносчик кислорода гемоглобин, который распадается и превращается в желчный пигмент билирубин. На самом деле в организме есть и несколько второстепенных источников билирубина, но для нас важен именно этот.
Теперь этот продукт переработки нужно вывести, так как он достаточно токсичный, а сделать это может только печень. С током крови пигмент, присоединившийся к транспортному белку альбумину (так как сам по себе он нерастворим в воде), попадает в печеночные клетки. Там к нему добавляются два «рога» из глюкуроновой кислоты, и если до этого он носил статус «свободного» и опасного, особенно для нервной системы, то теперь официально стал «связанным» или конъюгированным и относительно безобидным.
Теперь дело за малым — отправить конъюгированный билирубин в резервацию желчного пузыря, а потом в «свадебное путешествие» по кишечнику, за время которого часть его под натиском бактерий превратится в иные метаболиты типа уробилиногена. Частично он выведется и почками.
Чем процесс многоэтапнее, тем большее число звеньев теоретически может сломаться. Отсюда берется и все многообразие желтух (когда билирубина слишком много, он проникает в кровь и окрашивает кожные покровы вместе со склерами глаз), и целый спектр патологий, при которых нужно проводить их дифференциальную диагностику. В случае синдрома Жильбера речь идет о генетической «поломке», из-за которой возникает нехватка фермента, связывающего билирубин с глюкороновой кислотой.
Но об этом мы поговорим позже, а пока коснемся личности французского врача-гастроэнтеролога, которому богатый опыт и смекалка позволили объединить разрозненные признаки в единую концепцию и увековечить себя в истории.
Николя Августин Жильбер родился в небольшой коммуне Бюзанси региона Арденны на северо-востоке Франции в 1958 году. Его семья из поколения в поколение занималась фермерским хозяйством, и, по-видимому, его отцу так это надоело, что за 15 лет до рождения своего сына он покинул родные места и стал кожевником, посещая семью лишь наездами.
У Николя Августин было счастливое детство и он оказался на редкость смышленым молодым человеком. Он блестяще отучился в начальной и средней школе, получив за период учебы множество призов и наград за успеваемость. Понятное дело, что ни о каком фермерстве с такими задатками речи даже не шло. Поступив на медицинский факультет Парижского университета, он окончил его в 1880 году, находясь в общем рейтинге студентов его года на втором месте.
Сразу после этого он стал интерном в старейшем госпитале Парижа — Hotel-Dieu de Paris, который отсчитывает свой возраст, начиная с 651 года, когда его основал парижский епископ святой Ландри (Landericus). Юному Жильберу посчастливилось побывать в учениках Шарля Жозефа Бушара — врача-патолога (и, на секундочку, ученика Жана Шарко), в честь которого названы костные образования межфаланговых суставов рук при остеоартрите — узелки Бушара.
Его учителями были и судебный медик Поль Бруардель, который какое-то время проработал с бактериологом Эмилем Ру (вспомните главу о дифтерии), и гематолог Жорж Гайем, впервые посчитавший тромбоциты и давший свою фамилию болезни Гайема-Видаля (по-другому — приобретенная аутоиммунная гемолитическая анемия), и гепатолог Виктор Гано, в честь которого назван гипертрофический цирроз (цирроз Гано), а также частично — синдром Труазье-Гано-Шоффара или пигментный цирроз, развивающийся при диабете.
При такой яркой плеяде наставников самому быть специалистом среднего уровня просто стыдно и зазорно. И Жильбер доверие учителей более чем оправдывал, впитывал знания и шел по дороге медицины уверенным шагом, попробовав себя в разных областях и везде достигнув определенного успеха.
Статус врача-консультанта общей практики он приобрел через 8 лет после старта в качестве интерна, а уже через год стал адъюнкт-профессором, что сейчас сравнимо с доцентом. Жильбер интенсивно занимался исследованиями в области болезней крови и печени, стараясь проникнуть в суть патологии и найти тот сбой в химизме метаболических реакций, который приводит к катастрофе.
Гепатологией он заинтересовался, находясь под руководством Виктора Гано, но его внимание обратили на себя именно семейные случаи желтухи. В итоге его научные поиски позволили ему сформулировать триаду характерных симптомов: «печеночная маска» или желтуха, причем, выраженная неярко, ксантелазмы (от греческих слов ξανθός — «желтый» и έλασμα — «покрывать», «лист»), небольшие жировые бляшки на веках, а также периодичность симптомов, появляющихся, как правило, после сильных физических нагрузок и эмоционального перевозбуждения. К главным симптомам, помимо наследуемости, он также причислял умеренную гепатоспленомегалию (увеличение размеров печени и селезенки).
Помимо этого картину дополнили характерные реакции крови, обнаруживающие повышенное содержание билирубина. Жильбер определил, что это была фракция именно неконъюгированного или свободного пигмента. Интересно также то, что в описаниях случаев он привел Наполеона I в качестве показательного примера такой семейной холемии и того, каким может быть «желчным» темперамент, предполагая, что особенности характера французского императора и полководца связаны именно с этим. Однако, неврастения и истерия вместе с расстройствами пищеварения, склонностью к геморрагиям (кровоизлияниям) и подъемами температуры отошли у него в группу вторичных признаков.
Во всяком случае то, что Наполеон страдал от хронического гепатита, в который у него в итоге перешла нелеченная и постоянно усугубляемая внешними факторами наследственная патология, документально подтверждено данными вскрытия. В них говорится о сильно увеличенных размерах печени, ее расширенных и переполненных кровью сосудах и перестройке ткани, характерной для запущенного воспаления.
Звание профессора терапии Жильбер получил уже на следующий год после выхода его знаковой статьи «La cholemie simple familiale», а профессором клинической медицины стал в 1905 году, после чего его избрали в члены Академии наук. Он опубликовал несколько учебников, был прекрасным и харизматичным лектором, которого обожали студенты, а вне своей медицинской деятельности коллекционировал предметы искусства.
К сожалению, после такого ослепительного старта Жильбера ждал весьма печальный финал, так как в 1914 году во время разразившейся войны разрушили его семейное гнездо в Бюзанси и убили родителей вместе с братьями и сестрами. Это сильно подорвало его дух и здоровье, хотя он и прожил до 69 лет.
Иногда в некоторых справочниках рядом с фамилией Жильбера в названии синдрома можно увидеть еще одну фамилию, которая принадлежит датскому врачу Иенсу Эйнару Мейленграхту. Он окончил медицинский факультет Копенгагенского университета, получил степень доктора медицины в 1912 году, а уже через 12 лет возглавлял медицинский отдел больницы Bispebjerg. Его научные интересы распространялись на гематологию и гепатологию, ив 1939 году он опубликовал труд «Интермиттирующая детская желтуха», который, как долгое время считалось в медицинской среде, дополнял, уточнял синдром Жильбера и полностью ему соответствовал.
Описания на самом деле были схожи по многим параметрам: возраст первых проявлений (детство-юность), перемежающийся характер желтухи, не очень высокий уровень билирубина в крови за счет неконъюгированной фракции, клинические проявления в виде желтушности кожи и слизистых, диспепсии, астении, даже недостаток фермента, «пришивающего» глюкуроновую кислоту к билирубину. Только позже, уже в начале XXI века, выяснилось, что заболевания все-таки разные. Все дело в тончайших деталях патогенеза: в случае синдроме Мейленграхта мембрана печеночной клетки способна захватить билирубин и протолкнуть его внутрь себя, а в случае синдрома Жильбера — нет.
С самого начала XX века у синдрома появлялось все больше описаний и синонимов. Как его только не называли: и семейной доброкачественной неконъюгированной гипербилирубинемией, и конституциональной дисфункцией печени, и низкоактивной хронической гипербилирубинемией. Суть от этого не менялась.
Современный взгляд на болезнь появился в 1995 году, когда удалось открыть ген, «виновный» в семейной интермиттирующей желтухе. Им оказался ген UGT1A1, расположенный на второй хромосоме человека, в запускающей (промоторной) области которого произошла мутация. Из-за этого связывающего билирубин фермента и производится гораздо меньше, чем нужно.
Сейчас среди специалистов есть мнение, что синдром Жильбера — это в общем-то, и не болезнь в прямом смысле этого слова, так как при определенном образе жизни ее практически полностью можно компенсировать. Однако, врачи не советуют отпускать поводья внимания и приводят весьма внушительные данные, согласно которым риск заболеть желчно-каменной болезнью у носителей мутации гена UGT1А1 повышается многократно. В первую очередь в эту группу попадают мужчины.
В целом же исследования последних лет говорят о том, что с синдромом Жильбера можно не просто существовать, но и весьма полноценно жить, наслаждаясь всеми красками. А поддержать состояние помогут, например, препараты урсодезоксихолиевой кислоты и фенобарбитал.
Правда, для этого нужно не бояться синдрома и доверять врачам, иначе произойдет так, как случилось несколько лет назад в одной из крупных московских клиник. Во время одного из общих собраний главный врач, плача от смеха, рассказал, что на больницу подали в суд за клевету и нанесение морального вреда. А дело было вот в чем.
В больницу из одного из российских регионов направили мальчика, которому не смогли поставить диагноз. В Москве ребенка приняли, поняли, что у мальчика — синдром Жильбера, ребенка стабилизировали, прописали курс лечения и поддержки и выписали с диагнозом обратно в область. Мама же, получив выписку о наследственном заболевании, подала исковое заявление, в котором указала, что она, такая-то такая-то, никогда во Франции не была (документы прилагаются), ни с каким Жильбером в интимную связь не вступала (честное благородное слово прилагается), поэтому и у ее мальчика никакой болезни всякого там Жильбера и вообще никакого француза быть не может!
FOULK WT, BUTT HR, OWEN CA Jr, WHITCOMB FF Jr, MASON HL. Constitutional hepatic dysfunction (Gilbert’s disease): its natural history and related syndromes. Medicine (Baltimore). 1959 Feb;38(l):25–46.
A. Gilbert, M. J. Castaigne, P. Lereboullet. De l’ictère familial. Contribution à l’étude de la diathèse biliaire.
Bulletin de la Société des médecins des hôpitaux de Paris, 1900, 17: 948–959.
A. Gilbert, P. Lereboullet. La cholémie simple familiale. Semaine médicale, Paris, 1901, 241–243.
E. Meulengracht. Icterus intermittens juvenilis (chronischer intermittierender juveniler Subikterus). Klinische Wochenschrift, Berlin, 1939, 45: 118–121.
15.0 Болезнь Бехтерева
Приходилось ли вам видеть сгорбленных под гнетом времени седовласых пожилых людей? Думаем, что да. А представителей среднего возраста, несмотря на «совсем не те» годы тоже обладающих этой весьма заметной анатомической особенностью? Наверняка приходилось. С большой долей вероятности горб «вырос» у всех этих людей не потому, что они сутулились или непрерывно работали в одной и тоже сгорбленной позе. «Виновато» здесь, скорее всего, специфическое заболевание, которое носит имя нашего выдающегося отечественного невропатолога и психиатра Владимира Бехтерева, при этом совершенно не связано ни с каким из расстройств нервной системы или психики.
История «костяного» недуга, если не считать скелетов с его признаками родом из Древнего Египта (5000–3000 лет до н. э., по некоторым данным им болел фараон Рамзес II), а также отрывочных и не слишком подробных описаний Клавдия Галена и итальянского хирурга Реальдо Коломбо, вопреки названию началась не с Бехтерева, Он стал лишь своеобразным «популяризатором» болезни (что, конечно, не умаляет его заслуг). Если покопаться, то ее корни можно обнаружить в Ирландии XVII века, где в 1666 году родился человек, первый обративший внимание на необычную форму скелета некоторых людей.
И не только обративший, но и довольно подробно описавший. Его звали Бернард Коннор (или О’Коннор), и принадлежал он к семье лордов О’Коннор Керри графства Керри.
Потомственный аристократ прожил всего 33 очень насыщенных во всех смыслах года, за которые успел побыть врачом сразу при двух королевских дворах, объехать почти всю Европу, отчитать несколько курсов лекций в Оксфорде и Кембридже, приложить руку к оформлению истории Польши и оставить свой заметный след в ревматологии. Воистину, необычайно умный и активный молодой человек, вероятно, обладающий неким острым предметом в характере или ином небезызвестном месте.
Коннор обучался на дому и оставался на родных землях Ирландии вплоть до 21 года, пока не понял, что больше ему здесь в плане опыта и профессиональной реализации ничего не «светит». Тогда он отправился во Францию, чтобы продолжить свое медицинское образование в Париже, Монтпилиере и, наконец, в Реймсе, где в итоге получил медицинскую степень в 1693 году. За семилетнее пребывание во Франции (1686–1693) Бернарда благодаря его выдающимся медицинским успехам заметили при королевском дворе и пригласил некоторое время попрактиковать — как раз во времена правления Людовика XIV или, как еще его называют, Великого.
Немного поработав королевским врачом, Коннор тем не менее сразу приступать к оседлой медицинской работе желанием не горел и решил отправиться в большое путешествие, чтобы обогатить свой медицинский и личный опыт, прежде чем с головой уйти в практику. В сопровождении друзей, с которыми он познакомился при французском дворе — сыновей Верховного канцлера Польши, достаточно близких к польскому королевскому двору (ничего удивительного, тогда между этими дворами были тесные связи), он отправился в Италию, где посещал лекции известных итальянских анатомов и физиологов, в том числе Марчелло Мальпиги (мальпигиевы сосуды выводящей системы у насекомых — его рук дело) и Лоренцо Беллини (беллиниевы трубочки — прямые канальцы в почках, уже человеческая выводящая система).
Из Италии друзья выдвинулись в Тироль, Баварию, Австрию и, наконец, прибыли в Польшу, где Коннора в Кракове очень тепло принял король Джон Собески — знатный воин, избранный дворянством на свой высокий пост и, фактически, спаситель христианской Европы от нашествия ислама (в 1683 году турки серьезно покушались на Вену). Бернард оставался в Кракове почти год, собирая материал для своей книги «История Польши», который позже включили в двухтомную историю Польши.
Благодаря его энциклопедическим медицинским знаниям и тому, что он поставил королевской сестре Катарзине Собески более точный диагноз, чем приглашенный итальянский врач (абсцесс печени вместо малярии), он в конечном итоге стал личным врачом короля, обладающего весьма слабым здоровьем, и вел его вплоть до самой смерти.
В 1695 году Коннор вернулся в Британию и, поняв, что, наконец, готов к практике, открыл кабинет на Боу-стрит в Ковент Гарденс — одном из самых фешенебельных районов Лондона. Он читал лекции в Лондоне, Оксфорде и Кембридже, стал членом Королевского колледжа врачей Лондона и Братства новообразованного Королевского общества и даже успел побывать в шкуре французского шпиона — в чем его обвинили из-за его политических взглядов.
Но ближе к телу, точнее, позвоночнику. Еще во Франции в 1693 году внимание молодого и любознательного исследователя привлекла история, рассказанная на занятии по анатомии, о странном скелете, найденном в одной из могил церковного кладбища. Естественно, он не мог пропустить такое «чудо», не вмешавшись, и поспешил изучить его лично.
Описания Бернарда гласили, что остатки скелета состояли из подвздошной кости, крестца, пяти поясничных, десяти грудных позвонков, пяти правых и трех левых ребер, все из которых прочно соединялись друг с другом так, что превращались в одну равномерную непрерывную кость. Суставы между ребрами и позвонками были полностью стерты, и нормальное соединение совершенно никак не обнаруживалось. Межпозвоночные диски оказались полностью окостеневшими, хотя доказательств того, что процесс при жизни затрагивал в том числе пульпозные ядра (самый центр межпозвонковых дисков), не имелось. Коннор проверил это, разрезав позвонки по спайкам и «обнаружил, что окостенение не проникает глубже двух линий». Это соответствует современному мнению, что там имела место именно кальцификация внешней, фиброзной части межпозвонкового диска, а не продольной связки, покрывающей позвоночник спереди.
Если переместиться в наше время и сделать такому «пациенту» рентгенограмму, то его позвоночник будет иметь «бамбуковый» внешний вид. А все потому, что чем больше в тканях воды, тем хуже они поглощают рентгеновские лучи и лучше их пропускают, поэтому оставляют больше следов на рентгеновской пленке. Самые «аккумулирующие» и плотные ткани — это кости. Когда хрящи и связки начинают окостеневать (уплотняются из-за накопления кальция), то они приобретают свойства костей. А теперь представьте рентгенограмму позвоночника, где позвонки и межпозвоночные диски одинаковой плотности. Вот вам и стебель бамбука.
Хорошо заметной была также кривизна позвоночника, которую Коннор даже описал в диаграмме, сопровождающей его статью в журнале «Philosophical Transactions». Далее он рассказывал о неестественном направлении ребер и возможных последствиях этого для дыхания. Он отмечал, что тело человека, притом живого, должно было быть при таком раскладе неподвижным: тот бы не мог ни потянуться, ни встать, на лечь или повернуться на бок, имея возможность двигать лишь только головой, ногами и руками. Срощенные с позвоночником ребра не могли бы обеспечивать владельца всем необходимым объемом движений, хотя его существование оставалось бы возможным при работающей диафрагме — если делать короткие и быстрые вдохи и выдохи.
Сейчас уже ясно, что у многих из таких пациентов нет признаков сердечно-сосудистой дисфункции, и что даже при значительном снижении объема дыхательных движений они могут вполне нормально существовать за счет брюшного дыхания. Но тогда это казалось какой-то небылицей.
В последней части статьи речь идет о некоторых умозаключения Коннора по поводу этиологии подобного состояния. Хотя они на современном фоне кажутся наивными и причудливыми, следует напомнить, что даже в 60-70-е годы XX века информации об анкилозирующем спондилите еще было крайне мало. Коннор отклонил возможность того, что кальцификация произошла после захоронения из-за необычных условий почвы или наступила во взрослой жизни (хотя причина его отказа от последней версии не уточнялась). Он предположил, что деформация возникла внутриутробно из-за давления воспалительной опухоли в матке или где-то рядом, что и привело к ненормальному развитию позвоночника с другими изменениями, вторичными по отношению к этому.
В заключении он поднял вопрос о том, почему одни люди «окостеневают» в некоторых регионах тела, а другие нет, и предположил, что какое-либо объяснение этого факта должно появиться до того, как исследователи полностью поймут, почему заболевание развивается. Эту статью Коннор опубликовал в трех разных изданиях на трех языках, и она широко разошлась по врачебным кругам, остававшись затем забытой вплоть до XIX века.
Упоминания эта болезнь после долгого забвения удостоилась в книге сэра Бенджамина Коллинса Броди, заслуженного английского врача, который всю жизнь занимался болезнями костей и суставов. Собственно, этой теме он посвятил и свой большой труд «Патологические и хирургические наблюдения за заболеваниями суставов» (Pathological and Surgical Observations on the Diseases of the Joints), опубликованный в 1818 году. Качественно нового описания, по сравнению со своим предшественником, он не привел, но объединил еще некоторые, уже имеющиеся на тот момент данные о «каменных» позвоночниках.
Два следующих клинических случая предполагаемого анкилозирующего спондилита, уже настоящих, были опубликованы в ранних изданиях журнала «The Lancet». Первый из них назывался «случай Треверса» по имени изучавшего его врача Бенджамина Треверса. Впервые его озвучили в госпитале Святого Томаса в Лондоне в 1824 году, и он описывал ребенка, девочку, которая была в общем-то здорова кроме того, что страдала из-за совершенно жесткого позвоночного столба. Причиной этому служили окостеневшие межпозвонковые диски, как и в случае со скелетом Коннора.
Вторым случаем стала история, опубликованная в 1832 году Филиппом Джоном Мойлем Лайонсом.
Однажды к нему на прием пришел каменщик и обратился с жалобами на постоянные боли в спине и суставах, длящиеся уже в течение нескольких лет, которые усиливались во сне и ослаблялись при движении. При этом объем движений сильно ограничивался, и каменщик не мог выполнять функции так, как он делал это раньше. После осмотра и физикального обследования врач пришел к выводу, что у него так же, как и у предыдущих пациентов, окостенел позвоночник.
Первым американским пациентом с окостеневшим позвоночником и характерным из-за этого горбом стал Леонард Траск, историю которого миру поведал в 1858 году американский врач Дэвид Такер, описав ее в буклете. Вроде ничего особенного — уже знакомые нам кальцифицированные межпозвонковые диски и деформация скелетной оси, которая еще больше усугубилась после падения Леонарда с лошади. Но здесь появилась важная тонкость: у пациента, помимо костных и суставных проявлений, наблюдалось воспаление радужки глаза, которое действительно имеет место при болезни, как это выяснилось впоследствии. Видимо, эта маленькая деталь стала первым дифференциально-диагностическим признаком, позволяющим отличить простую травму от генерализованной патологии.
Вот и пришла, наконец, очередь появиться в нашем рассказе Владимиру Бехтереву, который был настолько знаменитым в России (да и во всем мире, чего скромничать), что название анкилозирующего спондилита прижилось в нашей стране только с его фамилией, а в других странах — в том числе с его фамилией. Почему в том числе, и какое отношение выдающийся невропатолог имел к костям и суставам? Сейчас расскажем.
Родилась будущая «звезда» отечественной неврологии в маленьком селе Сарали (ныне Бехтерево) Елабужского района Вятской губернии (современной республики Татарстан) в 1857 году. После ненавистного школьного образования, которое юный Владимир получил кое-как (в выпускном аттестате было две четверки и остальные тройки), он, увлеченный естественными науками, пожелал быть медиком и, воспользовавшись внезапным шансом, отправился в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию. Кузницу многих выдающихся медицинских кадров он окончил в 1878 году, определившись, что будет заниматься душевными и нервными болезнями, и оставшись для этого на кафедре психиатрии у профессора Павла Мержеевского.
Движение Бехтерева по научному полю было столь стремительным, что уже через 3 года после окончания академии он получил звание доктора медицинских наук по теме диссертации «Опыт клинического исследования температуры тела при некоторых формах душевных болезней», а еще через 3 года уехал в командировку за границу для обучения у ведущих европейских психиатров того времени. Попробуйте угадать, чьим учеником в том числе был Бехтерев. Получилось? Ну конечно, учеником Жана Мартена Шарко — когда работал в Париже в госпитале Сальпетриер. А Пауль Флексиг из Лейпцига (его именем назван один из проводящих путей мозга — пучок Флексига) писал: «Здесь начал Бехтерев — этот подлинно врожденный исследователь — свой славный путь».
Несомненно, горячее желание молодого русского врача докопаться до истины и познать тайны устройства мозга восхищало без малого всех его иностранных наставников. Он проявил себя, запомнился, навел мосты со многими учеными и зарекомендовал себя как знающего и грамотного специалиста.
Мы здесь не будет описывать все этапы его длинного и, без сомнения, яркого неврологического и психиатрического пути и говорить о его научных работах и «золотом фонде» русской неврологии — труде «Проводящие пути головного и спинного мозга», за которые он удостоился многих наград и фразы «Знают прекрасно устройство мозга только двое: Бог и Бехтерев», которую произнес немецкий профессор Фридрих Копш. Упомянем лишь об одной из его работ, опубликованной в 1893 году.
Еще будучи в заграничной командировке, Бехтерев получил приглашение занять вакантный пост заведующего кафедрой психиатрии в Казанском университете. Посомневавшись, он все-таки согласился и в 1884 году переехал в Казань со своей женой, где тут же взялся обустраивать быт и организовывать работу местной психиатрической службы.
Деятельный и активный молодой профессор, уже побывавший за границей и завоевавший там авторитет, сильно не нравился главе кафедры нервных болезней того же университета — Дмитрию Скалозубову, который приехал в город раньше, но двигался по карьерной лестнице медленнее (еще бы, кому такое понравится). Поэтому на все предложения Бехтерева сотрудничать он отвечал холодно. По этой причине для научных изысканий приходилось привлекать сторонние, не принадлежащие к составу кафедральных больницы.
Казанский военный госпиталь, Губернская земская больница и Покровская земская больница стали базами для наблюдений Бехтерева и сбора клинических случаев. Наибольшую известность из всех работ казанского периода приобрела «Одеревенелость позвоночника с искривлением его, как особая форма заболевания», где очень подробно описывались трое пациентов с почти одними и теми же жалобами: резко выраженной горбатостью, обездвиживанием позвоночника, болями и скованностью в движениях.
«Не подлежит сомнению, — писал Бехтерев, — что во всех приведенных случаях мы имели одно и тоже заболевание. В этом убеждает нас то, что во всех случаях картина и развитие болезни представляли много общего между собою. Так, почти во всех случаях существовали: 1) большая или меньшая неподвижность или, по крайней мере, недостаточная подвижность всего или только известной части позвоночного столба при отсутствии в нем резкой болезненности при постукивании и сгибании; 2) дугообразное искривление позвоночника кзади, преимущественно в верхней грудной области, причем голова представлялась выдвинутой вперед и опущенной; 3) паретическое состояние мышц туловища, шеи и конечностей, большею частью с небольшою атрофией спинных и лопаточных мышц; 4) небольшое притупление чувствительности преимущественно в области разветвления кожных ветвей спинных и нижних шейных нервов, а иногда и поясничных; наконец, 5) разнообразные признаки раздражения со стороны тех же нервов, в виде парестезии, даже местных гиперестезии и болей в спине и в шейной области, а также в конечностях и в позвоночном столбе; в последнем в особенности при долговременном сидении».
Отметил он и еще одну очень важную особенность — наследственность. У всех пациентов подобными искажениями скелетно-мышечного аппарата в разной мере страдали и родственники. При этом Бехтерев всячески отвергал ревматическую природу поражения (то есть активизацию иммунной системы против соединительной ткани, из которой состоят хрящи, связки и суставы) и приходил к мысли, что виноваты в малоподвижности не столько ослабевшие мышцы, сколько «закостеневший» позвоночник. Однако, профессор все-таки в одном ошибался — он думал, что патология развивается из-за какого-то неврологического расстройства.
Эту статью перевели на несколько языков, и она быстро приобрела популярность в европейских странах. Одновременно с Бехтеревым над проблемой корпели немецкий невролог Адольф Штрюмпель, который в 1897 году опубликовал свой труд «Замечания о хроническом анкилозирующем воспалении позвоночника и тазобедренных суставов» (Bemerkung über die chronische ankylosirende Entzündung der Wirbelsäule und der Hüftgelenke), и французский невролог Пьер Мари, написавший в 1898 году статью «О ризомелическом спондилезе» (Spondylose rhizomelique). Напомним, Пьер Мари, будучи учеником Шарко, «отметился» в названии болезни Шарко-Мари-Тута и еще ряде патологий.
Теперь спондилит везде называют по-разному: где-то «Morbus Bechterew», где-то «Bekhterev’s disease», где-то «Bekhterev-Marie-Strümpell Disease» или просто «Marie-Strümpell Disease». У нас же прижилось название «болезнь Бехтерева», которое широко используется медиками до сих пор.
Кстати, «анкилозирующий спондилит» (ankylosing spondylitis) стал последним введенным и теперь уже чисто патофизиологическим наименованием заболевания. Это произошло в 1904 году благодаря немецкому патологу и бактериологу Евгену Френкелю, известному в истории открытием возбудителя газовой гангрены — Bacillus fraenkeli, которую позже переименовали в Clostridium perfringens.
Что же сейчас? Сейчас болезнь Бехтерева — открытая книга. Благодаря обширным исследованиям ученые выяснили, что все-таки главную роль в ее развитии играет генетическая предрасположенность, а именно — наличие большего количества, чем в норме, антигена гистосовместимости HLA-B27 — такого белка, который участвует в распознавании чужеродных агентов и представлении их частичек иммунной системе (чтобы знать «врага» в лицо).
В норме он содержится на поверхности всех клеток организма, но в небольшом количестве. Когда же в гене, отвечающем за производство HLA-B27, происходит поломка, и его количество резко возрастает, то это может заставить иммунную систему «ополчиться» против своей же собственной соединительной ткани, богатой коллагеном. Причем, запускающим фактором может стать любая случайная инфекция.
Отличается болезнь Бехтерева от того же ревматоидного артрита, где механизмы развития, в общем-то, не сильно отличаются, тем, что в крови нет специфического вещества — ревматоидного фактора, а поражается преимущественно позвоночный столб и «хрящевые» сочленения костей таза, ребер, грудины (при артрите страдают суставы конечностей).
К сожалению, встречается болезнь довольно часто (между 0.1 % и 1.8 %), а лекарства, которое бы возвращало больному полное здоровье или останавливало развитие болезни, на данный момент не существует. Ход аутоиммунного воспаления можно притормозить, но все равно с годами состояние будет ухудшаться. Тем не менее, существуют препараты, облегчающие симптомы.
BARUCH S. BLUMBERG and JEAN L. BLUMBERG Bernard Connor (1666–1698): And His Contribution to the Pathology of Ankylosing Spondylitis. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. Vol. 13, No. 3 (July, 1958), pp. 349–366.
Connor, B. An extract of a letter to Sir Charles Walgrave, published in French at Paris: Giving an account of an extraordinary humane sceleton, whose vertebre of the back, the ribs and several bones down to the os sacrum, were all firmly united into one solid bone, without joynting or cartilage. Philos. Trans., 1695, 19, 21–27.
V. M. von Bekhterev. Oderevenelast’ pozvonochikas iskrivleniemego, kak osabia forma zabolevaniia. Vrach, St.
Petersburg, 1892; 13: 899–903. Die Steifigkeit der Wirbelsäule und ihre Verkrümmung als besondere Krankheitsform. Neurologisches Centralblatt, Leipzig, 1893, 12: 426.
16.0 Боковой амиотрофический склероз
В истории медицины много, очень много болезней, названых в честь великих людей. Но почти со стопроцентной вероятностью, когда мы слышим «болезнь X» или «синдром Y», можно быть уверенными, что X и Y — медики, описавшие заболевания. Иногда приоритет того или иного эскулапа установить сложно, и появляются болезни с двумя или тремя именами. Болезнь Шарко-Мари-Тута, например. Однако заболевание, о котором пойдет речь в этой главе, получило имя не только врача, но и известнейшего пациента, ставшего иконой как для всех любителей американского бейсбола, так и для больных. Причем, немало оно сделало и для популяризации науки, в частности, космоса и астрофизики благодаря личности еще одного уникального пациента, который еще до недавних пор был жив и продолжал собирать на своих лекциях десятки тысяч людей со всего мира. Думаем, вы уже догадались, что речь пойдет о боковом амиотрофическом склерозе, или болезни Шарко, или же болезни Лу Герига.
Боковой амиотрофический склероз относится к группе заболеваний мотонейрона, то есть при нем поражаются те нервные клетки, которые отвечают за двигательные импульсы, поступающие по нисходящей от коры к мышцам. Особенность БАС состоит в том, что поражение охватывает все уровни сигнала: как верхний мотонейрон (те нейроны, которые начинаются в моторной зоне коры головного мозга), так и нижний мотонейрон (нейроны уровнем ниже, тело которых находится в передних рогах спинного мозга и двигательных ядрах черепных нервов).
Если говорить о распространенности недуга, то можно немного успокоиться: встречается оно не так уж и часто — 3–5 случаев на 100 000 человек — с заболеваемостью в 2,7 человек на 100 000 в год. Возраст заболевших чаще всего колеблется от 55 до 65 лет, но в эту группу могут попасть как совсем молодые люди, так и долгожители. У знаменитого Лу Герига патология проявилась в 36-летнем возрасте, но развивалась, судя по всему, крайне быстро — он скончался, немного не дожив до своих 38.
Как правило, люди с установленным диагнозом живут от 2 до 5 лет, но истории известна все же пара случаев, когда заболевание «остановилось». Это, конечно же, Стивен Хокинг, возраст патологии которого «переплюнул» полвека, и гитарист Джейсон Беккер, живущий с болезнью Шарко почти 30 лет.
Хирург с руками художника и мыслями ученого
Интересно, что впервые патологию, при всем нашем уважении к Жану-Мартену Шарко, описал не он. Еще в 1824 году выдающийся шотландский анатом, хирург, при этом философ и теолог Чарльз Белл излагал симптомы заболевания, при которых человек сначала терял силу рук и ног, затем постепенно утрачивал контроль над конечностями, переставал говорить и дышать…
Интересно, что такую разносторонность взглядов Белл приобрел еще в университете, куда пошел учиться на врача по стопам своего старшего брата Джона Белла только потому, что остальное его привлекало мало. Во время обучения он как-то раз попал на лекции известнейшего в то время адепта шотландского просвещения — философа и математика Дугалда Стюарта, который вещал о духовной философии. Отголоски этих знаний впоследствии отражались во многих его работах. Дополнительно он также прошел курс изобразительного искусства и научился весьма неплохо иллюстрировать свои труды, что ему очень пригодилось в жизни.
По окончании университета в 1798 году Белл ассистировал своему брату на операциях, находясь с ним в эквиваленте современной ординатуры — Эдинбургском колледже хирургов, а впоследствии помог дописать и проиллюстрировать 3 и 4 тома четырехтомника «Анатомия человеческого тела». Причем, к тому времени он уже опубликовал свою личную коллекцию рисунков «Система рассечения» по правилам анатомической диссекции человеческого тела (все это произошло всего лишь за 5 лет «ординатуры»).
Открытие бокового амиотрофического склероза могло иметь непосредственное отношение к Эдинбургу, если бы не досадная ссора брата Белла с двумя преподавателями в Эдинбургском университете: Александром Монро Секундусом и Джоном Грегори. Последний работал председателем Эдинбургского королевского лазарета и заявил, что для работы в больнице будет назначено только шесть штатных хирургов. Братья Беллы, понятное дело, в это число не вошли и, таким образом, лишились возможности там практиковать.
Чарльз Белл, который не принимал непосредственного участия в ссоре, все же попытался заключить сделку с медицинским факультетом. Он предложил университету сто гиней и свой музей анатомии, который на тот момент уже наполнился экспонатами — восковыми препаратами и рисунками (на них до сих пор можно посмотреть в музее Surgeons’ Hall в Эдинбурге), в обмен на то, чтобы ему позволили наблюдать и делать наброски выполненных операций. Однако, предложение не приняли.
После этого последовал переезд в Лондон, практика, набор опыта, научная работа, членство в различных элитных хирургических обществах, а также нескрываемый интерес к неврологии. К слову, Белл, будучи военным хирургом, подробно документировал неврологические травмы и поражения, полученные солдатами в битве при Ватерлоо (при том, что его хирургические навыки, мягко говоря, оставляли желать лучшего и сильно критиковались другими хирургами). Но зато рисунки получались отменными.
Интерес его пошел дальше, и вот уже в 1811 он выпустил книгу «Идея новой анатомии мозга», где прозвучала мысль, что существуют разные нервные пути, которые идут к различным областям мозга и, тем самым, обеспечивают разнообразие функций. Подкреплял эти утверждения Белл живодерскими экспериментами с кроликами, на которые общественность по защите прав животных сейчас бы отреагировала куда острее, нежели на помещенную под воду таксу, демонстрировавшую свойства новой жидкости для дыхания под водой (случай произошел в декабре 2017 года, когда вице-премьер Дмитрий Рогозин представил это достижение отечественной науки сербскому президенту Александру Вучичу — прим. авт.).
Такса осталась живой и невредимой, а вот у кроликов разрезался мозг и раздражались разные нервные волокна, что приводило к разным последствиям — подергиванию лапок, усов, носа и так далее. Именно тогда он обнаружил то, что впоследствии помогло ему идентифицировать боковой амиотрофический склероз и привело к новому витку эволюции в неврологии — различие функций передних и задних рогов мозга. Раздражение передних рогов приводило к разного рода движениям и судорогам мышц, тогда как задних, вроде бы, не влияло ни на что. Чуть позже оказалось, что в задних рогах проходят пути чувствительности, доставляющие сигнал от многочисленных рецепторов в теле человека к участку коры мозга, который их обрабатывает.
В прославившей его работе 1821 года «О нервах: рассказ о некоторых экспериментах по их структуре и функциям, которые приводят к новому устройству системы» Белл обосновал, что лицевой нерв (7-я пара черепно-лицевых нервов) отвечает за движения мимических мышц, и перевернул сознание хирургов, которые часто в то время пытались лечить невралгии с помощью его перерезки. Сие, естественно, приводило к одностороннему параличу мышц лица, который в честь важного открытия назвали параличом Белла.
Неврологическое «средневековье» и «возрождение»
Но заболевание все же не получило имя Белла. В 1850 году еще одну попытку описать недуг предпринял английский нейрофизиолог Августус Веллер (или Валлер). Он стал известен миру по названной в честь него валлеровской дегенерации, при которой участок аксона, оторванный от основного нейрона, разрушается, а на месте него образуются шванновские клетки (тип глиальных клеток, характерный для периферической нервной системы), формируя вокруг «тоннель». Если срезы сопоставить правильно, то конец аксона от тела нейрона растет вдоль шванновских клеток и в конечном итоге может снова воссоединиться с иннервируемой областью. Если же нет, то он утолщается и может превратиться в «болючую» неврому.
Но все-таки основную роль в этом вопросе сыграл Жан-Мартен Шарко. Именно он в своей работе 1874 года смог связать симптомы постепенной утраты двигательной активности с нейроанатомическими проблемами: потерей моторных нейронов. Тогда же с его легкой руки и впервые появился современный термин: боковой амиотрофический склероз или БАС (в англоязычном мире — ALS, amyotrophic lateral sclerosis).
Чтобы мысленно объять масштаб вклада Шарко, нужно немного вникнуть в клиническое состояние дел тех времен, прежде всего с 1850 по 1874 годы. Клинический диагноз еще находился в самом зачаточном состоянии. Различий между верхними и нижними мотонейронами не знали и подавно, также, как и понимания роли кортикоспинального тракта в их соединении (проводящий путь, который обеспечивает движение). Только-только появились некоторые догадки о том, насколько ценны в диагностике сухожильные рефлексы. На «нижнем конце» моторного пути вообще не представлялось возможности отделять разные болезни, проявляющиеся в основном слабостью конечностей.
В случаях, которые описывались в 1850-х годах, например, Франсуа Араном, скромно говорилось о «прогрессирующей спинальной мышечной атрофии», но в качестве доказательства не проводилось ни вскрытия этих пациентов, ни какого бы то ни было клинического различия между нейрогенной («болеют» нервы) или миопатической («болеют» мышцы) природой недуга. Сейчас есть термин «амиотрофия Арана-Дюшенна», но название только потому двойное, что Гийом Дюшенн после Арана прошелся по всем его пациентам с электродами и хотя бы как-то количественно обозначил потерю функции, после чего заявил на одном из собраний Французской академии наук, что имеет право на приоритет. Академия решила дело компромиссом.
Шарко сравнивал все имеющиеся на тот момент работы со своими наблюдениями за патологией переднего рога спинного мозга при детской спинальной мышечной атрофии, полиомиелите и других нарушениях, где имеет место слабость мышц. Он заметил, что проблема иногда лежит не только «впереди», но и «сбоку» — в боковом роге. Помогла это понять женщина с контрактурами (сильные мышечные спазмы, изменяющие вид конечности), которые считались «истеричными», но на самом деле, как показало вскрытие, стали ранними примерами первичного бокового склероза.
В итоге Шарко объединил все наблюдения и описал «два случая прогрессирующей спинальной мышечной атрофии с поражениями серого вещества и передне-боковых пучков спинного мозга».
«Мы столкнулись с несколькими пациентами со следующими состояниями: паралич со спазмами рук и главным образом ног (без потери ощущения) вместе с прогрессирующей амиотрофией, которая была ограничена, главным образом, верхними конечностями и туловищем… Симптомы прогрессирующей мышечной атрофии развивались последовательно. На заключительных этапах болезни развились симптомы паралича и спастичности, которые, похоже, были связаны с симметричным склерозом», — писал Шарко.
К этому времени в голове исследователя-клинициста уже ясно связалась клиническая амиотрофия с патологией передних рогов или моторных нейронов черепных нервов, которая обнаруживается на вскрытии. И апогеем этому стала работа «Амиотрофический боковой склероз» с настолько подробным описанием клинической картины, что оно существенно не изменилось до сих пор, хотя прошло уже более 140 лет (а ведь он наблюдал лишь 5 собственных пациентов и изучал истории 15 человек, описанных другими докторами).
«В настоящее время прогноз — могила, — заключал Шарко. — Насколько я знаю, нет ни одного случая, когда бы после всех наблюдаемых симптомов шло последующее излечение. Абсолютное ли это препятствие? Только будущее покажет».
Величайшая трагедия в истории бейсбола
Постепенно научные работы накапливались, и картина заболевания обрастала новыми подробностями. Однако, какой-то системы в этом всем не было. Изменил ситуацию и заставил обратить внимание ученых и врачей на проблему талантливейший американский бейсболист Лу Гериг.
Четвертого июля 1939 года на поле стадиона знаменитой бейсбольной команды «Yankees» стоял 36-летний человек и говорил: «Сегодня я все еще считаю себя самым удачливым человеком на Земле». В тот день один из величайших спортсменов в истории официально попрощался с карьерой и, по сути, со своей жизнью, так как оставалось ему после этого лишь 1,5 года непрерывного угасания.
Казалось бы, все шло как по маслу: хорошая школа, достойный университет, подобная старту реактивного самолета спортивная карьера и уже в 20 лет — контракт с сильнейшей бейсбольной командой страны. Неотъемлемым прозвищем Лу Герига стало «железный конь». И это неудивительно: он отыграл подряд 2130 игр.
Все было хорошо до 1938 года. Если в 1937 году Лу Гериг все еще блистал на пьедестале победителей, то в 1938 году уже наметился довольно сильный спад показателей, а в Мировой лиге бейсбола, которую «Yankees» выиграли, он был почти незаметен. Сначала казалось, что это — просто старение. Или накопившаяся за полтора десятка лет усталость… В апреле 1939 года стало понятно, что с Лу что-то не то. Этот месяц по всем показателям стал худшим в его карьере.
Шли дни, Гериг все терял и терял силы. В конце мая он уже с трудом ходил. Его супруга Элеонора позвонила в знаменитую клинику Майо. Когда на том конце провода поняли, чья супруга звонит, звонок сразу же перевели на хирурга Чарльза Уильяма Майо, члена совета клиники и сына сооснователя. Майо потребовал привезти Лу как можно скорее. 13 июня 1939 года знаменитый бейсболист прибыл в клинику. Шесть дней интенсивного обследования принесли страшный подарок спортсмену на его 36-й день рождения: диагноз «боковой амиотрофический склероз».
Увы, хоть врачи и настраивали больного еще на 10–15 лет жизни, Лу Гериг не прожил и двух. Он умер 2 июня в 10 часов 10 минут вечера в своем доме. Прощаться с ним в день похорон пришел, кажется, весь Нью-Йорк. А после сотни ученых по всему миру принялись расшифровывать загадочный патогенез недуга, так быстро сведшего одного из лучших спортсменов в могилу. И его имя было решено увековечить в названии.
Еще одной «иконой» заболевания стал знаменитый физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Первые признаки бокового амиотрофического склероза появились у него в возрасте 18–19 лет, а в 21 уже ясно звучал диагноз. Тем не менее, в отличие от Лу, прогрессировал склероз крайне «неохотно», посадив Хокинга в коляску только через 7 лет.
В 2012 году этот уникальный человек отпраздновал свое 70-летие и все еще продолжал вести активный образ жизни и проводить научные исследования, хотя способность к движению у него сохраняла только мимическая мышца щеки, напротив которой был укреплен датчик движения, позволяющий посредством компьютера, встроенного в инвалидную коляску, общаться с миром. Умер Стивен Хокинг 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет — после почти полувека жизни с этой болезнью, сильно озадачив специалистов.
Что говорит современная наука?
На данный момент ученое сообщество к консенсусу по поводу того, почему заболевание все-таки начинает развиваться, так и не пришло. Узнали многое: например, то, что в гене под непонятным названием C9orf72 вдруг появляется много четырехспиральных ДНК (в норме спираль носителя генетической информации двойная), из-за чего нарушается транскрипция (перевод наследственной информации на «язык» РНК), и, соответственно, трансляция — синтез белка. Открыли и наследственные формы бокового амиотрофического склероза, которые, правда, составляют лишь 5 % от всех встречающихся случаев. Зато теперь известно, что проблемы здесь создает мутация в гене супероксиддисмутазы-1, находящемся на 21-й хромосоме.
Помимо этого, примерно определились с патогенезом и выявили, что из-за слишком большого количества глутаминовой кислоты (нейромедиатор) нейроны перевозбуждаются и погибают. Причем, есть данные, что на ранних стадиях болезни это даже хорошо — то есть повышение возбудимости здоровых нейронов компенсирует «силы» погибших. Но потом возбуждение с ростом глутаминовой кислоты все больше возрастает, и патологический круг замыкается: организм начинает вредить сам себе, и просыпается так называемая эксайтотоксичность.
Некоторые случаи, связанные со случайным, иначе говоря, спорадическим проявлением болезни, сочетаются с мутациями в гене TARDBP, из-за чего вне ядра в цитоплазме появляется белок TDP-43 (обычно он находится в ядре) и, как поп-звезда, спустившаяся в метро, начинает собирать вокруг себя толпу других белков, мешая нормальному внутриклеточному движению. Помимо этого подобными свойствами обладают еще продукты гена FUS или гена «слияния в саркоме» (Fusion in Sarcoma), который тоже поражает мутация.
Совсем недавно заговорили о терапевтическом потенциале аутофагии, то есть о процессе, благодаря которому клетка «съедает» собственные продукты жизнедеятельности, не давая им накапливаться внутри себя, и перерабатывает их в топливо, которое снова идет на клеточные нужды. Именно за открытие в далеком 1993 году генов, отвечающих за такое безотходное потребление, в 2016 году удостоился Нобелевской премии по физиологии или медицине японец Ёсинори Осуми.
Нейробиологи из Вюрцбургской университетской больницы выяснили, что этот самый процесс аутофагии про болезнях мотонейронов, в том числе при БАС, попросту ломается. Естественно, тоже из-за мутации. Поломка происходит в гене PLEKHG5, из-за чего в синаптических окончаниях, которые с помощью нейромедиатора передают возбуждение на мышцу, скапливается сильно много пузырьков с этим медиатором. В нормальной клетке лишние пузырьки утилизируются, а больная от них избавиться уже не может. И в итоге погибает.
Нам очень не нравится такое писать, но от бокового амиотрофического склероза эффективного лечебного средства пока так и не придумали. Однако, ученые по всему миру борются за это самым активным образом — открывают новые мишени, испытывают новые химические соединения, создают новые способы диагностики, позволяющие заподозрить недуг на ранней стадии, когда еще можно попытаться как-то помочь и затормозить процесс.
Даже на исследования деньги собирают, что называется, всем миром — десятки тысяч людей приняли участие во флешмобе Ice Bucket Challenge, во время которого выливали на себя ведро ледяной воды. Это позволило собрать средства на крупнейший в истории изучения болезни проект «Генетическая расшифровка для помощи при БАС» (Genomic Translation for ALS Care), в который вошли более 80 ученых из 11 стран мира и благодаря которому они изучили как можно большее количество ДНК больных пациентов (сюда вошло около 1500 человек), открыв новые поврежденные гены.
В дальнейшем эти гены могут стать мишенями для генетической терапии, которая постепенно начинает выходить из области чистой науки в клиническое применение. Методы генетической модификации, например, FDA в 2017 году уже разрешило для лечения некоторых видов лимфом и слепоты.
Есть и проверяемые способы редактирования генома при БАС. Так, в декабре 2017 года в журнале Science Advances вышла статья, где исследователи из Университета Калифорнии в Беркли поделились обнадеживающими результатами лечения болезни Шарко, правда, пока только у мышей и только с носителями мутантного гена супероксиддизмутазы-1. Для этого они воспользовались не так давно открытой технологией редактирования генома CRISPR Cas9, подсмотренной у бактерий. Специально обученный вирус доставлял ген Cas9 в глиальные клетки, соседствующие с мотонейронами, который «вырезал» вредную мутацию.
Помогла методика CRISPR/Cas9 и при мутации гена FUS, успешно избавив от нее клетки. Но вполне эффективно борются с результатами деятельности «нехороших» генов также разные методы их фармакологического или генетического отключения.
Есть и уже конкретные успехи в лечении людей. В мае 2017 года появилось сообщение о препарате Эдаравон, который за долгие годы (новых лекарств не появлялось с 1995 года) стал первым утвержденным FDA лекарством для лечения БАС. Молекула эдаравона обладает антиоксидантными свойствами и снижает количество разрушительных свободных радикалов в клетке, что предотвращает развитие окислительного стресса и сохраняет нейронам жизнь. Вот только цена вопроса пока сильно «кусается» — годовой курс лечения в США стоит около 150 000 $. Но умеренный положительный эффект все же есть.
Еще некоторые исследования только будут запускаться. Ученые в госпитале Седарс-Синай в Лос-Анджелесе получили одобрение FDA на проведение клинического испытания по комбинации генной терапии и терапии стволовыми клетками. Ранее Ассоциация по борьбе с БАС сертифицировала этот госпиталь как передовой научно-исследовательский центр по поиску лекарства от болезни Шарко.
Также завершилась вторая фаза исследования NurOwn. Инновационная биотехнологическая компания Brainstorm, которая занимается использованием стволовых клеток в терапии неизлечимых заболеваний, объявила о начале проведения третьей фазы в конце 2017 года. NurOwn — это платформа клеточной терапии, источник которой — мезенхимальные клетки из костного мозга пациентов с БАС. Исследователи наделяют мезенхимальные клетки способностью производить факторы роста для нейронов, которые представляют своего рода питание для клеток и обладают значительным защитным потенциалом. Посмотрим, что из этого получится.
А пока для взаимодействия с миром обездвиженные больные могут воспользоваться российской разработкой — программой «Нейрочат», которая создана на основе интерфейса мозг-компьютер и предназначена для набора и обмена сообщениями через интернет с помощью силы мысли. Терминал «Нейрочата» представляет собой беспроводную гарнитуру с электродами, которая надевается на голову пациента и подключается к компьютеру. Система, основанная на ЭЭГ-сигналах, позволяет пациенту мысленно выбирать символы с виртуальной клавиатуры, а затем отправлять его адресату. Конечно, скорость такой печати невысока — лишь 5–6 символов в минуту, но для человека, полностью лишенного возможности говорить, это бесценно.
Charles Bell. On the nerves; giving an account of some experiments on their structure and functions, which lead to a new arrangement of the system. Esq. Phil. Trans. R. Soc. bond. 1821 111, 398–424.
Waller A. Experiments on the section of the glossopharyngeal and hypoglossal nerves of the frog, and observations of the alterations produced thereby in the structure of their primitive fibres. Philos. Trans. R. Soc. London 1850, 140:423-29.
Charcot J-M. De la sclerose latérale amyotrophique. Prog Med. 1874;2:325–327, 341–342, 453–455.
Charcot J-M, Joffroy A. Deuxcas d’atrophie musculaire progressive avec lesions de la substance grise et de faisceaux antérolatéraux de la moelle epiniere. Arch Physiol Norm Pathol. 1869;1:354–357; 2:628–649; 3:744–757.
Lewis P. Rowland. How Amyotrophie Lateral Sclerosis Got Its Name. The Clinical-Pathologic Genius of Jean-Martin Charcot. Arch Neurol. 2001; 58(3); 512–515.
Thomas Gaj, David S. Ojala, Freja K. Ekman, Leah C. Byrne, Prajit Limsirichai and David V. Schaffer In vivo genome editing improves motor function and extends survival in a mouse model of ALS. Science Advances, 2017. doi: 10.112 6/sciadv. aar 3952.
Wenting Guo, Ludo Van Den Bosch et al. HDAC6 inhibition reverses axonal transport defects in motor neurons derived from FUS-ALS patients. Nature Communications, 2017.
17.0 Синдром Марфана
Никколо Паганини — гениальнейший скрипач, виртуоз, который исполнял сложнейшие произведения, мог имитировать звуки чего угодно и играть все необходимые ноты даже на одной струне. Его кумиры им восторгались и приписывали ему божий дар, завистники злорадствовали и называли «скрипачом дьявола», но факт оставался фактом: талант, безусловно имевшийся, объяснялся не только постоянным упорным трудом, но и генетической особенностью, благодаря которой у скрипача сложились анатомические «преимущества». Речь идет о наследственном заболевании соединительной ткани, которое при «правильном ведении» дает человеку возможность долго, достаточно комфортно жить, и, при желании и старании — вписать себя в историю, как это произошло еще с несколькими всемирно известными личностями. Дар это или приговор? Решайте сами.
О том, что великий скрипач был болен синдромом Марфана, стало известно лишь впоследствии, в 1978 году, после выхода работы авторства Мирона Р. Шенфилда «Никколо Паганини: музыкальный волшебник или мутант с синдромом Марфана?» (Nicolo Paganini: Musical Magician and Marfan Mutant?). Интересно, что автор, чьим именем названа патология, на самом деле описал немного иное расстройство, похожее на него, и сделал это отнюдь не первым. Его на 20 лет опередил врач-офтальмолог.
Некто Э. Уильямс многие годы занимался глазными заболеваниями. Однажды к нему на прием в июле 1875 года пришли сестра и брат, Мэри и Маркус Дж. 28 летняя девушка хотела проконсультироваться с врачом насчет чего-то непонятного, произошедшего с ее глазами. Врач обнаружил, что хрусталик ее правого глаза сместился из зоны зрачка на 1/4 % вверх, а хрусталик левого, тоже смещенного вверх, оставлял зону зрачка на 2/3 пустой.
Ее брат, который был младше на 2 года, никогда не страдал какими-то расстройствами, к докторам не обращался и всегда имел превосходное зрение. К врачу он пришел вместе с сестрой просто за компанию, однако, от зоркого взгляда Вильямса не укрылась странность расположения его хрусталиков, не столь выраженная, как у сестры, но все-таки имеющаяся.
В итоге офтальмолог обнаружил, что у обоих произошла спонтанная эктопия (смещение положения) хрусталика. При этом он обратил внимание на то, что оба были очень высокого роста, худощавые и с детства имели слишком подвижные суставы. Врач описал эти случаи в своей работе «Rare Cases, with Practical Remarks» и не смог их как-либо интерпретировать, кроме как симптоматически.
Через 20 лет после этого в 1896 году интересный случай пятилетней девочки Габриэллы П. отметил Антуан Бернард-Жан Марфан. Он в те годы работал детским врачом в Société Médicale des Hôpitaux de Paris и в возрасте 38 лет уже имел степень доктора медицинских наук, общественное признание и доверие пациентов.
Но прежде чем рассказывать об этом случае, давайте поговорим о самом Антуане Марфане. Он родился в 1858 году в семье сельского врача, который весьма скромно зарабатывал, трудно жил и поэтому отговаривал своего сына от медицины, советуя ему поступать в Эколь Политекник. Однако, совладать с упорным юношей не получилось, и Марфан поступил в медицинскую школу в Тулузе. После проведенных там двух лет он отправился в 1879 году в Париж, а уже в 1880 получил диплом и начал практику.
В 1892 году он в зимние месяцы работал в клинике Hôpital des Enfants Malades и именно здесь увлекся педиатрией, с которой впоследствии и связал жизнь. Успел он поработать в разных «весовых категориях»: помощником профессора педиатрии на факультете медицины Парижского университета, главой службы по дифтерии в Больнице для больных детей (Hospital for Sick Children), первым профессором детской гигиены в детской поликлинике при Парижском университете.
Кроме того Антуан Марфан серьезно занимался туберкулезом. Тема его докторской диссертации звучала как «Troubles and gastric lesions in pulmonary tuberculosis» или «Патологии и поражения желудка при туберкулезе легких». Кстати, этот документ дал основу концепции, известной сейчас как «закон Марфана» и говорящей о том, что легочный туберкулез в полной форме развивается довольно редко, если пациент переболел его локализованными формами, так как формируется сильный иммунитет. Исследования, подобные этому, как раз привели к разработке вакцины БЦЖ (о ней читайте в главе о туберкулезе).
Помимо этого, Марфан был одним из первых, кто осознал важность наблюдений за реакциями кожи, и когда фон Пирке разработал свою методику кожных проб на туберкулез, он тут же применил ее в своих клинических исследованиях, которые впоследствии стали классикой фтизиатрии.
Марфан стал одним из самых выдающихся педиатров Франции, в 1897 году он вошел в коллектив авторов «Трактата детских болезней», который удостоился премии Французской академии наук. Он изучал вред от кормления младенцев козьим молоком, провел обширнейшие исследования на тему рахита. И, конечно же, он имел дело с Жаном-Мартеном Шарко, причем, довольно почетное: делил с ним должность редактора в журнале «System of Medicine», а также сам основал журнал «Le Nourrisson» (Младенец). Неудивительно, что Марфана вообще считают одним из создателей педиатрии как таковой.
Марфан прожил 84 года и оставил нам несколько медицинских названий. Например, синдром Денни-Марфана (вариант врожденного сифилиса у младенцев, проявляющийся в спастическом параличе верхних или нижних конечностей и умственной отсталости), описанный им независимо от американца Чарльза Клейтона Денни. Или закон Марфана, который относится к лечению туберкулеза и говорит о том, что излечение очагового (вторичного) туберкулеза легких защищает от развития общего туберкулеза легких.
Он говорил: «В медицине всегда необходимо начинать с наблюдения за больными и всегда возвращаться к этому, поскольку это является первостепенным средством проверки. Наблюдайте методично и энергично, не пренебрегая какой-либо исследовательской процедурой, используя все, что может быть охвачено с помощью физического осмотра, химических, бактериологических исследований и эксперимента, так как необходимо сравнить факты, наблюдаемые в течение жизни, и выявленные открытия».
Наверное, именно это качество помогло ему обратить внимание на маленькую и ни на кого не похожую по симптомам Габриэллу.
В статье «А case of congenital deformation of the four limbs, more pronounced at the extremities, characterized by elongation of the bones with some degree of thinning» он дал весьма подробное описание ребенка, который имел непропорционально длинные конечности и астеничное телосложение. Но более всего врача привлекали ее пальцы на руках и ногах, которые были похожи на лапки паука — столь же длинные и тонкие. Он даже назвал этот феномен «pattes d’araignée», а саму патологию — долихостеномелия (с греческого «stenos» — стрела, копье, a «melos» — конечность).
К сожалению, девочка прожила не очень долго и умерла в подростковом возрасте от туберкулеза, против которого на тот момент еще не было какого-либо специфического лечения. Но Марфан наблюдал ее до самой смерти и отмечал прогрессирование странных и искренне поразивших его аномалий.
Однако, как чуть позже выяснили Анри Мери и Леон Бабонне, осмотревшие ребенка в 1902 году с помощью новейшего метода визуализации — рентгена, который только начал появляться в клиниках, у нее наблюдалась арахнодактилия, изменения грудной клетки и позвоночника не из-за ахондроплазии, как предположил Марфан, а из-за гиперхондроплазии — чрезмерного образования хрящевой ткани. В том же 1902 году описание подобных пациентов появилось еще от одного врача, Ашара. Оно углубилось более внимательными фактам о патологии сердечно-сосудистой системы в виде перерастяжения и расслоения аорты, о вывихе хрусталика и наследственном характере всех этих признаков.
Но все эти исследователи пока не подозревали, что первый случай — описание Гарбиэллы — это не тот самый «синдром Марфана», которым начали называть все похожие варианты. Скорее, она страдала врожденной контрактурной арахнодактилией, которая относится к заболеваниям соединительной ткани, но не имеет тот тип наследования, который характерен для синдрома. Естественно, это все выяснилось гораздо позже, лишь во второй половине XX века.
Ну и напоследок нам стоит развеять еще один миф. Очень часто «самым известным носителем синдрома Марфана» называют одного из самых распиаренных правителей древности — фараона Тутанхамона. Этот фараон правил в XIV веке до нашей эры, занял трон в возрасте десяти лет и правил почти столько же. Исходя из его изображений «исследователи» достаточно часто «ставили» Тутанхамону синдром Марфана (и еще десяток других заболеваний). Однако недавнее исследование мумии фараона методом компьютерной томографии и секвенирование генома Тутанхамона показали, что юноша имел целый букет заболеваний — волчья пасть (врожденное незаращение твердого неба и верхней челюсти), косолапость, болезнь Келера (деформации ступней, вызванные нарушением кровоснабжения отдельных костей стопы), но вот телосложение у него было абсолютно нормальное. Так что синдромом Марфана тут и не пахло.
Myron R. Schoenfeld, MD. Nicolo Paganini. Musical Magician and Marfan Mutant? JAMA. 1978;239(l):40–42. doi: 10.1001/jama. 1978.03280280040022.
Williams E. Rare Cases, with Practical Remarks // Transactions of the American Ophthalmological Societ. Vol. 2. - PP. 291–301. - PMC 1361735.
Marfan, Antoine (1896). Un cas de déformation congénitale des quartre membres, plus prononcée aux extrémitiés, caractérisée par l’allongement des os avec un certain degré d’amincissement [A case of congenital deformation of the four limbs, more pronounced at the extremities, characterized by elongation of the bones with some degree of thinning]. Bulletins et mémoires de la Société medicale des hospitaux de Paris. 13 (3rd series): 220–226.
18.0 Болезнь Шагаса
Обычно, когда мы рассказываем историю изучения какой-то болезни, эта история может растянуться на сотни, если не на тысячи задокументированных лет (как это было, например, с малярией). Иногда, когда мы говорим о редком генетическом заболевании, все наоборот, быстро и камерно — находится человек, который открывает болезнь: три, пять, десять пациентов (синдром Лея, синдром Ангельмана). Да и неврологические заболевания таковы: Туретт описал несколько случаев, Паркинсон, Шарко и Мари, одновременно с ними Тут… Но в истории медицины есть один случай, когда и возбудитель заболевания, и его полный жизненный цикл, и все переносчики, и сама болезнь были описаны одним-единственным человеком. Действительно — история достойна не только книги рекордов Гиннеса, но и Нобелевской премии, которая к тому времени уже достаточно давно вручалась. Однако — не судьба. Но тем не менее, история открытия и изучения этиологии этой болезни — это история жизни одного-единственного врача. Дальше — только история борьбы с ней. Но — обо всем по порядку.
Прежде чем мы начнем говорить о несостоявшемся первом бразильском лауреате Нобелевской премии, нужно договориться о том, как мы будем его называть. Дело в том, что болезнь, им открытая и в его честь названная, в русскоязычной медицинской литературе чаще всего называется болезнью Шагаса. Но наш герой — бразилец. И на португальском языке Chagas произносится как Шагаш. Поэтому в нашей статье речь пойдет о родившемся 9 июля 1879 года в городе Оливейра в Бразилии Карлуше Жустиниану Рибейру Шагаше.
Предки Шагаша прибыли в Бразилию из Португалии еще в середине XVI века. Бразилия — страна кофе, и кофейные плантаторы там были весьма успешны, в том числе и отец нашего героя, Жозе Жустиниану дас Шагаш. Правда, богатство и успешность никак не гарантирует долгой жизни. Отец Карлуша умер, когда мальчику было всего четыре года, и дальше его воспитывали иезуиты.
Впрочем, семья оказала влияние на его выбор профессии: дядя-врач сагитировал поступать в медицинский институт в Рио. Его-то Шагаш и окончил в 1902 году. Дальше молодому специалисту повезло: он стал работать в Институте сывороточной медицины, у ведущего паразитолога и микробиолога страны, директора института Освальду Круза (потом институт получит его имя).
Именно Круз стал руководителем диссертации Шагаша, которая была посвящена гематологическим аспектам малярии. В 1903 году Карлуш стал специалистом со степенью и отправился в портовую администрацию города Сантус, чтобы бороться с темой своей научной работы. Шагаш сосредоточился на борьбе с переносчиками малярии — комарами, предложив опрыскивать инсектицидами рабочие кварталы. Метода Шагаша оказалась действенной, заболеваемость заметно снизилась, и этот способ стали использовать по всей Бразилии.
С 1906 года Шагаш — постоянный сотрудник Института сывороточной медицины, и начинает ездить по стране, бороться с малярией. Но комарами и плазмодиями молодой ученый не ограничивался, и в 1909 году во время длительной командировки в район реки Сан-Франсиску обратил внимание, что местных жителей «едят» не только комары, но и клопы.
В триатомовом клопе («целующийся жук») Шагаш обнаружил неизвестный ранее вид простейших — трипаносому, которую он назвал в честь своего босса и научного руководителя — Освалда Круза. Шагаш сразу же проверил, что будет, если клоп укусит обезьяну. Trypanosoma cruzi прекрасно передается животному и вызывает симптомы: лихорадку, увеличение лимфатических узлов, а затем — увеличение желудочков сердца и сердечную недостаточность. Обследовав местное население, Шагаш нашел все эти симптомы и у бедных бразильцев.
В результате в 1909 году вышла его статья «Nova tripanozomiaze humana: Estudos sobre a morfolojia e о ciclo evolutivo do Schizotrypanum cruzi n. gen., n. sp., ajente etiolojico de nova entidade morbida do homem», в которой Шагаш единолично полностью и целиком описал неизвестную ранее болезнь — от возбудителя и пути передачи до клинической картины, симптомов и эпидемиологии. Это — уникальный случай в истории медицины: до 1909 года человечество не знало о существовании мощного заболевания, постоянно уносящего тысячи человек в год, а после одной единственной статьи одного-единственного человека стало знать о болезни практически все — кроме того, как ее лечить.
Кстати, ближайший родственник Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei, тоже хорошо известен медикам: этого паразита переносит муха це-це и вызывает он сонную болезнь, но о ней — в следующей книге…
Болезнь же Шагаса (Шагаша) трудно назвать редкой и сейчас: в Латинской Америке очень много стран, в которых она распространена. В одной только Мексике ею болеют чуть меньше двух миллионов людей в год, и несмотря на некоторые успехи в борьбе с острой и хронической формами болезни, она продолжает уносить тысячи и тысячи жизней. Но об этом — чуть позже.
Сам же Шагаш благодаря своей статье стал очень известным бразильцем. После смерти патрона, в 1917 году, он возглавил институт, ставший Институтом Круза, Шагаса дважды номинировали на «нобеля» по физиологии или медицине: в 1913 и в 1921 годах, но в первом случае его обошел первооткрыватель анафилактического шока Шарль Рише, а в 1921 году премию решили вообще не присуждать (правда, в Бразилии принято считать, что Шагаша «засудили» по политическим соображениям — что вполне может быть).
Тем не менее, отсутствие премии не мешало нашему герою быть чтимым в стране и уважаемым в науке. В гостях у Шагаша был даже сам Альберт Эйнштейн. В 1912 году он получил очень престижную премию имени Фрица Шаудина, одного из первооткрывателей бледной трепонемы, скончавшегося в 1906 году. Это было своеобразное соревнование на лучшую работу, посвященную простейшим, в котором участвовали такие звезды мировой микробиологии, как Поль Эрлих и Эмиль Ру (читайте главу про дифтерию), Илья Мечников, Шарль Лаверан (см. малярию), сэр Уильям Лейшман (есть такое заболевание, лейшманиоз) и Шарль Николь (читайте про тиф). Из этих титанов только Лейшман и Ру не получили к тому времени или не получат вскорости (Николь) свои «нобелевки» — а Шагаш их обошел.
Среди других открытий нашего героя — впервые описанный им род паразитических грибков Pneumocystis, позже признанный возбудителем пневмоцистной пневмонии, заболевания, убивающего при сниженном иммунитете — например, в случае онкологических заболеваний или СПИДа.
Увы, Карлуш Шагаш прожил всего 55 лет, скончавшись от обширного инфаркта. Он оставил двух сыновей, тоже ставших известными учеными. Старший, Эвандро Шагаш, прожил всего 35 лет, но успел стать известным специалистом в области тропической медицины, а младший, Карлуш Шагаш Филью, прожил 90, стал известным нейрофизиологом, изучавшим нейрональную активность электрических рыб и даже был главой Папской академии наук.
Впрочем, в одной латиноамериканской стране болезнь Шагаса называется немного иначе: болезнь Шагаса-Мацца. Дело в том, что в Аргентине эту болезнь изучал другой человек, без рассказа о котором глава будет неполной.
Сальвадор Мацца родился в небольшом городке Рауш недалеко от Буэнос-Айреса в 1886 году в семье эмигрантов с Сицилии. Так что сицилийский темперамент хорошо сочетался в нем с темпераментом аргентинцев. Мацца окончил Университет Буэнос-Айреса и занялся практической медициной: сразу же по выпуску из alma mater он получил пост инспектора здравоохранения всей провинции Буэнос-Айрес. А когда началась Первая мировая война, аргентинская армия отправила его в Европу — изучать эпидемии в армии Германии и Австро-Венгрии. Насколько успешным было это изучение, не знаем и не скажем, но именно там произошла одна из самых важных встреч в жизни итало-аргентинца. В действующей армии командированный из Аргентины Мацца познакомился и подружился с командированным из Бразилии Шагашем, к тому времени уже увеянным славой. После войны, когда Мацца стал главой университетской больницы в Буэнос-Айресе, у него состоялась еще одна знаковая встреча во время очередной командировки во Францию — с знаменитым Шарлем Николем, получившим Нобелевскую премию за то, что он открыл вектор (животное-переносчика) брюшного тифа. Инициатива Шагаса и опыт Николя позволили Мацце провести в 1926 году исследования в Аргентине и подтвердить все выводы Шагаса уже на материале родной страны.
Нужно сказать, что на самом деле, в Латинской Америке заболевание существовало за многие тысячи лет до того, как она стала Латинской. В 2004 году в журнале «Proceedings of National Academy of Science» появилась статья с результатами исследований 283 мумифицированных тел, найденных на территории северной части Чили и южной части Перу. Некоторым из этих мумий было не менее 9000 лет. Проведенная полимеразная цепная реакция на кусочек из 300 «букв генетического кода» — характерной для трепаносомы Круза последовательности нуклеотидов дала положительный результат для 115 останков. То есть 41 процент древних жителей Южной Америки болел болезнью Шагаса. Точнее — был инфицирован ее возбудителем — от чего умерли эти люди, вряд ли узнает даже опытный патологоанатом (по крайней мере, во всех случаях).
Конечно, мы не можем сказать, как протекала болезнь у этих несчастных (а может быть и счастливых, кто знает?) людей. Но, исходя из этой и других находок, палеопаразитологи делают вывод, что болезнь Шагаса появилась именно здесь, в Андах: когда примерно чуть более девяти тысяч лет назад люди причудливой культуры Чинчорро, авторы древнейших мумий в истории человечества, осели в Перу и на севере Чили, они встретились с трепаносомой Круза и та нашла себе новых хозяев.
И судя по всему, нам известен минимум один клинический случай болезни еще до открытия этого заболевания: молодой двадцатишестилетний европеец участвовал в кругосветном плавании и записал в своем дневнике 25 марта 1835 года: «Этой ночью я пережил атаку (иначе и не скажешь) Бенчуки (вид рода Reduvius [сейчас этот род клопов-хищников из семейства Reduviidae называется Zelus — прим. авт.]), великого черного клопа пампасов. Это самое отвратительное ощущение — чувствовать, как мягкие бескрылые насекомые в дюйм длиной ползают по твоему телу. Перед тем, как насосаться крови они довольно тонкие, но после того, как они напьются, они разбухают от крови и их легко раздавить. Я находил их в северной части Чили и Перу. В Икике я поймал одного „пустого“. Когда его помещали на столе, он, даже будучи в окружении людей смело атаковал подставленный палец, если ему позволить. Боли от укуса не было — и всего за десять минут клоп раздувался из палочки в шарообразную форму».
Наверное, по естественно-испытательскому тону дневника и по географическим маркерам вы уже догадались и о судне, на котором вел этот человек свои записи, и о том, кем он был. Да, вы правы, судя по всему, в Европу болезнь Шагаса на корабле «Бигль» привез Чарльз Дарвин. По крайней мере, неврологические и гастроэнтерологические симптомы, характерные для болезни Шагаса создатель теории эволюции испытывал потом всю жизнь.
Конечно, возникает вопрос — неужели до Шагаса никто из врачей не замечал симптомов такой распространенной болезни? Конечно же, замечали. Как минимум в двух книгах португальских медиков XVIII века мы можем встретить описания схожих заболеваний — в книге 1707 года, изданной врачом Диасом Пиментой (1661–1715) и — самое четкое описание — в труде врача Луиша Гомеша Феррейры (1686–1764). Описывал некоторые симптомы в 1842 году и датский врач Теодоро Ланггаард (1813–1884), эмигрировавший в Бразилию. Но только в конце ΧΙΧ — начале XX веков медицина дошла до понимания сути болезней, и стал возможен уникальный подвиг Шагаша.
Что же из себя представляет эта болезнь сейчас? Можно ли считать «шагаса» побежденным?
Увы, еще далеко нет. В среднем, в мире болезнью Шагаса болеет от 6 до 7 миллионов человек. В основном — в Мексике, Центральной и Южной Америке. Есть более точные данные: в 2017 году в авторитетнейшем медицинском журнале Lancet опубликовали отчет по 310 типам болезней и травм: Global Burden of Disease Study 2015. Так вот, на тот самый 2015 год «шагасом» болело 6,6 миллионов человек и умерло 8000.
Удивительно, но при таких масштабах ВОЗ все равно включает это заболевание в список 13 самых «заброшенных» тропических недугов. Действительно, внимания «шагасу» уделяется мало. А ведь заболеть им — сомнительное удовольствие.
Первая стадия болезни проходит бессимптомно или почти без симптомов: ну зудит укус или чешется, ну распухли лимфоузлы — подумаешь! Иногда встречается шагома — припухлость на месте укуса, которая превращается в узелок. Впрочем, бывает острая фаза и с симптомами — головная боль, понос, жар, мышечные боли. Самый характерный симптом — это симптом, описанный аргентинским врачом Сесилио Феликсом Романьи (1899–1997), который изучал тропические болезни в Аргентине в 1930–1960 годах. Он заметил, что у заболевших болезнью Шагаса часто случается воспалительный отек века — одного или сразу двух. Это возникает, когда трепаносома выходит через коньюктиву.
В принципе, если повезет, и вы вошли в число 60–70 процентов счастливчиков, то через два-три месяца болезнь перейдет в хроническую бессимптомную фазу. А если нет — то симптомы будут развиваться медленно, десятилетиями. Но в итоге это приводит к неврологическим симптомам, увеличению желудочков сердца (около 30 % заболевших, и в конце концов дело доходит до сердечной недостаточности), к увеличению толстой кишки (10 % заболевших).
Вакцины от заболевания до сих пор нет, антибиотики от паразита предсказуемо не помогают. Поэтому прибегают к антипаразитической химиотерапии. Раньше основным препаратом был нифуртимокс, который применяется и при сонной болезни. Но этот препарат сам достаточно ядовит и приводит к сильным побочным эффектам: потеря веса, головная боль, сильная боль в животе… Приятного мало, поэтому сейчас к нифуртимоксу прибегают тогда, когда не помогает бензиндазол — препарат нового поколения с умеренными побочными эффектами. Сейчас именно бензиндазол стал так называемым препаратом первой линии в борьбе с болезнью Шагаса. Но увы — даже все вместе взятые лекарства достаточно эффективны только в ранней (острой) стадии болезни — детей медикаменты вылечивают в 90 % случаев, взрослых — в 60–85 %. В случае хронической стадии все хуже: препараты более-менее помогают только детям до 12 лет. Впрочем, взрослым тоже можно давать бензиндазол — он хотя бы снизит вероятность сердечной недостаточности.
Поэтому если вы отправляетесь в Южную Америку, будьте внимательны с местными жуками — они не так безобидны, как могут показаться на первый взгляд. Чарльз Дарвин подтвердит.
Chagas С. (1909а). «Neue Trypanosomen». Vorlaufige Mitteilung. Arch. Schiff. Tropenhyg. 13: 120–122.
Chagas C (1909b). «Nova tripanozomiase humana: Estudos sobre a morfolojia e о ciclo evolutivo do Schizotrypanum cruzi n. gen., n. sp., ajente etiolojico de nova entidade morbida do homem». Mem Inst Oswaldo Cruz. 1 (2): 159. doi:10.1590/S0074-02761909000200008.
Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015.
GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators Lancet. 2016 Oct 8; 388(10053): 1545–1602. doi: 10.101 6/SO140-6736(16)31678-6.
19.0 Синдром Лея
В сентябре 2016 года научный журнал Fertility and Sterility рассказал миру удивительную историю: в апреле родился ребенок по имени Абрахим Хасан (Abrahim Hassan), который стал первым в мире ребенком от трех родителей. Уникальная методика медицинского вмешательства позволила малышу избежать редкого генетического поражения центральной нервной системы — синдрома Лея или подострой некротизирующей энцефаломиопатии. Но откуда взялось это заболевание, что оно значит и почему получило именно такое название? И какое отношение к этому имеет Джеймс Бонд? Обо всем мы подробно расскажем в этой главе.
Синдром Лея (или Ли, как иногда пишут фамилию Leigh в России) с точки зрения полного выздоровления неизлечим. Это заболевание вызывается мутациями не в «главном» геноме в ядре клетки, а в ДНК митохондрий и поражает и мозг, и мышцы. Дети, рождающиеся с ним, нечасто доживают до совершеннолетия и без специфической лекарственной поддержки погибают уже в возрасте нескольких лет. Есть и формы, которые проявляются более поздно, хотя такое бывает крайне редко.
Но прежде чем поговорить о самом заболевании, нам бы хотелось рассказать о том, в честь кого оно названо, так как этот человек обладал исключительным опытом, имел крайне интересную судьбу и совсем незаслуженно остался почти забытым. Речь идет об истинном британце Арчибальде Денисе Лее, между прочим, психиатре Джеймса Бонда, о котором мы упомянули вначале. Но обо всем по порядку.
Интересно, что об этом человеке нет статьи даже в английской Википедии, не говоря уже о русской. Хотя, без каких бы то ни было оговорок, он был выдающимся представителем медицинского племени, который гораздо больше прославился на ниве психиатрии, хотя и начинал как нейрохирург. Если посмотреть на его биографию, то можно увидеть массу аббревиатур, на которые так падки британцы. Вот как выглядит его биография в трех строках:
Archibald Denis Leigh b.l 1 Oct 1915 d.20 April 1998 MB ChB Manch (1939) BSc(1939).
MRCP (1941) MD(1947) FRCP(1955).
FRCPsych (1971).
Давайте расшифруем эту «тайнопись» шаг за шагом.
Арчибальд Денис Лей родился 11 октября 1915 года, и его столетие мир отметил в 2015 году. Отец будущего психиатра работал управляющим на Ланкаширской хлопкоткацкой фабрике. Во времена депрессии, которая коснулась не только США, фабрика закрылась, однако, он успешно переквалифицировался в журналиста, став редактором в «Picture Post».
Юный Лей закончил школу и поступил в Манчестерский университет на медицинское отделение. Стоит сразу сказать, что наш выдающийся персонаж учился у человека не менее выдающегося — сэра Джеффри Джефферсона (1886–1961), который был известен не только тем, что в годы Первой Мировой войны работал в Англо-Российском госпитале в Петрограде, и не только тем, что стал одним из пионеров нейрохирургии. Помимо этого он уже на закате своей жизни, в 1949 году, прочитал лекцию «Разум механического человека» (The Mind of Mechanical Man), ставшую толчком к одной из первых дискуссий о том, возможно ли создать искусственного человека.
Так или иначе, в 1939 году Лей получил самую первую важную аббревиатуру своей жизни: MB ChB Manch (1939). Что это означает? Это аббревиатура от «Bachelor of Medicine and Surgery» — бакалавр медицины и хирургии Манчестерского университета. Одновременно и бакалавр наук (BSc). А ведь это уже первые научные и медицинские степени.
Но начинается Вторая мировая война, и Лей уходит на фронт, получив в 1941 году аббревиатуру MRCP. Она означает «Membership of the Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom» или член Общества королевских колледжей врачей Объединенного Королевства. Если перевести на русский — дипломированный медик, но еще без лицензии врача.
Вторую мировую Лей провел, работая военным врачом. Сначала — «полковым врачом», но затем, как невролога высокой квалификации, его перевели в Оксфордский центр черепно-мозговой травмы, где он имел дело с солдатами, получившими ранения в голову. Именно там он написал свою первую научную работу, детально описав случай потери обоняния после огнестрельного ранения, которая цитируется до сих пор.
Впрочем, на месте молодому врачу не сиделось, и он отправился на азиатский театр военных действий. Все-таки он был нейрохирург и отныне заведовал военным мобильным нейрохирургическим госпиталем на бирманском фронте. Победный 1945 год он встретил в чине подполковника советником по неврологии медслужбы Восточной армии Его Величества в Индии. Однако, при этом — без заветной приставки MD к имени. Военный врач не равен «доктору медицины» и не обладает правом открывать свою практику или работать в больнице.
Пришел «дембель», и наш герой снова погрузился в неврологию, в науку. Работа в неврологическом отделении Лондонского госпиталя продвигалась, и налаживалось сотрудничество с известным неврологом с потрясающей для его профессии фамилией — Уолтер Рассел Брейн, первый барон Брейн. Забавно, что лорд Брейн долгое время был редактором известного и авторитетного журнала «Brain» (у него и по сей день импакт-фактор превышает 10). А еще лорд Брейн известен в качестве первооткрывателя квадрипедального рефлекса Брейна: если больной со слабостью конечностей одной половины тела (так называемый гемипарез) становится на четвереньки, то пораженная рука выпрямляется.
Впрочем, именно у Брейна с Леем произошли две важные вещи: он получил заветные буквы MD — «доктор медицины» в пожизненную приставку к фамилии и понял, что неврология — это совсем совсем не его. Дело его жизни тоже связано с мозгом, но это — психиатрия. В 1949 году он стал консультантом в двух психиатрических больницах — Модели и святой Марии Вифлеемской, знаменитом на весь мир Бедламе.
Впрочем, неврологию ему забыть не дали: молодые специалисты (Лею, напомним, было всего 34) после войны были в дефиците, и ему пришлось поработать не только психиатром в этих больницах, но и курировать их неврологические отделения. Именно там он и сделал открытие, обессмертившее его имя.
В 1951 году в «Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry» вышла статья «Подострая некротизирующая энцефалопатия у ребенка» (Subacute necrotising encephalopathy in an infant, J Neurol Neurosurg Psychiatry 1951;14:216-21), в которой описывался пациент госпиталя King’s College, скончавшийся семи месяцев от роду.
Его подробные анамнез и патанатомическое описание привели к тому, что появилось новое заболевание — синдром Лея. Сейчас мы знаем, что оно вызывается мутациями в ДНК, и понимаем, что с этим можно сделать. А статья Лея до сих пор активно цитируется (сейчас у нее больше 650 цитирований).
В 1955 году Лей стал FRCP — кем-то вроде академика по медицине, почетным членом Fellow of the Royal College of Physicians. Успех? Можно почивать на лаврах в 40 лет? Ничего подобного!
Наш герой тем временем активно делал психиатрическую карьеру. Причем, стремительную, головокружительную. Он стал психиатром-консультантом армии — к тому времени уже Ее Величества (это было 60 лет назад, а в Британии все та же королева!), стал первым британским психиатром, который вошел в комиссию по условно-досрочному освобождению. А в 1959 году Лей был рекомендован Королевской комиссией по смертной казни как независимый психиатр, проводящий психиатрическую экспертизу преступников, которым светит петля (последняя казнь в Британии состоялась в 1964 году).
Одним из самых известных дел Лея стало дело Гюнтера Подола, который обвинялся в убийстве полисмена. В свою защиту Подола утверждал, что был избит полицейским, после чего с ним случилась амнезия, и он вообще не помнил, что было потом. Лей сумел доказать, что амнезия симулирована. Подола был приговорен к повешению и перед смертью признался в убийстве и симуляции.
Кроме этого, известным процессом Лея стало выступление на стороне Короны в деле против романа «Любовник леди Чаттерлей», обвиненного в непристойности. Но в деле о жестоком обращении следователей по специальным делам с членами Ирландской республиканской армии Лей уже выступил против Королевы.
Будучи самым известным экспертом-психиатром, при этом абсолютно беспристрастным, Лей пользовался уважением и авторитетом в среде спецслужб. Именно он давал психиатрическую оценку при приеме на работу агентов секретных служб МИ5 и МИ6 — а это, напомним, время появления романов о Джеймсе Бонде. Так что агента 007 с лицензией на убийство, если бы он существовал в реальности, не взяли бы на работу без визы Дениса Лея.
Приходилось ему и лечить шпионов. Многие двойные агенты, работавшие в СССР, пользовались знаниями Лея во время реабилитации по возвращении в Британию. И при этом Лей превосходно консультировал лечение одного советского генерала в советской же психиатрической клинике.
Всего семь лет славы — и в 1966 году Лей уже глава, генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации. И на этом посту он не дал исключить из нее СССР за «карательную психиатрию».
Известен Лей и как историк психиатрии: он написал прекрасный труд «The historical development of British psychiatry». К этому можно добавить и фундаментальное исследование психосоматики бронхиальной астмы, и перевод с французского труда по психосоматике безболезненных родов. Последняя аббревиатура — «академик от психиатрии», FRCPsych, стала частью его «титула» в 1971 году. Лей с гордостью носил ее еще более четверти века.
Так что человек, чью фамилию обессмертил один клинический случай, случайно попавшийся ему на нелюбимой работе, сделал очень и очень много — даже такого, что еще долго будет храниться под грифом «For your eyes only».
А теперь о самом заболевании.
22 апреля 1947 года в госпиталь King’s College поступил мальчик 7 месяцев и 3 недель от роду. До 6 недель развитие продолжалось в нормальном темпе, однако после он перестал плакать, практически все время спал, только иногда просыпаясь от того, что его потревожили. Он отказывался сосать, из-за чего его приходилось кормить ложкой. Позже начались проблемы с дыханием, мальчик ослеп, стал глухим, появилась двусторонняя спастичность (повышение тонуса мышц).
Состояние маленького пациента прогрессивно ухудшалось, а 25 апреля он впал в кому от сильного повышения температуры накануне и скончался. На вскрытии не было обнаружено никаких аномалий, кроме состояния центральной нервной системы. В головном мозге обнаружились обширные очаги демиелинизации и разрушения ткани, подобные очаги наблюдались и в спинном мозге.
Лей писал, что такое нестандартное расположение участков деструкции ткани незамедлительно сформировало проблему в объяснении патогенеза и диагностике. Ведь до этого в литературе описаний с подобными течением клинических симптомов и анализом при вскрытии не встречалось. Все признаки указывали на то, что на глазах автора протекал подострый некротический миелит (воспаление спинного мозга), однако, было известно о таких симптомах лишь у 40-или 50-летних пациентов.
Проводились сравнения и с синдромом Вернике, причем, выявились многочисленные сходства как в «поведении» сосудов, так и в типе повреждений нервных клеток, а также в функционировании глии (клетки глии, астроциты, микроглия и олигодендроциты составляют ткань мозга наравне с нейронами)). Однако же все равно существовали различия в затрагиваемых участках мозга, имелись особенности и в спинном мозге.
В итоге Лей пришел к выводу, что на основе всех собранных медиками знаний на тот момент решение принять невозможно, так как нельзя сказать, была ли наблюдаемая им картина просто детской формой синдрома Вернике, либо вызывалась каким-то неведомым токсином или вирусом.
С момента первого описания недуга прошло чуть более 60 лет, и мы можем смело утверждать, что теперь-то знаем, что за непонятный зверь таится под диагнозом «синдром Лея». На данный момент описано не так уж и много случаев этой патологии, так как встречается она довольно редко — примерно 1 на 40 000 человек, однако существуют регионы (например, район канадской провинции Квебек), в котором эта величина поднимается до 1:2000. К 1994 году в литературе имелись сведения о 34 детях, а к 2000 — уже о больше 120.
Интересно, что синдром этот может возникать не только из-за мутаций в митохондриальной ДНК, более того, «митохондриальный» тип встречается лишь в 20–25 % всех случаев. Благодаря развитию медицинской генетики наука узнала о 40 разных типах генетических поломок, которые приводят к подобному исходу. Самое главное, что генетические дефекты передаются по наследству, имея либо аутосомно-рецессивную, либо опять же рецессивную и связанную с Х-хромосомой природу (если речь идет о поломках в основной ДНК, которая находится в ядре).
Клиника развивается из-за нарушения в энергообмене клетки, так как те важные области генома, которые оказываются в зоне поражения, отвечают за производство комплексов дыхательной цепи. А без дыхания клетка, как и мы, целые организмы, жить не может. Вот и мучается, накапливая неправильные продукты обмена, загрязняясь и в итоге умирая. В основном страдают именно нейроны.
Но знать-то мы знаем, а вот адекватно лечить не могли до 2016 года, пока не появилась возможность тонко манипулировать женскими яйцеклетками. Для того, чтобы 36-летняя женщина, носящая в себе митохондриальные гены, приводящие к синдрому Лея (а мы помним, что митохондриальная ДНК передается только по материнской линии), могла родить здорового ребенка, международной команде ученых, представляющих Центр репродуктивного здоровья «Новая надежда» в Нью-Йорке, King’s College в Лондоне и Оксфордский университет, пришлось воспользоваться клеткой женщины-донора.
Врачи, проводившие манипуляцию, сначала перенесли ядра из материнской яйцеклетки в донорскую, а затем провели процедуру экстракорпорального оплодотворения методом ИКСИ (интрацитоплазматического введения сперматозоида в яйцеклетку). Таким образом получалась гибридная яйцеклетка с большим геномом родителей, но митохондриальным геномом женщины-донора.
Поскольку в США «зачатие» ребенка от трех родителей запрещено, ученым пришлось работать в одной из мексиканских клиник. После этого процедуру провели на Украине, а Великобритания вообще внесла метод в список официально разрешенных манипуляций. Таким образом, работа 2016 года стала первой успешной генетической «профилактикой» синдрома и дала надежду другим людям-носителям поломанных генов на рождение здорового ребенка.
20.0 Синдром Ангельмана
18 ноября 2015 года было совершено дерзкое ограбление. Из музея Кастельвеккьо в Вероне украли 17 старинных полотен на общую сумму почти в 18 миллионов евро. Среди произведений Тинторетто, Рубенса и других вынесли и картину XVI века, которую все называют по-разному: «Мальчик с рисунком», «Мальчик с куклой», «Мальчик-марионетка». Речь идет о картине Джованни Франческо Карото (1480–1555 или 1558), которая внесла важный вклад в развитие современной неврологии. Если бы не она, мир бы так и не узнал об одном редком, но «метком» генетическом заболевании, либо узнал, но уже под совсем другим именем.
Какое же отношение имеет этот портрет неизвестного ребенка со странной улыбкой к медицине? Все произошло в 1964 году, когда в замок Кастельвеккьо, что располагался на берегу реки Адидже в Вероне, зашел полюбоваться богатой художественной коллекцией 49-летний британский детский врач Гарри Ангельман, практиковавший в Уоррингтоне (Ланкашир, Англия).
Как и о нашем предыдущем герое, Денисе Лее, о Гарри Ангельмане известно крайне мало, лишь основные факты. Родился он в 1915 году в Биркенхеде графства Мерсисайд, изучал медицину в Ливерпульском университете ив 1938 году получил желанную степень по специальности «детское здоровье», или как сейчас принято говорить в профессиональном сообществе «педиатрия». Он успел поработать и в детском госпитале Booth Hall в Манчестере, и в больнице Королевы Марии в Каршальтоне, прежде чем вступил в ряды медицинского корпуса Королевской армии и отправиться в Индию.
Будучи в звании майора, Ангельман оказывал медицинскую помощь военнопленным итальянцам в Кветте (и неважно, что он детский врач), и с того времени его сердцем завладела любовь к Италии. На фронте он начал овладевать языком, а по возвращении занялся им вплотную. Не сложно предположить, где Гарри Ангельман с супругой впоследствии проводили свои отпуска.
После демобилизации его отправили в больницу Святой Марии Эббот в Лондоне, а после в 1947 году он стал членом Королевского колледжа врачей, что по тем временам было очень престижно — сродни медицинской палаты лордов. Новое положение позволило ему стать регистратором Королевской детской больницы в Ливерпуле, где в 1948 году он получил докторскую степень по медицине. А в 1950 году он и вовсе стал консультантом терапевтической группы госпиталей.
Несмотря на свою большую общественную нагрузку и специальность по общей педиатрии Ангельман всегда интересовался детской неврологией и в частности — аутизмом, проблемами с интеллектом и умственными отклонениями у детей. Особенно плотно эта тема поглотила его сознание как раз в 50-е годы.
И вот в начале 60-х в разное время к нему на прием случайно попали три семьи, чтобы показать своих детишек. Эти дети (две девочки и мальчик) отличались веселым нравом, практически все время смеялись или улыбались, знали, несмотря на свой возраст 5–6 лет, очень мало слов, в основном общались знаками, плохо выполняли команды, двигались очень резко и часто нуждались в опоре, были неспокойными, неусидчивыми, но главное — у них сильно тормозилось естественное умственное и физическое развитие.
Конечно, без особенностей не обходилось, однако же убедительного объяснения или подобного описания в литературе врачу найти никак не удавалось. Он размышлял о том, что, возможно, перед ним какое-то новое заболевание, патологических концов которого он в силу несовершенства диагностических научных методов найти не мог. А ведь помимо клинического осмотра всем детям провели хромосомное исследование или кариотипирование, изучили анализы крови и спинномозговой жидкости, сделали хроматографию мочи и не отметили никаких значительных отклонений от нормы, кроме повышения уровня аминокислот в моче у двух детей.
Помимо этого дети проходили электроэнцефалографическое исследование, при котором измеряется электрическая работа различных участков коры головного мозга.
Здесь отклонения от нормы оказались более выраженными и проявлялись в виде изменений частоты и амплитуды ритмов, похожих на эпилептическую активность.
И еще одна характерная черта отличала мозг этих детей. Для того, чтобы о ней рассказать, нужно немного описать бытовавший в медицине с 1919 года вплоть до 70-х метод рентгеновской визуализации мозга.
Ни компьютерной, ни магнитно-резонансной томографии в эти годы еще не существовало (первые сведения о них появились в 1972 и 1973 годах соответственно), но существовала необходимость как-то выходить из положения и изучать мозг. Под «рукой» был только старый добрый рентген. Но вот незадача — не «видят» рентгеновские лучи мозговые ткани. И американский нейрохирург Уолтер Денди в начале XX века придумал отсасывать во время спинномозговой пункции практически всю жидкость, чтобы заменять ее на воздух или другие газы типа гелия или кислорода. В этом случае удавалось получить довольно четкие изображения мозга, а также состояния желудочков, даже измерить их объемы.
Но только представьте, какими последствиями могло обернуться любое такое исследование. Минимум жестокими головными болями, а максимум — вклиниваниением продолговатого мозга (самого нижнего его отдела), где располагаются жизненно важные центры дыхания и сердцебиения, в отверстие основания черепа, его сдавливанием и мгновенной смертью. Ужас!
Однако, мы отвлеклись. Так вот, на этой самой пневмоэнцефалограмме (именно так называлась процедура) у детей обнаруживались расширения почти всех желудочков мозга.
«Они имели различные нарушения, и, хотя на первый взгляд, казалось, страдали от разных состояний, я чувствовал, что существует общая причина их болезни. Диагноз поставил чисто клинический, потому что, несмотря на технические исследования, которые сегодня уже более точные, я не смог установить научное доказательство того, что у всех трех детей все недостатки из одного гнезда», — писал доктор Ангельман.
Но и посылать в уважаемые журналы свои описания он все не решался… Вдруг он ошибся, и никакое это не открытие? Однако, все же маленьких пациентов что-то объединяло… Но что?
Дело делом, но каждому уважающему себя врачу, работающему не покладая рук, нужен достойный отдых. А какой отдых был для Гарри Ангельмана наиболее желанным? Совершенно верно — визит в теплую, солнечную и беззаботную Италию, куда влекли его интерес к культуре и любовь к искусству. Тем более он давно хотел посетить знаменитую галерею картин в Вероне, которая с 1923 года располагалась в старинном замке Кастельвеккьо (собственно, так с итальянского и переводится: «старый замок»), что и воплотил в 1964 году.
В тени прохладных залов он медленно прогуливался между скульптурами Мадонны, Екатерины, Цецилии эпохи Треченто, фресками XII–XIV веков, полотнами Рубенса, Беллини, Кривелли, Бонсиньори, пока вдруг не остановился перед портретом мальчика с рисунком куклы кисти Франческо Карото. Он всматривался в это счастливое лицо, в этот разрез рта, в эти глаза, в этот детский рисунок, о котором искусствоведы до сих пор спорят, нарисовал ли его сам художник или дал карандаш соседскому ребенку (в этом случае нужно указывать двойное авторство). Именно перед этим портретом Ангельмана осенило: странная улыбка — как у мальчика — и резкие, судорожные, некоординированные движения — как у куклы-марионетки — точь-в-точь описание его пациентов. Вот они, те самые сходства, о которых в еще никто не говорил.
Интригующее произведение эпохи Возрождения побудило его описать три случая своих наблюдений в статье под названием «Дети-марионетки», которая появилась уже через год в 7-м номере журнала Developmental Medicine & Child Neurology: «‘Puppet’ Children: A report of three cases» Harry Angelman, (1965). doi: 10.1111/j. 1469–8749.1965.tb07844.x. Сам синдром автор назвал «синдромом счастливой марионетки».
Описанная Ангельманом патология вскоре все-таки получила его имя. Но для этого должно было пройти полтора десятка лет, так как волны, поднявшиеся было над гладью медицинского сообщества после публикации статьи, через пару лет снова стихли. Вплоть до зари 80-х годов, пока болезнью не заинтересовался невролог Чарльз Уильямс.
«Я впервые узнал про состояние, которое теперь называется синдромом Ангельмана, когда мой преподаватель, доктор Джейми Фриас, диагностировал его в 1978 году у взрослой женщины. К 1980 году мы с удивлением обнаружили еще 6 человек с этим заболеванием, которые жили в институте умственной отсталости здесь, в Гейнсвилле. Мы опубликовали эти данные в 1982 году и предположили, что это состояние и называется синдромом Ангельмана», — вспоминает доктор Уильямс.
А еще через несколько лет, в 1987 году, удалось узнать, что проблема кроется в пятнадцатой хромосоме, откуда «выпало» некоторое количество генетической информации. Такое генетическое нарушение называется делецией, и впервые микроделецию области ql 1-13 длинного плеча 15-й хромосомы выявила Эллен Магенис, исследовательница Научно-медицинского центра Орегона.
В те же годы усилиями Чарльза Уильямса удалось создать Исследовательскую группу по синдрому Ангельмана (Angelman Research Group, ARG), чтобы у ученых появилось больше возможностей изучать заболевание. Она же в 1990 году переросла в национальный Фонд по изучению синдрома Ангельмана (Angelman Syndrome Foundation, ASF).
Ну а что же Гарри Ангельман? Он тихо проработал на своем месте и ушел в отставку в 1976 году, занявшись переводом медицинской литературы с итальянского на английский. Но о науке не забывал.
«В 1986 году я позвонил доктору Ангельману, который уже был на пенсии и жил в то время недалеко от Портсмутской гавани на юге Англии. Мне казалось, что очень важно иметь его одобрение и поддержку в плане ARG, и я боялся быть отвергнутым из-за своего внезапного появления. Конечно, к моему облегчению, доктор Ангельман был рад поговорить и предложил помощь в любых случаях. Его жена Одри отреагировала с тем же энтузиазмом, особенно в том, что касалось семей, у которых родился ребенок с патологией. Гарри также чрезвычайно хотелось знать все о генетических исследованиях синдрома», — писал Уильямс.
Сейчас благодаря многочисленным исследований и работам множества подобных ASF организаций по всему миру стало ясно, что это не слишком распространенное — от 1/10 000 до 1/45 000 — генетическое заболевание, для которого характерны задержка в развитии, почти полное отсутствие речи, двигательная дисфункция и частые эпилептические припадки. Заболевание вызывается четырьмя разными возможными генетическими нарушениями в 15-й хромосоме матери, что приводит к отсутствию экспрессии (превращения генетической информации в белок) гена UBE3A, из которого синтезируется ферментный компонент сложной системы деградации ненужных белков — убиквитин-лигаза Е6-АР. И им сейчас активно занимаются ученые, даже пытаясь находить патогенетические механизмы лечения, который на данный момент пока не существует.
Одной из таких «прорывных» работ стало исследование, опубликованное в конце 2015 года в «Journal of Neuroscience». Предыдущие работы уже показывали, что мыши с синдромом Ангельмана имеют картину расстройств, схожую с человеческой, которая проявляется в виде митохондриальной дисфункции в гиппокампе — области мозга, отвечающей в основном за формирование воспоминаний. Так как митохондрии — это главный источник активных форм кислорода (АФК), которые часто провоцируют разрушительные изменения в клетке, приводящие к серьезным болезням, изучение этого процесса подает большие надежды.
Группа исследователей из разных стран, занимающаяся проблемами нейробиологии, использовала модель заболевания у мышей для того, чтобы понять, какой вклад вносят митохондриальные супероксиды (те самые активные формы кислорода) в нарушение передачи нервных импульсов в гиппокампе и в ослабление памяти.
Они обнаружили, что при болезни мыши имели высокий уровень супероксида в особой зоне гиппокампа. Скорее всего, он может объясняться недостатком убиквитин-лигазы, но в то же время наблюдалось пониженное содержание митохондриального антиоксиданта MitoQ 10-метансульфоната (MitoQ), который работает против «убийственных» активных форм кислорода.
Кроме этого, обнаружилось, что MitoQ восстанавливает поврежденную в гиппокампе сеть соединений между нейронами и снижает дефицит памяти у мышей с «Ангельманом». Поскольку MitoQ работает только против митохондриального супероксида и не затрагивает другие источники активного кислорода, это может оказаться многообещающим способом лечения именно синдрома Ангельмана, минимально затрагивающим нормальную роль АФК в работе памяти.
Ну и последний интересный факт: в 1999 году в журнале Seizure диагноз «поставили» известнейшему мультипликационному персонажу. Угадаете, какому? Ну как же, постоянная улыбка на устах, дискоординация движений, нарушения речи… Правильно, это же гном Простак из мультфильма «Белоснежка и 7 гномов»!
P.S. Наверняка вы хотите задать вопрос о том, что же случилось с картинами? Нашли ли их? Можете быть спокойными — нашли в тайнике в Одесской области на Украине и вернули в ласковые руки мэра Вероны Флавио Този 21 декабря того же года. Но и тут не обошлось без политического скандала. Однако, это уже совсем другая история…
Примечания
1
См. Кир Булычев. «День рождения Алисы».
(обратно)
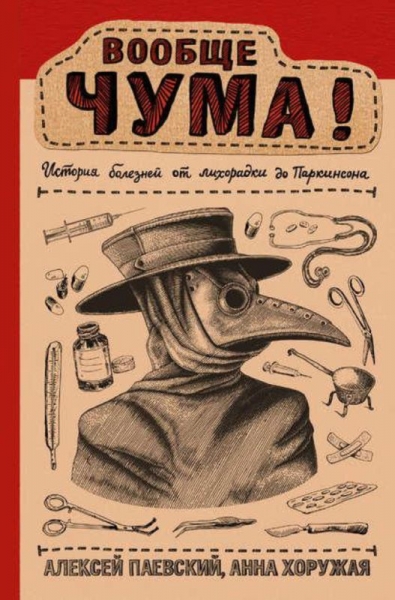



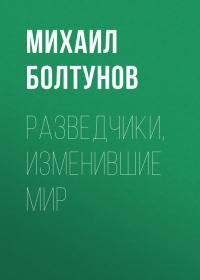

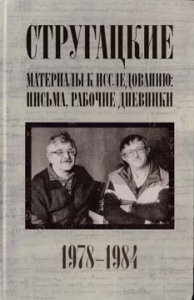
Комментарии к книге «Вообще ЧУМА!», Алексей Сергеевич Паевский
Всего 0 комментариев