Если бы не друзья мои...
ЖЕСТОКАЯ ПАМЯТЬ
На долю еврейского писателя Михаила Лева выпало столько страданий и испытаний духа, что их хватило бы на многих людей… Курсант Подольского военного училища, он был поднят по тревоге в бой на подступах к столице. Раненный, попал в плен, испытал ужас концлагерей, дважды бежал из плена, во второй раз — успешно. Воевал в партизанском отряде, стал начальником штаба партизанского полка, еще не зная в то время, что немцы расстреляли мать недалеко от родного дома, а отца, опустив в заброшенную шахту, заживо закопали…
Жизнь сурово обошлась с Михаилом Левом. Он увидел ее крутую хребтину. Но ему досталось и счастье преодоления сложности судьбы, то, что делает писателя жизненным и интересным людям.
Поэзия подвига — вот что движет сюжеты его произведений, вот что скрепляет нити повествования его книги, в которую вошли три части повести «Если бы не друзья мои…»: «Курсанты», «Всюду вместе», «Снова в строю», а также повесть «Юность Жака Альбро».
Повесть «Если бы не друзья мои…» в основе своей автобиографична. И в той степени, как «автобиографично» любое произведение, в котором отложился личный опыт автора, и в том, более узком значении слова, когда автор строит повествование на событиях, пережитых лично, увиденных лицом к лицу. Иначе говоря, перед нами документированная художественная проза. О жанре стоит сказать подробнее.
Долгое время в «реестрах» литературоведения художественная и документальная проза, мемуары значились обособленно. Потом мемуары переросли жанр личных свидетельств об истории и стали ближе к лирической прозе. Хотя произведения, скажем, Ольги Берггольц, начавшей лирический поток советской прозы 50-х годов, основываются на личных наблюдениях автора, герой не совпадает с образом художника, его создавшего. В советской литературе того периода лирическая проза слила документ и личное свидетельство, породила новый тип произведений — «Дневные звезды» О. Берггольц, «Ледовый дневник» Ю. Смуула и др. Потом, в 60-е годы, появятся произведения прозы и драматургии (театра и кино), основанные на строгом документе, фактах действительности, где авторское, лирическое начало сводится к минимуму. Все чаще первичный документальный материал — дневники, сводки, письма и архивные данные — начинает играть доминирующую роль. Доверие к «несочиненному», непридуманному вытесняет вымысел автора. Сегодня, когда мы читаем «Хатынскую повесть», «Я — из огненной деревни», «Блокадную книгу», «Каратели», мы знаем, что это такое — документированная литература. «Если бы не друзья мои…» — такая книга.
Конечно, ничто не заставило художника так переоценить ценности, как война. Она научила больше уважать реальность, считаться с фактами, которые несут огромный эмоциональный смысл. Писатели военной темы — фронтовики знают, что никакая фантазия не может сравниться с трагическим опытом тех лет.
В книге «Если бы не друзья мои…» повествуется, как советский воин, еврей по национальности, попал в окружение, оказался в плену у фашистов, в концентрационном лагере, прошел через ад унижений, физических и нравственных издевательств, как он выстоял в этой неравной борьбе, вошел в контакт с другими героями и бежал. Если бы не товарищеская спайка, интернациональная солидарность, моральная поддержка — разве можно было бы выжить, выстоять, вернуться в строй борцов против фашизма?
Во второй части повести «Всюду вместе» — много жестких зарисовок быта лагеря, портреты людей стойких и тех, кто предал родину.
Хочется обратить внимание читателя на такую сторону повести Михаила Лева, как пристальный взгляд автора на психологию человека, либо теряющего связь с родиной и друзьями по судьбе, либо противостоящего разрушению личности. Вот рассказ о вербовке немцами «добровольцев» для борьбы с русскими партизанами. На стене барака с внешней стороны — плакаты, листовки. На одном плакате изображен румяный повар и дымящийся котел. А вдали — истощенные люди за колючей проволокой. «Людям, умирающим с голода, если только дух их ослабел, такое западает в душу. Приманка застревает где-то в подсознании и на каком-то этапе обретает неожиданную силу. Берегись тогда — ты уже запутался в липкой паутине, что соткал для тебя двуногий паук. Душа твоя в опасности, ей грозит нечто более страшное, чем смерть, если только кто-то, отважный и мужественный, ради твоего спасения не поползет глухой ночью от стены к стене и кусочком угля — карандаша у него нет — спеша и волнуясь, не напишет вкривь и вкось на одном плакате: «Пока ты еще не стал предателем, одумайся!», на другом: «Лучше смерть, чем предательство!», на третьем: «Цена их обеда — братоубийство».
Да, люди в плену боролись за других, не только за себя. Вдумаемся в это. Значит, нужны были дополнительные силы души, нужно было быть Человеком прежде всего! Ни на минуту нельзя было расслабиться, «отвечать только за себя».
Мастерство психологизма М. Лева проявилось в создании такого сложного образа, как Аверов. Автор не досказывает до конца, кто такой Аверов. Человек он смелый, решительный, по своей воле не стал бы делать плохое людям, своим бывшим товарищам по несчастью плена. Почему же он сотрудничает с немцами? Это дано намеком. Он чем-то ожесточен, он не верит в братство людей, он не знает, что такое воспитание добром. Жизнь когда-то повернулась к нему своей недоброй стороной. Автор занимает твердую позицию осуждения Аверова в его споре с пленным летчиком, который ночью рассказывает о сидевшем в советской тюрьме человеке, ставшем потом полицаем, пытается вскрыть корни измены, той измены, о которой говорит Аверов: «Вот он и обозлился…» Да, во время народных испытаний не все выдерживали экзамен на внутреннюю стойкость. Это были люди, как понятно каждому, непрочные в моральном отношении, духовно ущемленные, для них личные обиды становились главным мерилом оценки событий. Писатель осуждает таких людей и в то же время обращает наше внимание на то, что незаслуженные обиды могут стать первой ступенью на пути к предательству. Этот вывод предполагает каждая честная книга о прошлых годах, о серьезных испытаниях народа. Нас всегда интересует, почему один человек становится героем, а другой — трусом или эгоистом. Какими путями идет становление личности вообще, а в экстремальных условиях в частности. Как опускается он на дно предательства общих интересов.
В повестях «Курсанты» и «Снова в строю» автор продолжает рассказ о подвиге человека на войне, где герои даны в открытой схватке с врагами родины. Повествование о курсантах училища, встретивших фашистов на подступах к Москве, и партизанская эпопея в лесах Белоруссии как бы обрамляют историю героического сопротивления советского человека в условиях плена.
В романе «Суд после приговора» автор снова возвращает нас в страшный ад концлагеря. Здесь М. Лев сводит нас с героем Сопротивления Александром Печерским, возглавившим в лагере Собибор восстание и побег узников. Документальная основа романа прослежена сначала в рассказе «Почти легенда», написанном еще в 1964 году. Роман развернул события давнего прошлого в развитии и довел их до наших дней. «Суд после приговора» — книга совести и набатной тревоги; надо найти убийц и покарать их. Палачи Собибора ушли от суда, найдя приют на Западе: Болендер — ныне портье, Френцель — помощник режиссера, Вольф — владелец склада!
«Такова уж, видно, участь подобных книг, что их публицистичность, актуальность заслоняют другие достоинства», — писала как-то бывшая узница фашистских концлагерей, автор широко известной книги «Я должна рассказать» Мария Рольникайте о произведениях Михаила Лева. Это довольно высокая оценка, данная писателю — особенно в наше время тревоги за судьбы мира!
Среди произведений М. Лева есть повесть — единственная вещь писателя не на военную тему — «Юность Жака Альбро». Посвящена она судьбе бедного парнишки из дореволюционного еврейского предместья Херсона, который влюбился в цирк и связал свою судьбу с артистами. Жизнь героя прослежена на фоне событий двух русских революций, Отечественной войны. О том, как формируется человек, с детства привыкший говорить правду и жить ею, о революционной деятельности Давида Гольдфарба повествует автор, влюбленный в своего симпатичного героя, по стечению обстоятельств получившего иностранную фамилию Альбро.
В повести «Перо рус», что в переводе с сербского означает «Русский Петр», рассказана история подлинного героя югославской партизанской борьбы против фашистов — капитана Советской Армии Оранского. Он начал свою военную службу еще до войны, а первые пули засвистели над ним утром 22 июня 1941 года. Петр Оранский прошел с отступающими войсками много километров, поджигая танки противника, контратакуя, теряя близких. Попал в плен, раненный. Бежал. Стал командиром батальона в горах Югославии, первого батальона русских.
Гордостью за наше братство, за содружество югославских и советских партизан дышит эта книга.
Я был в Югославии и собирал материалы о русских партизанах. Там напал я на след Оранского. И когда прочитал повесть Михаила Лева, стал читать и другие его произведения.
И вот теперь обращаю слова благодарности — за искренние и честные книги о войне, смерти, преодолении смерти Михаилу Леву, писателю, гражданину.
В. Огнев
ЕСЛИ БЫ НЕ ДРУЗЬЯ МОИ… Повесть
Подольским курсантам, павшим в октябре 1941 года на подступах к Москве, посвящается
Часть первая КУРСАНТЫ
СОЛДАТСКАЯ ПАМЯТЬ
Осень выдалась на редкость теплой. Воздух был прозрачным и мягким, от ближнего леска тянуло густо настоянным запахом хвои, и на придорожных кустах даже набухли по-весеннему клейкие почки.
Так продолжалось до середины октября, когда вдруг задул резкий северный ветер — задул с такой силой и злостью, что столбик ртути на термометре стремительно бросился вниз и остановился лишь где-то возле нуля.
Я стою у закрытой балконной двери и гляжу на улицу. Борис Григорьевич должен заехать за мной в половине седьмого. Время у меня есть, еще совсем рано — окна домов напротив слепо поблескивают. Моросит мелкий дождик, а раньше, видно, сыпала ледяная крупа — асфальт покрыт коркой. Наверняка очень скользко. По узкому тротуару спешит к автобусной остановке женщина. Порывистый ветер рвет из ее рук раскрытый зонт.
Дома у меня тепло, уютно. Гляжу на людей, стоящих на остановке, и думаю: сейчас и они укроются от дождя и пронизывающего ветра — вдали наконец показался долгожданный автобус. Те, что впереди, отряхивают и опускают воротники пальто. Каждому не терпится войти побыстрее, устроиться поудобнее на мягком сиденье, раскрыть книгу или вчерашнюю газету, а то и просто подремать. Стоять с самого утра на ногах и при каждом повороте автобуса хвататься за штангу никому неохота…
Снова бросаю взгляд на термометр, прикрепленный к наружной раме. Столбик ртути продолжает падать. Кажется, не на шутку повеяло зимой. А когда во дворе раздается нетерпеливый гудок машины, уже падает первый снег…
Борис Григорьевич ждет меня у открытой дверцы.
— Живей, живей! К одиннадцати должны быть на месте, ехать же сегодня, сам видишь, каково…
А мне хочется постоять немного под снегом. Снежинки кружатся в воздухе, падают на лицо, и так приятно чувствовать их едва ощутимое ласковое прикосновение. Падают они и на рябину, еще сохранившую свою огненную корону, и вот постепенно все вокруг затягивается снежной пеленой. Хоть бери санки и беги на соседнюю горку! Но детство и юность мои давно прошли…
Вместе с Борисом Тарковым, бывшим лейтенантом Подольского пехотного училища, где в сорок первом я был курсантом, мы едем к братской могиле на поле боя. Ровно тридцать лет назад в этот день там погибли почти все наши друзья. Сегодня у братской могилы состоится траурный митинг, соберется молодежь из соседних районов, и нас пригласили выступить.
Машина трогается с места, и одновременно с невероятной отчетливостью начинают надвигаться видения, которые все эти тридцать лет не оставляют меня. Иногда кажется, что они постоянно витают в воздухе и, как птицы, то собираются стаей, то разлетаются, чтобы через минуту слететься вновь. Днем еще ничего, терпимо, повседневные дела и заботы их отгоняют, а ночью… Ночью — снова война. Я снова и снова чувствую, как раскачивается под ногами развороченная земля и смешивается с небом, в уши врывается жуткий вой вражеских мин и еще отчетливей — первый залп наших «катюш». С закрытыми глазами вижу перекрестный многослойный огонь, такой, что вражеская пуля сталкивается с пулей, летящей с нашей стороны, и языки пламени, рвущиеся в ночное небо, и поле вокруг нашего единственного дзота, вздымающееся каждым своим вершком в грохоте бомб и снарядов.
Сегодня ночью я снова лежал, приплюснутый к замерзшей земле. Я должен во что бы то ни стало добраться до окопа, где находится наш взвод, и передать взводному приказ командира роты. Связной не может задержаться ни на секунду, и я, упершись локтем в землю, хочу с силой оттолкнуться ногой. Так бы я наверняка и сделал, даже если б и не учился в военном лагере у деревни Лужки, под Серпуховом, ползать по-пластунски — ногой, локтем и снова ногой… Но и руки и ноги, хоть режь их, не слушаются меня, — так, наверно, чувствует себя боксер, прижатый к канату ринга. Знаю, что это всего лишь кошмарный сон, — ведь тогда, наяву, я все-таки полз, — и все равно меня охватывает ужас, что не смогу выполнить приказ, и кажется, что окоп, назло мне, все отодвигается и отодвигается, и я просыпаюсь в жаркой испарине от собственного крика. В сердце вкрадывается тревожная, щемящая боль, и оно стучит, как молот.
Потому-то я и решил оторваться от своей мягкой подушки задолго до того, как должен был заехать Тарков.
И тут же выплыло из глубин памяти воспоминание. Эта подушечка… Единственное, что осталось мне от матери. Вот я вижу, как она, чуточку сгорбленная, сидит и щиплет набрякшими пальцами гусиные перья, перышко за перышком, пока не заполняется наперник, подушку она даст потом мне, своему младшему, что покидает родной деревенский дом на Криворожье, где степь, как небо, без конца и края, и отправляется искать свое счастье в далекой, незнакомой Москве. Очень много осколков пришлось бы вытащить из памяти, чтобы снились благодатные рассветы в криворожской степи, когда я просыпался рано-рано и всякий раз наталкивался на чудо: над кузней, похожей на заросший мхом гриб, встает солнце, лучи его легонько касаются умытых росой трав, и они тут же начинают сверкать и переливаться всеми цветами радуги. Если б можно было вернуть из той поры хотя бы один час! Но не те радужные краски возникают во сне. Каждую ночь возвращается октябрь сорок первого. Каждую ночь. Каждый час. А бывает, что и минуту.
У Таркова, хотя он и за рулем, мысли тоже, видно, где-то далеко: на лбу собрались пучком морщины, взгляд отсутствующий. Будучи курсантом, я знал его лишь издали, и только шесть лет назад мы вновь встретились и сразу подружились. Тарков высок, широкоплеч; он из тех людей, что всегда пребывают в хорошем расположении духа, с ним приятно коротать время. Добродушнее человека редко встретишь. Видимо, сам он живет по правилу, которое любит повторять: «Никогда не порть настроение ни себе, ни другим».
Крепко держа в руках баранку и слегка покачиваясь, он рассказывает:
— Галина пристает ко мне (Галина — его жена), говорит: «Поймешь ты, наконец, что сердце нельзя перегружать? Ведь оно не выносит, когда все принимают близко…» Что мне ей ответить? Молчу. А этого она терпеть не может. Вчера, когда мы с тобой договорились, заявила: «Тарков, — это у нее такая привычка: если недовольна мною, величает по фамилии, — никуда ты, Тарков, не поедешь! Сейчас же позвони этому своему другу и напомни, что вы вооружены не патронами, а нитроглицериновыми таблетками. Пусть лучше дети наши почаще туда ездят. Им-то как раз не мешало бы время от времени напоминать, какую войну мы пережили». И опять я ей ничего не ответил. Зачем портить и ей, и себе настроение? Ведь знала прекрасно, что все равно поеду. Да и не могу не поехать, потому что кто, кроме нас, расскажет все мальчишкам и девчонкам, что соберутся сегодня у братской могилы? Кто, кроме нас, оставшихся в живых…
Ехать приходится очень осторожно. Ветер почти утих, а гололед усилился: нажмешь на тормоз — и машину сразу заносит в сторону. На мосту через Москву-реку происшествие: две легковые машины почесали друг другу бока. Беды особой не случилось, местами только отскочила краска, но и нам пришлось остановиться. Кончилось тем, что орудовец отобрал у обоих водителей права.
Снова заговорил Тарков, когда мы были уже по ту сторону моста, на улице Осипенко.
— Видишь вон тот дом? — показывает он на громоздкое трехэтажное здание. — Никогда там не бывал? А мне приходилось. Там располагался штаб Московского военного округа. Именно оттуда мы и получили приказ выступить на Малоярославец. Читал мемуары генерала Телегина?
Я молчу: и на мгновение не хочется отвлекать Таркова от ветрового стекла — мы едем сейчас через тесную и многолюдную московскую площадь. Да, книгу «Не отдали Москвы», которую имел в виду Борис, я читал. Пожалуй, ни одна другая книга так не растревожила меня, а больше всего — те страницы, где описывались обстоятельства, которые вынудили генерала, а тогда дивизионного комиссара, Телегина принять 5 октября сорок первого года решение о том, чтобы подольские училища спешно, по боевой тревоге, выступили на передовую. Ведь если б не эти обстоятельства, и моя военная судьба сложилась бы совсем иначе…
Машина выехала на широкое подмосковное шоссе, и Тарков, не дождавшись моего ответа, продолжал:
— Понимаешь, генерал Телегин установил очень важный исторический факт: действительную дату первого острого кризиса на подступах к Москве.
Разумеется, понимаю. Знаю это. В литературе об Отечественной войне долгое время не упоминалось о том, что первая непосредственно угрожавшая Москве опасность возникла 5 октября 1941 года. Может, забылось со временем, а может, сыграла роль традиционная концепция, но так или иначе, когда к печати готовился второй том «Истории Великой Отечественной войны», генерал-лейтенант Телегин обратил на это внимание редакторов. Сомневались, вправе ли он оспаривать общепринятую точку зрения. Тогда Константин Федорович сказал, что в октябре сорок первого года он, как член Военного Совета Московского военного округа, записал все события, имеющие отношение к обороне столицы, в специальном журнале. Этот журнал находится в Подольске, в Центральном архиве Министерства обороны. «Перелистайте его, и все станет ясно».
С Константином Федоровичем я встречался, разговаривал и потому могу себе представить его в тот грозный день, когда он в своем журнале «Записи боевых приказов и распоряжений члена Военного Совета МВО дивизионного комиссара Телегина К. Ф.» отмечал все, что тогда происходило.
— Ты что, задремал? — спрашивает Борис. — Не выспался, наверно? А мы уже почти в Подольске.
Нет, я не дремал. Я перенесся мысленно совсем в другое время, совсем в другое место.
В трехэтажном доме на улице Осипенко я никогда не был. И все же я видел просторный кабинет, по которому расхаживал погруженный в раздумья дивизионный комиссар Телегин. У него чисто выбритая голова, на лбу обозначились складки — будущие морщины, во рту, как всегда, трубка, которая ни на минуту не гаснет. Несмотря на страшную, нечеловеческую усталость — ночью он прилег, может, на час-полтора, не больше, на диване в комнате, прилегающей к кабинету, — он шагает по-военному четко, и начищенный до зеркального блеска паркет поскрипывает под его ногами. Как обычно, в восемь ноль-ноль начальник штаба показал ему оперативную сводку: согласно ей никаких особо важных событий на фронте за истекшую ночь не произошло. Но не прошло и двух часов, как позвонили из Малоярославецкого укрепленного района и сообщили, что рано утром патрули задержали автомашины и повозки обоза, принадлежащие сорок третьей армии. Задержанные военнослужащие засвидетельствовали, что немцы наступают большими силами. Некоторые дивизии окружены. Идут тяжелые бои… Но это невероятно! Ни в Генеральном штабе, ни в соответствующих управлениях штаба округа не знают, что немцы движутся по направлению к Малоярославцу, к Юхнову. Юхнов — это ведь всего 180 километров от Москвы!
Нет, думает дивизионный комиссар, этого не может быть, это выдумка паникеров или очередной трюк врага, который надеется ввести нас в заблуждение. Член Военного Совета не принадлежит к числу легковерных людей. Сообщение требует дополнительной проверки. Он четко и ясно отдает соответствующие распоряжения и только после этого принимается за другие не терпящие отлагательства дела.
Снова звонит телефон. Дивизионный комиссар, оторвавшись от плана защитных сооружений, который он изучал, смотрит несколько секунд на аппарат, затем медленно и тяжело наклоняется к тумбе и снимает трубку. Ему бы очень хотелось услышать сейчас голос хозяина этого кабинета, командующего Московским военным округом генерал-лейтенанта Артемьева, который уже третий день находится в Туле, где тоже создалось тяжелое положение.
Звонил, однако, командующий воздушными силами округа полковник Сбытов. Телегин поручил ему выслать самолеты и проконтролировать дороги вокруг Рославля, Юхнова, Малоярославца.
Голос полковника прерывался от волнения. Он доложил, что к Юхнову приближаются немецкие танки. Никаких регулярных частей нашей армии там нет.
— Немедленно явитесь ко мне! — приказал Телегин.
Явившись, Сбытов подтвердил, что его летчики засекли фашистскую танковую колонну и колонну моторизованной пехоты, которые тянулись от Рославля на протяжении двадцати пяти километров. Летчики опытные, им вполне можно доверять. Немцев они видели с небольшой высоты.
У дивизионного комиссара вздулись вены на висках. Сердце заколотилось.
Слова созданы для того, чтобы человеческий разум мог воспринять их. Потому нет ничего удивительного, что сначала Телегин ответил: «Это невозможно!» И лишь немного погодя категорически потребовал: «Проверить! Еще раз проверить!» Пока это сообщение не будет подтверждено с абсолютной точностью, он не вправе докладывать о нем высшему командованию.
В направлении Юхнов — Малоярославец — Москва находились в тот момент лишь строительные батальоны, которые рыли окопы, противотанковые рвы, строили долговременные оборонительные сооружения из железобетона и стали. Но ведь они еще не оснащены ни артиллерией, ни минометами, ни пулеметами. Кто встретит врага огнем из этих траншей?
Единственная реальная сила, которую можно было немедленно бросить против наступающих гитлеровцев, — это военные училища, академии и отдельные части противовоздушной обороны. Из них ближе к линии фронта подольские пехотные и артиллерийские училища. Дивизионный комиссар потер двумя пальцами глубокие складки возле рта, тяжело вздохнул. Как член Военного Совета, он обязан был отмечать в рабочем журнале каждое важное событие, все свои приказы и распоряжения. И сейчас он должен был записать: «5 октября 1941. 12.00…» Но обстоятельства были таковы, что от 12 до 16 часов он к журналу даже не прикоснулся.
Говорят, ожидание доброй вести лучше, чем сама весть, но если беда перебегает дорогу, тогда, заупрямившись, и стрелки на часах движутся еле-еле. Сотней неотложных дел занят член Военного Совета, входят и выходят люди, беспрерывно звонят телефоны, но одна, сверлящая мозг мысль не оставляет его ни на минуту: с чем прибудет Сбытов? Клубы дыма тянутся из его трубки, в кабинете накурено, хоть топор вешай.
Около двух часов дня в кабинет вошел полковник. Он сообщил дополнительные факты, подтверждающие прежние донесения: немецкая танковая колонна находится в каких-нибудь пятнадцати — двадцати километрах от Юхнова.
Через несколько минут начальник Подольского пехотного училища генерал-майор Смирнов получил по телефону приказ немедленно выслать против наступающего врага передовой отряд курсантов. По той же дороге, по которой мы едем сейчас с Борисом Григорьевичем, мчалась тогда в Подольск военная машина. Сидящему там комбригу Елисееву предстояло с максимальной быстротой обеспечить выполнение приказа.
Теперь надо было отдать приказ к выступлению военным училищам, академиям, частям гарнизона — всем, кто способен был преградить фашистам дорогу на Москву.
После третьего донесения Сбытова дивизионный комиссар решил позвонить начальнику Генерального штаба. С маршалом Шапошниковым он сегодня уже разговаривал дважды, пытаясь уточнить положение на Западном фронте. И на сей раз начал с того же. Маршал Шапошников, который в армии славился сдержанностью и корректностью, не без злости напомнил, что за последние три часа дивизионный комиссар задает ему этот вопрос в третий раз. Константин Федорович не стал оправдываться и тут же выпалил: «Немецкие танки под Юхновом». На том конце провода молчали. Затем маршал попросил доложить подробнее все, что Телегину известно. Снова наступила тишина, которая длилась бесконечно долгие минуты. И вдруг эту настороженную чуткую тишину взорвал требовательный звонок телефонного аппарата, соединенного непосредственно с Кремлем.
Дивизионный комиссар снял трубку. На другом конце провода был Верховный Главнокомандующий. Сталин спросил, насколько сообщения авиаразведки соответствуют действительности и какие меры уже приняты. Любой ценой, закончил он разговор, враг должен быть остановлен — в течение пяти — семи дней, пока не будут подтянуты резервы Ставки.
Константин Федорович не заметил, как наступил вечер. Со стула он поднялся лишь в полночь. Лучи прожекторов кромсали московское небо…
Вот и Подольск. Борис Григорьевич сразу выезжает на центральную улицу. Он знает в этом городе каждый поворот — ведь несколько лет служил здесь в пехотном училище. А я, хоть и был курсантом, здания училища даже в глаза не видел. Да и вообще дальше вокзала не заглядывал…
— Училище покажу на обратном пути, — словно угадав мои мысли, говорит Тарков. — Может, и зайдем. Там теперь индустриальный техникум. Мне писали, что среди студентов есть внуки наших курсантов… Ого, глянь, что творится! Такого я не ожидал…
Вдоль всей широкой улицы стоят один к одному автобусы, грузовики, легковые машины. Тротуары заполнены молодежью. Всюду знамена, транспаранты, гирлянды цветов. С этой улицы, которая носит имя Подольских курсантов, торжественная процессия двинется к братской могиле — почтить память погибших.
Машина останавливается. Тарков выходит, вытирает ветровое стекло. Он хромает на правую ногу, и потому левый ботинок у него почти новый, а правый стоптанный. Выхожу и я на тротуар. Хочу своими глазами увидеть табличку с надписью: «Улица имени Подольских курсантов».
Говорят, время — лучший исцелитель. Может, это и так. Но для меня — нет. В горле нарастает комок. Сердце как будто зажали двумя ледяными глыбами. Рана не зажила. Лишь затянулась тонкой пленкой.
БЕРЕЗЫ ПЛАЧУТ
А снег все сыплет и сыплет, будто и впрямь наступила зима. Даже не верится, что всего два дня назад гремел гром и, извиваясь огненными змеями, пронзала тяжелые тучи молния, а к вечеру гроза кончилась, по-летнему засияло солнце, и через небо, от одного конца к другому, перекинулась радуга, расцвеченная всеми цветами и еще какими-то невиданными красками.
Кто-то толкает меня сзади. Это Борис — разыскал меня среди молодежи.
— Наша колонна сейчас двинется… Что с тобой? Ходишь как во сне.
Моторы включены, и гул стоит, как на большом аэродроме, когда несколько самолетов сразу готовы взять старт и взмыть вверх. В небо взлетает и рассыпается зеленая ракета. Это сигнал — в путь. Борис поворачивает ключ зажигания и нажимает педаль акселератора.
Мы быстро приближаемся к развилке. Если повернуть налево, то по асфальтированному шоссе, ведущему на юг, можно добраться до самого Симферополя. Мы поворачиваем на запад. Тут проходит одна из важнейших магистралей страны — недаром же за нее дрались в двух отечественных войнах. Магистраль эта соединяет не только республики и государства, но и два разных поколения — нынешнее и предыдущее. Начинаясь от Кутузовского проспекта в Москве, она тянется к Бресту, в Варшаву и еще дальше. Но нам сегодня нужно лишь в Малоярославец. Оттуда мы повернем на Новое Калужское шоссе и выедем к полю, где в сорок первом воевала наша четырнадцатая рота и где теперь юноши Подольского и Малоярославецкого районов воздвигли памятник погибшим курсантам.
В машине рядом со мной сидит сейчас молодая женщина. Из-под пухового платка выбиваются белокурые локоны. Вера Петровна историк, краевед, один из тех энтузиастов, которые организовали сегодняшнюю процессию. Гид она незаменимый, — каждый раз, когда мы встречаемся, у нее находится что рассказать и об этой древней дороге, и обо всей окрестности.
Недалеко от деревни Горки Тарков останавливает на обочине машину, и мы вместе с Верой Петровной направляемся к трем высоким березам, что высятся одни посреди огромного поля. Глаза слезятся от нестерпимо яркого света.
— Вот здесь, — говорит Вера Петровна, — проходит граница Московской и Калужской областей, а в сорок первом здесь проходила граница двух миров. На этих полях фашистов остановили, а потом погнали на запад. Верю, что когда-нибудь тут будет установлен памятник. А пока его заменяют три березы…
Березы… Что общего у них с этой кровавой войной? Отсюда озверевшие фашисты упрямо рвались к столице, а когда прорваться не удалось, еще упрямее стали цепляться за каждый пригорок, за речушку, за каждый замерзший комок земли. На самолетах, в железнодорожных вагонах, на платформах, грузовиках, повозках, санях, на собственных плечах тащили сюда бомбы, мины, снаряды и патроны, которые день и ночь рвали, жгли, пронзали измученную, искрошенную землю.
Казалось, все вокруг должно было погибнуть, и прежде всего деревья. Ведь они не могут припасть к земле, вжаться в нее, укрыться, замаскироваться. Там, где проклюнулось деревце, там и его вечный дом. И все же свершилось чудо. Эти три березки выстояли. Правда, для березы выстоять еще не означает выжить: и мертвая, она стоит, будто живая, — корни уже перерублены, а одежда как прежде бела. Но попробуй надави на ствол посильнее — упадет, рассыплется в прах.
Эти три молодые березки (в то время они были еще совсем-совсем молоды), тонкие и нежные, похожие одна на другую, как родные сестры, война не щадила. Как ни тонок был ствол, попадали и в него осколки и пули. Чем нежнее кора, тем страшнее рана. Особенно если пониже веток, — самое уязвимое место.
Фашистов прогнали, и люди никак не могли поверить, что березки остались живы. Да, они были живы: сгибались, но не падали. И тогда люди решили вылечить их. Клещами вырывали из их тела осколки и пули. Смазывали мазями и забинтовывали тряпками раны, подкармливали перегноем, дети ведрами таскали воду, чтоб напоить их. Деревца еще долго и тяжело болели, но уже следующей весной из почек робко пробились прикрытые кое-где золотыми сережками первые светло-зеленые листья.
Прошел еще год, и деревья сторицей отплатили добром за добро. Все, от излеченных корней до последней ветки, они готовы были щедро угощать своих спасителей живительным соком, из которого, если его настоять на дубовой коре и жареном ячмене, получается крепкий и прозрачный, будто старое вино, напиток.
Вот и сейчас стоят они, три сестры, накинув на себя зимнее покрывало. И хотя не видно уже шрамов, хотя затянулись раны, они все равно напоминают о былых сражениях и о человеческой нежности. Их зовут плакучими. Люди плачут от горя, от боли, плачут от радости. Я думаю, что и березы тоже.
Колонна автобусов вырвалась вперед, и Тарков прибавил скорость. Он знал, что я хочу прибыть на поле боя немного раньше, чем начнется митинг. Из всех тех, кто через час будет стоять у памятника, я один воевал возле села, там, где находится братская могила. И мне хочется одному, без посторонних, подойти к холмику, под которым лежат мои погибшие друзья… И еще я должен побывать у нашего единственного дзота посреди поля, а может быть, мне удастся отыскать избу, где мы, тогда еще все вместе, уснули, смертельно усталые, на голом полу, подложив под голову руку.
…К постоянной и близкой опасности мы привыкли, казалось, гораздо скорее, чем можно было ожидать. Слова, будто только здесь, в окопах, мы узнали им цену, были редкие и короткие. Зачастую их заменяли жестом, кивком головы, взглядом, да и без всего этого мы быстро научились понимать друг друга.
Может, именно потому мне так хорошо запомнился разговор моих друзей Феди Пименова и Николая Сергеева. Это было 16 октября. С наступлением темноты немцы прекратили атаку. Мы только что опустили в свежевырытую яму троих курсантов из нашего отделения. Не стерев с ладоней прилипшую землю, сняли пилотки. Речей никто не произносил, и не прозвучал прощальный оружейный залп — у нас было слишком мало патронов, а завтра, это мы знали наверняка, нам предстоял бой куда тяжелее сегодняшнего.
Оглушенные грохотом не прекращавшихся целый день взрывов, обессиленные так, что пальцем трудно было шевельнуть, мы топали в тяжелых сапогах по полю боя, которое теперь молчало, — в село, в какую-нибудь избу, и хотя никто, наверно, об этом не думал, но чувствовал каждый: отныне и навсегда мы стали побратимами.
И вдруг Николай заговорил:
— Если завтра на нас бросят такие же силы, что сегодня, может, еще как-нибудь выстоим. Но ведь мы остались у немцев в тылу. Погибнем — и никто не узнает, где будут гнить наши кости. Да и кто станет узнавать, кроме отца с матерью?.. Эх, ребята, как бы мне хотелось хоть одним глазом взглянуть на тех, кто будет гнать немцев назад! Я бы им памятник здесь поставил. Правда, Федя?
Я уже думал, что Пименов не ответит, но в нем, видно, заговорил бывший учитель.
— Это что, риторический вопрос или ждешь ответа? Чего ты, собственно, хочешь?
— Хочу, чтоб ты, Федор Андреевич, начиная каждый раз учебный год, рассказывал своим ученикам, как гнали фашистов по Варшавскому шоссе от Москвы. И чтоб рассказывал одну только правду. Не только о счастливом конце, но и о горьком начале.
— Но для этого мне надо стать птицей Феникс, которую сжигают, а она вновь возникает из пепла.
Сергеев сделал вид, что не слышит, — у него было свое на уме.
— Пусть это будет через десять, через двадцать лет, но если кто-нибудь из нас выживет, он должен прийти сюда и рассказать о тех, кто отдал здесь свою жизнь. Кто-кто, а уж мы-то знаем, что никогда этого не забудем.
Тогда мне почему-то показалось, что это говорит какой-то чужой, незнакомый Сергеев, а знакомым и привычным он снова стал, когда переступил порог дома, где мы надеялись отдохнуть пару часов, как это нам разрешил командир взвода, а потом прикурил, не снимая стекла, от керосиновой лампы и, присев в глубине комнаты на высокую кровать, вздохнул.
— Честное слово, я уж и позабыл, как пахнет варево. До сухой хлебной корки дальше, чем до луны… Сегодня как стащил эсэсовца с мотоцикла, сразу давай шарить у него в рюкзаке. Вот змея подколодная! Всякого награбленного добра хоть отбавляй, а еды и в помине нет. Еще бы, в «Москау» спешил… И когда только все они будут в той «Москау», где он сейчас!
СНОВА НА ПОЛЕ БОЯ
Показался орудовец, и Тарков резко затормозил. Машина взбрыкнула, как норовистый конь, меня толкнуло вперед, и я тут же перенесся из одной жизни в другую.
После того как мы отъехали от трех берез, Вера Петровна пересела к Борису. Я мог догадаться почему — она любила не только говорить, но и слушать.
И на сей раз Вера Петровна не прогадала — Тарков, хоть и вел машину, говорил без умолку. И вдруг он прервал рассказ о своем сыне лейтенанте и новорожденном внуке и, обернувшись, спросил:
— Вы, Вера, хотите, чтоб я выступил. А как? Как сказать мне им, молодым, что те, кто лежит в братской могиле, тоже могли быть отцами, дедушками? Сюда едут школьники, молодежные бригады, солдаты, а я ищу среди них внуков наших курсантов и офицеров… Вы заметили: когда в Подольске мы вышли из машины, они сразу притихли…
Знаю, что все ветераны, которые будут сегодня стоять у памятника, этой ночью не могли заснуть, лежа с закрытыми глазами, снова и снова видели окопы. Я думал, пройдут годы, и все понемногу забудется, но нет, воспоминания не отпускают нас, мы у них в вечном плену. И тут мы над собой не властны, — хорошо ли, плохо ли, но это так. Если б у раненых берез была память, они бы, наверно, тоже не смогли избавиться от нее…
Вера Петровна коснулась его руки, посмотрела на него большими, полными света, лучистыми глазами.
— Поймут, Борис Григорьевич, еще как поймут. Вот так просто, доверительно и говорите с ними, — и увидите, они поймут вас.
Шоссе убегает из-под колес «Волги». Сейчас оно совсем другое, чем тогда, когда мы шагали по нему с Тарковым.
Малоярославец — город памятников. Как мы ни спешим, все же останавливаемся ненадолго у сквера на Московской улице. Четыре памятника, один красивее другого, посвящены войне 1812 года.
На южной окраине города, где в октябре сорок первого на несколько часов укрепился наш батальон, мы резко сворачиваем на Новое Калужское шоссе. По этой дороге мы шли тогда, тяжело нагруженные, месили сапогами грязь и всем телом припадали к ней, как только в небе показывались немецкие самолеты. На восток тянулся поток беженцев — пешком, на повозках. И разве мог тогда кто-нибудь из нас заметить на редкость красивую речушку Каришку, притаившуюся под вербами, и скромный памятник Радищеву, который жил неподалеку отсюда, возле села Детчино?
За Детчином, где в тот день мы даже не успели занять приготовленные заранее окопы и сразу двинулись дальше, «Волга» расстается с шоссейной дорогой. Сзади больше чем на километр растянулась молодежная колонна Малоярославецкого района. Вере Петровне захотелось, как она выразилась, «согреть замерзшие кости», и она отправилась маршировать с детчинскими студентами.
Дни, что кормят год, уже миновали. Все, что могла, земля уже выдала. Сейчас бы ей побольше снегу. Но в селах не бездельничают. Несколько колхозников строят мостик. Наверно, и через этот ручей мы тогда переходили… Сверкают зубья пилы, бревно плюется золотистыми опилками.
Тарков открывает дверцу, высовывается:
— Скажите, как проехать в Савиново?
Ответ последовал сразу:
— Вам к Подольским курсантам? Немного дальше повернете направо. Не бойтесь, не застрянете, мы дорогу почистили.
«К Подольским курсантам»… Тридцать лет, как нет их, а говорят о них будто о живых.
Стой, Тарков, стой! Не та ли это горка, где показался тогда немецкий офицер? Нам жутко хотелось нажать на спусковой крючок, но старший лейтенант Ивашин не разрешил. И правильно сделал: к офицеру подошли еще трое, и лишь тогда он отдал приказ стрелять.
Тарков останавливает «Волгу». Дальше мы пойдем пешком.
Если б не война, я вряд ли когда-нибудь попал бы сюда. Деревня как все деревни, даже не обозначенная точечкой на карте области. Но так это лишь для постороннего глаза. Для меня — все иначе…
…Вот оно, широкое заснеженное поле, по которому я полз. Вставал, бежал, полз снова. Сколько земли я перекопал здесь маленькой саперной лопаткой? Нет, я не должен восстанавливать ни одно из событий той осени, не должен ничего вспоминать. Знаю, что не должен, — и ничего не могу с собой поделать, потому что и сейчас кажется, что на плечах моих серая суконная шинель, а на голове пилотка со звездочкой.
На нашу роту наступал полк эсэсовцев. Восемь артиллерийских батарей нацелили на нас свои стволы. «Мессершмитты» летели так низко, что чуть не задевали колесами землю, и стреляли, стреляли… Надо было сразу припасть к земле, но я почему-то решил, что если пробегу еще десять шагов, все будет хорошо. И я побежал, потом упал, а через минуту раздался страшный взрыв бомбы, и земля, вздыбившись, толкнула меня в живот.
Тогда мне это в голову не пришло, а теперь я думаю: может, и Валентин Боков, который выскочил из окопа мне навстречу, тоже решил, что, если он пробежит еще десять шагов, все будет хорошо. И он тоже упал, но не совсем так, как я, который жив и сейчас, через тридцать лет. Нет, он лежал безнадежно мертвый, а мне показалось, что он притворяется. Нет больше упрямца Бокова… Почему не дрогнула тогда рука и слезы не набежали на глаза? Почему?.. Должны были пройти годы, чтоб я понял. Сын Бокова, который лежал тогда в коляске, сейчас старше его.
Я слышу голос командира взвода:
— Боков, почему вы опустили голову? Вы что-нибудь потеряли? Не ищите, все равно ничего не найдете. Боков, песню!
…Четыре взвода — четыре связных. Сколько минометов выставили против нас? Все вокруг бурлит, кипит, будто в адском котле. Мины летят сплошным потоком, чуть ли не сбивая на лету друг друга. Атака еще не началась, а мы уже несем большие потери. Из четырех связных один убит, один тяжело ранен. Фашисты явно хотят уничтожить нас на расстоянии.
Олег Юренев должен был скоро стать кандидатом филологических наук, а разбирать и собирать винтовку долго не мог научиться. Сергеев прозвал его «профессором», а мать, Раиса Яковлевна, называла ласково: «Олежка», «Олеженька».
Мы получили приказ во что бы то ни стало захватить живого гитлеровца, и только потому, что Олег хорошо знал немецкий, его включили в тройку, посланную за «языком». Юра Якимович и Николай Сергеев вернулись. Я спросил:
— Юра, где Олег?
— Мы принесли, его в окоп. Положили рядом с Боковым. Вот его записная книжка. Там есть его стихотворение «Солдатская дружба». Это о нас…
— Тарков, в жизни вообще-то мне здорово везло на хороших людей, но друзей лучше, чем они, у меня не было и никогда уже не будет. Ты слышишь, Борис? Не отставай. Знаю, тебе трудно, но видишь — до леса уже недалеко… В Ильинском мы будем с тобой ходить к каждому доту. Там, у Ильинского, лежит в братской могиле мой товарищ Сеня Иоффе. Он был артиллеристом. Шестого октября мы с ним встретились на вокзале в Малоярославце. Он незаметно подошел ко мне сзади и закрыл ладонями глаза, чтоб я отгадал, кто это.
— Да не спеши ты так! Тоже ведь пыхтишь, как паровоз… Ну, и вы хоть наговорились, попрощались там, на вокзале?
— Попрощались. Он мне сказал: «Будь здоров, пехота». А я ему: «Будь здоров, артиллерия».
В лесу пахнет мокрыми увядшими листьями. Они пристают к каблукам, к подошвам. Проносится ветерок, и по лесу пробегает дрожь. Тоскливо, будто после пожара… Кто покажет мне место, где навечно упал сержант Елисеев? Он весь был обсыпан веснушками, — на шее, на лице им не хватало места, и они перебирались на плечи, на руки, даже на спину. Павел Елисеев был убит 16 октября, когда фашисты начали нас окружать. Юра Якимович и Виктор Рузин погибли на следующий день, 17 октября. Юра — во время нашей последней штыковой атаки, Виктор — через два часа. Эсэсовцы захватили Виктора в окопе раненым, привязали к его ноге длинную веревку и погнали к амбразуре нашего дзота, чтоб предложил нам сдаться. А он нашел в себе силы крикнуть, предупредить нас: «Не сдавайтесь! Вокруг дзота много убитых немцев, не сдавайтесь!..»
…Вот где-то здесь, у леса, находился наш дзот. Широкое поле невдалеке, где установлен памятник, уже заполнено народом, а новые колонны все подходят и подходят. Из окрестных деревень тянутся стар и млад. Возле «Волги» нас ожидает Вера Петровна. Она знает многих жителей села и предлагает заехать с ней в один дом. Мне очень хотелось отыскать избу, где наше отделение заночевало тогда, но это невозможно: фашисты сожгли все село, и дома отстроены заново уже после войны.
Несколько ступенек. Крылечко. Нажимаю на щеколду — и мы попадаем в переднюю. Большой необструганный стол. На столе решета с яйцами, бумажные кульки, наверное с семенами, на стенах связки чеснока, лука.
Еще одна щеколда. Уже с порога запахло гречневыми лепешками. Стол застелен чистой, грубой ручной вязки, скатертью: видно, здесь сегодня ожидали гостей. В боковой комнатушке без двери большая деревянная кровать. В изголовье стопка подушек в цветастых наволочках. У русской печи на низенькой скамеечке сидит крестьянка с покатыми плечами и чистит картошку. Лицо у нее запорошено мукой, и, завидев нас, она принимается ожесточенно тереть костлявыми пальцами щеки. Потом приглашает к столу, а когда мы отвечаем, что спешим и к тому же сыты, начинает вполголоса, по-детски доверчиво упрашивать: «Мед у нас и липовый, и гречишный, один другого слаще, душистее. Разве есть что на свете лучше меда? Недаром еще моя бабка говорила, что с медом и гвоздь проглотишь!»
Невидимый барьер, который обычно разделяет только что познакомившихся людей, сразу рушится.
Хозяин, старик лет восьмидесяти, обросший густой бородой, сидит рядом на топчане и вырезает что-то из дерева. Но вот он поднимает голову, обращается к Вере Петровне. Называет он ее доченькой, хотя и делает вид, что обижен.
— Ладно тебе байки-то баять. Небось во всех домах уже побывали, пока вспомнили, что дед Трофим еще жив! И не оправдывайся, все одно не поверю. Кому мы нужны теперь, дряхлые? Ну, да бог с вами, нет так нет. У вас, молодых, ведь все шиворот-навыворот. Вот если б кто из курсантов, что дрались за нашу деревню, остался жив, он бы всем вам по шее надавал. Супостаты тогда уже в деревне были, а мы с соседом ночью похоронили убитых курсантов. Ну-ка, скажи: кто тебе показал, где их кости лежат, где дзот их стоял? То-то же! Было. Все было… Не где-нибудь, а у меня, в моей хате, останавливался ихний старшой. Ну и богатырь, в жизни такого не видывал! Головой в потолок упирался. И его гренадеры все ему под стать. Пуля их не брала. Да что там, любой из них кулаком запросто мог с десяток фашистов уложить. Вот и пришлось супостатам привезти такие машины, которые стрелами головы нашим соколам срезали. А разве иначе они бы чего добились?
Может быть, старик сочинил эту легенду давным-давно, много лет назад, — кто знает? — но для меня она лишь сейчас рождается. Что ж, подвиг есть подвиг, и легенда о погибших героях, возникнув, распространяется в народе, передается из поколения в поколение. Так должен ли я опровергать ее? Зачем? Гляжу на высохшее, сморщенное, как пергамент, лицо старика. Он вызывает уважение. И спрашиваю только:
— Дедушка, а во время боя вы были в деревне?
— А то как же! В глубокой яме прятались. Гм… Вы не подумайте, что меня сегодня к курсантам не позвали. Еще как позвали, да поясницу вот ломит так, что и через порог не переступишь…
— Мы вас, дедушка, на машине подвезем.
Старый Трофим надевает подшитые валенки, кожух, подпоясывается широким ремнем, берет палку. Шагает он медленно, осторожно, обходя смерзшиеся комья земли. Мы помогаем ему сесть в машину. И назад домой его отвезем.
И вот наступают самые тяжелые минуты. Короткая команда, и к братской могиле, где возвышается обелиск, маршируют четким военным шагом знаменосцы, за ними — колонна солдат московского гарнизона. Впереди идет капитан, сверкает клинок обнаженной сабли. По обе стороны памятника выстраивается почетный караул. Торжественно-траурно звучат слова реквиема, записанные на фонограмме.
Слова, многократно усиленные лесным эхом, разносятся далеко-далеко. Мы стоим неподвижно, склонив головы, опустив плечи. Глаза застилает туман. У Таркова беспомощно повисли руки. Он проглатывает комок, подступивший к горлу, горестно смежает веки. Его сотрясают немые рыдания. Ведь у того, кто плачет молча, двойная боль… Как он будет сейчас выступать? Сможет ли? И вдруг каменная тишина взрывается. Гремит военный оркестр. Это мелодия созданной в первые дни войны песни: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…»
Дрожь не исчезает, но сейчас она уже совсем иная. Постепенно нарастает чувство гордости за курсантов. Никто не смог уничтожить их веру. Холодной осенью сорок первого они верили в светлый май сорок пятого.
Объявляется минута молчания. Губы у всех будто навечно застыли. Затем звучит торжественная клятва. Молодежь семидесятых годов дает ее у могилы Подольских курсантов. Над головами вырастает лес рук.
— Клянемся быть верными памяти героев!
— Клянемся быть верными делу, за которое они отдали свою жизнь.
Клянемся!
От залпа салюта покачнулись молодые березки, обрамляющие братскую могилу. Тонкие ветки сиротливо прижались друг к другу, вздрогнули и сбросили с себя снег — будто сняли шапки.
Гора венков из живых цветов вырастает на братской могиле, где похоронены мои друзья. Тридцать лет назад мы встретились, а было это вот как…
ИНАЧЕ НЕ МОГУ
Солнце еще не взошло, а прозрачную утреннюю тишину уже разбудили знакомые звуки — птицы распевали на все голоса.
Было воскресенье, но поднялся я куда раньше, чем в будние дни: к двум часам мне надо было быть в институте, предстояло сдать устный экзамен. Экзамен вроде бы не очень трудный, но вся беда в том, что я до сих пор ни разу не заглянул в учебник. Спросите, почему? Потому что лето, потому что мне двадцать три года, потому что… Да и какая разница? Все равно для профессора, ведущего у нас предмет, любые причины будут неуважительными, ему надо лишь, чтоб отвечали точно по учебнику.
Вот я и сижу, зубрю, чуть ли не с пяти часов утра… А впереди еще длинная дорога от подмосковного поселка Удельная до улицы Пирогова в Москве: час езды в электричке и сорок минут на трамвае от Казанского вокзала, пока доберешься, все может из головы вылететь.
Однако все хорошо в меру. Хватит с меня этой зубрежки. На озеро! Прыжок через три ступеньки — и я во дворе. На миг замираю, изумленный: после ночного дождя и заросший зеленью двор, и безмятежное, без единого облачка, небо — вымытые, ослепительно чистые, будто родились заново. Какая-то тень мелькнула между деревьев: это синичка с черными полосками на грудке перелетела с ветки на ветку, уселась, вертя головкой в разные стороны.
К озеру иду тропинкой, которую я сам проложил за деревянными, с крылечками и верандами, домами, прячущимися в глубине дворов. С одной стороны тропинки — деревья, тень, с другой — солнце. С одной греет, с другой обдувает, — выбирай, что душе угодно. Еще издали ярко блеснула водяная гладь. И здесь, на берегу, у меня есть тихое, укромное местечко. Погоди, да оно вроде уже занято! На пузатом кусте висят штанишки с бретельками, а у воды сидят голышом двое мальчишек. Это мои старые знакомые, кончившие четвертый класс, заядлые рыболовы. Один, с прелестными ямочками на румяных щеках и голубыми, будто весенние льдинки, глазами, бьет по воде палкой, словно хочет взбаламутить все озеро, другой в картузике с блестящим козырьком, из-под которого торчат нечесаные русые волосы, забросил удочку.
— Рыболовам физкультпривет!
Привета, однако, в ответ не последовало. Тот, что с удочкой, сидевший с видом страшно занятого человека, будто каждую минуту вытаскивал из воды огромную рыбину, казалось, даже не заметил меня; второй же, поднявшись, буркнул зло, передразнивая:
— Привет, привет… Всех рыб напугал, теперь и за версту не подпустят… Пошли, Валерка, пускай он тут один сидит.
Они схватили с куста одежду и, сердитые, зашагали вдоль берега. Ну что ты теперь будешь делать? Прогонять их я не собирался, но не ходить же мне на цыпочках! Ладно, помиримся.
Отступив от воды, разогнавшись — бултых в озеро! Солнце поднимается все выше. Еще каких-нибудь два часа — и будет уже не греть, а палить огнем. До чего же не хочется выходить из воды, расставаться с озером и тащиться в Москву, чтоб получить хотя бы какую-то несчастную тройку! А по дороге отсюда не мешало бы еще зайти к Мееру Иоффе, Сениному отцу. Сеня, мой товарищ, учится в военном училище, и надо узнать, что он пишет. Но дом Меера Иоффе из тех, куда легко войти, но трудно выйти: пока не накормят до отвала и хозяин не выложит все, что ему хочется тебе сегодня рассказать, — а рассказать ему всегда есть что, — уйти и не пытайся. Так что придется отложить визит до вечера, когда возвращусь из города, или даже до завтра. А сейчас быстренько перехвачу что-нибудь, переоденусь — и на станцию…
На платформе сегодня людно, шумно. Разгар лета, воскресенье, многие выезжают за город. Поезда, хоть и идут один за другим, все переполнены. Гремит репродуктор, передают какую-то музыку, да только кто ее слушает? В таком шуме все равно ничего не разберешь.
Моя электричка должна прибыть из Быково в 12.05. Есть еще время просмотреть газету. Вынимаю из кармана «Правду». Что там сегодня в номере? Передовая «Всенародная забота о школе», статья к столетию со дня смерти Лермонтова. Пишет Андроников, это, должно быть, интересно. И вдруг слышу, явственно слышу, как умолкает громкоговоритель. Музыка прерывается на полуноте, и после короткой паузы невероятно напряженный голос диктора: «Работают все радиостанции Советского Союза…» Значит, произошло что-то очень важное.
Но кто бы мог подумать, что через минуту мы услышим о том, что сегодня Гитлер напал на наши границы…
Электричка прибыла, а я стою не двигаясь, не веря своим ушам. Неподвижно, будто прикованные, стоят и пассажиры — те, у открытых дверей, что должны выйти из поезда, и те, что собирались войти. Так продолжается несколько минут, пока главный кондуктор не прикладывает к губам свисток, чтоб вывести из оцепенения пассажиров и машиниста.
Еду в институт, а зачем — не знаю. Ведь завтра же я пойду в военкомат и заявлю: «Отправьте меня на фронт».
Наверно, каждый думал, что, кроме него, на экзамен никто не явится. Но пришла вся группа. Профессор был, как всегда, строг и требовал, чтоб отвечали точно по учебнику. Отметки, правда, все вроде получили хорошие. После экзамена профессор собрался, как делал это ежегодно, произнести речь о важности его предмета, но тут включили среди бела дня электрический свет, в аудиторию вошел пожарник и стал закрывать широкие, высокие окна черными листами бумаги.
Профессор махнул рукой и, отводя взгляд от сразу ослепших окон, произнес тихо:
— Не дай бог, чтоб погасло солнце…
Забегая вперед, скажу: намного позже мне стало известно, что в начале июля сорок первого года наш пожилой профессор ушел добровольцем в ополчение. Чтоб солнце не погасло, он отдал свою жизнь.
…Я брожу по Москве. Улицы полны народу — дома усидеть никто не может. Чем ближе к Кремлевской стене, где стоят в карауле голубоватые ели, тем гуще толпа. Людская цепочка тянется от Александровского сада к Мавзолею.
Бесконечно долгий день подходит к концу. Мягкий, теплый вечер опускается на город. Тревожный вечер.
При выходе из метро у Казанского вокзала человеческий поток прижал меня к какому-то мужчине. Он повернул голову, и я увидел Меера Иоффе. Теперь мы сидим рядом в неосвещенном вагоне электрички, и Меер выкладывает мне душу.
— Как это тебе нравится? У меня, только услышал, перед глазами черные кружочки замельтешили. Ну, а Маня, та давай реветь, будто маленькая: «Меер, что теперь будет с нашим единственным сыном?» — «Как что? — говорю ей. — Он будет воевать. Сеня со своими товарищами займется Гитлером». — «Легко сказать, — качает она головой. — Ведь говорят, это страшный палач, изверг. И если уж осмелился напасть на нас, значит, чувствует свою силу». — «Сила у него, может, и была бы, если б с нами не связался. А теперь власть его кончится. Ну а если, не дай бог, подступит к самому горлу, тогда и я сниму свою спецовку, брошу утюг и ножницы и попрошу винтовку». Можешь себе представить, какой крик поднялся…
Меер, скрестив руки на груди, тихо вздыхает. Если б в вагоне не было темно, я бы, наверно, увидел тень, упавшую на его лицо. Потом он снова заговорил — все говорил и говорил, и горе выплескивалось из него, как из переполненной чаши.
— Чего ты встал? Мы еще не доехали до Малаховки, успеем… Вот что я тебе скажу: выдержу неделю, ну, две, а больше не смогу, попрошусь на фронт. И пока все не будет как надо, по мерке, к ножницам не притронусь. Да, буду стрелять. Об одном лишь молю бога: чтоб Сеня остался жив… Ты спросишь: а как же Маня? Ничего, Маня руку за милостыней не протянет, она у меня тоже труженица…
Электропоезд, приближаясь к станции Удельная, замедлил ход.
Завод, где я работаю, не из тех, о которых пишут в газетах и передают по радио. Продукцию, что здесь изготовляется, вывозят в запломбированных вагонах, контейнерах, на грузовиках с плотно закрытыми кузовами.
Я поступил сюда немногим больше года тому назад, но ощущение такое, будто в этих стенах прошла половина моей жизни. Чувствую себя здесь как дома, со многими сблизился, сдружился, и если б не война, вряд ли захотелось бы расстаться.
Вскоре выяснилось, что с нашего завода мало кто будет мобилизован: заранее были приготовлены списки специалистов, которые не призывались на военную службу. Прошло две недели, как началась война, а я все еще не в армии. В цехе, на работе, время летит незаметно — не успеешь оглянуться, и день прошел, — а стоит выйти из заводских ворот, и минута тянется, как час. Помимо всего стыдно смотреть людям в глаза: идет такая война, а ты…
Провожая в армию своего брата, я попросил, чтоб меня тоже мобилизовали и направили с ним в одну часть. Но в военкомате было не до меня, никто и выслушать не захотел. Правда, один лейтенант, очень высокий и слегка сутулый, записал на клочке бумаги сначала одного сержанта, который все время ходил за ним следом с таким видом, будто его только по ошибке до сих пор не мобилизовали, а затем и меня. Ни я, ни сержант — фамилия его была Елисеев — всерьез это не приняли, решив, что лейтенант просто хотел от нас отвязаться, а бумажку наверняка потеряет. Ведь с такими просьбами к нему, несомненно, обращаются каждый день сотни людей. И все же я попросил соседей, чтоб, если для меня что-нибудь будет, немедленно сообщили на работу. За последнюю неделю мне всего один раз удалось побывать дома.
Идет к концу третья неделя войны. Школа напротив нашего завода превращена в казармы: из классов вынесли парты, установили нары, а штаб части находится в учительской. Город, машины надевают на себя маскировочные костюмы. Витрины магазинов заставлены мешками с песком, мешки лежат и на углах улиц. Милиционер, который регулирует уличное движение, уже не в белых перчатках — на плече его висит винтовка, а голова защищена стальной каской.
В моем распоряжении оказалось несколько часов, и я решил поехать домой, в Удельную. В электричке дремлю и слышу, как две женщины, сидящие напротив, тихонько обсуждают горькие сводки Информбюро. У одной все трое детей в армии. Она шепчет:
— Ну ладно, сыновья — тут уж ничего не поделаешь, хоть кричи, хоть плачь, они обязаны, но дочь… Сколько я ее просила, доказывала, что без нее обойдутся, — ни слова мне не ответила, только головой качала: нет, мол, — и все. Слыхали вы такое? Невеста остригла косы и стала солдатом. А жених ее, здоровый, как бык, работает по-прежнему и не стыдится глядеть людям в глаза.
— Да, — подхватывает соседка, — что говорить, есть и такие женихи. Еще не известно, работают ли они! Ночью небось гуляют, днем больше похрапывают, а попробуй скажи им слово — так ответят, не рада будешь, что связалась.
Меня будто отхлестали. Встаю, выхожу в тамбур. Да, это не так далеко от истины. Вот я — не иду ведь пешком, а еду в поезде, колеса крутятся, везут, кому куда надо. Воротник рубахи расстегнут, свежий ветер врывается в окно. Дышу полной грудью… А где-то свистят пули, падают бомбы. Да, надо иметь мужество признаться…
Вечереет. В нашем всегда шумном дворе непривычно тихо: почти все мои соседи уже ушли в армию. Добираюсь до постели и засыпаю как убитый. Потом слышу сквозь сон стук, понимаю, что стучат в мою дверь, но глаза не хотят открываться даже тогда, когда голова уже оторвалась от подушки и шевелятся губы:
— Что случилось? Кто это стучит?
— Ну, брат, и задаешь ты храпака! Вставай, тебе повестка. Распишись, а завтра в восемь утра чтоб был в военкомате со всеми пожитками. Вот так. Все ясно? Желаю вернуться живым и невредимым!
Камень сразу упал с сердца. Как мне хотелось сейчас крикнуть громко, чтоб услышали все матери, сестры, жены нашего двора: «Видите? Я тоже ухожу на фронт! Хоть и с опозданием на целых восемнадцать дней, но ухожу!»
Тете Паше — окно ее напротив моих — говорить ничего не надо: она уже стоит на пороге и, переступая с ноги на ногу, смотрит на меня ласково, по-матерински. Ее сын с первого дня на войне.
Что с собой взять, она знает лучше меня, а тут, как раз сегодня, будто сердце ей подсказало, испекла коржики с маком. Времени на сборы совсем мало, но беспокоиться мне нечего, она сама все сделает, раз-два — и готово, а если хочу, и чуприну обрежет, да так, что никакой лестнички не останется. Ключ от комнаты будет у нее, и еще надо бы оставить ей доверенность на зарплату. Особо надеяться, что мои родители приедут сюда, конечно, нечего, и все же мало ли что в жизни бывает! А вдруг? Так чтоб хоть было первые дни на что жить.
Мои родители в Москву не приехали, ни тогда, когда я оставил тете Паше доверенность, ни позже — никогда. Моих родителей в криворожской степи фашисты уничтожили и дом их стерли с лица земли.
Среди многочисленных обвинительных документов, фигурировавших на процессе Эйхмана, был и такой, адресованный этому фашисту рапорт:
«Надо упомянуть как необычное явление еврейские коллективные хозяйства. Между Кривым Рогом и Днепропетровском имеются еврейские хозяйства, где не только директора евреи, но абсолютно вся рабочая сила еврейская. Мы установили, что это люди низкого интеллекта, и поэтому политическое руководство их перевело на сельскохозяйственные работы. Спецчасть номер шесть в данном случае решила пока этих евреев не расстреливать, дабы дать им возможность снять богатый урожай, а затем уничтожить. Еврейское руководство уже ликвидировано и заменено…»
Наш еврейский национальный район — один из трех, что находились на Украине, — раскинулся на плодородной земле Криворожья. Около ста колхозов, еврейских и украинских, жили здесь дружно, по-братски. Три машино-тракторные станции имели свыше двухсот тракторов, десятки комбайнов и прочих сельскохозяйственных машин. Днепрогэс питал район электроэнергией. Все поселки были электрифицированы.
Район славился по всей Украине прекрасными урожаями пшеницы и винограда.
— Выращивать виноград — что само солнце выращивать. Это солнечные лучи, собранные в капли, — такие слова можно было услышать от моего отца, который был виноградарем.
Началась война, Красную Армию надо было обеспечить хлебом, и люди не трогались с места, хотя немцы были уже близко. Лишь 14 августа, после того, как кончили косить и молотить, запрягли лошадей. К Днепру добрались 18-го. Но было поздно — немцы контролировали переправу. Часть колхозников уничтожили тут же, у остальных не было другого выхода, кроме как вернуться.
Не успела прокатиться первая волна грабительской армии, в поселки и села хлынули эсэсовцы команды номер 6. В колхоз имени Урицкого они ворвались среди бела дня и вырезали всех до единого жителей.
В Калиновке, большом поселке рядом с железной дорогой, они устроили массовую резню 24 сентября. Там жила моя старшая сестра. Ее, мужа и их двоих детей за ноги привязали к лошадям и поволокли по степи к месту бойни. В балке расстреляли всех жителей поселка. Через пять лет я нашел там сгнившие детские ботинки.
В Войковдорфе, где жили мои родители, фашисты сначала дочиста ограбили население, а в начале сентября староста Войковдорфа, немец Риц, собрал всех мужчин поселка и объявил, что их повезут на работу в Никополь. Вечером прибыло несколько грузовиков, собранных увезли и возле рва недалеко от села расстреляли.
Через два дня к колхозной конюшне согнали женщин и детей. Им также сказали, что их отвезут в Никополь. Выстроили по пять в ряд, били прикладами, чтоб стояли ровно, как солдаты. И их отвезли недалеко: от конюшни до нашего огорода всего четыреста метров. Возле ямы, что была заранее вырыта, приказали раздеться догола, потом партиями по десять человек стали расстреливать. Детей хватали за горло и бросали в яму.
Среди жертв была и моя мать.
Яму чуть-чуть сверху засыпали землей с нашего огорода. Подъехали четыре подводы и увезли одежду.
«Выращивать виноград — что само солнце выращивать. Это солнечные лучи, собранные в капли…»
В «солнечных лучах, собранных в капли», и фашисты знали толк — отца моего они пока не трогали. Им надо было, чтоб он «выращивал солнце». Пытался ли он лишить себя жизни, не знаю, знаю только, что просил смерти. В те дни слышали его клятву: «Чтоб мне умереть…»
После того как отец срезал своими садовыми ножницами все гроздья винограда, бандиты для него и еще нескольких, кто до поры до времени был им нужен, придумали неслыханную смерть. Их отвезли на машинах к давным-давно законсервированной шахте недалеко от станции Чертомлык и живьем опустили под землю. Опустили и снова забили шахту, законсервировали.
Все остальное так или иначе еще можно устроить, но как уйти, не попрощавшись с людьми, которые теперь тебе больше, чем когда-либо, близки и дороги? На заводе никто не должен знать, что я ухожу в армию: наверняка я нахожусь в списках специалистов, которым предоставлена броня. Что же делать? Ладно, позвоню в последнюю минуту, скажу: «Без меня вы обойдетесь, не такой уж я незаменимый специалист. Иначе я не могу. Спасибо за доброту, заботу. Если вернусь, обязательно снова приду к вам, ну, а пока будьте здоровы…»
Когда на следующий день я позвонил с вокзала, все происходило примерно так, как я себе и представлял. Только последние слова начальника цеха были:
— Александра Кукуева из заводского управления знаешь? А Сурена Чурчияна из третьего цеха? Они тоже сегодня попрощались. Как и ты, по телефону. В ближайшие дни военкоматы получат строгое указание, и с соответствующих предприятий людей больше брать не будут… Что тебе еще сказать? Пиши, помни, что мы ждем вас. Возвращайтесь скорее с победой.
У ДЕРЕВНИ ЛУЖКИ
Конечно, мне хотелось как можно быстрее узнать, в какого рода войска меня зачислили. Но пока известно только, что попал в одну команду с сержантом Елисеевым. Тот высокий, сутулый лейтенант, хоть ничего и не обещал, все-таки выполнил нашу просьбу.
По составу команды понять что-либо довольно трудно. Среди двадцати парней, вместе с которыми я попаду в одну часть, есть такие, кто служил в армии, и такие, кто по разным причинам в ней еще не был. Есть среди нас пехотинцы, саперы, связисты и даже один танкист. На вид все не старше двадцати пяти — двадцати шести лет, с высшим или средним образованием. Подбор явно не случаен, но что он означает? Пока это для нас загадка.
Во дворе военкомата свалены здоровенные бревна. Мы сидим, болтаем ногами и ждем указаний. Пока суд да дело, мой солдатский словарь пополняется новым словом.
— Ну и «сидор» у тебя! — обращается Елисеев к парню в темной косоворотке, который, как сторож, сидит возле своего туго набитого рюкзака, явно боясь отойти от него хоть на шаг. — Не иначе, всяким добром нашпигован.
Хозяин «сидора», то есть рюкзака, занервничал, засуетился, щеки его вспыхнули ярким румянцем, — видно, не нашелся сразу, что ответить. Зато у других язык хорошо подвешен. Смеются, веселятся, будто школьники, подтрунивают над парнем и его «сидором», пока не появляется лейтенант, который велел нам ждать здесь, и объявляет, что старшиной нашей команды назначен Елисеев. После этого они уходят вместе — подготовить наши документы.
— Будь другом, дай совет, — поворачивается ко мне мой сосед, сидящий на бревнах рядом со своей женой. Лицо у нее заплаканное, грустное, он же тараторит без умолку. — Ну что мне ей сказать? Адрес знать хочет, вот прямо сейчас вынь да положь! А где я его возьму? Или не понимаешь, что это военная тайна? — обращается он к жене.
У парня вид заправского щеголя, над верхней губой тонюсенькая ниточка усов. Он немного «на взводе» — веки припухли, глаза красные. Со мной он уже успел познакомиться и сообщил, что по профессии топограф, а фамилия его Шемшур.
Возвращается Елисеев. Его парусиновый портфель набит документами.
— Ну, ребята, — говорит он бодро и быстрым движением хлопает рукой по портфелю, — вот здесь вы у меня все по алфавиту. Ясно? Если не хотите, чтоб украли ваши документы, топайте за мной вплотную.
— Да не тяни ты за душу, выкладывай быстрее, что тебе известно, — перебил его Шемшур и почему-то засмеялся.
— То-то и оно, что мне известно ненамного больше, чем вам.
— И все-таки? — не отстает Шемшур. — Куда мы должны за тобой топать? Не можешь назвать место — за язык тянуть не будем. Скажи только направление и сколько это километров отсюда. Не беспокойся, остальное я им сам объясню.
Елисеев стоит, широко расставив ноги, будто врос в землю. Он бросает на Шемшура строгий взгляд, но тот уже не может остановиться:
— Кто-нибудь будет нас провожать до части или нет? А нельзя ли в ресторан пока заскочить?
— Шемшур, — произносит сержант уже строго, по-командирски, — хватит паясничать! Вы же топограф, а не клоун, вот и стойте, как все, спокойно и слушайте внимательно. Специального сопровождающего нам не выделили. Я отвечаю за то, чтобы команда в полном составе и вовремя прибыла в часть, посему предупреждаю: без моего разрешения никто никуда ни на шаг! Мне вручили запечатанный пакет, кому он и что там написано, не сообщили. Сейчас мы едем в Москву. С Казанского вокзала перебираемся на Курский, где военный комендант укажет по шифру на конверте, куда следовать дальше. А сейчас давайте быстренько попрощаемся с родными. Все ясно? Что еще, Шемшур? Только короче, без болтовни.
— Товарищ старший, а если моей жене тоже нужно в Москву и как раз к Курскому вокзалу?
Шемшур все еще паясничает, хотя его никто не поддерживает. Не будь здесь Елисеева, ему, конечно, выдали бы по первое число. Правда, зря бы старались, с этого парня все как с гуся вода.
Через несколько минут двигаемся в путь.
На Курском вокзале мы долго не задерживаемся.
— В Подольск! — объявляет Елисеев, выходя от коменданта.
— Значит, в военное училище, — высказывает кто-то предположение.
— Только этого не хватало! Год, а то и два учиться! Пока получим кубики на петлицы, война кончится…
Но, кажется, такая опасность нам не грозит. В Подольске, в привокзальной комнатушке приоткрыто окно, и мы слышим, как комендант разговаривает с кем-то по телефону.
— Подольское пехотное или артиллерийское? — Пауза, затем снова голос коменданта: — Вас понял. А я думал, что к нам…
Думать-то думал, приказ же получил совсем другой: отправить нас дальше, в Серпухов. Вот и прекрасно! Не нужны нам кубики, и без сверкающих хромовых сапог, темно-синих галифе из диагонали, коверкотового кителя, перетянутого портупеей и перепоясанного широким, командирским ремнем с кобурой, тоже обойдемся. Выпустить в фашиста девять граммов свинца из винтовки мы и без этого сумеем и с пулеметом тоже как-нибудь справимся, а это на фронте сейчас самое главное. Так, во всяком случае, мы думаем.
Но и в Серпухове Елисееву не сообщают точного местонахождения нашей части. Одно известно: искать военный лагерь надо где-то в лесу возле деревни Лужки.
…И вот мы шагаем вдоль левого берега Оки, с удовольствием припечатываем влажный песок босыми ногами, а время от времени даже полощем их в прохладной воде.
Навстречу идет патруль — молодой сержант с тремя солдатами. Вместо того чтоб указать, где нам следует свернуть в лес, они устраивают настоящий допрос с пристрастием, будто мы с луны свалились: кто вы, откуда — и снова, и снова одно и то же. Нетрудно догадаться, что в этом, ближнем лесу формируется несколько воинских частей, иначе патруль, конечно, сразу сказал бы, куда нам идти.
Лес, уходящий в подернутую дымкой даль, подступает здесь местами к самой воде. Солнце медленно опускается к горизонту, но и греет и светит еще вовсю: не зажмурившись в лицо ему не заглянешь. Сейчас мы наконец перестанем волочить за собой собственные тени, выкупаемся, перекусим, а потом свернем налево, в тускло мерцающий зеленью лес.
Ока течет в своем русле совсем тихо, — кажется, у какого-нибудь дождевого ручейка и то голосок погромче. Неужели эта река судоходная? Разве что весной, в половодье… Смотришь, всматриваешься — водяная гладь как зеркало, ни зыби, ни волны. Вот бы где расти водяным лилиям и чтоб качались на них бабочки прозрачными крылышками!
Очень хочется немного поплавать, но из этого явно ничего не выйдет: забрались далеко, а вода все еще по колено, хоть ползи на четвереньках по песчаному дну. Никто тут, конечно, не виноват, да и за то спасибо, что можем наслаждаться вдоволь благодатной прохладой — аж дух захватывает. Да простит нам река, что отняли у нее немного свежести и оставили взамен свою усталость…
Недалеко отсюда город, где около ста тысяч жителей, а здесь совсем безлюдно. Чувствуем себя первобытными людьми, можно даже не прикрываться. Впечатление такое, что, кроме ласково щебечущих птиц, тут никогда никого не было. Захочется перед уходом сказать кому-нибудь «до свидания», так разве что все тем же птицам, но и они, непоседы, вдруг взяли и улетели куда-то к легким, воздушным облакам.
Лес стоит высокий, огромный, подпирая небосвод. Он растянулся на целую тысячу гектаров, и, кажется, стоит отойти на несколько шагов в сторону — и уже не выберешься из чащи.
Наш проводник по извилистым, узким, уходящим неведомо куда тропам — Юра Якимович. Лицо его загорело до черноты, и серые глаза кажутся совсем белыми. Светлые, в мелких завитках, коротко остриженные волосы выгорели, стали пепельными. До чего же красивый, обаятельный парень…
Юра родом из Полесья, отец его, и дед, и прадед были лесниками. О каком-нибудь слабеньком, хилом ростке не больше мизинца он говорит:
— Посмотри только, приглядись, как он тянется! Землю ни о чем просить не надо, она сама поможет этому сосунку выбраться на свет божий, позаботится о нем по-матерински, чтоб набрался сил, выстоял против непогоды, стал настоящим деревом. А там уж пусть старается, выпускает новые ростки, делает свое дело…
По натуре Юра человек вроде бы сдержанный, молчаливый, но о лесе может рассказывать часами. Все то, что он показывает и объясняет, наверняка встречалось нам и раньше, но мы, горожане, смотрели на них невидящими глазами. Будь сейчас другое время — отпуск, к примеру, — я с величайшим удовольствием надел бы широченную соломенную шляпу или просто бумажный «пирожок» и дни напролет ходил бы за Якимовичем, как послушный ученик. Но до того ли теперь? Теперь у нас одно желание: чтоб кончился быстрее этот затянувшийся марш.
И вдруг снова остановка. Что случилось? Оказывается, пропал этот кривляка Шемшур. Только этого не хватало! И куда он запропастился? Купаться с нами купался, это точно, и когда сели перекусить и каждый вытащил из своего рюкзака провизию, он, это я хорошо помню, с гордостью показал нам куски приправленного пряностями мяса, которые жена завернула, чтоб сохранились в прохладе, в капустные листья. У реки никого не осталось, и все же он словно в воду канул. Разумеется, мы посылаем на его голову тысячу проклятий. Кто-то, витиевато выругавшись, готов поспорить, что Шемшур просто озорничает, прячется где-то здесь, рядом, и смеется про себя над нами. Что ж, если так, пусть катится ко всем чертям! Хватит с нас его фокусов, у каждого своя дорога, и нечего зря время тратить… В ответ на это Елисеев говорит со злостью:
— Не могу я привести вас в часть и доложить, что одного потерял по дороге. Или не понимаете? Кто служил в армии, это прекрасно знает. Так вот, вы, Якимович, останетесь вместо меня старшим, а мы с Юреневым вернемся в Серпухов и сообщим коменданту, что случилось чепе. Будете ждать нас здесь, здесь же и ночуйте у этой тропинки. Ясно?
Еще бы, яснее и быть не может. Но где все-таки Шемшур? Неужели решил под воздействием винных паров дезертировать? Нет, такое и в голове не укладывается… Что же тогда? Остается одно — вернулся в Серпухов покутить. Труха, а не человек.
Ничего, далеко не убежит — поймают, всыплют как следует, а мы еще добавим.
Елисеев с Юреневым уходят, а Якимович рассказывает мне о тайнах леса. Жизнь здесь, говорит он, как в многоэтажном доме. Начинается она глубоко-глубоко, возле самых корней. У земли свивает себе гнездо соловей, на кустах — дрозд, дятел, на дереве — сова. Выше всех обитает ястреб. Но не только наверху — и внизу, в нижних этажах, кипит жизнь. Вот послушай, что творится, например, в папоротнике…
Что это так, нетрудно убедиться, достаточно бросить взгляд на муравейник возле обросшего мхом пня, на котором сидит Якимович. Я сижу на другом пне и не могу оторвать глаз от двух молодых ив. Как тесно переплелись они! Возможно, где-то глубоко под землей корни их ссорятся, враждуют, а вот деревца стоят обнявшись, будто влюбленные. Если б раньше кто-нибудь рассказал мне такое, я наверняка бы отмахнулся, решил, что это выдумка…
Рядом с ивами примостилась, скрючившись, осина, за ней могучий — и танком не свалишь — дуб. Сучковатые ветви его перепутались, не разберешь, где какая. Да, что ни говори, а мощь леса все-таки в них, в дубах. Ведь если вдуматься, деревья как люди, есть среди них сильные и слабые, большие и малые, горделивые и скромные, но только сильные, делится со мной своими мыслями Якимович, растут очень медленно, так как пускают глубокие корни.
Солнце заходит, лучи его уже освещают лишь кроны деревьев. Постепенно красноватое на горизонте небо тускнеет, гаснет. Надвигаются сумерки.
Первая ночь в лесу — черная-пречерная, беспросветная, тоскливая. Деревья жалобно стонут, а может, переговариваются между собой. Самое время злому филину выставить свои острые когти и заняться разбоем. Еще в детстве я видел его взъерошенное, набитое опилками чучело, и даже тогда, стоя неподвижно на деревянной подставке, он, как живой, злобно таращил свои круглые желтые глаза…
Мы лежим, прижавшись друг к другу, возле пня, заросшего мягким, как плюш, мхом, лежим на подстилке из свежих сосновых веток, и все равно жесткие корни врезаются в спину. Под головой вместо подушки рука, под рукой — «сидор». Пахнет хмельным медовым настоем. Мне кажется, будто не я, а лес засыпает, и я желаю ему спокойной ночи и приятных снов. Такое ощущение, будто здесь и небо выше, и весь мир шире, просторнее. А на рассвете, когда каждая травинка замирает, вслушиваясь в птичье пение, я пойму, что лес кажется человеку чужим и враждебным лишь до тех пор, пока он хотя бы одну ночь не переночует в нем.
Может ли оказаться в выигрыше тот, кто выбирает непрямую дорогу? Оказывается, может. Пример тому Шемшур. К военному коменданту в Серпухове он явился сам, и тот в наказание перевел его в часть, которая отправлялась на фронт. Мы же попали в Подольское пехотное училище — все-таки нас это не миновало. С Елисеевым, назначенным командиром нашего отделения, еще можно переброситься словом о том, «как глупо мы влипли», но с кем-нибудь из старших командиров — и думать нечего. Здесь у нас только один выход — слушать и беспрекословно выполнять. Тому, кто пытается по старой привычке рассуждать, не позавидуешь.
— Раз, два, три! Раз, два, три! Левой! Левой! Тверже шаг! Еще тверже! — Это командир нашего взвода Малихин, неестественно прямой, с резким, пронзительным голосом, учит нас маршировать. — Юренев! Может, привязать вам к правой ноге солому, а к левой сено?
Юренев, длинный и худой, как жердь, наш правофланговый, и мы все должны по нему равняться. Но, будто назло, ему никак не удается делать то, что от нас требуют. Старается изо всех сил, от усердия даже шевелит губами — не получается, и все тут! Малихин повышает голос. Олег совсем теряется, и тогда лейтенант свирепеет еще больше:
— Это что за балаган? Прекратить! Раз, два, три! Разговорчики! Боков, почему вы опустили голову? Вы что-нибудь потеряли? Не ищите, все равно не найдете. Боков, песню!
Чуть подавшись вперед, Боков затягивает охрипшим баском песню, хотя ни ему, ни нам петь совсем не хочется.
Если говорить по правде, мы пока еще не курсанты, и маршировать нас обучают лишь между прочим, когда ведут на работу и обратно. Работа же у нас — тяжелее не придумаешь. Строим в лесу щели с бревенчатым накатом. Сами валим деревья, сами распиливаем и обтесываем бревна.
Я работаю вместе с Юрой Якимовичем. Во все стороны летят брызги опилок. Вот у кого надо учиться легко и быстро водить пилой! Работать с Юрой одно наслаждение, и еще большее наслаждение смотреть, как играют у него под коричневой кожей гладкие, упругие мускулы. Весь он прямо налит какой-то живительной, радостной силой. Плохо другое: каждое дерево, на котором красной краской намалеван крест — знак, что оно подлежит вырубке, — Юра буквально оплакивает горючими слезами, сам мучается и заодно мучает и меня. Вчера он попытался соскоблить перочинным ножиком отметку со столетнего дуба, намеченного в жертву. За этой работой застал его Малихин — и можете себе представить, какой разнос учинил! Хорошо еще, что к нам, одетым по-граждански, военный устав пока не применяется, а то неизвестно, чем бы все это кончилось.
Но то, что произошло вслед за тем, никто из нас и вообразить не мог. Как раз в этот момент мимо проходил майор, и Юра, нарушая элементарные воинские правила, — без разрешения младшего командира никто не имеет права обращаться к старшему, — подбежал к нему и быстро, взволнованно заговорил — так, будто кто-то замахнулся топором не на дерево, а на него самого:
— Товарищ майор, прошу вас, выслушайте меня! Видите вон тот дуб? Таких под Москвой не больше десятка, высота его тридцать метров, а ствол — мы втроем его не обхватим. Поглядите, какая гладкая, чистая кора… Да это же бесценное сокровище! Если его пощадить, еще долго простоит, а уничтожить, врезаться пилой в его тело — настоящее преступление! Понимаю, приказ есть приказ, и все же… Так нельзя!
Сперва майор явно хотел перебить Юру, но чем дальше, тем со все большим интересом смотрел на курсанта, заступившегося за дерево. И тем не менее сказал:
— Собственные поступки всегда представляются нам более справедливыми, потому что мы лучше знаем обстоятельства, которые их вызвали. Но неужели я должен напоминать вам, что сейчас гибнут не только прекрасные могучие деревья…
— Товарищ майор, хоть сейчас отправьте меня на фронт, век буду вам благодарен! Я ведь не о том… Если б без этого дуба нельзя было обойтись, разве бы я осмелился к вам обратиться? Пожалуйста, вот еще деревья. Хотя бы этот скрюченный, бородавчатый ясень…
Майор с минуту помолчал, а затем сказал Малихину:
— Может быть, в виде исключения и правда не будем трогать это дерево? Не возражаете? Лейтенанту Таркову, который руководит работами, я скажу сам.
У Юры под кустистыми бровями радостно заблестели глаза. С губ готово было сорваться «спасибо», но благодарить уже было некого.
Оставляя за собой густой столб пыли, шагаем широким шагом по свежепротоптанной дороге. Вон и то место, где вчера так удачно решилась судьба Юриного дуба. Мне кажется, что все, и даже, как это ни странно, Малихин, будто стайка шаловливых школьников, весело перемигиваются с деревом — безо всякой команды мы поворачиваем в ту сторону коротко остриженные головы. Слышу, как Олег Юренев тихо, но по-мальчишески порывисто говорит:
— Красота-то какая!.. Здравствуй, дуб!
Но слух у Малихина на редкость острый, не зря у него такие большие уши. Слова Олега он расслышал и оставить такое безнаказанным, разумеется, никак не может.
— Юренев, разговорчики! — кричит он во всю мощь. — Кончай балаган! Раз… раз… раз… Раз-два-три! Боков, песню!
На сей раз наши губы раскрываются чуть-чуть пошире, и песня летит над лесом. Нас слушают цветы, переливающиеся всеми красками и оттенками, синицы с шелковыми перышками, серый, с белым брюшком жаворонок, быстрокрылые стрижи, сосны с красными могучими стволами, ели, чьи ветви, стоит только ветру шелохнуть их, еще больше напоминают широко растопыренные пальцы, скромная белая березка, что купается в солнечном свете, будто утята в реке, кругло-лиственная липа, которая успевает еще и посекретничать о чем-то с рябиной.
Пожалуйста, милые деревья, слушайте на здоровье, да только нам бы сейчас не петь для вас, а с оружием в руках бить проклятого врага.
КУРСАНТЫ
Наконец-то мы не новобранцы, а курсанты. Теперь каждый из нас несет на марше винтовку, патронташ, котелок, противогаз, лопатку, набитый до отказа рюкзак и скатанную шинель. Если учесть, что солнце палит, как из раскаленной печи, и земля высохла так, что даже если вылить бочку воды, останется не лужа, а лишь влажное пятно, то нетрудно представить, каково нам приходится. От гладких, укатанных дорог мы держимся в стороне — наши дороги полны буграми и кочками, ямами и рытвинами, а на закуску еще предстоит преодолеть противотанковый ров, который мы сами выкопали, перейти вброд, не раздеваясь и держа над головой винтовку, болотистую речушку.
Шагаем быстро, в ногу по выжженной колючей стерне, где высятся местами свежие копны. От медленной ходьбы нас давно отучили, и тем не менее то и дело раздается: «Шире шаг!» И снова: «Шире шаг!» Почти всю ночь мы копали длинную, с запасными ходами, траншею, а сейчас отмеряем без отдыха второй десяток километров. Рот, ноздри забиты пылью, от раскрасневшихся лиц подымается пар, насквозь мокрые гимнастерки покрываются белесыми пятнами, воздух пропитан едким запахом пота. Вокруг все словно вымерло, даже птицы умолкли, сморенные жарой. Глаза мои то и дело заволакивает странная темная пелена, становится дурно — вот-вот упаду, как раз тогда раздается команда:
— Бегом! — И сурово, настойчиво: — Юренев, к вам это тоже относится! Бегом!
Малихин человек грузный, но попробуй догони его! Темно-карие глаза Олега дико расширены, челюсть дрожит — смотреть на него трудно и жалко, как на птицу с переломанными крыльями. Кажется, ему и нашатырь не помог бы. Нашатырь, может, и нет, но Виктор Рузин… Замечаю, что Виктор бежит возле Олега не с одним, а с двумя рюкзаками! Для меня это довольно-таки неожиданно. Виктор человек скрытный, никто из нас и не догадывается, что за мысли кроются у него в голове, — в нашем присутствии он их никогда не высказывает. Его рябое, с торчащими скулами лицо обычно неподвижно, в ответ на какой-нибудь вопрос он либо пожимает плечами, будто знать ничего не знает, либо медленно качает головой: «да» или «нет» — большего от него не дождешься. Но я и раньше предполагал, что его молчание не признак равнодушия, теперь же мне окончательно ясно, что о таком товарище можно только мечтать. Такой в тяжкую минуту будет рядом, а потом никогда не станет об этом вспоминать.
Во мне вспыхивает огонек надежды: если Виктор справляется с двумя рюкзаками, уж один-то я как-нибудь без чьей-либо помощи дотащу. Поступок Рузина вряд ли остался незамеченным, однако во взгляде Малихина на сей раз нет никакой иронии и с губ не срывается его любимое: «Прекратить балаган!»
Рядом бежит командир роты, старший лейтенант Ивашин, но и в его голубовато-серых глазах нет и тени упрека. Ивашин крепко сбитый, коренастый, широкоплечий, и все же непонятно, откуда в нем столько силы, — кажется, он вообще никогда не устает, не выдыхается. Он-то, между прочим, старается командовать как можно меньше… И когда мы, еле дыша, падаем наконец на землю, говорит с улыбкой:
— Хорошие кони далеко забираются… Но поскольку сегодня воскресенье, так и быть, отложим на другой раз. — И добавляет решительно, как нечто обдуманное заранее: — Жалеть красноармейца во время обучения — значит не жалеть его. Это должно быть для вас законом. А кто не поймет этого, никогда не сможет быть настоящим командиром.
Многие курсанты нашего взвода бывшие учителя. Олег Юренев филолог, осенью должен был защищать кандидатскую диссертацию. Чего он только не знает! Захочешь — расскажет подробнейшим образом о южноафриканских бушменах, захочешь — обучит тебя стенографии. Что-нибудь в этом роде — пожалуйста, чешет, как по писаному, а вот разобрать и собрать замок винтовки… Сколько раз Елисеев и Пименов показывали ему, как это делается, — и все без толку, хотя Олег и любит докапываться до всего сам. Ну что ты тут поделаешь! Сидит себе, гладит ладонью приклад, да с такой нежностью, будто собирается бить фашистов, не нажимая на спусковой крючок…
Недавно, чистя шомполом ствол, он ударил себя по губе, и она вспухла, как от пчелиного укуса. Мало того — еще натер до крови левую ногу. Сейчас рядом с ним сидит командир роты и показывает, как надо завертывать портянки. Движения у Ивашина ловкие, быстрые. Он, видно, понимает, что может задеть самолюбие Олега, и потому говорит спокойно, добродушно:
— И я тоже не сразу научился. Но то было давненько, больше десяти лет назад… А ну-ка, еще разок… Вот так. Ничего! Уже вполне прилично. А теперь — с закрытыми глазами. Левой рукой прижимаете кончик портянки, а правой выравниваете все складки. Не забывайте, что рано или поздно вам придется обучать других. Солдат если и хромает, то от пули, от осколка, а не оттого, что сапог натирает ему ногу…
Старший лейтенант встает, оправляет гимнастерку, перепоясанную широким ремнем, и негромко, но внятно отдает приказ возвращаться в лагерь.
Все мы здесь сильно изменились, Юренев больше других. Его узкое нежное лицо посуровело, огрубело, и взгляд словно бы погас, хотя и сейчас временами кажется, что мысли его витают где-то высоко, в облаках, и он, забываясь, делает рукой привычное движение — «расчесывает» на своей гладко выбритой голове волосы на пробор.
Дорога назад всегда легче, тем более когда знаешь, что впереди обед и несколько часов отдыха. В такие минуты главная наша мечта — чтоб пшенной каши было побольше и суп погуще, а то, случается, он чересчур жидкий. Тогда наш силач Николай Сергеев приставляет свою большую, широкую ладонь козырьком к глазам и вглядывается в тарелку.
— Ну, ребята, я пускаюсь вплавь. Если удастся поймать крупинку, клянусь, честно поделюсь с вами.
Когда он сказал это впервые, и у Елисеева кадык вздрогнул от сдерживаемого смеха. Но в следующий раз сержант предупредил, чтоб больше подобных шуток не было. И представьте — компромисс был найден: если суп или борщ оказывался очень уж жидким, Сергеев так же приставлял к глазам ладонь, но губ при этом не разжимал.
Брезентовый полог палатки приподнят, но все равно душно — ни малейшего ветерка. Сейчас, правда, нас это мало беспокоит — глаза все равно слипаются. Если бы нас не будили, ни за что не променяли бы сон на ужин, так и пролежали бы до утра, выставив из-под одеяла загорелые плечи. Из нас всех одного Елисеева не берет солнце: он весь, с ног до головы, усыпан веснушками.
Но мне на этот раз так и не удалось выспаться. К Юреневу приехали родители, и дежурный по лагерю разрешил им встретиться не только с сыном, но и с его друзьями. Не знаю почему, но Олег пригласил Пименова, Якимовича и меня.
И вот мы шагаем к поляне в лесу, где стоят стандартные фанерные домики, огороженные полосатым штакетником, в них живут семьи наших командиров. Долго задерживаться мы там не собираемся — мало ли о чем истосковавшимся родителям захочется поговорить со своим единственным сыном…
Мать Олега поднимается на цыпочки, пригибает к себе его голову и шепчет: «Олежка… Олеженька…» Мы стоим рядом и не знаем, куда деть глаза.
Отец Олега по-стариковски сутулится, лицо его изборождено морщинами. На нем красивые, с четырехугольными стеклами очки; усы густые, длинные. Он беспрерывно сосет коричневую увесистую обугленную от долгого употребления трубку в виде львиной головы с венцом из лавровых листьев. Слегка, по-утиному, переваливаясь, заходит с одной стороны, с другой, но заглянуть сыну в лицо ему так и не удается. Тогда он просит жену:
— Довольно, Раиса, я тоже хочу на него посмотреть. — И поскольку слова его остаются без внимания, напоминает: — Раиса, здесь товарищи Олега, а мы с ними даже не познакомились…
При этом он бросает на нас выразительный взгляд, как бы говоря: «Вот видите, ребята, для чего вы мне понадобились!» Однако очень скоро мы убеждаемся, что это совсем не так. Родители Олега «накрывают на стол»: раскладывают на траве салфетки с тонкой ручной вышивкой, всякую снедь. Мы сидим кружком, тесно прижавшись друг к другу, и уже безо всякого стеснения уплетаем за обе щеки белый хлеб, колбасу, сыр, зеленый лук, огурцы, запиваем хорошим пенистым пивом.
После того как Раиса Яковлевна расцеловалась с нами, а Виталий Сергеевич крепко пожал руки, мы почувствовали себя так, будто и к нам приехали родные. От них так и веет домашним теплом, родительской лаской. А когда Раиса Яковлевна сняла соломенную шляпку и я увидел ее гладко зачесанные назад седые волосы и быстро увлажняющиеся глаза, она показалась мне похожей на мою мать. Кто знает, может, такое же чувство возникло не только у меня, но и у Феди, и у Юры…
Виталий Сергеевич говорит о налетах на Москву, и мы с таинственным видом переглядываемся: не знаем, вправе ли рассказать «сугубо гражданским лицам» о том, что наши курсанты принимали участие в поисках «хейнкеля-111», которого раненый советский летчик сбил у села Кузнечики, недалеко от Подольска. Впрочем, родители Олега и не собираются нас расспрашивать; кажется, единственная их забота — накормить нас до отвала всякой всячиной. Еще целый сверток в плотной бумаге лежит в стороне — приготовлен для остальных ребят нашего отделения. Спросить, откуда у них в военное время такое добро, неудобно, — наверняка где-то работают, и это их паек за многие дни.
К домикам по протоптанной дорожке идут два командира. Надо надеяться, пройдут мимо, сделают вид, что нас не заметили. Эх, напрасно мы не забрались поглубже в лес! Но теперь уже поздно. Один из них, тот самый майор, который помог Якимовичу сохранить дуб, быстрыми шагами направляется к нам. Мы, четыре курсанта, как по команде вскакиваем с места. Родители Олега, немного растерявшись, переглядываются. Майор разрешает нам сесть, — видимо, мы его сегодня не интересуем, — и обращается к отцу Олега:
— Виталий Сергеевич, вряд ли вы меня помните, а вот я очень рад вас видеть. Мой Толя в письме спрашивал о вас… Простите, это я говорю о своем сыне. Вы ему спасли, жизнь.
— Так уж прямо и спас? — Виталий Сергеевич кашляет, прочищая горло.
— Да, профессор, вы его оперировали. Он был вашим студентом. Толя Яковенков, может, помните? Вы всегда очень хорошо к нему относились. Даже рекомендовали в аспирантуру.
— Ваше имя и отчество, товарищ майор?
— Алексей Макарович.
— Да, Алексей Макарович, вашего сына я прекрасно помню. Способный мальчик. Очень способный. И до чего красив! Слышишь, Раиса, редкостный человеческий экземпляр. Как Аполлон, такие не часто встречаются. Можешь себе представить, даже во время операции я об этом подумал… Если не ошибаюсь, он стал военным врачом?
— Да.
— Письма получаете?
— Последнее — три недели назад.
— На почту, Алексей Макарович, сейчас не очень-то можно надеяться.
— Почта здесь ни при чем, — покачал головой майор. — Товарищ Толи написал нам, что он тяжело ранен. Больше мы ничего не знаем… Да, кто бы мог подумать, что дети наши раньше нас уйдут на фронт…
— Алексей Макарович, — попыталась Раиса Яковлевна приободрить майора, — наша соседка не знала, что́ с ее мужем, больше месяца, а сегодня утром я своими руками вручила ей письмо. Вы же сами понимаете, что нельзя терять надежду.
— Спасибо за доброе слово… Не могу ли вам чем-нибудь помочь? Кто-нибудь из ваших родственников учится у нас?
Виталий Сергеевич замотал головой: «Нет, нет», — и майор повернулся к нам. Якимовича он сразу узнал, в Олеге же найти сходство с родителями было не так-то легко. Раиса Яковлевна не выдержала:
— Это наш сын, Олег.
— О, ради такой встречи приглашаю вас к себе! Жена будет очень рада. Пожалуйста, идемте… Заодно и мы отведаем чаю из самовара. Переночуете, а рано утром проводим вас до вокзала.
— С большим удовольствием приняли бы ваше приглашение. — Виталий Сергеевич церемонно, по-старомодному поклонился. — Чай из самовара мы с Раисой Яковлевной давно уже не пили. Но, к сожалению, придется отложить…
— Нас и не надо было бы уговаривать, — сказала сердечно Раиса Яковлевна, — но нам сегодня же надо вернуться в Москву. Ночью должны быть на аэродроме…
— Самолет летит к фронту? — спросил майор. Ему не ответили, и он сказал: — Провожаете Виталия Сергеевича, а тут я морочу вам голову… — И, с минуту поколебавшись, добавил: — Простите, профессор, но ведь всякое бывает… Вдруг, на наше счастье, услышите что-нибудь о военном враче Анатолии Яковенкове, так будьте уж столь добры, напишите пару слов вашему сыну. Олег, в какой вы роте?
На сей раз сам Малихин вынужден был бы признать, что Олег ответил по всем правилам. Он вскочил так, что даже кости хрустнули, одернул гимнастерку и, выпятив грудь, четко отрапортовал:
— Курсант Юренев, четырнадцатая рота, четвертый батальон!
— У Ивашина?
— Так точно! Старший лейтенант Ивашин командир нашей роты.
Уже после того как майор ушел, мы узнали, что не только профессор Виталий Сергеевич Юренев, но и военврач второго ранга Раиса Яковлевна Юренева вылетают сегодня ночью на фронт. Прощаясь, Раиса Яковлевна сказала нам:
— Мальчики, если бы вы попали на фронт в одну часть, нам было бы немного спокойнее. Дети! Мы, ваши родители, просим вас: держитесь вместе и охраняйте друг друга…
Ну конечно, о чем тут говорить! Сейчас мы все двадцать четыре часа в сутки вместе и, кажется, еще друг другу не надоели.
Николай Сергеев, полуголый, волосатый, как медведь, сочно чавкая, жует колбасу, которую принес ему Федя Пименов. Время от времени он бросает на Федю недовольный взгляд — не на шутку рассердился, что тот пошел на встречу с родителями Олега без него. Николай самый сильный не только в нашем отделении, но и во всем лагере, у него огромные руки, длинные, крепкие ноги — и тем не менее, словно больной, требует к себе постоянного внимания. Как ни странно, опорой, без которой Николай не может обойтись, стал для него низкорослый, на голову ниже его, щуплый Федя Пименов. Не зря о них говорят: куда иголка, туда и нитка. «Иголка», ясное дело, Пименов. Попробовал бы кто другой подтрунить над Николаем, поддеть его, — например, сказать, что язык у него работает лучше, чем голова, — досталось бы на орехи. Федя же зачастую по-дружески одергивает Николая, и тот в ответ не только не дает сдачи, а еще и угощает только что сорванной земляникой.
Ночи не проходит, чтобы зенитная артиллерия вокруг Серпухова не открыла огонь по фашистским самолетам, Бывает, что и среди бела дня в небе показываются немецкие разведчики, а то и бомбардировщики. Главная их цель, конечно, Москва; но нередко они и здесь сбрасывают свой груз. Особенно их привлекает железнодорожный мост, по которому день и ночь тянутся тяжело груженные составы. Сбросили бомбы и на деревни совсем близко от нашего лагеря, и теперь там во всех домах окна крест-накрест забиты досками.
Часть наших курсантов патрулирует в районе Каширы, Домодедова, Электростали. Зачем? Оказывается, объяснили нам, фашисты могут попытаться бросить десант или диверсантов. Наш же батальон пока не трогают: мы должны прежде всего освоить первоначальный курс, без чего нас вообще нельзя считать военными. Так-то оно так, но сколько, спрашивается, это еще продлится? Немцы прут со всех сторон, а мы только один-единственный раз были на полигоне и стреляли в фашистов, нарисованных на мишени. Мы искренне завидуем тем девятистам лейтенантам, которые на днях окончили училище и были отправлены на фронт.
По дороге тарахтит подвода, в которую запряжена лошадь, загнанная, худая, как скелет, с торчащими мослами. Кажется, еще немного — и она выпадет из собственной кожи и ссохшиеся кости ее тут же рассыплются в прах. А пока она кое-как, припадая на задние ноги, но все же тянет подводу, отфыркивается, раздувая ноздри, пытается отогнать коротким хвостом надоедливых мух, облепивших ее раздувающиеся, как кузнечные мехи, бока.
На подводе сидит мальчишка лет четырнадцати, весь, с ног до головы, запорошенный соломой и половой. Белесый чубчик прилип ко лбу. Он то и дело понукает лошадь, нещадно нахлестывает ее по-змеиному гибким кнутом: ясно, что ему до смерти охота обогнать батальон курсантов, почти на километр растянувшийся вдоль разъезженной сельской дороги. И кажется бедняге, что в него впились сотни насмешливых глаз, спрашивая: «Эх ты, неужели не доверяют тебе коняги получше?» — и губы его обиженно кривятся… Кабы знали вы, что всего два-три месяца назад он, оглашая окрестности звоном бубенцов, мчался, как ветер, на бричке с рессорами, в которую запряжен был не конь, а орел… А где он теперь? Теперь на том коне, если только не погиб он в горячем бою, наверняка скачет бравый кавалерист, и в руке у него сверкает стальной клинок…
Вздымая сапогами дорожную пыль, мы тяжело шагаем по узкой сельской улице. Дома словно вымерли — все, кто способен держать оружие, ушли на фронт. В колхозном дворе, возле которого мы останавливаемся, хозяйничают женщины и дети ненамного старше того парнишки. Да, и детям приходится сейчас трудиться, как взрослым.
Проделав сорокакилометровый марш-бросок, мы будем теперь два часа отдыхать в этой деревне. Я решил про себя, что все сто двадцать минут пролежу на земле, закинув руки за голову, и пусть грохочет гром, пусть молния сверкает — не шелохнусь, даже пальцем не пошевелю. Видно, вон тот скворец понял это — ни капельки не боится меня, прыгает рядом.
— Товарищ сержант, — слышу я вдруг голос Якимовича, — разрешите войти в дом напиться! И, если можно, поработать немного во дворе.
Елисеев не успевает ответить, как с той же просьбой обращается к нему Пименов. Юру и Федю я еще как-то могу понять, но Олега — откуда ему взять силы, чтоб подняться с места? И тем не менее он третий, кто желает поработать. Сержант обращается к Малихину, Малихин — к Ивашину. В армии, как известно, не спрашивают, согласен ты или нет, слово командира — приказ, который ты обязан выполнить, и все же старшему лейтенанту хочется знать, кто еще желает оказать помощь семьям фронтовиков. Оказывается, все. Губы Ивашина, дрогнув, сдерживают улыбку.
— Рота, марш! — приказывает он.
Наше отделение он останавливает возле домика с красивыми резными наличниками. У открытой калитки сидит, опираясь на палку, старик. Лицо у него сухое, морщинистое, как древесная кора. Глаза слезятся, брови вздрагивают. Он что-то бормочет, шамкает беззубым ртом. По двору разбросано пересохшее сено.
— Дедушка, сейчас мы вам сено заскирдуем!
Но дедушка, кажется, уже ничего не слышит: по лицу его невозможно понять, доволен он или нет. Потом он медленно поднимает руку и делает узловатым пальцем движение: входите, мол, в дом.
Как открываются двери в сельском доме, нам уже известно. Входим, но никто не появляется навстречу. В доме чисто, но как-то грустно, сиротливо. На стенах фотографии. Вглядываюсь. Вот этот бравый солдат с залихватским чубом, выбивающимся из-под фуражки, с шашкой на боку и «Георгием» на груди, наверняка он, старик, что сидит сейчас одинокий, будто пастух, растерявший свое стадо. Тот, в буденовке, скорее всего его сын, а в шлеме танкиста — может быть, внук… Из кухни доносится запах варева. Видно, кроме старика здесь еще кто-то живет.
Заходим в сарай. Ни вил, ни граблей нету. Ладно, будем собирать руками. Так и делаем: таскаем сено охапками, утаптываем, потом складываем. Стог вырастает аккуратненький, будто голова сахара. Потом обкладываем его еще старыми листами жести и досками, чтоб не разнес ветер, не намочил дождь.
Во дворе валяется несколько бревен, что годятся разве только на топливо. А вот и пила, топор. Пилим, рубим, дрова складываем в штабеля. И странное дело — казалось бы: должны были устать еще больше, а работа спорится, будто с каждым ударом топора мы выдыхаем из себя усталость.
Когда, покончив с делами, собрались уходить, вернулась с поля хозяйка. Видно, узнала, кто орудует у нее во дворе, вот и пришла раньше обычного. Поздоровалась, улыбаясь, довольная; загнала в хлев корову, подоила и угостила нас парным молоком и черными жареными семечками, пахнущими подсолнечным маслом. А когда прощалась с нами, на загорелое лицо ее упала тень, и сразу стало видно, сколько на нем скорби и отчаяния.
— Неужели не остановите фашиста?
Неожиданно для нас ей ответил молчаливый Рузин:
— Не только остановим — они еще назад побегут, да так, что земля под ногами гореть будет.
Сказал, и снова тонкие губы его плотно сомкнулись.
— Такие слова мы уже слышали. Да ведь вы лучше меня знаете, докуда он добрался. Вот придете на позиции, а он как бабахнет из своих пушек, так половина из вас сразу поляжет, а остальные разбегутся кто куда.
Пименов, который уже подходил к воротам, повернул голову:
— Полечь, может, и поляжем, но разбежаться — нет. Этого никогда не будет.
«БУДЬ ЗДОРОВ, ПЕХОТА!»
И снова мы шагаем вдоль левого берега Оки, но на сей раз уже не из Серпухова, а обратно: получен приказ перебираться из летнего лагеря в казармы.
Находясь все время в лесу, мы и не заметили, как изменился за последние дни его наряд. Деревья ведь раздеваются не сразу, а постепенно, и каждое по-своему, на свой лад. У одного почти все листья уже багряные, винно-красные, другое сплошь пожелтело, а третье стоит совсем еще зеленое: сентябрь был теплый, в иные дни даже слышно было, как стрекочут кузнечики. Листья, падая, тихо шелестят, перешептываются печально, будто прощаются навсегда. Откуда-то примчался осенний ветер, и они тут же вздрогнули, оживились. А вот и Ока глухо заворчала, взбурлила, плеснула волной на наши пыльные кирзовые сапоги. Событие не бог весть какое, но поскольку Олег Юренев отскочил в сторону и кто-то рассмеялся, мы приготовились, что наш строгий Малихин накажет за это весь взвод, — привыкли уже, что любое, самое пустяковое, происшествие не оставляет без внимания. Ну, а сейчас? В реку он, конечно, нас не загонит, ибо должен привести в город в сухом и чистом виде, зато гнать будет так, что земля убежит из-под ног. После такого марша нас уже мало трогает золотая роскошь леса. Вроде только что было это, было наяву, — и вдруг словно кануло в небытие; недавно он изумлял нас удивительной игрой красок, а сейчас кажется, что это самые обыкновенные деревья, какими они и должны быть осенью. И я не могу понять, как Олег еще в состоянии ворочать языком и ответить на вопрос Малихина:
— Сегодня, товарищ лейтенант, среда, первое октября.
— Так вот, запомните эту дату и больше не пугайтесь пригоршни воды.
— Есть не пугаться!
А ведь Олег очень изменился. И что с того, что отскочил от пригоршни воды? Ведь и деревья тоже не сразу освобождаются от старой одежды…
Нас разместили в большом зрительном зале клуба текстильной фабрики. Здесь мы спим, а почти весь день проводим в поле. Как ни трудны занятия по тактике, которые проводит Ивашин, мы понимаем, что они крайне необходимы. Но эта бесконечная маршировка… Право, же, лучше было бы использовать эти часы, чтоб как следует ознакомить нас с пулеметами и минометами, тем более что некоторые из нас до сих пор не умеют разобрать замок пулемета. Елисееву Малихин объяснил, что отступать от утвержденной программы никому не позволено, и все же, когда наш взвод оказывается один в поле, лейтенант позволяет себе — надо полагать, с разрешения Ивашина — «перепутать» занятия и, вместо того чтоб снова и снова учить нас маршировать, приказывает выставить чучела и протыкать их одно за другим штыками. Немало пота пришлось нам пролить, пока мы наконец услышали от него долгожданные слова: «Штыком и прикладом действуете неплохо».
День только-только занялся, а мы уже на плацу. Сотни лет тому назад здесь был построен белокаменный, с пятью башнями кремль, и так хорошо сейчас смотреть на эти остроконечные башни. Солнце не по-осеннему расщедрилось, в воздухе повисли белые нити паутины. Стаи птиц тянутся на юг и кричат грустно, будто не хотят расставаться, будто зовут с собой. А нам, видно, сейчас снова придется подняться, снова «штурмовать» крепость. Впрочем, Ивашин словно бы забыл о нас. Он беседует в сторонке с политруком в длинной шинели нараспашку, который стоит, опираясь на костыль.
Но вот раздается команда:
— Рота, встать! Построиться!
Мы стоим взвод к взводу — два в длину, два в ширину — и не можем оторвать глаз от ордена Красного Знамени, что блестит на груди раненого политрука.
Так, как он, с нами еще никто не разговаривал, даже батальонный комиссар, его слово доходит до сердца.
— Командирами вы станете не тогда, когда вам прочтут соответствующий приказ и выдадут кубики, наганы или пистолеты, — говорит политрук, — но лишь тогда, когда вы победите в себе страх перед врагом. Я видел, как взвод красноармейцев выбил из деревни и погнал назад целый батальон фашистов, вооруженных до зубов. Вот это и есть бесстрашие.
Да, у немцев много самолетов, танков, пушек и еще больше минометов. И каждый командир обязан знать, как уберечь своих солдат от вражеского огня. Да, это война моторов, но последнее слово остается все-таки за пехотой, а наша пехота сильнее немецкой, и винтовками мы уложим их скорее, чем они нас автоматами. Чтобы освободиться от страха, необходимо всадить в фашиста хотя бы одну пулю.
Мы отступаем, это правда, но с каждым днем немцам становится все труднее. Наш фронтовик уже перестает бояться врага, а враг, наоборот, заражается этой гибельной бациллой. И для него это куда опаснее, потому что его солдаты пришли сюда как грабители, а мы защищаем свою землю, своих родителей и детей. Человек, защищающий свою жизнь, свободу, может гораздо больше того, кто на нее покушается.
Любой грабитель храбр лишь до тех пор, пока не получает сдачи… Но это вы знаете и без меня. Ваш старший лейтенант попросил меня рассказать несколько фронтовых эпизодов, а я сказал то, что сейчас, думается мне, самое важное.
«Когда вы победите страх перед немцем»… Каждый день мы слушаем и читаем о мужестве, смелости, бесстрашии, и слово это, бесстрашие, почему-то означало для нас героизм. Но пришел политрук, заговорил — и оно получило первоначальный смысл: без страха. Только-то и всего! Каждому из нас хочется как можно быстрее попасть на фронт, и, естественно, каждый считает, что он не трус, а если уж начистоту, втайне мечтает совершить героический поступок, подвиг. И вот оказывается, что прежде всего мы должны победить в себе самый обыкновенный страх! Что ж, если вдуматься, политрук прав, но зачем ему понадобилось это подчеркивать? Или он полагает, что мы в первом же бою повернем назад оглобли, покажем врагу спину? Нет, наверняка он так не думает, просто объяснил нам в нескольких словах азбуку боя.
Прошло совсем немного времени, и мы в этом убедились.
Среди бела дня снова тревога. Не только в летнем лагере у деревни Лужки, но и за пять дней в Серпухове к учебной тревоге мы привыкли. Но сегодня, надеялись мы, обойдется без нее. Сегодня воскресенье, и ко многим курсантам из Москвы и других ближайших городов приехали родственники и знакомые. Из клубного двора, однако, на этот раз никого не выпустили, люди стояли по обе стороны забора, тесно прижавшись друг к другу, говорили и никак не могли наговориться…
Но прозвучала тревога, и гражданских попросили отойти. Война и их приучила к дисциплине — отступили послушно, не спуская глаз со своих близких.
Ко мне сегодня пришел мой товарищ, младший лейтенант. До войны он учился в военно-воздушной академии, а как только началась война, его послали в серпуховскую авиашколу. Теперь он посылает рапорт за рапортом, требуя, чтоб его немедленно отправили на фронт. Мой товарищ уверен, что попадет туда раньше меня. Я успеваю сказать ему:
— Кажется, это и правда не учебная тревога… Прошу тебя, если мы в ближайшие два-три дня не вернемся, зайди, когда будешь в Москве, к…
Взвыли фабричные трубы и сирены. Зенитки открыли огонь. Товарищ мой, кивнув на прощанье, бросился бежать в свою часть, а мы, плечо к плечу, зашагали к вокзалу.
Через несколько часов, когда спустились сумерки, мы уже были в Подольске, где нас ждали товарные вагоны.
…Эшелон долго курсирует по окружной железной дороге. Щели в вагонах такие, что можно руку просунуть, дует порывистый холодный ветер, а одеты мы по-летнему. Ну, ничего, пока еще вполне терпимо. «Спать!» — приказывает нам Малихин, и через минуту уже слышится его храп. Я лежу между Юреневым и Пименовым. Олег шепчет мне на ухо:
— В Подольске я бросил письмецо, пусть мама знает, что пока мы все вместе. Писал в темноте, но она разберет. А ты кому писал открытку?
— Брату.
— Он уже на фронте?
— Не знаю. Его тоже послали в училище недалеко от Москвы.
— Может так случиться, — говорит Олег задумчиво, — что вы оба попадете на один участок, даже на одну оборонительную линию. Или, скажем, ты на первую, а он на вторую. Один другого сменит на передовой, и никто из вас об этом не узнает…
— Ну и фантазер же ты, Олег! Прямо лучше соловья поешь.
— И поэтому тебе не нравлюсь?
— Ты же не девушка, чтоб нравиться.
— Малихину я сперва не понравился, это точно. Что ж, его можно понять. Я такой вояка… А вот тебе, Феде, Юре, Виктору, знаю, понравился с первого дня.
— Идиот ты, честное слово!
— А ты, дружище, знаешь, откуда происходит слово «идиот»?
— Не знаю и знать не хочу, отстань!
— Вот когда меня ранят, тогда я к тебе по-настоящему пристану.
— А что, уже и коленки дрожат?
— А у тебя?
— Пока нет.
— И у меня нет. Хочешь кусочек хлеба? На, откуси, остальное передай Феде.
— Давно бы так, а то болтаешь всякую чепуху.
Сергеев тут же поднимает голову:
— Сами жрут, а что я не ужинал, так до этого никому нет дела!
— Я думал, ты давно спишь, — пытается оправдаться Олег. — Да тебе этого кусочка и на один зуб не хватило бы.
— Думал… Больно много, профессор, ты думаешь!
Николай наверняка еще долго ворчал бы, но Федя с сердечностью и дружелюбием старшего брата посоветовал ему приткнуться головой к «сидору» и закрыть рот. Николай подчиняется: слово Пименова для него все равно что приказ Ивашина.
Около десяти утра эшелон остановился, и нам приказали освободить вагоны. Мы думали, что за эти больше чем полсуток уехали невесть куда, а оказалось, прибыли всего лишь в Малоярославец. Дальние подступы к Москве, стало быть, не так уж далеки — всего 124 километра. Городок на правом берегу узкой реки выглядит безлюдным, опустевшим. Кажется, что две магистрали, сходящиеся здесь, — Московская железная дорога и шоссе на Брест, которое еще сто лет назад связало Москву с Варшавой, — законсервированы навечно. А ведь не надо быть стратегом, чтобы понять: это — важнейшие магистрали, соединяющие столицу с южными и западными частями страны.
Недалеко от вокзала возвышается земляная насыпь, в которую вделана деревянная дверь, — видимо, своего рода холодильник. Мы забрались на горку, пропитанную мазутом и присыпанную сверху угольной пылью, и ждем дальнейших распоряжений. Откуда-то прилетел свежий ветерок, и светло-голубая дикая астра на краю насыпи вздрогнула, склонилась. Я лежу, упершись локтем в землю, и слышу, как Сергеев с упреком говорит Бокову:
— Да кто это выбрасывает чуть ли не половину папиросы? Вон сколько еще раз я затянусь! Видал? Так надо курить на фронте…
Доносятся отзвуки взрывов. Неужели мы и правда на передовой? Неужели фашисты где-то совсем рядом? Ну что ж, если придется отдать даже этот холм, на котором мы сейчас сидим, они за это дорого заплатят… А впрочем, почему отдать? Врыться как следует в землю, вцепиться в нее, и никто и близко не подступит. Нас не учили отступать. Нас учили отбивать атаки и гнать, гнать врага назад… Да, но этому учили и тех командиров, которых война застала на границе, и все же им пришлось отступить на сотни километров в глубь страны: и теперь они дерутся за каждую такую вот маленькую горку, и это куда труднее, чем наступать.
…Кто там забавляется? Тоже мне, нашел подходящее время. Чьи-то шершавые ладони крепко обхватили мой лоб, так, чтоб не смог повернуть голову, чьи-то пальцы до боли сжали глаза и ослепили их. Проделка удалась — я сидел задумавшись, а шутник, видно, подошел тихо.
В детстве мы любили эту игру. Пока не назовешь имя того, в чьи руки попал, и надеяться нечего, что тебя освободят, разве что вслух признаешься: «Сдаюсь!» Бывало, что и узнаешь, кто тебя обхватил, но не хочется расставаться с нежными девичьими руками, вот и принимаешься называть все имена, какие только приходят в голову, лишь бы продлить удовольствие. Несколько мгновений сна наяву…
И все же кто это? Если кто-нибудь из наших курсантов, Елисеев наверняка бы прикрикнул на него. Глаза мои закрыты, зато руки свободны, потому завожу их назад и принимаюсь обшаривать человека, что стоит за моей спиной. Шинель у него точно такая, как у нас, сапоги же получше, не кирзовые. Выше ремня руки не достают, так что нечего и стараться. А страсть как охота побыстрее узнать, кто это! Слова Олега, что могу встретиться здесь со своим братом, все-таки запали в голову…
Ну, сколько же можно! Видно, он думает, что я и не попытаюсь вырваться, да только зря надеется, «сдаюсь» я ни за что не скажу. Впрочем, силу применять уже ни к чему, глаза мои, наконец, открыты, я резко поворачиваю голову — и вижу перед собой Сеню Иоффе. Вижу — и чуть не захлебываюсь от неожиданной радости.
Потом мы сидим друг перед другом, лицом к лицу. Сеня, как всегда, добродушный, улыбающийся, красивые большие глаза, черные, как сажа. Он спрашивает:
— Чего это ты так удивился? Ведь знал, что я в Подольском артиллерийском. Или думал, только вас сюда привезли? Рано или поздно мы должны были встретиться… Наш артдивизион выступает по направлению к Юхнову. — Сеня залихватски сдвигает пилотку на ухо, глубоко затягивается папиросой и, нагнувшись ко мне, продолжает: — Говорят, две наши батареи и отряд ваших курсантов с самого рассвета ведут там бой. Они еще вчера выехали из Подольска на двадцати четырех грузовиках… Туда и начальство наше подалось… Вами генерал командует, а наш хоть и полковник, но будь спокоен. Уж ему-то на своем веку пришлось повоевать. Эта для него четвертая. Понял? Сняли, говорят, с передовой и, как одного из лучших артиллеристов, приказали нас обучать. Так ли все это, не ручаюсь, но что наш полковник Иван Семенович Стрельбицкий командир стоящий, это уж точно… Слушай, хочешь почитать письмо от отца? Он и тебе привет передает. — Сеня бросает на землю окурок. — Был недалеко от Куйбышева, а сейчас наверняка уже на фронте. Можешь представить моего отца сапером? Вот так, друг мой…
Друг… Я бы не сказал, что дружба наша с Сеней вспыхнула сразу, как только мы познакомились, но одно могу сказать твердо: она не погаснет, пока будем живы. Что же касается его отца… Я вполне могу представить Меера Исааковича сапером и знаю, что если ему прикажут взорвать мост, он сделает это так же аккуратно, как раскраивает костюм. Сапер — профессия опасная, но ведь никто его за полы не тянул, ушел на фронт сам, добровольцем. Надо бы рассказать Сене о разговоре, что был у меня с его отцом в электричке, передать его слова: «Пока все не будет как надо, по мерке, к ножницам не притронусь… буду стрелять…»
Да, надо рассказать об этом Сене, но что-то мешает мне. Что? Может быть, напряженность, скованность, что охватила нас сейчас, перед первым нашим боем, который, возможно, будет уже сегодня? Все мы, кажется, считаем, что этого состояния следует стыдиться, и, поскольку внутренняя дрожь никак не проходит, пытаемся заглушить ее бодрым словечком.
Неожиданно для себя самого у меня вырывается:
— Знали бы вы, ребята, как стреляет мой товарищ! Во! — подымаю я большой палец. — На его снаряды можно положиться, все в цель попадут…
Угрюмый упрямец Боков, у которого ко всему прочему еще и флюс — раздуло правую щеку, — все видит в черном свете, цедит сквозь зубы:
— Немой бы всё это и за год не выговорил. Да что тут языком молоть, поживем — увидим.
Слова эти меня не задевают, повадки Бокова мне давно известны. Его упрямство кажется мне следствием былой мягкотелости и доверчивости, от которой он много страдал и решил наконец избавиться.
Сеня же стоит весь красный, будто провинившийся школьник. И как это я мог забыть! Знаю же, что достаточно кому-нибудь взглянуть в его сторону, чтоб лицо его вытянулось и тут же покрылось багровыми пятнами. Теперь ему, бедняге, приходится оправдываться перед Боковым.
— Разумеется, вы правы, а он, — показывает Сеня на меня, — просто болтун! Ничего, сейчас я искуплю его грехи. Яблок хотите? Хорошие, мать вчера ко мне приезжала…
Он еще спрашивает! Мы и от паршивых не откажемся, не то что от хороших. Сеня развязывает рюкзак, и каждый из нас получает по большому красному яблоку. Твердое, гладкое, оно хрустит под зубами, и сок из него брызжет сладкий, холодный, как родниковая вода.
К сожалению, и самым чудесным встречам приходит конец. Раздается команда строиться. Видимо, сейчас выступит весь наш четвертый батальон. Грустно, что нам надо расставаться: поди знай, придется ли еще когда-нибудь встретиться… Ведь может случиться, что сегодня или завтра один из нас лишь из нитей воспоминаний сможет выткать портрет своего друга. Так почему же, спрашивается, нам не обняться, не расцеловаться или, на худой конец, не пожать друг другу руку? Да нет, куда там, старательно прячем нежность, душевное тепло, заменяя его кивком головы и бравым:
— Будь здоров, пехота!
— Будь здоров, артиллерия!
И все. Будто язык не поворачивается или слово замерло на губах. У Сени, правда, на глубокие темные глаза набежала бархатная тучка… Еще секунда — и мы трогаемся. Что-то крича, Сеня бежит за нами, но теперь я уже себе не хозяин и, услышав его голос, обращаюсь к Малихину:
— Товарищ лейтенант, разрешите попрощаться со своим товарищем?
— Давай, но быстро — раз-два!
На одно мгновение руки наши переплетаются, соприкасаются щеки, и тут же Елисеев дотрагивается до Сениного плеча:
— Беги, курсант, не то отстанешь от своей артиллерии. Может, еще встретимся, а пока — не жалей снарядов!
— Хорошо, сержант. — И уже издали: — Снарядов для фашистов не пожалеем. Не беспокойтесь, мы вас, пехота, не подведем!
Юра Якимович поворачивается ко мне:
— Хороший парень твой товарищ?
— Да, Юра, очень хороший.
ТАМ, ГДЕ СТОЯЛ ПОЛК ПЛАТОВА
Ивашин задерживается в штабе батальона, и ротой пока командует Малихин. У меня в ушах еще звучат слова Сени: «Снарядов для фашистов не пожалеем». И пуль не пожалеем. Чтобы перезарядить винтовку, требуется не больше пяти секунд… Если немцы думают, что прямой путь на Москву им открыт, они глубоко заблуждаются. За каждый клочок земли они дорого заплатят. Наш батальонный комиссар Дмитрий Васильевич Панков сказал: так же, как курсанты воевали под Петроградом в 1919-м, на Южном фронте, против Врангеля, летом 1920-го, при подавлении мятежа в Кронштадте весной 1921-го, так же и подольские курсанты осенью 1941-го под Москвой будут драться до последней капли крови. Что ж, он имел полное право сказать это: мы уверены, так оно и будет.
Сейчас четверть двенадцатого. Мы идем вдоль железной дороги, затем сворачиваем в пустой двор, густо заросший сорняками, и через узкий проход, выходящий в тихий, стиснутый домами переулок, выбираемся на окраину, к реке. Там, в небольшой долине, что издали казалась нам опоясанной широкой полосой тумана, мы, видимо, остановимся и будем ждать Ивашина. Он должен доставить приказ, который получила наша рота.
Воздух насквозь пропитан опьяняющим крепким запахом мокрых верб. Я прижимаюсь к старой вербе. На одной из ее длинных ветвей прочно пристроено гнездо, сооруженное из сосновых иголок, кожицы коры, волосков и покрытое переплетенной травой. Какая-то птица здесь, между небом и землей, подвесила удивительную колыбель…
Не успели присесть, а Юренев уже спрашивает:
— Ну, ребята, кто знает, как называется эта река?
Никто, в том числе и Малихин. Но чтобы Олег сказал сам, мы должны признаться, что действительно не знаем, и потому он переспрашивает:
— Ну, так как?
— Так, как назвали, — отвечает Боков. — Язык у тебя, профессор, чистый жернов, что ни попадет, все перемалывает! А байка, которую ты нам собираешься рассказать, наверняка ломаного гроша не стоит. Видали мы таких. Из-за пустяка пыль до небес подымают.
— Бе-е-е! — передразнивает его Юренев. — Ты что, сегодня с левой ноги встал? Так вот, река эта — Лужа. Знаменитая река. Отсюда, — показывает он на берег, — 12 октября 1812 года началось контрнаступление русской армии и отступление Наполеона. — Он замолкает на минуту, но, видя, что Малихин не собирается его перебивать, а парторг роты Иван Никифорович Степанов внимательно прислушивается и даже кивает головой: давай, мол, рассказывай, пока еще есть время, на этот раз никто тебе замечания не сделает, — продолжает: — Выступив из Москвы, Наполеон пошел по старой Калужской дороге — она вон там, недалеко. Он хотел захватить Калугу, добраться до южных губерний, богатых хлебом и фуражом, перезимовать там и потом снова начать наступление.
Фельдмаршал Кутузов разгадал замысел Наполеона и здесь, на правом берегу узкой, но глубокой реки Лужи, решил дать бой, от которого зависела судьба России. Послушайте, ребята, как это было… Ведь это почти легенда. В спешке добравшись до реки, наполеоновские гренадеры увидели, что моста через нее уже нет — его сожгли жители города. Тогда французские саперы стали строить понтонный мост. Их лодки уже почти достигли другого берега, еще несколько минут — и они были бы в Малоярославце. Что делать? Тогда горожане с невероятной быстротой, пилами и топорами, разобрали дамбу у городской мельницы, вода из семикилометрового бассейна вырвалась, хлынула и поглотила французских саперов.
Река Лужа захлебнулась, вышла из берегов. Авангард Наполеона еле успел отступить назад. Теперь у него не было иного выхода, кроме как целые сутки — день и ночь — стоять и ждать, пока спадет разбушевавшаяся вода.
Когда стемнело, французы вошли в город. Но ненадолго. За то время, что они топтались на месте, сюда прибыли полк Платова, шестой корпус Дохтурова и легкая кавалерия Дорохова. Вон на том берегу, — махнул Олег рукой, — стоял в окружении своей свиты Наполеон и следил за битвой. Он все еще надеялся вырваться на Калужскую дорогу. Но тут выступили основные силы русской армии во главе с Кутузовым. Битва была не на жизнь, а на смерть. Бой за Малоярославец длился без передышки восемнадцать часов. 12 октября город восемь раз переходил из рук в руки…
Вымуштрованная наполеоновская армия так и не заняла Малоярославец, хотя прибыла сюда, когда здесь не было ни одного русского солдата. 13 октября перед Наполеоном лежали развалины города, через который он не сумел пройти. Кутузов преградил французам путь у Малоярославца и вынудил Наполеона повернуть на разоренную смоленскую дорогу. Конец наступил на Березине, где сомкнулось кольцо окружения наполеоновской армии.
Мы слушаем Олега, раскрыв рты. Все это происходило сто двадцать девять лет тому назад, а сейчас, тоже в октябре, мы находимся на берегу той же речки, в том же городе, и так же, как тогда над русскими солдатами, над нами нависла смертельная опасность… Олег, наверно, долго бы еще рассказывал, если б не Ивашин. Вот он, идет сюда…
Удивительное совпадение! Нашему батальону суждено защищать Малоярославец именно там, где стоял в 1812 году полк Платова: пришел приказ закрепиться на юго-западной окраине города. Остальные курсанты из обоих подольских училищ ушли по Брестской дороге вперед, чтоб занять позиции на огневом рубеже, наш же батальон находится в резерве Московского военного округа, и его бросят в бой лишь в том случае, если враг прорвет линию обороны у оперативно важного пункта возле села Ильинское.
Небольшими саперными лопатками мы роем окопы — каждый для себя. Верхний слой земли снимается легко, но чем дальше вглубь, тем труднее, хоть руби киркой. Рузин наткнулся на заржавевшую саблю — вот тебе и наглядная иллюстрация к недавнему рассказу Юренева!.. Окопы вроде, как нас и учили, уже полного профиля, но Малихин и Елисеев все требуют: «Глубже! Шире!» Затем мы копаем общую траншею, противотанковые рвы, после чего нас рассылают в разные стороны — изучить ландшафт вокруг линии обороны. Для чего это нужно, объяснять нам не надо.
Вокруг тихо, словно и нет никакой войны. По краям местами вспаханных полей стоят, будто стража, рощицы. Попадаются кое-где бугорок, холмик, канава. Мы стараемся запомнить все до мелочей, каждый еле заметный изгиб земли. Пришло бы раньше кому-нибудь в голову, что сюда могут прорваться вражеские танки? А сейчас эта мысль не покидает нас ни на минуту.
Людей почти не видно, но вот мы выходим на узкую полевую дорогу и видим: навстречу нам плетутся с котомками за плечами усталые, измученные люди, гонят стадо. Видно, что идут они издалека: у некоторых коров перевязаны тряпками головы, шеи, у одной, что пытается на ходу пощипать жухлую придорожную траву, болтается на ниточке оторванное ухо, у другой лоб прорезала полоска засохшей крови, и заднюю ногу она волочит так, будто она у нее пятая, лишняя.
Нам не о чем спрашивать этих людей, нечего сказать им. И нечем утешить.
Вдруг дорогу нам загораживает женщина с берестяной корзиной за плечами — широко раскидывает руки, будто ловит курицу.
— Не скажете, где здесь поблизости доктор? — спрашивает она хриплым, простуженным голосом. — У нас трое раненых. Вон там, в поле, наши повозки, видите? Двое стариков и ребенок, мальчишка. Сделайте что-нибудь, прошу вас… — И губы ее, словно помимо воли, еще шепчут что-то.
Доктор… Где его взять? Все наши медики сейчас в Ильинском — таков был приказ генерала, начальника нашего училища. Это и понятно: в Ильинском предстоят тяжелые бои. Но даже если б в нашем батальоне и был фельдшер, прошло бы слишком много времени, пока бы он прибыл сюда. Рану, правда, и каждый курсант перевязать умеет, этому нас учили, но можем ли мы задержаться? Должны ведь вернуться точно в указанное время, Малихин и оправданий никаких не захочет слушать…
А что, если, думаю я, точно так же лежат сейчас где-то и моя мать, мой отец, старшая сестра с детьми?.. Неужели красноармейцы пройдут мимо, даже не перевяжут им раны? К счастью, не я один подумал об этом: Елисеев приказывает мне и Рузину идти к повозкам.
— Два бинта у вас есть, вот третий, — протягивает он нам свой индивидуальный пакет. — Как раз на всех хватит.
Отделение возвращается в часть, а мы с Рузиным бежим к повозкам.
Раненых уже не трое, а двое: мужчина с культяпкой вместо ноги только что умер, и лицо его одеревенело. Два часа назад осколок бомбы попал ему в грудь, рассказывают нам люди, окружившие повозку. Сейчас здесь, у дороги, вырастет небольшой холмик земли и над ним крест из двух березовых сучьев.
На другой повозке лежит, скрючившись, пожилая женщина. Она ранена в живот и никого к себе не подпускает, умоляет только, чтоб нашли какое-нибудь лекарство, хоть немного унять боль, и дали умереть спокойно. Но у нас нет никаких лекарств, и тогда она благодарит нас за глоток воды, что мы дали ей из фляги, и, вытирая слезы тыльной стороной ладони, шепчет, с трудом выдавливая слова:
— Второй месяц идем, и все в огне… Сегодня три раза налетали. Коровы, бедные, только услышат, разбегаются, кто куда…
Она хочет сказать еще что-то, но не может: больше нет сил.
Рузин хлопочет возле мальчика лет десяти.
— Руки у тебя чистые? — спрашивает он меня. — У парня в ноге осколок, а я сегодня держал ржавую саблю.
Что я могу ответить? Вчера утром, в Серпухове, я умывался, потом чистил винтовку, потом копал окопы. Если осколок торчит и за него можно ухватиться, вытру руки полой шинели… Мальчик сидит на подводе неподвижно, будто прикованный. Губы такие, словно собирается свистнуть, большие, расширенные карие глаза не мигая смотрят на рану. Ни стона, ни вздоха не срывается с его губ. Надо сказать ему какие-нибудь ласковые слова, но их словно ветер унес. И все-таки…
— Очень больно?
— Да.
— Не надо смотреть. Сейчас мы тебя перевяжем…
— А вы думаете, я боюсь? — говорит он, шепелявя.
— Нет, не думаем. Мы знаем, что ты молодец, бравый парень. Раз тебе удалось вырваться от фашистов…
— Я их ненавижу. Я тоже хочу с ними драться. Но сейчас ведь вы меня с собой не возьмете?
— Где твои родители?.. Ну? Почему молчишь? Ты слышишь, что я спрашиваю?
— Нет у меня родителей. Я сбежал.
— Откуда?
Мальчик встрепенулся, как пойманная в силок птица. По лицу его пробежала тень. На сей раз он отвечает таинственно:
— Из гетто. Я носил желтую звезду. А когда убежал, в реку ее бросил. Чтоб утонула.
— Что еще за звезда? — не понимает Виктор.
Я рассказываю ему то немногое, что мне известно о еврейских гетто в оккупированной Польше.
— А вы откуда знаете? — спрашивает мальчик. — Вы что, тоже еврей, да?
— Да.
— А дядя русский?
— Русский.
— А я еду с белорусами… Вы хорошо меня перевязали. Теперь уже почти не болит.
— Вот и слава богу. Будь здоров…
Мы прощаемся с беженцами.
— Теперь можете запрягать лошадей. А в Малоярославце обязательно заезжайте в больницу.
— Как бы немцы нас не догнали…
— Не догонят, — говорит Рузин. — Здесь мы будем биться с ними насмерть.
Три повозки, пронзительно скрипя давно не мазанными колесами, спустились к полевой дороге. Какое-то время мы шли рядом, потом взяли направо. Несколько раз оборачивались: сперва их еще можно было разглядеть, а потом исчезли в потоке двигающихся на восток беженцев.
В небе слышится гудение вражеских моторов. Тяжело груженные немецкие бомбардировщики летят по направлению к Москве. Виктор говорит что-то, но что именно, разобрать в грохоте не могу. И только когда самолеты исчезают, спрашиваю:
— Что ты сказал?
— Ты читал такую книгу, называется «Сад пыток»?
— Читал. А почему спрашиваешь?
— Все думаю об этом мальчике из гетто. Совсем ребенок, жизни-то еще не видел, а какие страдания…
Странный человек Виктор. Обычно слова из него клещами не вытянешь, каждый раз приходится догадываться, что он хочет сказать. Правда, на сей раз я понял бы его и без всяких слов. У меня из головы тоже не выходит мальчик. Гетто… Какое странное слово. Даже в звуке его есть что-то резкое, беспокойное, как сигнал тревоги. Что это? Сад пыток? Помню, когда я читал эту книгу, кровь застывала в жилах, не верилось, что люди способны на жестокость, какую описывает Октав Мирбо. Тогда мне казалось, что предъявленные писателю обвинения в том, что подобные картины могут быть порождены лишь извращенной фантазией садиста, справедливы. Но вот мы только что видели жертву нового палача, видели ребенка, чей детский разум даже не в состоянии осмыслить, воспринять весь ужас, что выпал на его долю. Рузин сегодня впервые услышал о еврейских гетто и ищет, с чем их сравнить. Ни он, ни я тогда еще не знали, что сад пыток Мирбо всего-навсего детская игра по сравнению с теми зверствами, которые учиняют фашисты. Однако и того, что мы знали, было более чем достаточно, чтобы сердце запылало гневом. Они, палачи, поют:
Если весь мир будет лежать в руинах, Плевать нам на это, все равно мы будем маршировать дальше, Ибо сегодня нам принадлежит Германия, А завтра весь мир!Нет, нет и еще раз нет! Мир не должен и не будет принадлежать вам. Вот мы, горсточка курсантов, которые даже еще не стали бойцами, которых только еще должны были учить на картах и ящиках с песком вести бой, но пробил час, и мы идем преградить вам путь на Москву. Мы будем стоять здесь до тех пор, пока целы головы, ноги, руки. До тех пор, пока будут патроны, будем стрелять в вас. Мы погибнем, но Москвы вам не видать.
Когда мы с Виктором вернулись к окопам, оказалось, что они пусты. С таким остервенением, так мучительно рыли их, а теперь тут преспокойно разгуливают птицы, выискивая в свежевыкопанной земле червячков. К далеким отзвукам взрывов они уже привыкли, а если и разлетаются, то ненадолго — и на месте не сидят, и далеко не улетают, через несколько минут уже снова здесь копошатся. В окопе валяется дощечка, так почему наши не воткнули ее в землю, не написали, куда нам идти?.. Тьфу, придет же такое в голову! Право же, мы все еще частенько забываем, где находимся, рассуждаем совсем по-граждански. Ну, как они, интересно, могли написать? Ведь это военная тайна!
Что ж, зря время тратить нечего, надо топать в город. Если наших там нет, хотя бы узнаем, в каком направлении они двинулись. К другой части мы не пристанем, это уж точно.
Кто-то идет сюда. Вот остановился, подавшись вперед, размахивает над головой пилоткой. Да это же Сергеев!
— Ребята! — кричит он еще издали. — Дайте ломтик хлеба! Кроме яблока, у меня сегодня во рту и маковой росинки не было!
— Где наша рота?
— Сейчас пойдем, меня за вами послали… Ну? — лизнул он языком верхнюю губу. — Сами-то небось наелись, а нам что-нибудь принесли?
— Где это мы наелись?
— Сержант сказал, что вы задержались с эвакуированными, которые гонят стадо.
— Ну и что? Эвакуированные сыты по горло… горем. Ясно?
— Ясно, но ведь есть-то хочется…
Ему хочется, а нам, выходит, нет! И он не понимает, что если б у нас и было что-нибудь съестное, мы там же, у подвод, вывернули бы свои карманы…
Батальон наш, оказывается, остался на юго-западной окраине Малоярославца, только его перебросили подальше, к самому пригороду. В каких-нибудь двухстах метрах от нас выставлен пост, который проверяет документы всех, кто входит или выходит из города. Вот он задержал двух красноармейцев, — видимо, вызвали подозрение. Впрочем, нет, их уже пропустили в город, а раз так, мы задерживать не станем. Но красноармейцы сами останавливаются возле нас, просят закурить. Махорки и папиросной бумаги у нас пока вдоволь, дадим малость на дорогу. Однако эти двое не такие уж бедные, махорку они берут, а нас угощают красивыми немецкими сигаретами. Это нас настораживает, и все же закуриваем.
Когда я был маленький и, как обезьяна, пытался подражать взрослым, то, помню, курил «сигареты» из соломы, и, право же, вкус у них был точно такой, как у этих немецких. Наша махра прямо кишки дерет, а тут даже дыма не видно, какой-то фиолетовый туман, который сразу тает… И все-таки — откуда у этих двоих немецкие сигареты?
Один из них, не дожидаясь, когда мы спросим, говорит, усмехаясь:
— Ну, что гляделки выставили? Мы ведь с фронта. Как раз оттуда, где дерутся ваши курсанты. Так вот, братцы, если будете держаться здесь, как они возле Юхнова, немцы здесь надолго застрянут.
— Когда там начался бой? — спрашивает парторг Иван Никифорович.
— С самого рассвета. Немцы думали, что путь на Москву открыт, да не тут-то было. Не дают им и головы поднять, так и осыпают огнем из винтовок, пулеметов, пушек, танков…
— Вы видели наши танки? — взволнованно перебивает Иван Никифорович.
— Своими глазами видел только танкетку и в полукилометре за ней — две батареи. Из Юхнова фашисты открыли огонь, такой, что мы думали: всё, и следа от ваших ребят не останется. А поглядели бы сейчас, сколько гитлеровцев валяется… Что курсанты не отступают, ладно, это еще понять можно, но парни, которые дрались там до того, как подошли ваши. Вооружены все немецкими автоматами и пулеметами, в атаку летят, как на крыльях. Кстати, ими командует какой-то капитан авиации. Что вы смотрите, будто я вам байки рассказываю? Ничего я не придумал, говорю все как есть.
— Не оправдывайся, браток, я уже об этом слышал.
Теперь мы не отстанем от Ивана Никифоровича, пока не расскажет о курсантском отряде возле Юхнова и об этих мальчишках с немецкими автоматами. Откуда они взялись? Кто такие? Однако Иван Никифорович знает не так уж много.
Отряд курсантов выехал из Подольска вчера в два часа дня по Варшавскому шоссе, через Малоярославец, к Юхнову. Сейчас бой идет у реки Угра. Действительно, до того, как прибыли курсанты, дорогу на Юхнов почти сутки удерживала перебравшаяся через линию фронта группа комсомольцев из оккупированных областей. За короткое время пребывания при гитлеровском «новом порядке» они, видимо, столько пережили и насмотрелись, что теперь лишь ждали команды: «В атаку!» Надо полагать, чему-то их успели обучить. Не с неба же свалился этот капитан авиации…
Позже мы узнали, что догадки наши были не так уж далеки от действительности. Загадочным капитаном авиации оказался Иван Старчак, начальник парашютно-десантной службы Западного фронта.
Одного мы не можем понять: если наши курсанты уже ведут бои, почему так долго торчит здесь четвертый батальон? Ведь в резерве можно оставить какую-нибудь часть — отозвать ее с передовой, дать передышку. Что таких частей просто-напросто нет, мы тогда еще не знали. Так или иначе, но приходилось ждать, пока приказ о том, что мы находимся в резерве, не будет отменен.
И наконец это произошло. Однако к линии фронта мы направились не по Варшавскому шоссе, не к Ильинскому, где оборону удерживали курсанты, а той самой Калужской дорогой, о которой рассказывал Юренев.
Смеркалось. Потемневшее на горизонте небо вспыхивало красноватыми зарницами, вздрагивало от глухих раскатов.
ЮЖНАЯ ГРУППА
С таким грузом и так быстро шагать нам еще не приходилось. Самая обыкновенная винтовка со штыком, появившаяся на свет пятьдесят лет назад, с каждым шагом становится все тяжелее, пригибает плечо к земле, словно бы говорит: «Ну чего мне торчать дулом кверху, ведь в небо ты стрелять не будешь? Давай-ка приляг хоть ненадолго, а заодно и я рядом с тобой…» Впрочем, это я могу себе позволить такие мысли — у меня-то боевая винтовка есть, а некоторые из нас, хоть их и немного, только еще должны были получить ее или взять у убитого фашиста. Пока же им выдали учебные винтовки.
Своей винтовке я верю как самому себе, недаром берегу ее, будто зеницу ока. Руки и глаза тоже, надеюсь, не подведут. Надо, правда, признать, что до Сергеева мне далеко: его пули никогда, как говорится, за молоком не улетают, все, одна за одной, ложатся в «яблочко». Юренев как-то заметил, что сейчас это куда важнее, чем успешно защитить кандидатскую диссертацию, и на сей раз Сергеев не стал с ним спорить.
В распоряжении нашего батальона двадцать пулеметов «максим», восемь ручных пулеметов, девять минометов, обычные и противотанковые гранаты. Не так уж и мало! Если удастся занять выгодные позиции, как следует окопаться и к тому же соседи сбоку будут надежные, что б не надо было опасаться за фланги, тогда нас ни один стрелковый полк не сомнет. Скажете: говорить-то легко, а как оно на деле будет? Ведь вы еще пороху и не нюхали, попробуйте сперва справиться с батальоном! Все это так, и тем не менее мы готовы, если необходимо будет, схватиться и с целым полком. В этом уверены все ребята нашего отделения, и жалеем мы лишь о том, что нас разлучили с остальными батальонами училища. Но, видно, так оно должно было быть — ведь мы в общем-то ничего не знаем, дальше своего носа не видим, а кому-то приходится думать обо всем фронте. Хорошенькая была бы история, если б каждый сам выбирал себе позиции и соседей!
Подобные мысли копошились в мозгу в начале марша, но после того, как мы отмахали, не останавливаясь ни на минуту, двадцать километров, в голову уже ничего не лезло. Руки, ноги, кровь, резкими толчками пульсирующая в висках, все натруженное тело жаждали одного — отдохнуть, припасть к земле. Наши командиры шли рядом, и они тоже ничего сегодня не ели и тоже устали, как мы, а скорее еще больше нас, хотя бы потому, что были старше.
К земле мы в конце концов припали, и не однажды, но не потому, что нам разрешили отдохнуть. С утра небо было затянуто тучами, а потом, как назло, они стали расходиться, кое-где появились окна. Высоко в небе пролетели на запад наши самолеты. Потом послышались сильные взрывы: наши летчики обрабатывали немецкие позиции. И вдруг из-за туч вынырнул немецкий корректировщик — самолет с резко отведенными назад крыльями, который прозвали «горбачом».
— Воздух!
Мы разбежались в разные стороны, приникли к земле. Замаскироваться здесь было негде — вокруг ни леска, ни кустарника, сплошная голая равнина. Летчик, видимо, нас заметил — тут же появилось еще несколько самолетов. Они опустились совсем низко, один летчик даже высунул из кабины голову — хоть бери камень и швыряй что есть силы в его стальной лоб.
К счастью, вернулись наши самолеты, и стервятники пустились наутек. Это был первый, что я видел, воздушный налет. Потом я часто о нем думал и никак не мог понять, почему тогда, да и в последующие дни нам не отдали приказа стрелять. Ведь если бы наш батальон дал несколько залпов хотя бы только из винтовок, уж один-то самолет мы бы подбили. Позже мы убедились на собственном опыте, что зачастую так и бывает.
Раненый политрук, который в Серпухове говорил нам, как важно освободиться от страха перед врагом, сейчас, наверно, сказал бы, что нет ничего важнее боевого опыта. Это правда.
Где-то на тридцать пятом километре наш марш закончился. Теперь бы наконец отдохнуть, поесть, — но нет, мы снова должны готовить позиции. Получен приказ: любой ценой не допустить, чтоб враг прорвался к Малоярославцу в районе деревень Редькино, Песочное, Зажорово, Детчино. Мы в этом приказе обозначены как «Южная группа». Однако во внутренней структуре батальона ничего не изменилось, и командование осталось прежнее.
В первые дни немцы наступали главным образом в районе Ильинского, и там были сосредоточены основные силы подольских курсантов. Дорогу на Москву фашистам преградили и оборону держали не пять и не семь дней, как требовал Верховный Главнокомандующий, а двенадцать. Поначалу немцы явно недооценили «красных юнкеров», и вполне возможно, что именно поэтому затем их переоценили: решили, что против них выставлены крупные свежие силы. Разумеется, долго так продолжаться не могло, шила, как говорится, в мешке не утаишь, но время мы выиграли, а это было самое главное. Линия фронта, которую мы заняли, составляет тридцать километров. Да, так оно и есть; каждая группа курсантов действует на тридцатикилометровом фронте, и потому нас то и дело перебрасывают с места на место. Иногда мы застаем уже готовые позиции, а чаще сами копаем окопы, старательно покрываем их толстыми бревнами. Ивашин большой мастер выискивать наиболее выгодные места — и чтоб удобнее было встретить врага, и чтоб была надежная защита от артиллерии и авиации.
С самого рассвета над нами рыщет «горбач» с черной свастикой на крыльях. Только напрасно старается: мы так замаскировались, что и сам черт нас не сыщет. А в двух примерно километрах левее взводу приказано демаскировать позиции. Тактика на редкость примитивная, сотни раз использованная, и все же разведчика тянет туда будто магнитом. Дальше все происходит как по писаному: «горбач» кружит, кружит до тех пор, пока, словно мухи на мед, не налетают тяжелые бомбардировщики и не сбрасывают свой смертоносный груз, разрывая в клочья недра земли.
Окопы нашей роты и полубатарея, которая нам придана, находятся у самой опушки леса. Пахнет сыростью. В каких-нибудь пятистах метрах в узкой долине течет речушка. Справа тянется хорошо наезженная дорога, сразу за мостом через речку большая деревня. Там патрулируют наши курсанты. Заодно они договорились с крестьянами, чтоб сегодня нас накормили. Кое-кому повезло, уже наелись досыта и вернулись, остальным придется ждать до позднего вечера. Осеннее небо прояснилось, и если из каждой трубы будет валить дым, это привлечет внимание немцев, — получится, что мы платим злом за добро. Внезапно из деревни доносится выстрел. Мы прислушиваемся, напряженно ждем. Телефонной связи с отделением, что патрулирует там, нет, выстрел — это условный знак, сигнал: один — «Внимание!», три подряд — «Тревога!». Старший лейтенант смотрит в бинокль, но и невооруженным глазом уже видно, что по дороге к мосту с ураганной скоростью несутся человек тридцать в гражданской одежде. Глядя на них, становится как-то неловко и стыдно, хочется выскочить из траншеи и остановить их: ведь так удирают только трусы. Но командир роты не разрешает — он и командиры взводов справятся сами. Вот они идут навстречу бегущим, Ивашин — впереди. Если команда «стой» не поможет, вынут наганы. К счастью, до этого не доходит. Мы слышим раздраженный голос Ивашина:
— Прекратить крик! Молчать! Вас я не спрашиваю! Товарищ лейтенант, что это за дикое стадо и почему вы среди них?
— Новобранцы. Вчера прибыли. Даже не успели получить обмундирование… Танки! Немецкие танки!
— Паникер! Кто разрешил вам отступать? О том, что произошло, доложите потом. Вы здесь старший?
— Я, кажется.
— Кажется… Немедленно прикажите старшине всех выстроить и ведите назад. Кто попытается бежать, расстреливать на месте. Через мою зону вы не пройдете, уничтожим вас как дезертиров. Ясно? Выполняйте!
Сказано — сделано. Через минуту их будто ветром сдуло.
На «ЗИСе-105» наше отделение вместе с артиллеристами, которые обслуживают пушку, прицепленную к машине, едет в фабричный поселок, откуда бежали новобранцы. Ивашин сидит в кабине рядом с шофером. От деревни, напротив которой расположены наши позиции, до поселка расстояние порядочное. Примерно на полпути, там, где дорога круто подымается вверх, Ивашин останавливает машину. Где-то здесь, поблизости, находится наш «секрет» — замаскированный пост. Задержать паникеров он не имел права — тем самым выдал бы себя. Старший «секрета», сержант, докладывает командиру роты: точными сведениями о том, что произошло в поселке, он не располагает, думает, что там был вражеский разведотряд, который вынужден был отступить.
— Оттуда слышна была стрельба. Недалеко от поселка находятся продовольственные склады, и охрана не могла не дать бой. Бежали, видимо, новобранцы стройбатальона, который работал там, — сообщает сержант.
«Не могла»… Хорошо, если это так.
Не доезжая до поселка, артиллеристы отцепляют пушку, устанавливают ее, маскируют ветками, а мы бежим огородами к крайнему домику, бежим так, что ветер свистит в ушах. Елисеев еще на бегу спрашивает у хозяйки:
— Немцы здесь были?
— Сама-то я их не видела, но говорят — пару часов назад были. С танками.
— Кто же их прогнал?
— Антоныч.
— Кто?
— Сторож бумажной фабрики Антон Антоныч. Пульнул несколько раз из винтовки, вот они и разбежались. Сама-то я с ним не говорила, люди рассказывают.
Хозяйка старая, сгорбленная, седая, что с нее возьмешь? Люди говорят, — она и верит. Бежим к продовольственным складам. Где-то совсем рядом раздается револьверный выстрел. Это милиционер выстрелил в воздух, чтобы разогнать тех, кто прибежал поживиться: склады, полные продуктов, остались без охраны. В мирное время сказали бы: раз уж за дело взялась милиция, все будет как надо, — а теперь и мы помогаем милиционерам навести порядок. От них же узнаем, что в поселке была всего-навсего одна немецкая танкетка, вдали, правда, можно было разглядеть еще взвод гитлеровцев. По следам видно, что танкетка добралась до складов и повернула обратно. Кто же вынудил ее отступить? Ответ тот же: Антоныч. Да-а, прямо чудеса в решете!
— Надо посмотреть на этого сказочного Антоныча, — говорит Ивашин, который прибежал сюда почти одновременно с нами.
До чего жаль, что нам не разрешили похозяйничать на складе, нагрузить машину продуктами! Это все равно что стоять рядом с колодцем и умирать от жажды… И все-таки несколько мешков с сухарями нам удалось захватить.
Назад к машине идем вдоль фабричного забора. У ворот останавливаемся. Стучим раз, другой, третий. Наконец слышим хриплый кашель.
— Кого вам?
— Антоныча, — отвечает старший лейтенант.
— Ну, я Антоныч, — говорит тот с нарочитым спокойствием.
— Хотим поглядеть на вас.
— Это еще зачем? Что я, невеста или конь, которого купить собираетесь?
Сквозь щель в воротах мы видим человека лет шестидесяти. Сухой, поджарый, он стоит, опираясь на винтовку, как на палку.
— Откройте ворота, нам надо с вами поговорить… Ну, что же вы? Мы ведь не немцы.
— Будто я сам не знаю, кто вы. Как подошли к складам, глаз с вас не спускаю. А открыть не имею права. Пока не будет разрешение того, кто меня здесь поставил.
— Скажите-ка, отец, как это вам удалось напугать немцев?
— Как, как… Вам бы лучше знать, как их напугать можно. Углядел — ну, и открыл стрельбу. Попасть куда следует, — это мы стариковским дальнозорким глазом умеем.
— И сколько раз вы выстрелили в танкетку?
— А черт его знает! Разве я считал? Патронов-то у меня хватает.
— Молодчина вы, Антон Антоныч. С такими, как вы, немцу никогда не справиться.
Он молчит, потом говорит с хитроватой улыбкой:
— Конечно, куда уж там…
…Едем назад. В деревне наверняка можно было бы найти что-нибудь съестное, но задерживаться нам уже нельзя: за то время, что мы были в поселке, сюда прибыл связной и доставил приказ Ивашину — рота снова должна незаметно сменить позиции. Надо полагать, маневрируем мы так для того, чтобы у немцев сложилось впечатление, будто на этом участке сосредоточено много воинских частей. Но как раз эту линию обороны нам ужасно не хочется оставлять. Лучшее место трудно найти: фашистам здесь негде развернуться, и мост перед нами как на ладони. Но увы, надо уходить, и если мы еще сидим в окопах, то лишь потому, что над нами снова рыщет «горбач». Видно, не может поверить, что в таком месте, где только винтовками можно нанести врагу немалый урон, нет наших войск. Однако обнаружить нас ему так и не удается.
Вернулось наше отделение, которое патрулировало деревню. Ребята говорят, что колхозники ждут нас: как только стемнеет, приходите, еда уже ждет. Еще передали, что если потребуются противотанковые рвы, все сельчане от мала до велика выйдут на работу. Уже и лопаты приготовили…
На другом берегу реки у моста женщина в телогрейке стирает белье. Вдруг она одергивает зажатую между колен юбку и пускается бежать.
Оказывается, едет легковая машина. Останавливается. Малихин смотрит в бинокль.
— Немцы, — сообщает он. — Один вылез из машины, направляется к дому рядом. Если узнает, что наши только что были в деревне, они сразу повернут обратно.
Но нет, машина, хоть и медленно, едет дальше.
По цепи курсантов передается предупреждение Ивашина:
— Без моего приказа не стрелять!
Берем машину на прицел. Дорога, которая ведет к нам, такая ровная, что почти не приходится двигать стволом. Машина все ближе, ближе. Ну-ка, зеленые лягушки, прыгайте в мешок! На сей раз выкрутиться вам не удастся. Но до чего хочется хотя бы одного захватить живым! Пусть бы он, «избранный», рожденный властвовать, стоял перед нами, стиснув зубы, и коленки бы у него тряслись от страха.
У моста машина снова останавливается. Да что ж это такое?! Долго они еще будут там торчать? Чувство времени исчезло. Напряжение страшное. Немец, сидящий рядом с шофером, широко раскрывает дверцу, но выходить не торопится. И тут у кого-то из наших не выдерживают нервы. Раздается выстрел. Машина поворачивает, но не назад, а вправо, в кусты.
Наконец-то дождались приказа! Залп. Второй уже ни к чему, а миномету и подавно здесь делать нечего. Ну, а если вслед за машиной идут на нас танки, пушки?.. Что ж, мы не лисицы, забившиеся в норы, мы дали им знать: «Мы здесь, и попробуйте-ка нас взять!» А может, поскольку они обожглись, теперь появятся не так уж скоро.
КРАСНЫЕ ЮНКЕРА
Воинскую часть на марше, будь она большая или малая, охраняют со всех сторон. Впереди на определенном расстоянии — головная походная застава, еще одна, тыловое охранение, — сзади; справа и слева — боковое охранение. Наше отделение в боковом. Мы должны идти, ни на шаг не отклоняясь в сторону: ночь такая темная, что не мудрено и заблудиться. В лицо бьет злой, порывистый ветер, швыряет дождем и мокрым снегом, завывает на все голоса. Поневоле позавидуешь тем, кто шагает протоптанной дорогой, — у них и сапоги не увязают в болоте, и плечи идущих сбоку людей загораживают от ветра и дождя. Понемногу глаза привыкают к темноте, и тут снова к небу рвутся языки пламени, и снова становится тихо…
У Елисеева к винтовке прикреплен кусок белой материи. Вдруг он опускается — сигнал, означающий, что сержант снял винтовку с плеча и держит ее наизготове. Мы немедля делаем то же самое. Стоим, до боли в ушах вслушиваясь в тишину. У меня мокрая пилотка съехала на ухо и никак не хочет вставать на место. Приходится совсем сорвать ее с головы, и теперь я тоже слышу, что к дороге кто-то идет. Не один — несколько. Мы учуяли их раньше, чем они нас: под нашими ногами болото не так сильно чавкает, стало быть, они нагружены еще тяжелее. Что-то не верится, чтоб это были немцы. А в такую ночь, да еще на передовой ничего не стоит вступить в бой и со своими…
Мы лежим полукругом на вспаханной размокшей земле. Еще мгновение — и я отведу спусковой крючок. Но вот отчетливо слышится команда Елисеева:
— Стой! Кто идет?
Те остановились, но не отвечают.
— Кто идет?
— Свои.
— Один — ко мне, остальные — ни с места!
Шлеп-шлеп — каждый шаг будто вбивает кол в землю.
— Опусти винтовку! Кто ты?
— Красноармеец.
— Сколько вас?
— Двое.
И тут же доносится топот, словно сюда идет целая толпа.
— Ни с места, будем стрелять! — приказывает Елисеев. — Рузин, проверить.
Рузин отходит и через минуту возвращается, ведя в поводу лошадь. На лошади сидит человек. Красноармеец, хотя на сей раз его ни о чем не спрашивают, торопливо объясняет:
— Это мой командир, младший лейтенант. Он тяжело ранен, веду его из-под Вязьмы… Госпиталя тут нет поблизости?
— Товарищ младший лейтенант, ваши документы!
— У меня их нет.
— С лошади слезть можете?
— Нет. Я ранен в ногу.
— Тогда нагнитесь. Ниже… Врешь, никакой ты не командир! Где твои кубики? Вот я сержант, так можешь нащупать и проверить…
— Я запрещаю вам так со мной разговаривать, сержант! И руку уберите, вы уже убедились, что нога у меня перевязана. К тому же при мне автомат, так что… Сейчас же отведите меня к своему командиру!
— Никуда я тебя не поведу! Часы есть? Так вот, в течение двадцати минут чтоб с места не двигались. Ясно?
Мы продолжаем путь. Но что это с Рузиным? Ворчит не переставая. Елисеев приказывает ему замолчать, а он и не думает.
— Что это вы, сержант, сегодня такой добренький? — сердито говорит он. — Почему не отняли у него автомат? К седлу там еще мешочек с дисками привязан…
— Ты что, считаешь, что они переодетые фашисты?
— Это уж точно нет. Младшего лейтенанта я знаю, учился с его братом на одном курсе. А автомат взять надо было. Красноармеец его не оставит, к тому же у него еще наган, а у нас на весь батальон один-единственный автомат. Командиру роты он скорее понадобится, чем этому младшему лейтенанту. Разрешаете?
— С кем хочешь идти?
— До стрельбы не стоит доводить, лучше пойду один.
Мы с Якимовичем остаемся ждать Рузина: не исключено, что придется оказать ему помощь. Что-то он уж очень медлит… Наконец появляется, но не один, все с тем же красноармейцем.
— Ребята, — обращается Виктор к нам, — не найдется у вас сухарика? Они уже три дня ничего не ели. Держатся подальше от деревень…
У меня оставалось еще три сухаря. От дождя они совсем размокли, и я собираю их в горсть, как кашу. Набиваю себе полный рот, остальное отдаю красноармейцу — пусть разделит. Но что это за гадость? Кашица смешалась с махоркой, хоть выплевывай. Выплюнуть? Как бы не так! Поди знай, когда еще удастся съесть кусок хлеба. Скорее жаль этих несчастных крошек махорки, сам-то я в крайнем случае могу и обойтись, а вот Сергеев… Увидел бы — изо рта бы вырвал, у него-то кисет давно уже пуст. Да, что касается курения, тут никто из нас сравниться с Колей не может. Стоит посмотреть, с каким вкусом он это делает, с каким наслаждением затягивается, а потом медленно выпускает дым изо рта, носа, чуть ли не из ушей!
Втроем мы отправляемся догонять отделение. У Рузина на одном плече винтовка, на другом — автомат.
— Трудно он тебе достался? — спрашиваю я.
— Да. Но ведь и его понять можно. Сколько раз пытались отнять, и все-таки он с ним не расстался. Тащит с самой границы. Правда, рана у него такая, что автомат вряд ли ему скоро понадобится. Хоть бы до госпиталя добрался…
— Не должен он был снимать знаки различия. За это судить могут.
— Конечно. Смелый вроде парень, а тут испугался, что если немцы схватят живым, над командиром еще больше будут измываться. Но ведь жить иногда страшнее, чем умереть. Помнишь того политрука в Серпухове? До меня только сейчас по-настоящему дошло, как он был прав.
Оно, пожалуй, и хуже, и лучше, что осень так свирепствует. Лучше потому, что немцам, вернее, их технике, необходимы хорошие дороги. Они рвутся к Варшавскому шоссе, но как ни пытаются уничтожить или хотя бы отбросить назад курсантов, удерживающих фронт возле Ильинского, им это не удается. Три наших батальона буквально зубами вгрызлись в берег речушки, которую, если как следует разбежаться, можно перепрыгнуть, и вот уже седьмой день отбивают все вражеские атаки, не дают себя полностью окружить.
Массированный огонь из всех видов оружия перепахал не только линию фронта, но и далеко вокруг, а сопротивление не ослабевает. «Красные юнкера» стреляют, стреляют… Они уже уничтожили около пяти тысяч немецких солдат и офицеров. Прямой путь на Москву через Малоярославец немцам закрыт, потому они с еще большей яростью и наглостью стараются взломать фланги. Калужское шоссе тоже представляет для них оперативную ценность — ведь оно ведет не только в Калугу, но и в Малоярославец. Но и здесь они снова и снова натыкаются на «красных юнкеров».
По сравнению с ильинской группой наша куда меньше, а что касается артиллерии, и четвертой части нет. Первый батальон 616-го стрелкового полка и шестая рота 175-го полка, которые приданы нашей, Южной группе, понесли большие потери. Впрочем, это только так говорится — первый батальон: он идет от самой границы и вместе с больными и ранеными насчитывает меньше восьмидесяти человек.
Без помощи интендантов, — кстати, они нам за все это время ни разу не попались на глаза, — мне удалось сменить свои рваные сапоги на целые. Думал, что эта пара послужит как следует, но куда там, один, и опять правый, уже просит каши. Немецкие я ни за что не надену — стошнит, и снять с убитого товарища, хотя мы достаточно насмотрелись на мертвых, все еще не могу.
Мороз ударил не на шутку, без теплых портянок не обойдешься. Кто половчее, тот находит выход. Дело в том, что поскольку из Серпухова мы уходили в летнем обмундировании, нам разрешили взять с собой одеяла. Большинство курсантов их в первые же дни потеряли, вернее, просто бросили. Нашлись, кстати говоря, такие, кто пытался проделать такой же фокус и с противогазами: их выбрасывали, а пустые сумки набивали для видимости бумагой или ветками. От этого нас, однако, очень быстро отучили. Что же касается одеял, те, у кого сапоги были большие, могли выпросить у товарища кусок на портянки. От такой «операции» выгадывали обе стороны: одному было теплее ногам, другому — легче идти.
В зоне соседней с нами пятнадцатой роты немцы заняли деревню Устье. Фашисты, видно, уверены, что они в безопасности, в сельских дворах стоят их автомашины, сами свободно разгуливают, шныряют от избы к избе. Один дом уже подожгли. Первые представители» грабьармии, они роются в сундуках, гоняются по улице за молодой крестьянкой, ловят во дворах кур. «Победители» — стало быть, полноправные хозяева. На чьей стороне будет перевес, они еще не знают — не знают, что не когда-нибудь, а совсем скоро, вот-вот наступит час справедливой расплаты. Мы для них всего-навсего маленькая горсточка, с которой ничего не стоит справиться. И все же… Сегодня нас снова закидали листовками: несколько самолетов беспрерывно сбрасывали бомбы, а из одного бросали тоненькие листочки бумаги. Явно болезненное пристрастие к писанине у фашистов! И снова все те же заискивающие слова:
«Доблестные красные юнкера! Вы мужественно сражались, но теперь ваше сопротивление потеряло смысл. Варшавское шоссе — наше почти до самой Москвы. Через день-два мы войдем в нее. Вы настоящие солдаты. Мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу сторону. У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду. Эта листовка будет служить вам пропуском».
«Сопротивление потеряло смысл»… Кого это вы хотите обмануть? Ведь если все так, как вы пишете, почему вы до сих пор не добрались до Москвы, почему топчетесь так долго на одном месте?
Ну да, они все еще уверены, что их золотая мечта вот-вот осуществится, что не сегодня завтра они будут в Москве и проведут там парад победы. Сейчас, шакалы, сейчас мы покажем вам парад. Если вам так уж позарез необходима наша земля, вы получите ее — каждый свою долю — и останетесь в ней навечно…
Конечно, куда лучше нагрянуть внезапно, поздно ночью, когда немцы спят и бесшумно снять охрану, но кто знает, сколько к тому времени еще подойдет сюда фашистов? С теми же, что сейчас в деревне, мы справимся.
Наши артиллеристы готовят пушки к бою. До чего же славные они ребята, курсанты Подольского артиллерийского училища! Здесь, на фронте, мы с ними так сдружились, будто всю жизнь прожили вместе.
Не мешало бы, правда, чтобы их пушки были хоть немного помоложе. В Ильинском, рассказывают ребята, то же самое. Трехдюймовки, которыми вооружен там один из дивизионов, образца, каким пользовались еще до русско-японской войны. И тем не менее у курсантов и они стреляют и попадают в цель.
Пятнадцатая рота пошла в атаку. Мы с нетерпением ждем, когда поднимут и нас… Слов нет, фашисты опытные вояки и вооружены хорошо, но перед яростным, исступленным натиском «красных юнкеров» они не выдерживают. Вот их ряды дрогнули. Вот они, как бешеные, с неистовыми криками несутся прочь…
И даже сейчас Ивашин не теряет времени даром. Ведь непосредственно в бою мы еще не участвуем, и он объясняет:
— Бой, ребята, штука очень сложная. Командир тут должен отвечать буквально за все. Смотрите внимательно: от неожиданности немецкие офицеры растерялись, и это сразу передалось солдатам. Хоть и с потерями, они сейчас еще могли бы отступить, сохранить силы, но в такой панике шансов остаться в живых у каждого, пожалуй, не больше, чем если б они были на тонущем корабле. Страх — он хуже смерти. Видите, как бегут?
Фашисты сигнализируют ракетами, просят помощи. Добрый признак! Нам просить помощи не у кого, а раз так, надо справиться с делом как можно быстрее.
— Внимание! Приготовиться… В атаку!
Ворвавшись в деревню, мы обнаружили в немецкой шикарной штабной машине рацию, топографические карты Московской и Калужской областей, в которых мы очень нуждались, оперативные документы, стереотрубу… Рядом валялись новенькие офицерские шинели, парадные мундиры. Курсанты вытащили из машины знамя со свастикой, втоптали его в болото.
Куда более серьезный удар мы нанесли фашистам у деревни Карамышево. Если б немцы знали, насколько они превышают нас числом и вооружением, наверняка бы вели бой иначе. Но поначалу они этого не знали, а потом — потом было уже слишком поздно.
Теперь мы убедились, что, даже будучи окружены, можем бить фашистов. И легче становится на душе, когда видишь, как подбирает немец под ремень полы шинели и бежит что есть силы. Такой, если наша пуля его и не догонит, уже совсем не так опасен, как прежде. Теперь он не одному своему «камраду» шепнет на ухо: «А знаешь, до Москвы-то еще ох как далеко, до смерти же рукой подать». И это действительно так.
Слабый ветерок, который вроде бы собрался вздремнуть, почему-то вдруг передумал и разросся в резкий ледяной ветер, который с воем рвет одежду, норовит свалить с ног и, поскольку дует с севера, пытается повернуть нас лицом к югу. Мы с удовольствием взяли бы его в спутники — пусть бы толкал в плечи, в спину, — но что поделаешь, нет так нет. И мы упрямо шагали ему навстречу, шагали, куда приказано. Нашему батальону предстоял тяжелый бой.
У деревни Березовка немцы захватили важный опорный пункт — высоту 202,9 — и, наученные горьким опытом прежних дней, сразу закрепились от подножия до самой вершины. Притащили уйму техники, окружили высоту густой сетью оборонительных сооружений. Ясно, что с одними винтовками, пулеметами и парой устаревших пушек соваться туда нечего. И тем не менее нам было приказано взять высоту.
Мы атаковали с самого рассвета и все время несли потери. И когда уже казалось, что никому из нас живым отсюда не выбраться, тогда-то, неожиданно не только для немцев, но и для нас самих, к высоте, где окопался враг, вихрем понеслись сотни раскаленных комет. Ничего подобного мы не только никогда не видели, но и представить себе не могли. Почудилось, что им ничего не стоит растрясти самые высокие горы и раскачать самые глубокие долины, не то что эту, с булавочную головку, высоту. Все вокруг вспыхнуло огромным, до неба, пожаром, кажется, само небо завертелось головокружительной каруселью, и еще долго после того, как отгремел оглушительный гром, отзвуки его перекатывались вокруг с грозным рокотом.
Это был первый, что мы увидели и услышали, залп наших «катюш». Залп реактивной артиллерии так ошеломил немцев, что они потом долго не могли прийти в себя.
15 октября во второй половине дня высота 202,9 была нашей.
НАШ РОТНЫЙ
От Березовки до Савинова, можно сказать, рукой подать. Нашей роте приказано защищать Савиново с запада, а пока отделению разрешили два часа отдохнуть. Заходим в дом, чтоб хоть ненадолго укрыться от осеннего ненастья, от пронизывающей до костей сырости. Но не тут-то было — дом уже занят. Чувствую, что ноги у меня подкашиваются от усталости. Облокачиваюсь о подоконник. По стеклу грязными зигзагами лениво стекают дождевые струи.
У стены на полу расположилась группа красноармейцев. Сидят неподвижно, будто ждут, что их вот-вот увековечат на семейной фотографии. По углам расставлены ручные пулеметы. У самого порога, возле кадки с замешенной половой, так же неподвижно сидит старшина. Лицо его прорезано глубокими, черными от въевшейся земли складками. Прядь волос упала на широкий лоб. Из прилипшей к губе самокрутки змеится дымок. Руки он держит в карманах галифе.
Такие «бродячие» группы красноармейцев нам не в новинку.
— И долго вы собираетесь здесь сидеть? — спрашивает Елисеев.
Ответа не последовало, и Елисеев повторяет вопрос.
— Слышу, не глухой, — открывает наконец рот старшина. — Если вам здесь места не хватает, ищите себе другую хату.
— Нам предстоят тяжелые бои, старшина. Нам, а не вам, придется защищать это село. Патронов и гранат у вас, вижу, более чем достаточно. Оставьте часть нам.
— А винтовку мою не хочешь? — говорит старшина с издевкой и бросает на Елисеева обжигающий взгляд.
— Винтовка ваша мне не нужна.
— В соседних домах полно красноармейцев, поди попробуй, — может, там поживишься. А у нас ничего не получишь. Видишь противогазовые сумки? В них тоже патроны… Не лапай, не твои. А ну, отпусти! За патроны я горло перегрызу.
Не зря говорят, что злой язык куда хуже, чем тяжелая рука. Если на такие слова не ответишь, проглатывай их, как горькую пилюлю. И Елисеев отвечает:
— Вы же не пьяные, неужели не понимаете, что́ вам говорят? Эти патроны сейчас нам куда нужнее, чем вам!
— Понимаю, да зря агитируешь, не поможет. Никому не известно, что кого завтра ждет. А с тобой только потому разговариваю, что вы не отступаете, держитесь, хоть немец и прет.
— Пошли к старшему лейтенанту!
— Он меня не звал, и у меня к нему дела нет.
— Может, хотите, чтоб он сам к вам пришел?
— Это уж как ему угодно.
Елисеев посылает Бокова к командиру роты и тоже опускается на пол. Так они и сидят друг против друга, будто сошлись два петуха. А что, если Ивашин потребует к себе старшину и тот не захочет пойти? Ничего, надо думать, Елисеев уж как-нибудь его заставит…
Старший лейтенант приходит сам. Старшина, как и мы, курсанты, встает. Представляется: фамилия его Евстигнеев. Теперь уже старшина и наш командир стоят друг против друга, стоят и молчат — до тех пор, пока Евстигнеев, видимо, не прочел на лице Ивашина что-то такое, что заставило его простуженным голосом скомандовать своим красноармейцам:
— Встать! Прошу прощения, товарищ старший лейтенант.
— Садитесь! Вы все из одной части?
— Нас здесь двадцать пять человек из одной ударной роты. Девять пристало к нам по пути. Нам было приказано до наступления темноты удержать немцев, чтобы наш полк мог отойти. Приказ мы выполнили.
— Если одна рота справилась, почему же отступил полк?.. Впрочем, можете не отвечать. Не вы несете за это ответственность.
— Товарищ старший лейтенант, наш полк не отступил. Он получил новое боевое задание, но мы уже не могли с ним соединиться. У нас было много тяжелораненых, в том числе командир роты. Мы их вывезли на двадцати повозках и у реки Протвы передали капитану медицинской службы. У меня есть соответствующая бумага. Разрешите показать?
— Не надо. Почему же вы вернулись сюда? И где это вы достали столько гранат и патронов?
— Вернулись потому, что надеялись соединиться где-нибудь здесь, в районе Детчино, с нашим полком, но никого уже не застали. Патроны и гранаты взяли у тех, кто больше не может стрелять.
— Взялись бы вывезти отсюда моих раненых?
— Если это приказ, я обязан выполнить. Но мы, двадцать пять, все равно сюда вернемся. За остальных девятерых ответственности не несу. Они участвовали с нами только в одном бою, при переходе шоссе, и их я почти не знаю. А позиция ваша с недостатком: до леса рукой подать. Для трусов это подходяще, можно незаметно улизнуть. Своих я предупредил: если кто-нибудь отступит без приказа, стреляю сначала в него, потом в фашиста.
— Сколько фашистов уничтожили вы лично?
— Не считал, но мало.
— Ничего, еще успеете. Только не из наших окопов. Здесь вы можете несколько часов отдохнуть. Накормить не могу, у самих ничего нет. Половину патронов и гранат приказываю отдать нам. Мы не вправе оставить этот участок, даже если возникнет опасность полного окружения, у вас же такое право есть. Никто вас за это не осудит.
— Товарищ старший лейтенант, мой командир тоже строгий, но он бы…
— Довольно, старшина! Я все сказал.
Ивашин подозвал Елисеева, и они, тяжело шагая, вышли из избы.
Мы видели, как возмущен был Ивашин. Если бы здесь не было нас, курсантов и красноармейцев, старшина наверняка получил бы хорошую взбучку. Но как ни был велик гнев, старший лейтенант сумел сдержать его.
Наш ротный Василий Иванович Ивашин был строгим командиром, однако это не помешало всем нам буквально влюбиться в него. Строгость бывает разная, и самые суровые слова, если они идут от чистого, открытого сердца, проникают в душу и находят в ней отклик. С Ивашиным нам было легко. Сами того не замечая, мы поверяли ему сокровенные тайны, рассказывали о доме, о близких, о любимых. В свободную минуту он держался с нами просто, по-дружески, понимал шутку и сам любил пошутить, в бою же был храбр, отважен. Мы часто говорили о нем между собой и всегда с гордостью, по его зову готовы были бежать хоть через минное поле. Возможно, узнай он о наших разговорах, тоже крикнул бы, как сегодня старшине: «Довольно!», ибо где это видано, чтоб курсанты обсуждали и давали оценку своим командирам!
Короче говоря, Ивашин был в наших глазах идеалом командира, и если, случалось, он выстраивал роту, чтоб сказать похвальные или осуждающие слова, мы слушали его открыв рот и навострив уши.
Так было и на сей раз. Елисеев вернулся и сообщил, что старший лейтенант сейчас будет говорить с нами. Как ни хотелось остаться под крышей, досады это сообщение не вызвало. Зря Ивашин собирать нас не станет и прописных истин тоже не будет втолковывать.
— Курсанты! — обратился к нам командир роты. — Есть все основания предполагать, что завтра фашисты предпримут против нас атаку. Как мы деремся, им уже хорошо известно, так что надеяться, что они бросят роту против роты, нечего. Они знают, что и батальону с нами не справиться. Говорю это, чтоб вы заранее представили, что нас ожидает. Командование Южной группы предполагает предпринять кое-какой маневр и отвлечь от нас часть вражеских сил, однако не исключено, что такой возможности не будет и нам вообще не сумеют во время боя оказать никакой помощи. Стало быть, надеяться мы должны только на себя. Я охрип и потому повторяю для тех, кто не расслышал: надеяться только и только на себя!
Патронов, противотанковых гранат на завтра нам хватит, и тем не менее требую: будьте экономными. Каждая пуля, каждая граната пусть попадут только в цель. Мы должны вгрызться в окопы, чтоб никакие бомбы и снаряды не смогли нас оттуда выбить. В мешок мы себя взять не позволим. А если дело дойдет до рукопашной, тут уж перевес на нашей стороне: не забывайте, что у вас винтовки со штыками, а их автомат для этого дела малопригоден. Они отступят, и тогда-то вы особенно должны остерегаться авиации и артиллерии. Слиться с землей, не жалеть локтей и колен. И главное — беречь голову. Еще одно: если кто-нибудь оставит на поле боя раненого, который сам не в состоянии добраться до окопа, буду наказывать за это, как за предательство. Дружба ваша испытывается в бою.
Курсанты! Пройдет тяжелая година, но никогда не забудется, как мы стояли насмерть и не пустили фашистов в Москву. В такой войне любовь к Родине измеряется ненавистью к врагу.
Курсанты! Я всегда верил вам, а за последние десять дней, что мы на фронте, узнал вас еще лучше и потому сегодня с такой уверенностью сказал старшему батальонному комиссару: «Моя рота может погибнуть, но без приказа поля боя не оставит». Вот так. А сейчас отдыхайте. Разойдись!
Неужели всего десять дней прошло с тех пор, как мы покинули Серпухов? А мне кажется, что это было давным-давно, куда раньше, чем началась война… За два года учебы в военном училище мы не научились бы тому, что усвоили здесь за десять дней. Тот, кто останется в живых, и впрямь может считать себя командиром и вести красноармейцев в бой.
Пока же мы знаем одно: если уж старший лейтенант говорил так с нами, значит, завтрашний день будет, возможно, самым тяжелым в нашей военной жизни. Он уверен, что его четырнадцатая курсантская рота скорее останется здесь навечно, чем отступит. Иначе и не может быть… Ну, а сейчас пусть никто не мешает нам немного отдохнуть, поспать часок в избе, восстановить силы. Мы это заслужили, заработали честно.
Два часа мы спали как убитые, а затем…
КОЛЮЧКИ
Хлипкая болотистая грязь, что раньше сплошь покрывала извилистую тропку, застыла, смерзлась в твердые, будто каменные, комья. Мороз усилился, еще резче и свирепее стал ветер, который проникал в самую душу, наполняя ее холодом. Два часа назад, когда мы шли здесь к дороге, хоть и было поздно, но все же еще можно было кое-что разглядеть, а сейчас вокруг кромешная тьма. Черные тучи плотно облепили небо, ни одна звезда не пробьется, вот и приходится ногам нащупывать дорогу. На душе тоже не ахти как светло.
Разбросав на захваченной немцами дороге «колючки» — не те, разумеется, с розоватыми и голубыми головками, что растут вдоль заборов, а тяжелые и острые куски железа, — мы теперь возвращаемся в деревню, которую все еще удерживает наша рота. Но стоило ли, спрашивается, из последних сил тащить на себе эти железяки, до крови натирать плечи, а потом, рискуя жизнью, расставлять их? Если хотя бы одна вражеская машина нарвется на них и продырявит камеры, значит, стоило. Могут сказать: эка важность, что для немцев какая-то резиновая камера? И все же…
Первым валится на холодную землю Елисеев, мы — следом. Лежим, дышим друг другу в затылок. Если правда, что первый признак жизни — движение, тогда я уже мертв. Не то чтоб рукой или ногой пошевелить, даже язык во рту разбух, стал тяжелым, как камень, и никак не пойму, как он у Сергеева еще ворочается:
— Что ж это такое, братцы? Патронов мало, — выходит, воюй колючками? Железа здесь полно, надолго хватит…
Голос у Николая сильный, громкий, за версту слышно. Юра Якимович не выдерживает, говорит тихо, но со злостью:
— Ну и глотка у тебя, прямо луженая! Да, не дай бог оказаться с тобой в секрете… И чего ты, дурья башка, болтаешь? Язык твой длиннее дороги. Неужели не понятно, что такая «колючка» иной раз может сработать лучше, чем пуля или даже снаряд?
Это только кажется, что вокруг царствует ледяная тишина. Стоит приложить ухо к земле — услышишь гул, вой, скрежет: бои на передовой не утихают ни на минуту. А вот еще какой-то звук, сначала тихий, потом все громче… Вскоре мы уже явственно различаем шум приближающихся машин. Немцы захватили дорогу, но, конечно, знают, что бои на этом участке продолжаются: передние фары выключены, и только от задних рассыпается иногда небольшой сноп света.
Елисеев, не в силах сдержать себя, крепко ругается. Да и всех нас душит злость: несколько машин проскочили то место, где мы орудовали полчаса назад. Почему же так получилось? Не мог ведь ветер за это время начисто вымести дорогу! Надо было разбросать погуще… Да что теперь говорить, уже поздно, и все равно нет сил снова тащить эти проклятые колючки… Неужели Сергеев прав? Эх, сейчас нам бы динамиту хоть немного, хоть на одну мину!
Гулкий взрыв, какой бывает на реке, когда подрывают лед, расколол тьму. Потом стало слышно, как захлебнулся мотор. Нет, это не сон, не видение, тающее при свете дня! Я облизнул ночную прохладу с губ. На какое-то мгновение тело мое охватила невиданная легкость, казалось, сейчас подымусь в воздух, взлечу! Значит, не зря мы старались, не зря в эту пронизывающую холодную ночь обливались липким потом… Но что там сейчас, на дороге? В такой темноте, конечно, ничего не увидишь, но представить я могу. И воображение уже рисует картину…
Я вижу: по дороге несется тупорылый автобус с гитлеровцами. На переднем сиденье, подперев кулаком подбородок, дремлет офицер. Вдруг шофер изо всех сил дергает на себя тормозную ручку, автобус, покачнувшись, резко останавливается, и господин обер-лейтенант стукается лбом о металлическую перегородку кабины.
— Zum Teufel! — вскрикивает он в ярости, и глаза его сверкают, как у кошки в темноте.
К черту так к черту, но с тепленьким местечком хочешь не хочешь, а придется расстаться: ведь надо установить, что произошло. Солдат, сытых и самодовольных, это пока мало волнует, — подумаешь, лопнула камера! Чтоб заменить ее, требуется минут пятнадцать — двадцать, самое большое — час, как раз можно успеть размять затекшие ноги и сходить по нужде. А вообще-то чем больше, тем лучше, спешить им некуда, фронт — это тебе не курьерский поезд, попасть туда всегда успеешь… Однако так могут позволить себе думать простые солдаты, но не господин обер-лейтенант. Хотя гнев яркой краской бросился в лицо, ему кажется, что на лбу уже выросла шишка величиной с добрый талер — он сдерживает себя. Он должен быть осмотрительным, он, который сделан совсем из другого теста, чем простые солдаты, обязан смотреть куда дальше и глубже. Он слишком хорошо знает, что на фронте важна каждая минута, и если ему приказано явиться туда-то и туда-то точно в указанное время, должен этот приказ выполнить, чего бы это ни стоило…
В ушах не отзвучал грохот первого взрыва, когда раздается второй, третий — они еще сильнее. Это лопнули камеры тяжело нагруженных грузовых машин.
— Господин обер-лейтенант! — навытяжку перед ним стоит шофер, голос его дрожит от волнения. — На дороге кто-то разбросал острые куски железа. По всей вероятности, недавно: погода ненастная, а заржаветь они не успели.
Хотя обер-лейтенант и знает, что шофер человек бывалый, на фронте не первый день, его охватывает страх. А что, если этот неведомый «кто-то» не только разбросал «колючки», но и заминировал дорогу, придорожные канавы, поле? Что, если он прячется где-то рядом и следит за ними, выжидая, пока соберется вся колонна? Ведь не видно ни зги — непроглядная осенняя ночь плотно укрыла все вокруг черным одеялом. В такую пору только волкам рыскать…
«Zum Teufel!» — попробуй проникни в эту неприступную крепость молчания, в эту зловещую, подстерегающую тебя тишину! Уж лучше сидеть в окопе, даже идти в атаку — там по крайней мере видишь врага, там и солдаты могут заслонить тебя от пули, от осколка. А тут чувство такое, словно идешь по тонкому льду… Нет, он не хочет умирать, не для того он прошел столько по дорогам войны, чтобы здесь, под Москвой, которая вот-вот падет под сокрушительным ударом доблестной немецкой армии, сложить свою голову! Что же делать? На солдат особенно рассчитывать нечего — вон они, сбились в кучу, как стадо баранов на бойне, хоть бери и делай из них мясной фарш… А раз так, он прикажет унтер-офицеру — на него-то можно положиться, — да, прикажет выстроить одно отделение двумя шеренгами, и пусть шагают плечо к плечу, ногами ощупывая дорогу, а еще две группы пусть обследуют дорогу с обеих сторон и охраняют ее.
По цепи передают: обнаружено еще тринадцать колючек. Тринадцать… проклятье! Несчастливое число! Затем сообщают: примерно в трехстах метрах от дороги находится какое-то здание, вокруг которого происходит какое-то движение…
Ясно! Теперь обер-лейтенант уже абсолютно уверен, что там засада. Долг свой он всегда выполнял, выполнит его и на сей раз. И обер-лейтенант приказывает открыть в направлении здания массированный огонь. Он не знает, что здание это — тот самый сарай, откуда обстреляли нас немцы, чья задача, по всей видимости, отрезать путь красноармейцам, пытающимся выйти из окружения. Обер-лейтенант не сомневается, что те, в здании, отступят. Может, так оно в конце концов и будет, пока же они отвечают огнем из пулеметов, винтовок, автоматов. В воздух взлетает ракета, оповещающая на много километров вокруг, что обер-лейтенант ведет бой. Далекие прожекторы голубыми саблями разрезают на полосы небо. Отверзли пасть пушки и минометы, и ночная тьма то тут, то там озаряется тревожным багровым светом. Теперь уже невозможно определить, кто и откуда стреляет, кто кого хочет уничтожить, и только мы, которым так легко было бы поддать им всем жару, стоим в стороне и молчим. Что делать, мы слишком хорошо знаем: нам необходимо сохранить как можно больше патронов для завтрашнего боя. Дразнить же их, улюлюкать, как это делают, загоняя диких животных, бессмысленно.
С треском срывается с места мотоциклист в рогатой каске, по телефонным проводам, рациям, с помощью ракет и карманных фонариков летят сигналы тревоги, срочные запросы, предупреждения, требования, приказы. Что ж, удивляться тут нечему. Ведь это не обычная прифронтовая полоса, это сейчас самая важная линия фронта: впереди Москва, а занять советскую столицу приказано как можно быстрее.
Ничего не поделаешь, приходится разбудить видного генерала вермахта. Тот сердится, надменный, спесивый, зло бурчит что-то, и адъютант понимает его так:
— Окружить! Контратаковать! Любой ценой немедленно очистить, уничтожить и сообщить!
А красноармеец, стоящий на посту по ту сторону линии фронта, вздохнет и скажет тихонько:
— Снова ураган… Снова огонь… Выходит, и там его кусают как следует!
А может, отзвук этого боя дойдет и до самой столицы и Москва захочет знать, что происходит в квадрате, где действуют подольские курсанты… Да только как тут узнаешь? Разве мог кто-нибудь предположить, что какие-то «колючки», какие-то тяжелые, острые куски железа, тоже кое-что значат…
Если бы не Елисеев, который толкнул меня в бок, я, окунувшись в этот не такой уж вымышленный мир, пожалуй, и правда бы задремал. Глаза уже слипались, руки и ноги онемели от мороза. Да, все мы смертельно устали, но задерживаться здесь больше было нельзя.
На фронте человеку куда труднее, чем волу в упряжке, и мы снова идем, идем, хотя подкашиваются ноги, хотя они дрожат от усталости и не в силах тащить изможденное тело, — идем и идем вперед.
ЗЕМЛЯ КАЧАЕТСЯ
Погода с самого начала не очень-то нас баловала, а с 10 октября и совсем испортилась. Намного раньше, чем обычно, зима вплотную сошлась с осенью, — не различишь, где что. Оголенный, прозрачный лес стоит грустный, задумчивый. Деревья уже полностью сбросили листья и до самого полудня поблескивают морозным инеем. По-зимнему весело, игриво, кружатся в воздухе снежинки, прикрывают дерн, которым обложен бруствер, и заледеневшую грязь в окопах. В глубоких, мрачных траншеях чуточку посветлело. Да, до белой старости дожила осень сорок первого года…
Не иначе, раньше всех у немцев получает свой завтрак воздушный пират, что летает на «горбаче», а там кто его знает, может, он сыт вчерашним ужином. Еще совсем рано, только-только пропел петух, а он уже тут как тут. Чего ему надо, понять нетрудно. Огонь, если понадобится, он будет корректировать потом, а пока хочет убедиться, не смылись ли мы отсюда за ночь. Демонстрируя искусство высшего пилотажа, «горбач» делает несколько петель, а затем опускается низко-низко, летит, чуть ли не касаясь крыш савиновских домов. Деревня будто вымерла, из труб не струится дым, улицы пусты, лишь собака встречает лаем, но этого он, разумеется, не слышит. И вокруг всюду пусто. Если б не наш единственный дзот, поле можно было бы, наверно, принять за взлетную площадку.
Только мы подумали, что «горбач» наконец от нас отстал, так нет же, оказалось, он продолжает разведку — ищет теперь остальные роты нашего батальона. Прорвав тучи, камнем падает вниз, затем выравнивается, летит над самой землей, будто собирается коснуться ее колесами и остановиться. Не я один поддался обману, хотя к уловкам его мы уже привыкли — ведь эта коричневая бестия рыщет над нами с первого дня, что мы здесь, и номер, обозначенный на крыльях рядом со свастикой, мы хорошо запомнили. Эх, попался бы он нам в руки живым! А пока он снова взмывает вверх и исчезает, оставляя за собой узкую полоску дыма.
Если б это зависело от нас, мы наверняка бы выбрали для обороны какое-нибудь другое место и, уж конечно, не поставили бы дзот так, чтоб он торчал, будто маяк, посреди поля. И окопы, и пулеметные и минометные гнезда, откуда мы должны вести огонь, приготовлены с таким расчетом, что враг будет наступать только с запада, что здесь будут идти не маневренные бои, а позиционная война, когда обе стороны находятся друг против друга в укрепленных траншеях и перебрасывать бойцов с места на место без потерь невозможно. Но расчет не оправдался, и нам самим пришлось удлинить окопы на флангах, так что теперь весь плацдарм имеет вид подковы.
У старшего лейтенанта несколько связных. Я — один из них.
Вчера во время залпа «катюш» я не сообразил, что надо широко открыть рот, и уши у меня до сих пор словно заложены ватой. Надо бы сказать об этом Ивашину, но не решаюсь: он знает, как мне не хотелось расставаться с отделением, и, чего доброго, подумает, будто я прошу, чтоб меня кем-нибудь заменили.
Из деревни принесли вареную картошку. Она еще теплая, пар подымается от нее тонкой струйкой. Все картофелины пересчитали, получилось по две с половиной на человека, и потому разделили так: маленьких по три, больших по две. В деревянном ведерке я несу своему взводу его долю. Чтоб сэкономить время, иду не окопами, а напрямик, вдоль поля. От картошки исходит невыносимо вкусный запах, хоть нос затыкай. Нос заткнуть, конечно, можно, но что делать с глазами, как отвести их, особенно вон от той, разваренной, потрескавшейся, с белой мякотью! Чистить ее все равно не надо, кожура уже отстала, вот и взять бы тот, маленький, с черным глазком, кусочек… Но нет, нельзя. Свою долю я получу, когда вернусь к командиру роты, а здесь все картофелины отсчитаны точно по три. Возьму кусочек — кому-то достанется меньше. Обманутый не простит мне, а такой, как Сергеев, может даже руки в ход пустить. Хотя нет, меня, я знаю, он не тронет. Мне он верит.
Что-то левая рука очень уж размахалась. Если не победит разум, придется приструнить ее. Пока, впрочем, договариваемся по-хорошему.
Снаряд, а затем еще и еще пролетают надо мной и падают где-то далеко за лесом. Их калибр мы быстро научились определять по звуку. Пусть летают, это скорее всего не больше, чем репетиция. Дзот — ориентир куда лучший, чем я, в меня они не стреляют, так чего остерегаться? Пока еще можно идти в полный рост, тем более что не так-то просто ползти по-пластунски, толкая перед собой ведерко… Зря я не обвязал его чем-нибудь, тогда бы дьявол не смог искушать меня и не надо было бы бояться, что картошка рассыплется.
Снаряды ложатся все ближе. Заткнуть пушкам глотки, чтоб перестали рявкать, у нас нечем, вот мне хочешь не хочешь, приходится прижаться всем телом к замерзшим, твердым, как могильные камни, кочкам и пережидать. Еще взрыв, совсем близко… Тут уж и сама земля не выдерживает и со злостью толкает меня в живот. Но и это всего-навсего задаток.
Пять или шесть снарядов один за другим падают недалеко от дзота. Возможно, стреляют из шестиствольного миномета. С залпом «катюши», конечно, не сравнить, но дзот уничтожить могут. Снаряды еще рвутся, а уже налетели бомбардировщики. Земля перед моими глазами раскачивается, вздымается, опрокидывается… Вот когда позавидуешь суслику! Он может забраться глубоко-глубоко, и выгнать его удастся, только если будешь лить в норку воду, да и то у него, как правило, имеется про запас другой выход.
Все поле уже зияет черными провалами воронок. Взрывная волна вырывает у меня из рук ведерко, оно падает, опрокидывается. Одна партия самолетов сбросила бомбы, и сразу же на их место прилетают другие. Меня вместе с картошкой накрывает земляным одеялом. Поверит ли кто-нибудь, что от взрывов у меня прошла глухота? Я сразу почувствовал облегчение, как бывает после купания, когда, прыгая на одной ноге, вытряхиваешь воду из уха.
Обычно после такой артиллерийской и авиаподготовки появляется пехота, но сейчас что-то не чувствуется, чтоб она была где-нибудь рядом. Артиллерия стреляла издалека, вполне вероятно, что немцы хотели узнать, сколько и где установлено наших пушек, чтоб засечь, а потом уничтожить огневые точки. Ответа они, однако, не получили, значит, после паузы начнут сначала. Время от времени над головой проносится пуля, но понять, откуда стреляют, невозможно. Сощурившись, смотрю в ствол своей винтовки. Все в порядке. Вчера я ее как следует вычистил, и теперь она блестит, отливает серебром.
Сейчас соберу картошку и припущу к окопу… И вдруг вижу: кто-то бежит оттуда мне навстречу. Зачем? Или думают, что я сам не доберусь?
Теперь за нас принялись минометы. Кажется, им несть числа. А ведь они особенно опасны, когда ты в открытом поле… Но кто же это бежит ко мне на помощь? На таком расстоянии узнать не могу, вижу только: после того, как я несколько раз махнул рукой, он вытянулся на земле, решив, наверно, дождаться меня. Только ведь я хотел совсем другого — чтоб он вернулся…
Наконец разглядел: это Боков. Он лежит, широко раскинув ноги, как будто стреляет из пулемета.
— Валентин! — кричу я. — Подожди, утихнет немного, тогда побежим! Я несу вам еду. В помощи не нуждаюсь… Слышишь? Почему ты молчишь? — Я ползу к нему, и потому, что мною уже овладело страшное предчувствие, опять кричу что есть мочи: — Валя! Если ты шутишь, честное слово, дам тебе сапогом под зад! Скажу Малихину, и ты фигу получишь вместо картошки. Уж он-то тебе устроит разнос… Ведь ты не ранен! Вот погоди, доберусь, тогда уж с тобой рассчитаюсь. Сейчас…
Но что это? Если он и правда мертвый, то смерть наступила совсем недавно, возможно, только что. Краска еще не сошла с неподвижного лица, даже обветренные, сухие губы и немного приплюснутый широкий нос не побелели. И крови нигде не видно. Неужели жизнь покинула его? Неужели у него не вздрогнут веки и в глазах не загорится живой огонек? Выхватываю свой индивидуальный пакет, в нем две маленькие ватные подушечки, обтянутые марлей, бинт, ампула с йодом и английская булавка. Но что мне со всем этим делать, если даже не знаю, где рана? Осторожно, будто еще можно причинить боль, ощупываю тело, потом переворачиваю вверх лицом. Вот она, дырочка от пули… Теперь Валентин лежит на спине, и руки у него вытянуты вдоль тела, как два весла.
Никто ему уже не поможет. Так зачем, спрашивается, я расстегиваю пуговицы его гимнастерки и прикладываю ухо к груди? Сердце молчит. На шнурке висит маленький крестик. Снимаю его и кладу себе в карман. Не набегает слеза и рука не дрожит. Как будто всю свою жизнь я только этим и занимался.
Валя Боков был не из тех людей, с кем сходишься легко и быстро. У нас же с ним отношения с самого начала установились простые, добрые, уважительные. Что же касается крестика… Мы знали, что Валя его носит, но спросить прямо, как это он, бывший учитель и будущий командир, может такое делать, никто не решался. Однажды, когда мы купались, к нему пристал курсант из другого взвода. Сначала Валентин упрямо отмалчивался, а потом, не выдержав, ответил, и не слишком вежливо. Слово за слово, в общем, заварилась каша — ни проглотить, ни выплюнуть. Будто не было ни у кого иной заботы, кроме как обсуждать, позволяет ли наша мораль носить человеку с высшим образованием крестик! Кто-то даже пытался доказать, что так может поступать лишь лицемер, который втайне отрицает наши принципы, и потому доверять ему в бою никоим образом нельзя.
История дошла до Ивашина. Ему Боков сказал, — а иначе этот клубок вряд ли бы так скоро распутался, — что крестик повесила ему перед уходом на фронт мать и умоляла не снимать его ни днем ни ночью, пока не кончится война. Крестик, уверяла она, обережет его от болезней, ран и смерти так же, как уберег ее отца, вернувшегося с ним в 1878 году с Балканской войны.
— Твой дед, — сказала она сыну, — был с генералом Гурко на Шипке, когда ее штурмовали, и, слава богу, вернулся домой цел и невредим.
От деда крестик перешел к отцу Валентина, Федоту Бокову, который во время империалистической войны был солдатом, а потом, во время гражданской, — командиром, участвовал во многих боях, и никакая пуля его не брала. Так вот, она, мать, свято верит в то, что многие называют суеверием, и со слезами умоляет единственного сына не ослушаться ее.
— Когда ты подполз, он уже был мертв?
Это — Федя Пименов. Вместо ответа я отдаю ему крестик. Федя родом из того же подмосковного города, что и Валентин, и кто знает, может, когда-нибудь сможет вернуть крестик его матери.
Мы укладываем Валентина на его же шинель и, выждав, пока мины начинают падать чуть дальше, несем его к окопу, где расположился наш взвод. Если будет возможность, сегодня же выроем где-нибудь поблизости яму и похороним нашего убитого товарища.
Зеленых шинелей пока не видно. Не иначе, немцы надеются стереть нас с лица земли без помощи пехоты — одними снарядами и бомбами или, на худой конец, оглушить так, чтоб мы отступили без боя.
Когда сидишь в окопе и видишь рядом знакомые лица, бомбы, снаряды и мины кажутся не такими уж страшными. Сергеев, похудевший, осунувшийся и оттого вроде еще более высокий, сегодня прямо-таки удивил нас. Кто бы мог подумать, что он способен отказаться от лишнего кусочка картошки? И тем не менее, когда ее делили, он сказал, показывая на меня:
— А не окажется ли так, ребята, что наш нарком связи не получит свою долю ни здесь, ни у Василия Ивановича? К тому же, — он, лукаво прищурившись, посмотрел на картофелины, — воевать, говорят, лучше на пустой желудок. Давайте отдадим ему порцию Бокова, а он за это принесет нам добрые вести. Ну, скажем, что «катюши» только и ждут, чтоб мы им подмигнули, и польют огнем фашистов…
Рузин — сейчас он будет вместо Бокова первым номером у пулемета — согласно кивает. Якимович дает мне тряпочку, в которую завернута пожелтевшая, слипшаяся соль. Я лизнул ее пару раз — ну и вкуснятина! — и вернул Юре, а он отгрыз кусочек и стал сосать, будто эта соль была слаще шоколада.
Малихин не позволяет мне больше задержаться ни на минуту — ему необходимо, чтоб связной неотлучно был при командире роты и чтоб приказы передавались как можно быстрее. К тому же он на меня немного сердит, косо поглядывает из-под кустистых бровей. Так получилось, что из-за меня ему пришлось сейчас отослать еще троих из елисеевского отделения, которое и без того уже сильно поредело.
Произошло это так.
Как я говорил, старший лейтенант старался использовать каждую относительно свободную минуту, чтоб еще чему-нибудь нас научить, неважно, была перед ним вся рота или только один курсант. Так было и на сей раз. Глядя в полевой бинокль, он втолковывал нам, четырем окружившим его связным:
— Перед боем очень важно знать, что собирается предпринять враг. Знать надо точно, а не строить планы, предположения, пытаться самим решить за противника. Это может привести к ошибке, а за ошибки приходится расплачиваться человеческой кровью. — Он оторвался от бинокля и стал внимательно в нас вглядываться, будто напряженно искал что-то и не мог найти. — Кто из курсантов знает немецкий?
Я подумал, что он имеет в виду лишь тех, кто стоял рядом с ним, то есть нас четверых, и потому не мог не ответить:
— Не в совершенстве, но немного знаю.
— А кто еще из вашего взвода? Надо как можно быстрее привести живого немца.
— Очень хорошо знает Юренев. Немного слабее — Пименов и Якимович.
— Передайте Малихину, что это и будет тройка по захвату «языка». Хотя нет, погодите. Вместо Пименова пусть пошлет Сергеева, он сильнее и стреляет лучше. Если до одиннадцати ноль-ноль немцы не перейдут в наступление, группа выступит. Хорошо было бы захватить связного-мотоциклиста, они без конца курсируют по дороге. Это был бы «язык» что надо. Вернуться они обязаны не позже пятнадцати ноль-ноль. Ясно?
Малихин разъясняет Юре, Олегу и Коле их задачу. Они должны рощицей пробраться к дороге, а я поползу назад к Ивашину. Вещмешки им брать с собой ни к чему, и Юра ищет что-то в своем «сидоре». Мы все старались освободиться от вещей, без которых хоть как-нибудь можно было обойтись, и только Юрин вещмешок по-прежнему набит до отказа. Вот он вытаскивает моток тонкой проволоки и продолжает рыться. У Сергеева иссякает терпение.
— Юра без своих штучек не может. Вот увидите, сейчас он мне и «профессору» Юреневу прочтет лекцию на тему «Лес пьянит сильнее старого вина» или заведет на пару часов сказ о том, как поют листья, а мы, остолопы, ничего не слышим, потому что эти тончайшие звуки не доходят до наших ослиных ушей. Как раз сегодня ночью он молил бога, чтоб ему не пришлось оказаться вместе со мной в засаде, — ему, видите ли, глотка моя не по душе! А бог взял и назло ему по-своему сделал…
— Сергеев! — одергивает его сержант. — Не забывайтесь! — И уже совсем другим тоном: — На, Николай, закури… Юра, и впрямь пора. Старайтесь вернуться как можно быстрее, а то что я тут без вас буду делать? Олег, возьми противотанковую гранату…
Скоро полдень. Самолеты и пушки на короткий срок оставляют нас в покое, но минометы… Что им от нас надо? Мины несутся сплошным потоком, одна вдогонку за другой. Атака еще не началась, а у нас уже немалые потери.
Около часу дня показались гитлеровцы. Вот-вот они ринутся на нас, и кто знает, сколько их! Стрелять пока нет смысла, они еще довольно далеко и бегут согнувшись. Один, видимо, офицер, поднимается на бугорок и стоит прямо, во весь рост. Что он, спятил, что ли? Если бы не Ивашин, мы бы уже не одну пулю в него всадили…
Наш командир, конечно, тоже видит, что за жердь там торчит. Кстати, их уже четверо. Еще один подбежал и тут же исчез.
Знаю, что если целиться чересчур долго и старательно, как раз тогда можно и не попасть. Но на сей раз я в себе совершенно уверен.
— Огонь!
Чтобы перезарядить винтовки, команды не требуется. Ивашин еще успевает сказать:
— Сейчас их возьмут на носилки. Внимание… Огонь!
Мало, но для начала и это неплохо. Сидим пригнувшись; высунуть голову нельзя ни на секунду: патронов и мин у них явно больше, чем песчинок в море. Снова появились самолеты со свастикой. Одно звено, перемолов как следует все поле, уступает место другому, другое — третьему, третье — снова первому.
Взрыв… Взрыв… Снова взрыв.
От беспрерывного грохота, от то и дело взлетающих к небу комьев земли в ушах стоит тупой звон, глаза застилает туман. Я упираюсь ногами в одну стенку окопа, плечом — в противоположную, и мне кажется, что будто на каруселях раскачиваюсь вместе с землей, которая так и норовит уйти из-под ног. С диким свистом в окоп влетает обломок дерева и попадает в моего соседа. Он зажимает рану рукой. Странно, что глаза мои в состоянии различить цвет крови…
Все вокруг еще пылает пожаром, но я понемногу прихожу в себя. А что, если Ивашин заметил, в каком я был состоянии? Боже, до чего стыдно… Он мне этого не простит… Но где же немцы? Казалось бы, лучшего для наступления момента, чем сейчас, когда разыгрался такой «концерт», не может и быть, а они все медлят. Почему? Как это ни опасно, надо высунуться, посмотреть, что происходит. Отталкиваю кого-то, через кого-то переступаю, наконец нащупываю что-то вроде ступеньки: если встать на нее, можно высунуться до груди и оглядеться. Наш дзот стоит целый и невредимый, словно немцы знали, что мы держимся от него подальше, и не хотели зря тратить снаряды. Все поле окутано пороховым дымом, лишь кое-где светлеют «окна», через которые с трудом, но можно кое-что рассмотреть. Судя по тому, как ложатся мины, немцев пока поблизости нет. От этой мысли на душе становится немного легче. Поворачиваюсь направо и встречаюсь взглядом с глазами Ивашина, — надо полагать, он стоит на такой же ступеньке, что и я. Ивашин взмахивает рукой, что, видимо, должно означать: «Спрячь голову!», и поскольку я не подчиняюсь, грозит мне кулаком. Тогда и я машу ему, что означает то же самое: «Спрячьте голову!» Он смотрит на меня так, будто я спятил, — слыханное ли дело, курсант им командует! А может, в этом адском грохоте он меня просто не понял? Медленно, одними губами, будто разговариваю с глухонемым, кричу:
— Спрячьте голову! — И еще медленнее: — Спрячь-те го-ло-ву!
Еще один невиданной силы взрыв — и поле встает дыбом. Горсть горячей земли пощечиной бьет меня по лицу, и я отлетаю на дно окопа. Хорошо еще, что веки сами закрылись вовремя… Плюю изо всех сил и никак не могу отплеваться — на зубах, под языком, в горле полно земли и песка. В мозгу путаются обрывки мыслей: как, как может это сплошь перепаханное снарядами черное поле впитать в себя столько огня и железа, столько человеческой крови? Олег сказал… Как же это он сказал? Да, вспомнил: «Если случится чудо и кто-то из нас останется в живых, он будет намного старше своих лет, совсем иным, чем был». Судя по всему, никому из нас не удастся ни подтвердить, ни опровергнуть его слова. А жаль… Ведь мы еще столько не успели сделать в жизни, все думали, что спешить некуда, откладывали на другой раз. Другого раза, очевидно, не будет. Но так просто мы не сдадимся. И на этом поле мы еще повоюем, хотя их десять против одного…
СПЛОШЬ БОЙ
Со дна окопа мне виден кусок неба — на какое-то время оно очистилось, перестало извергать молнии. Когда там висели «юнкерсы», фашистская пехота, по существу, не имела доступа к нашим позициям — бомбы рвались и вдали от окопов, могли задеть и своих. Теперь же для них самый подходящий момент перейти в наступление, поэтому надо держать ухо востро.
После бомбардировки мы все разговариваем очень громко.
— Где старший лейтенант? — кричу я и не узнаю собственного голоса.
— Ивашин, — отвечают мне, — пошел в направлении вашего взвода.
Хорошенькое дело — командир роты придет во взвод, а я, его связной, торчу здесь! Шатаюсь, как пьяный, но бегу, бегу что есть мочи. От мороза покалывает кончики пальцев, а по лбу струится пот, и я вытираю его рукавом, чтоб не залил глаза. С разбегу прыгаю в окоп, и сразу перехватывает дыхание, как у бегуна, закончившего невероятно длинную дистанцию.
Поле снова обрабатывают так, что носа не высунешь. К счастью, я уже немного привык к этому вою и к тому же знаю, что ни в коем случае нельзя растеряться даже на мгновение — тогда все, крышка. И потом, другим ведь еще страшнее, чем мне, — например, вон тому наблюдателю, что прилип под шквальным огнем к сосне и не отрывает глаз от трофейного бинокля. Только что прибежал курсант и передает Ивашину сообщение наблюдателя: рота гитлеровцев заходит к нам с тыла.
Эту горькую весть я принимаю несколько спокойнее, чем остальные курсанты: я-то знаю, что как раз с тыла, с востока, нас прикрывает группа Евстигнеева, которая, на худой конец, может стать буфером, что ослабит неожиданный удар в спину. Вчера Ивашин сказал Евстигнееву: «Только не из наших окопов», — и тогда старшина вместе со своими двадцатью пятью красноармейцами за ночь выкопал у опушки леса собственные окопы и как следует замаскировал их. Старшина, наверно, думал, что для Ивашина это будет сюрпризом, однако рано утром старший лейтенант сам отправил ему гранаты и патроны, что мы у них «заняли», а также ведро вареной картошки и записку:
«Товарищ старшина, спасибо, что остались здесь. Пришлите со связным список своих красноармейцев. Не исключено, что немцы предпримут маневр и вам первым придется вступить в бой. Дайте им подойти как можно ближе и встретьте дружным огнем».
Наступления же с фронта пока не заметно. Несколько раз немцы пробежали, согнувшись, невдалеке от горки, где мы уложили четырех офицеров: возможно, они концентрируют силы, чтобы пойти в атаку вместе с той ротой, что должна заходить с тыла… Ивашин приказывает Малихину отправиться к Евстигнееву и тут же отменяет приказ: видимо, решил, что старшину это уязвит — подумает, пожалуй, что и теперь ему не доверяют. И поручает пробраться туда Елисееву со своим полуотделением, прихватив пулемет «максим», который евстигнеевцам сейчас как нельзя более кстати.
Видно, и немецким летчикам иногда надо перевести дух. Наверно, сидят, хвастаются друг перед другом, как здорово смешали нас с землей. Смешать смешали, да не совсем. Наша линия обороны еще жива, еще дышит, не деморализована, огневые точки не уничтожены, дух не надломлен — во всем этом скоро убедится их пехота. Авиация и артиллерия сами не могут захватить даже клочка земли, а пехота их, как ни странно, что-то очень уж осторожничает. Почему? Может, боится нового залпа «катюш»? Вполне возможно, ведь и мы лелеем надежду, что «катюши» еще придут к нам на помощь.
Не только сильно поредевшему батальону, но и полностью укомплектованному полку трудно удерживать линию обороны длиной в тридцать километров. К счастью, пока немцев интересует не вся линия — их механизированным колоннам нужны хорошие, твердые дороги. Именно у этих оперативно важных пунктов возле дороги мы и укрепились, именно здесь идут бои. Потому, наверно, нашей роте и приказано удержать не всю деревню, а лишь ее западную часть. Если учесть, что на помощь нам явно рассчитывать нечего, выполнить эту задачу невероятно трудно. Приказ означает, что даже если мы будем окружены со всех сторон, даже если клещи сомкнутся, мы все равно обязаны продолжать бой, продолжать, чего бы это ни стоило. Время, когда фашистов не очень беспокоило, что в тылу у них находятся красноармейские части и разрозненные группы, прошло. На дорогах, которые ведут в Москву, они такого никоим образом не могли позволить.
Ротный возвращается на командный пункт, мы, связные, — вместе с ним. Значит, он надеется на Евстигнеева, доверяет ему и основную атаку все-таки ждет с запада.
И вот атака началась. Фашисты идут под прикрытием огненной завесы от мин. На животах автоматы, полы шинелей, чтоб не мешали, заткнуты за пояс. Скрываться, как это вынуждена делать евстигнеевская группа, нам нет смысла: гитлеровцы прекрасно знают, что мы здесь. Однако стрелять старший лейтенант пока разрешает только лучшим стрелкам, и ясно, почему: пусть гитлеровцы убедятся, что даже на таком расстоянии «красные юнкера» всегда попадают в цель. Но это лишь начало. Каждый их шаг будет встречен все более мощным огнем.
Во фронтовую атаку, размышляем мы, они пошли потому, что получили соответствующий сигнал от роты, которая обходит нас сзади. Но почему же тогда там так тихо? Плохо о Евстигнееве не хочется думать, но хочешь не хочешь, а начинает казаться, что немецкая рота потихоньку перешагнула через его окопы. Мысль дурацкая, а покоя не дает! Нет, отступить Евстигнеев не мог, ведь группа его осталась добровольно. Прекрасно знали, что им предстоит, и все-таки остались… Хочется спросить об этом у Василия Ивановича Ивашина, но не решаюсь — забот у него и без меня хватает.
Раньше я думал, что в подобной ситуации приказы следуют один за другим, а тут, оказывается, все наоборот. Ивашин не суетится, стоит спокойно, будто никем и не командует. Вдруг становится невероятно тихо. Это совсем плохо, пусть бы уж лучше гремело и грохотало. Оглушительная, зловещая тишина… Мы тоже не стреляем: немцы спустились в глубокую долину. Еще минута — и они бросятся на нас, как сорвавшиеся с цепи псы. Но почему замолкла их артиллерия? Поди знай, почему, — так они хотят, и все тут. Не всегда ведь мы в состоянии раскусить их, так же как они нас.
И вдруг — взрыв противотанковой гранаты. Там, сзади. Неужели Евстигнеев подпустил их так близко? Вот застрочили и пулеметы. Фашистская рота, разумеется, не ожидала этого, — напоровшись на шквальный огонь, стала отступать. А дальше происходит что-то уже совсем невероятное. Мы не верим собственным глазам и ушам, но это действительно так: немецкие минометчики преградили своей же роте путь к отступлению! Будто хотели сказать: «Не можете драться — тогда мы сами вас уничтожим». Гитлеровцы, как очумелые, носятся по полю. Невооруженным глазом разглядеть их трудно, но Ивашин отдает мне свой бинокль и велит неотрывно следить, что происходит в долине, а сам отправляется во второй взвод: кто-то высунул там из бокового окопного хода нацепленную на палку немецкую каску, и туда сразу же посыпались мины. Может, так и надо было, а может, это просто глупая проделка — на лице Ивашина я на сей раз ничего не мог прочесть.
Вдоль траншеи, затравленно озираясь, ковыляет, опираясь на палку, эсэсовец с Железным крестом на груди. Якимович и Сергеев идут сзади. Впервые я вижу так близко фашиста. Глаза у него выпучены, как у морского окуня, вещмешок из необработанной телячьей кожи болтается где-то пониже спины. Ступает он осторожно, как босой по осколкам стекла: от страха, видно, умер раньше смерти.
Командира на месте нет, и Якимовичу пока рапортовать некому. Я отрываю глаза от бинокля, гляжу на Юру, на Сергеева. Николай глубоко затягивается сигаретой, потом гасит ее. Чувствую, что стряслась беда, — так чего же они тянут за душу, почему молчат?
— Юра, где Олег?
Юра опускает глаза.
— Погиб. Совсем близко отсюда. Мы задержались в рощице, и он пошел посмотреть, свободна ли дорога. Отошел не больше чем на двести метров и увидел немцев. Вполне возможно, что они его и не заметили, мог бы спокойно вернуться, но решил предупредить вас, что заходят с тыла, и бросил противотанковую гранату… Ну, чего ты на меня так смотришь? Пойми, ведь мы не знали, что старшина как раз вместе с нашим отделением поджидают, чтоб они подошли еще ближе… Я думал, Олег только ранен. Подползти к нему было невозможно, хоть убей не понимаю, как Сергееву это удалось. Мы отнесли его в наш взводный окоп, положили рядом с Боковым. Вот его записная книжка. Там есть его стихотворение «Солдатская дружба». Это о нас…
Мои друзья Пименов, Елисеев, Рузин сейчас в бою. Здесь, рядом со мной, стоят Якимович и Сергеев. А мой друг Юренев стоять возле меня уже никогда не будет. Гляжу в бинокль, слежу за немцами, а вижу перед глазами Олега. Человек не больше, чем песчинка в море. Больше на песчинку, меньше — не все ли равно? Нет, это неправда! Я думаю об Олеге и знаю, что это тысячу раз неправда. Но почему же не было у меня для него добрых слов? Куда они девались? Проглатывал их, дурень, насмешничал, твердил вместе с Николаем: «Профессор»…
Если мы останемся сегодня в живых, как сообщим об этом Виталию Сергеевичу, Раисе Яковлевне? Я хорошо помню, что́ она нам сказала. «Мальчики, если бы вы попали на фронт в одну часть, нам было бы немного спокойнее. Дети! Мы, ваши родители, просим вас: держитесь вместе и охраняйте друг друга».
Мы и сейчас держимся вместе, но скажите, матери, как в такой войне охранять друг друга? Как?
— Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить? — слышу я голос Якимовича.
— Да.
— Ваш приказ выполнен. Доставили солдата 44-й эсэсовской дивизии. При выполнении задания погиб курсант Юренев.
— Связной Евстигнеева уже сообщил мне об этом. Сержант Елисеев и курсант Юренев пали смертью храбрых.
«Как?! Командир нашего отделения тоже погиб?» — хочу я спросить, но вместо этого вырывается одно-единственное слово:
— Немцы!
Ивашин отнимает у меня бинокль. Даже в такую минуту он собирается учить нас и размышляет, сам того не замечая, вслух:
— Поздно, поздно они выбрались. Через несколько минут мы их заставим припасть к земле и уже не дадим подняться. А ползком они сюда до темноты не доберутся. Ну, а если доберутся, пустим в ход штыки… Якимович, этот тип, — кивает в сторону пленного Ивашин, — знает, сколько фашистов наступает на нас?
— Почти полк.
— Ого! А сколько, им говорили, нас на этом поле?
— Усиленный батальон, поддерживаемый «катюшами».
— Пока обойдемся без «катюш». Сергеев, вы должны уложить вон того высокого, что бежит впереди. Огонь!
Первый залп — как вырвавшийся крик «ура», к которому готовишься, набирая полные легкие воздуха. Вражеская цепь разделена на четыре сектора, для каждого нашего взвода свой. Как она ни велика, необходимо ее уничтожить или, по крайней мере, остановить.
В который раз я нажимаю на спусковой крючок! Мы, те, кто находится с Ивашиным, должны в первую очередь брать на мушку не солдат, а офицеров. Должны, но то ли потому, что надвигаются вечерние сумерки и уже плохо видно, или оттого, что нет ветерка, который бы разогнал пороховую завесу, а скорее всего потому, что офицеры не так уж рвутся навстречу нашим пулям, мы, признаться, не выбираем, стреляем в каждого, кто пытается подняться. Их много, очень много, и к нам пули их летят куда чаще, чем к ним. Но попасть в нас труднее. Окопы наши глубоки и широки. На сей раз мы старались не напрасно.
Командир требует, чтобы эсэсовец разъяснил тактику своих «камрадов».
Пленный, который все еще трясется от страха, тем не менее словоохотлив и с готовностью отвечает на любые вопросы.
— Война идет к концу, господин обер-лейтенант, поэтому они и действуют так осторожно. В конце войны погибать никому не хочется. Помощник нашего командира полка, будучи возмущен, что его приказ не выполняется, забыл об осторожности и потребовал, чтоб к нему на бугорок явились еще три офицера. Вот они все и погибли. Трое там же, на месте, а помощника командира полка, которого мне было приказано отвезти на мотоцикле в полевой лазарет, ваши юнкера…
Немецкий я понимаю, так что мне не надо ждать, пока Юра переведет. Объяснять эсэсовцу, что насчет конца войны он глубоко заблуждается, разумеется, ни к чему. Он не договорил, но и так ясно: офицера, которого он вез, наша тройка отправила на тот свет. Василий Иванович хочет знать, как это произошло, и Якимович принимается не докладывать, как положено, а чуть ли не рассказывать:
— Сначала мы стали тянуть через дорогу проволоку, чтоб задержать мотоциклиста. Но первый гнал с такой бешеной скоростью, что мы еле успели натянуть и отскочить в сторону. Живьем захватывать было уже некого, пришлось еще тащить с дороги мертвого фашиста и разбитый мотоцикл. Этот, — показывает Юра на пленного, — ехал медленно, потому что в коляске у него сидел тяжело раненный офицер, старательно объезжал бугорки, канавы. Раненого опасаться было нечего, а у этого руки были заняты рулем. Проволоку он заметил до того, как поравнялся с нами, и сразу стал поворачивать назад. Я скомандовал: «Хальт!», но он, видно, еще надеялся, что удастся улизнуть. Раз так — мы об этом заранее договорились, — Сергеев выстрелил в мотоциклиста, а мы с Юреневым — в коляску. Документов взять не удалось: при офицере полевой сумки не было, а обыскивать не оставалось времени. У этого эсэсовца мы отняли автомат и две гранаты. Важных бумаг не нашли, только порнографические открытки и фотографию, где он стоит, улыбаясь, и смотрит, как расстреливают людей. Фото датировано: «10 июля 41 года, Витебск». Вещмешок его полон награбленных вещей. Он сказал, товарищ старший лейтенант, что на днях им сообщили, будто не позже 20 октября Москва падет и тогда наступит конец войны.
Глаза фашиста горят злобой и страхом. Так, наверно, глядит попавший в капкан волк, когда вокруг стоят люди. Он говорил, что по-русски не понимает, но когда Якимович рассказывал, как его захватили, все время кивал: да, мол, все было точно так, — и даже похвалил:
— Ваши юнкера, господин обер-лейтенант, действовали быстро и смело.
Ему только не понравилось, что Юра назвал его эсэсовцем. Лицо его снова стало беспокойным, подобострастным. «Айн зольдат», — поправил он. А когда упомянули о фото из Витебска, скривился, словно от зубной боли. Понял он и то, что сказали о вещмешке. Вот такой, как этот, убил сегодня Юренева, Елисеева, Бокова.
Если вы спросите у меня, когда кончился день и наступила ночь, я вряд ли смогу ответить. Это было… Кто его знает, когда это было! И все же попытаюсь припомнить, распутать клубок. В полночь мы, навьюченные «колючками», крадучись пробирались к дороге. Она была пуста, — да, дорога вымерла из-за простых кусков железа… Тьма стояла кромешная, такая, что и ворон ворону мог глаза выклевать. А потом — потом сплошь бой, и день смешался с ночью.
Вдруг вижу: чуть ли не той самой дорогой, которой я нес утром взводу картошку, идут сюда двое. Идут спокойно, как ни в чем не бывало. Ну и всыплет же им Ивашин! Кто же это? Оказывается, красноармеец из евстигнеевской группы ведет пленного гитлеровца. Видимо, не хватило терпения идти более надежным, но более длинным путем или подождать, пока стемнеет. Что ж, понять его можно: сегодня они, маленькая горсточка красноармейцев, выиграли страшно тяжелый бой, вот и захотелось немного похвастаться, продемонстрировать свое геройство.
Только они прошли, к небу взметнулся гигантский земляной столб. И грохот, грохот — будто стволы всех пушек фронта на нас сюда нацелены.
Поле окутано пороховым дымом, свист снарядов и мин слился в сплошной вой. Что это? Психическая атака, напоминающая о том, что нас ждет завтра? Или еще раньше, чем развеется дым, прямо перед нами вырастут немецкие автоматчики и у нас не будет даже пяти секунд, чтоб перезарядить винтовку? Все может быть, но одно мы знаем точно: у нас достанет ненависти и сил воткнуть в фашистов штыки, а если стрелять, то до последней обоймы, в которой всего пять патронов — четыре для фашистов и один, последний, для себя.
Вокруг еще яростно гремело и сверкало, но уже можно было сосчитать: один взрыв… второй… шестой. То сильнее, то слабее… Молнии, извиваясь, прорезали небо, гуще, плотнее стал сноп трассирующих пуль. Немецкая пехота, видимо, решила отойти от долины на ночлег в занятые ею деревни, а мы посылали пули ей вслед.
Мы выстояли еще один день.
От белого снежного одеяла, покрывающего поле, не осталось и следа. Земля, которая утром покоилась в белой, непорочной чистоте, сейчас лежала израненная, дымящаяся, и, как все, что выстрадано кровью, нам еще дороже стал каждый ее клочок. Сейчас мы навечно опустим в ее прохладную глубину погибших курсантов, и в памяти, как клятва, всплывут слова: «Так же, как солнце никогда не заходит на востоке, так и здесь, на нашей земле, никогда не будут властвовать те, кто пришел с запада нас уничтожить».
ТИШИНА НА ПОЛЕ БОЯ
Бой затихал, но не прекращался. Казалось, обе стороны не столько заинтересованы в исходе боя, сколько заняты одним — не дать друг другу отдохнуть, лишить удовольствия, повалившись на холодную, влажную землю, пусть на мгновение, но забыть обо всем на свете.
Неожиданно снова загремела артиллерийская канонада, словно перед наступлением, но так же внезапно и резко оборвалась.
Понемногу замолкли все голоса боя. Стало тихо, совсем тихо.
Тишина на поле боя! Тишина, которая приходит вместе с мраком ночи и будет длиться, быть может, до зари.
А в глубине этой желанной тишины ухо начинает улавливать новые звуки. Дрозды решили продолжить прерванный рябиновый пир. С сухим шуршанием осыпается песок с бруствера в окоп. Кто-то едва слышно произносит: «Пи-и-ить…» С опушки леса, что в какой-нибудь сотне метров отсюда, доносится мирное: «Пошла, дура, пошла…» Сердце сжимается в груди. Так хочется думать, что никакой войны нет, — ведь вот же бредет не спеша по тропинке из леса в деревню старик и, подгоняя корову, так спокойно приговаривает: «Пошла, дура, пошла…»
Быстро темнело, опускалась ночь, о наступлении которой мы так мечтали, которую ждали с неослабевающим чувством тревожной настороженности. На горизонте ожили и затрепетали языки пламени, издалека надвигался глухой гул. Холодный ветер доносил из лесу сладкий, дурманящий запах увядшей травы, мха и напоминал, что осень уже на исходе, а ранняя зима на пороге.
Мы направились к деревне. По хатам, где не мигали, не манили окна, разбрелись бойцы, ставшие старше на один день войны.
Мы, остатки роты курсантов, все еще удерживаем эту маленькую деревушку. Гитлеровцы прорвались на этом участке и продвинулись далеко вперед по асфальтированному шоссе. Мы остались у них в тылу. У нас немало пулеметов, но почти нет патронов.
С нами полубатарея, но и у артиллеристов очень мало снарядов. Уже одиннадцатый день мы без связи, без транспорта, не получаем боеприпасов, не появляется кухня. Много раненых, а ни врача, ни санитара нет.
Федя Пименов, Николай Сергеев и я лежим на устланном соломой полу, ворочаемся и, несмотря на усталость, долго не можем заснуть: на душе тревожно, к тому же желудок пуст, сосет под ложечкой.
Первым уснул Федя. Я лежал в полузабытьи, где-то между явью и сном, словно погруженный в густую мглу. Текли минуты…
Со скрипом распахнулась дверь, и кто-то громко назвал мою фамилию. Как было бы хорошо, будь тут еще кто-нибудь с такой же фамилией…
— Да встанешь ты, наконец? — усердно тормошат меня.
— Ведь старшина говорил, что нас сегодня никуда не пошлют, — сердито огрызается за меня Сергеев.
Связной передразнивает его:
— «Старшина говорил»… Мне, знаешь, мама когда-то еще и не то говорила… А я вот брожу ночью по хатам и разыскиваю человека, который мне нужен, как чирей под мышкой.
— Ну и катись отсюда на все четыре стороны, не мешай людям спать, — не унимается Сергеев.
Меня вызывал командир роты.
Я постучался.
— Войдите!
— Товарищ старший лейтенант, прибыл по вашему приказанию.
Он смотрел на меня широко расставленными голубыми глазами, словно видел впервые. Казалось, Ивашин за последнее время совсем не изменился. Он был таким же, когда проводил с нами занятия по тактике, разве только стал теперь еще более подтянутым да лицо немного осунулось. Показав на меня, он обратился к лейтенанту, стоявшему рядом с ним:
— Вот кто будет у вас четвертым. Ваша задача: пробраться в штаб, который находится вот тут, — старший лейтенант ткнул пальцем в какую-то точку на карте, — там доложить об обстановке. Если будет приказ отступить, вернетесь не позднее пяти часов, чтобы нам успеть до рассвета перебраться в лес. Ясно?
…Целый час бродили мы вдоль узкой речушки и никак не могли сообразить, как нам попасть на противоположный берег. Мы знали об одном только мостике через эту речку — в деревне, но там могли оказаться немцы; искать брод или пуститься вплавь по ледяной воде значило не добраться к сроку в штаб. Время шло, надо было принимать решение.
Лейтенант послал одного курсанта в деревню за проводником. Посланец вскоре вернулся в сопровождении деда, который через несколько минут привел нас к перекладине. Оказывается, мы уже не раз проходили мимо этого моста и не заметили переправы — в последние дни здесь шли дожди, и перекладину залило поднявшейся водой. Мы перешли через речку, лишь слегка промочив ноги.
— Я уже сегодня целому отряду красноармейцев помог перебраться, — рассказывал старик, — только успел огородами дойти до хаты, как вдруг слышу: «Дяденька».
— Ты, дед, лучше растолкуй нам, как побыстрее добраться туда, куда нам надо.
Дед почесал за ухом.
— Если вас оставить, всю ночь без толку проплутаете. А я тропинку знаю, по ней до того места рукой подать. К тому же теперь домой возвращаться опасно. Так уж и быть, сынки, пойду с вами.
Привел он нас в низину, к болоту, затянутому тонким льдом. Место гиблое. Чуть оступишься, уйдешь в трясину. Но наш проводник, словно заколдованный, шагал по какой-то одному ему известной тропе: то возьмет вправо, то повернет влево… Мы поднялись на холм, пересекли небольшую рощицу, обогнули заросший кустарником овраг и вышли к саду, окруженному высоким забором. Тут и остановил нас внезапный окрик:
— Стой! Кто идет?
Ответил дед:
— Зря кричишь, мы и так стоим. — И добавил, обращаясь к нам: — Вон в той хате штаб.
Наш лейтенант пошел туда.
Пока командиры совещались, дед отвел нас в недостроенную избу, где только в одной комнате был настлан пол и потолок. В ней жила большая семья. Хозяйка, женщина средних лет, искренне огорчилась, что мы пришли после ужина, и налила нам по кружке молока.
Вошел хозяин, крупный, угрюмый с виду, грузный человек с окладистой рыжей бородой, с бровями, словно припорошенными снегом. Он сел за стол, молча придвинул к себе корзину, до краев набитую большими медово-желтыми листьями табака, от которых все еще веяло солнцем и теплом, и стал их крошить. Крепкий, пряный запах ударил в нос.
— На, возьми, — подал он деду щепотку табаку, — покури моего самосада.
Пол устлали сеном, мы улеглись, и я немедленно уснул.
Разбудил меня громкий шепот. Открыв глаза, я увидел хозяина с дедом за столом. Из широкой фляги хозяин разливал по стаканам мутную жидкость. Старик выпил и крякнул от удовольствия.
— Ну, скажу тебе, первач так первач — чисто слеза.
Дед говорил тихо, наклонясь к хозяину. Я лежал у самого стола и все слышал.
— Дома я с самого утра не был, зайти бы надо, а тут слышу голос. Гляжу — стоит за деревом солдат и шепчет: «Дяденька, помоги нам перебраться через речку. Мы копали тут окопы и попали в окружение. Домой спешим, а переправы никак не найдем». Ври, ври, племянничек, думаю, лучше тебя знаю, когда эти окопы были вырыты. Но не обижаюсь. Стоял я у самого порога своей хаты да так старухе своей на глаза и не показался. С тех пор как война началась, она меня три раза в день отпевает и хоронит…
— Рано хоронит. Нам еще с тобой фашиста бить надо.
…Мы возвращались, когда в небе, очистившемся от облаков, еще мерцали холодные звезды. По обеим сторонам тропинки мирно дремали белые, схваченные морозцем перелески.
Приказа отступать не было, и мы вернулись в окопы.
ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА
В наступление гитлеровцы перешли в десятом часу утра. Деревня к этому времени уже была ими занята, все застигнутые там раненые убиты. После недолгой артиллерийской подготовки они поднялись во весь рост и двинулись на наши окопы.
Почему гитлеровцы не окружили нас, а направились из деревни прямиком, как на парад, по пути, где и мостик, и каждая тропинка, и каждый холм были нами заранее пристреляны, объяснить невозможно. Вероятнее всего, они полагали, что мы, ничего всерьез не значащая для них горстка юнцов, завидев грозный сомкнутый строй, обратимся в бегство или выйдем с поднятыми вверх руками.
А может быть, эти самонадеянные вояки, упоенные своими успехами в Западной Европе, на сей раз поверили, что их листовки, которыми было усеяно поле боя, возымели действие?
Как бы то ни было, это им дорого обошлось. Кто-то из наших, не знаю кто — то ли артиллеристы, то ли минометчики, — попал в мостик в самую подходящую минуту. И те гитлеровцы, которые успели подняться на вершину холма, и те, которые чуть ли не церемониальным маршем шагали по дороге, повернули вспять.
Нас начали бомбить, осыпали пулеметным огнем. Черное облако взметнулось вверх и, рассыпавшись, низверглось дождем из камней, песка, щепы, комьев глины. Горячая схватка завязалась на участке, который обороняла группа курсантов артиллерийского училища. Им на помощь поспешил один из наших взводов. Когда находившиеся в круговой обороне артиллеристы вместе со взводом оказались отрезанными, Ивашин принял отчаянно дерзкое решение: оставив на линии обороны несколько человек, он поднял всех нас в атаку и первым ринулся вперед.
Этого враг не ожидал. На поле все перемешалось, мелькали наши шинели вперемешку с немецкими. Кружившие в воздухе самолеты прекратили бомбежку и обстрел, замолкла и артиллерия противника. Левый фланг его вплотную примыкал к нашим окопам, а правый достиг крайних домов деревни. Там прорвались к нам Федя Пименов с пятью курсантами, которые с утра отступили к кузнице, стоявшей за огородами.
Наши артиллеристы давно уже выпустили последние снаряды, и выручала нас «карманная артиллерия» — ручные гранаты.
Объединившись с нашим взводом и группой артиллеристов во главе с политруком Левиным, осыпаемые градом осколков и пуль, мы отступили к своим позициям.
Лишь после третьей атаки, начавшейся одновременно со всех сторон, немцам удалось захватить наши окопы. К тому времени в живых нас осталось не больше тридцати, и мы все перебрались в дзот. У входа встали артиллеристы, остальные — у амбразур. Для тяжелораненых, которых нам удалось притащить сюда, отвели особый отсек. Парторг роты Степанов, Пименов, Сергеев и я встали у одной из амбразур с ручным пулеметом. Николай бил по-снайперски, без промаха: едва в поле зрения появлялся гитлеровец, раздавался выстрел, и тот, сраженный пулей, падал. Ивашин сам распределил последние патроны: пришлось по десять штук на винтовку, по тридцать — на пулемет. Кроме того, у нас было восемнадцать гранат, три полных диска для ивашинского автомата и с десяток заряженных наганов и пистолетов.
Командир уж который раз внушает нам: лишь в том случае, если каждая пуля попадет в цель, мы сможем продержаться до ночи, а там — прорваться в лес. Сам он пускает в ход свой автомат только тогда, когда немцы находятся в нескольких метрах от дзота.
Одна за другой влетели в дзот три гранаты. Политрук ответил двумя короткими пулеметными очередями. Ивашин крикнул:
— Вы слышали мой приказ? Из пулемета стрелять, когда они попытаются ворваться!
Тут он увидел, что у политрука раздроблено колено. Он перенес раненого в дальний угол и проговорил:
— Прости, политрук… А я надеялся, что в случае чего ты меня заменишь…
Несколько минут относительной тишины. Доносятся отдельные слова немецкой команды, ругательства — каждое слово гулко отдается в голове. И вдруг снаружи кто-то тихо произносит по-русски:
— Командир, вы живы?
Вероятно, не только у меня одного где-то в глубине сознания еще теплилась надежда — что-то должно произойти, откуда-то придет спасение, подоспеет подмога.
Словно по команде, мы бросились к амбразуре, откуда послышался голос. Ивашин сурово предостерег:
— По местам! Это наш курсант Виктор Рузин, он у немцев на виду, похоже на провокацию…
Ивашин, прильнув к амбразуре, спросил:
— Что с тобой, Рузин? Ни звука.
— Ты слышишь меня?
— Я ранен. К моей ноге привязана длинная веревка, меня послали предложить вам сдаться. Они обещают… — И вдруг он заговорил быстро-быстро: — Вокруг дзота много убитых немцев, не сдавайтесь. Командир, пристрелите меня, прошу вас, пристрелите!
Фашисты открыли бешеный огонь и с дикими криками бросились к дзоту.
Это была последняя отбитая нами атака.
У меня изо рта шла кровь. Неужто я тяжело ранен? Боли я не чувствовал. Под правой щекой, в челюсти, прощупывался осколок, на подбородке ссадина. Озираюсь. На ногах, с оружием в руках, нас человек одиннадцать — двенадцать, остальные — кто ранен, кто убит. Молчит наш пулемет. Автомат Ивашина валяется на полу. У него в руках пистолет.
Подтянув артиллерию, бронетранспортеры, танки, гитлеровцы стреляют прямой наводкой. Дзот от каждого попадания содрогается, грозя похоронить нас заживо. Внезапно внутрь влетает что-то. Становится темно. Нас обволакивают клубы дыма… Кто-то кричит:
— Огонь по дверям!
Двери с грохотом повалились, и в дзот ворвались фашисты. Мы все еще стреляли, несколько гитлеровцев упало, но их много, гораздо больше, чем нас…
Первым толкнули к выходу одного из наших артиллеристов. Он успел сделать только несколько шагов — с десяток гитлеровцев выстрелили в него одновременно.
Подошел грузовик. На нем увезли тяжело раненного политрука и Ивашина. Один из гитлеровцев показал на парторга нашей роты чернявого Ивана Никифоровича Степанова.
— Юде!
Парторга отвели в сторону и тут же расстреляли.
Самолеты с черной свастикой на крыльях проносятся низко-низко над головой. Высоченный гитлеровец, расставив ноги, задрав голову и разинув в ухмылке рот, полный сверкающих металлических зубов, стоит и смотрит вверх.
Перевод автора.
Часть вторая ВСЮДУ ВМЕСТЕ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ПЛЕНУ
Мы вдесятером рыли яму. В том, что она предназначена для нас, нет сомнения. Почему же тогда она должна быть такой широкой и глубокой?
Никто не произносил ни слова, лишь мерно поднимались и опускались десять лопат. Вот уже не видны охраняющие нас часовые. Грудь и горло что-то сдавило, казалось, вот-вот оборвется дыхание… Хоть бы время не тянулось так медленно!
Невысокого роста немец в очках, неуклюжий и медлительный, не спеша измерил металлической рулеткой длину, ширину, глубину ямы и резким хриплым голосом дал команду:
— Стоп!
Николай Сергеев стоял, опершись на лопату. Тяжело дыша, он проговорил:
— А что, если нам отказаться выйти? Пусть нас тут и расстреляют.
— Что сказал русский? — спросил немец, свертывая рулетку.
Мы молчали.
Он пришел в ярость и, сорвав с плеча винтовку, крикнул:
— Что сказал русский?
Федя Пименов, неплохо владевший немецким языком, сказал:
— Мой товарищ предложил попросить вас поскорее покончить с нами…
Фашист, хоть и не сразу, догадался, о чем шла речь. Что ж, пожалуйста. Всем нам он приказал не двигаться с места, а Николаю встать у противоположной стены ямы. Направив на него дуло винтовки, немец долго целился — сначала в грудь, потом в голову. Он то становился на колено, то ложился на землю, щуря левый глаз. Остальные немцы покатывались со смеху, один даже присел, схватившись за живот, и его водянистые глаза застлались слезами. Казалось, он никогда не видел зрелища веселее.
У Сергеева на лице вспыхнули багровые пятна, сухие губы посинели, веки дрожали, но глаза он не опустил.
— Скажи ему, — обратился один из фашистов к Пименову, — пусть повернется лицом к стене, спина у него широкая, легче попасть.
— Ха-ха-ха! — хохотали гитлеровцы.
Тот, что целился в Николая, отложил винтовку в сторону, отвинтил крышку фляги с кофе, достал леденец, засунул в рот и приложился к горлышку. Затем закурил сигарету.
Николай долго стоял, словно слепой, водя рукой по мокрой стене ямы, и опустился на землю.
— У, гады! — процедил он сквозь зубы.
На этот раз никто не потребовал, чтобы Пименов перевел его слова.
Подъехавший мотоциклист привез несколько зеленых маскировочных халатов. Нам приказали вылезти из ямы. Захватив халаты, мы в сопровождении часовых направились туда, где находились наши окопы, наш дзот.
— Значит, яма не для нас? — удивился Федя.
Немцы глядели на нас равнодушно, безучастно, но то, что Пименов хорошо говорит по-немецки, по-видимому, нравилось им.
— Это братская могила для доблестных солдат дивизии эсэс! Много чести для вас — такая яма, — «удостоил» нас ответом один из конвоиров.
Нам с Пименовым достался долговязый гитлеровец, лежавший в пяти метрах от дзота. Я вспомнил — это тот самый, который во время одной из атак бежал первым и кричал: «Рус капут!» Маскировочный халат, служивший нам носилками, был слишком короток, и при каждом шаге я ударялся животом о ноги мертвеца.
Вокруг нашего дзота мы насчитали несколько десятков трупов гитлеровцев — все, как на подбор, молодые, рослые. По сравнению с ними конвойные казались лилипутами.
Сутулый фельдфебель в очках шарил в карманах, снимал часы.
До леса, который подымался впереди высоким частоколом, теперь, казалось, было гораздо дальше, чем утром.
Полуразрушенная церковь, в которую нас загнали, была переполнена. В этой тесноте даже тяжелораненых невозможно было усадить.
Случайно, нет ли, но Николай припомнил, как расстреляли нашего парторга Степанова. Пименов с минуту помолчал, потом, обращаясь ко мне, прошептал:
— По внешности не тебя, а скорее меня, как Степанова, примут за еврея.
Сергеев твердо сказал:
— Будем держаться вместе, всюду вместе.
Утром распахнулась дверь, и к нам ворвалась банда гитлеровцев. Их интересовали сапоги, добротные русские сапоги. Того, кто недостаточно быстро разувался, били прикладом по голове, по животу, по груди. Когда тяжело раненный в ногу красноармеец, с которого стали стаскивать сапоги, громко вскрикнул от боли, озверелые бандиты задушили его. Часовой, стоявший у двери, крикнул что-то, и мародеры убрались, унося награбленное.
Вошел атлетического сложения немецкий офицер, за ним смуглая худая женщина в русской шинели. Она обратилась к нам:
— Раненые и больные, выходите! Вас увезут на машинах.
Поднялся шум, толкотня, но к выходу никто не пошел. Тогда немецкий офицер приказал вывести раненых, находившихся возле самых дверей.
Женщина стала проталкиваться между нами, повторяя все то же. Мне показалось, что она еще что-то добавляет, но что — в шуме невозможно было разобрать. Когда она приблизилась к нам, я увидел ее запавшие, тревожные глаза и расслышал то, что она произносила шепотом:
— Вас убьют, убьют…
Ночь, проведенная на ногах, не подкрепила, не освежила. Весь я словно до предела натянутая струна, а голова будто свинцом налита.
— Ап! Ап! — нас выгоняли из церкви во двор.
— Шнеллер! Шнеллер! — Часовые, стоявшие у выхода, били проходивших прикладами.
Каждый старался проскочить так, чтобы избежать удара, люди наступали друг другу на пятки, задние подталкивали передних. Но и снаружи на выходивших сыпался град ударов, били гофрированными трубками от противогазов, покрикивая:
— Хальт! Хальт!
На улице — пронизывающий холод. Долина и опушка леса затянуты молочно-белым туманом. Увядшая трава покрыта инеем. Жухлые листья на земле как бы обшиты по краям тонкой белой узорчатой каймой.
Два немецких офицера стояли в стороне, искали что-то на топографической карте. Все, что они на ней видели, — деревни, луг, лес, река, близкое и родное нам, — им было чуждо и ненавистно.
Один из них заметил, что пожилой красноармеец сел на землю.
— Встать! — крикнул офицер, и лицо его побагровело от злости.
Красноармеец с покрытым паутиной морщинок желтым лицом, скорее всего ополченец, то ли не понял, что окрик относится к нему, то ли стал безразличен ко всему на свете, продолжал сидеть не двигаясь.
Фашист, стянув перчатку с холеной руки, вынул из кобуры парабеллум. Гулкий отзвук выстрела еще долго дрожал в притихшем воздухе.
— Внимание! Внимание!
Твердо ступая большими сапогами, перед нами появился рослый здоровяк с повязкой «переводчик» на рукаве.
— Господин лейтенант сейчас показал, что ждет каждого из вас, если он не будет беспрекословно выполнять приказания. Видите, как лежит этот… А между тем немецкое командование приготовило для него и теплый кров, и сытный ужин. Все это вы получите к концу дня.
Нас выстроили по четыре в ряд. На вопрос: «Кто ранен?» — никто не ответил: мы знали, что раненые, которых вывели раньше, лежат в овраге, за огородами, и земля возле них пропитана кровью. Да никто из расправы с ранеными особой тайны не делал. Наоборот, гитлеровцы не упускали случая похвастать этим.
Наша колонна росла, подгоняли новые группы пленных. Их сопровождали немецкие офицеры на мотоциклах, солдаты на велосипедах или верхом.
В одной из групп я увидел Ивашина. Он тоже узнал меня, кажется, даже подмигнул. На нем не было ремня, но он единственный, на петлицах которого сохранились знаки различия. Теплая волна прилила к сердцу — он здесь, с нами, наш командир! При виде его коренастой фигуры, плотно сжатых губ, сурово сведенных бровей над прищуренными глазами, смотревшими настороженно и внимательно, во мне зародилась смутная надежда на спасение. Немецкий лейтенант указал на него переводчику.
— Старший лейтенант, выходите из строя!
Ивашин вышел.
— Старший лейтенант, подтянитесь!
— Нечем, — ответил вызывающе Ивашин, показывая, что у него нет ремня.
— Вы пойдете со мной в голове колонны и будете повторять мои команды.
— Не пойду!
Сотни людей вскинули головы, выпрямились, на него устремились глаза, полные гордости и восхищения, — вот они каковы, наши командиры!
Лейтенант, оскалив в недоброй усмешке зубы, стал снова стягивать перчатку.
У нас перехватило дыхание.
Но переводчик опередил офицера — он с такой силой ударил Ивашина, что тот отлетел в середину колонны. В эту же минуту немецкого лейтенанта потребовали к неожиданно подъехавшей легковой машине.
Оказавшись между мной, Пименовым и Сергеевым, Ивашин мгновенно преобразился — уж мы об этом позаботились: кубики с петлиц шинели и гимнастерки были сняты, фуражка заменена пилоткой, а подбитый глаз повязан зеленым лоскутком, который Пименов оторвал от кармана своей шинели.
ДУБИНИН
К полудню вышли на асфальтированную дорогу.
Солнце близилось к закату. Его последние, уже холодные лучи легли на верхушки деревьев вдоль дороги. Нас привели на большое открытое поле, огороженное колючей проволокой.
Холодный, влажный ветер трепал полы шинелей, пронизывал насквозь. Мы улеглись на подмерзшей земле.
— Вот нам и немецкая теплая постель и сытный ужин, — проговорил наш сосед, крепкий, широкогрудый человек с заметной сединой на висках. — Моя фамилия Дубинин. — И посоветовал: — Давайте сделаем так — две шинели расстелем, а тремя накроемся. Кто будет посередке, тот сможет поспать, а потом будем меняться местами.
В воздухе чувствовалось дыхание надвигающейся зимы. Ночной холод крепчал, и никому не удавалось уснуть. Больше нескольких минут улежать на одном месте было невозможно. Я натянул пилотку до подбородка, но уши все равно мерзли. Прижавшись к Ивашину и обняв его, я прошептал:
— Что будет?
Ответа я не расслышал: гитлеровцы внезапно подняли бешеную пальбу, залаяли сторожевые собаки, зажигаясь, взлетели вверх ракеты. Ивашин повернулся ко мне. Я почувствовал на лице его тяжелое дыхание.
— Что будет? — повторил он мой вопрос. — Еще один-два таких марша без еды и без сна, и мы не сможем волочить ноги. По-видимому, такова их цель.
— Значит, нельзя больше медлить.
— Это так. Но чем дальше от линии фронта, тем малочисленней будет охрана, тем легче будет бежать…
— Что же делать? — твердил я.
Сначала мы дружески совещались, теперь в его голосе зазвучали интонации командира.
— Я заметил в колонне несколько знакомых лиц. Необходимо сбиться поближе друг к другу, на походе двигаться вместе. И такой, как Дубинин, может оказаться полезным. Надо к нему присмотреться.
Как долго тянется ночь!
На рассвете подморозило, одежда заиндевела, лежать на земле стало совсем невмоготу. Люди поднимались, собирались группами. Ветер бил в лицо мелкой ледяной крупой. Трава хрустела под ногами.
Был момент, когда мы все, словно по уговору, двинулись к кольям с колючей проволокой — выдернуть, разбросать их во все стороны и открыть путь к своим, к свободе. Но как только мы приблизились к заграждениям, застрочили два пулемета, и все тотчас отпрянули назад, к середине поля.
— Эх, немного бы гранат да десятка два смельчаков! — Ивашин в ярости заскрежетал зубами. — Нам бы только начать, потом их, фашистов, даже без нас разнесли бы в клочья. В первом же лагере немедленно разыщем и соберем всех курсантов.
Дубинин раздобыл где-то гвоздь, проколол новую дырку в поясе и туже затянул его. Этот гвоздь пошел гулять по рукам…
Утром, когда охрана сменилась, новый переводчик, как и вчерашний, объявил, что к вечеру всем будут предоставлены теплый ночлег и еда. Нас погнали к дороге, а по ней — дальше на запад.
Дубинин поучал:
— Запомните! Пленный должен все уметь. Не знаешь чего-нибудь сам — смотри на соседа, учись, перенимай. Ничего не гнушайся, ни перед чем не останавливайся. Поменьше думай о еде, холоде, а то долго не выдержишь.
— Брешешь, — заметил Сергеев. — По глазам видно, сам-то ты о голоде забыть не можешь.
— Конечно, — ответил Дубинин зло, — голод не тетка и даже не теща.
Мы идем по разрушенной деревне. Вдоль улицы — глубокие воронки от авиабомб, наполненные мутной зеленоватой водой, свежевырытые землянки, но людей не видно.
Снег растаял. По обочинам дороги лужи, грязь. Мокрые листья устилают землю. Украдкой, торопясь, чтобы конвоиры не заметили, мы набирали полные пригоршни грязи и, цедя сквозь зубы, утоляли жажду. Если верить Дубинину, этого достаточно, чтобы не умереть.
С каждым днем сил все меньше. Сзади непрерывно стрельба — стреляют в отставших, в упавших, опасно сделать шаг в сторону. Нам это известно, держимся все время в середине колонны. Из полотенец мы соорудили нечто вроде карманов и пришили их изнутри к шинелям. Чего только не клали мы в эти карманы! Гнилую картофелину, засохшую свеклу, щепки для костра… Носить все это поверх шинели опасно.
В пути один из пленных подобрался к убитому коню и отрезал кусок мяса. Уложив добычу в сумку от противогаза, он, не замеченный конвоем, уже успел вернуться в колонну, но тут к нему подобрался Дубинин и сильным рывком выхватил сумку с мясом. Убежать Дубинину не удалось — тот ухватил его за шинель, началась драка, и оба упали на землю. В это время раздался выстрел. Из двух сцепившихся поднялся один — с сумкой в руках — и смешался с толпой. Это был Дубинин. Второй остался на земле, из уголка рта текла тонкая струйка крови.
С Дубининым, к которому мы уже успели привыкнуть, никто теперь не разговаривал. Вечером, когда нас загнали на ночлег, он разложил костер и подвесил два котелка с мясом. Со всех сторон на запах стали собираться люди.
Мы лежали на земле кружком. Дубинин поставил котелки в середине, но никто из нас не тронулся с места. Чтобы вид мяса меньше дразнил, мы отвернули головы.
Высокий, заросший темной щетиной, с исцарапанным, измазанным сажей лицом, Дубинин стоял и часто моргал красными, слезящимися глазами. Обернув пилоткой раскаленную ручку, он схватил котелок, подбежал к Ивашину и стал кричать не своим голосом:
— На, жри! Жри! Ты же их атаман!
Ивашин поднялся.
— Чего кричишь? Запомни: немцы — хозяева с той стороны заграждений, а здесь, где мы находимся, в силе только наши, советские законы. По душе ли это тебе, нет ли, но так есть и так будет. Впрочем, с тобой говорить бесполезно. Убирайся отсюда!
— А если не уберусь?
— Тогда судить будем за грабеж и за убийство красноармейца!
С котелком в руках, обмякший и сгорбившийся, он отошел от нас. Что выражали его глаза? Злобу? Раскаяние? Боль? Кажется, все вместе.
ПОД ВЫВЕСКОЙ КРАСНОГО КРЕСТА
Первый большой лагерь, в который мы попали, был Сухиничский. Приближаясь к городу, мы увидели вдалеке множество костров, услышали нестройный гул сотен голосов — кто стонал, кто вздыхал, кто громко плакал, и все это сливалось в одно нескончаемое: «У-у-у-у-у!»
Мы проходили по узким улицам, переулкам, и у каждого перекрестка меня обжигала неотвязная мысль:
«Бежать. Не самое ли время сейчас бежать?»
Я, по-видимому, замедлил шаг, потому что Ивашин меня тут же взял под руку и легонько подтолкнул вперед.
Колонна подошла к лагерю, все взялись за руки, остановились как вкопанные, из шеренги в шеренгу передавали:
— Не расходиться, пока не накормят!
Фашисты стали бить людей прикладами, пряжками ремней. Передние упали, но ни один человек не двинулся с места. До самого неба, кажется, долетал многоголосый вопль:
— Хлеба! Хлеба!
От всех костров бросались к нам толпы пленных, и еще громче, еще пронзительней понеслось по лагерю:
— Хлеба! Хлеба!
Гитлеровцы открыли огонь. Началась давка. В этой суматохе мы потеряли Ивашина.
Долго мы потом втроем ходили по лагерю и звали, надрываясь:
— Ивашин! Ива-а-шин! Василий! Батя!
Незадолго до рассвета кто-то объявил, что все прибывшие с последней колонной должны строиться отдельно — каждый получит паек хлеба; те же, что ночевали в бараках, подвалах и у костров, пусть встанут в другую очередь — за баландой.
Почти никто из нас не сомневался, что обещание выдать хлеб — провокация. Всем были уже знакомы волчьи повадки фашистов, тем не менее в очереди за хлебом собралось довольно много пленных: голод заставил их поверить в невероятное.
Трудно было на что-либо решиться. Ясно одно: мне в колонну новоприбывших становиться опасно. Но как быть? А вдруг Ивашин станет именно туда?
Сергеев предложил:
— Вы с Пименовым становитесь за баландой, а я встану в нашу колонну. Встретимся возле лазарета.
На том и порешили. Николай был на голову выше нас ростом, и ему легче было обнаружить Ивашина. Кроме того, Николай обладал недюжинной силой — до войны он был известным спортсменом. В случае чего ему будет проще выбраться.
С шести до одиннадцати часов утра стояли мы живой изгородью за баландой.
Я подставил свой котелок, а Пименов… пилотку. Вот она, первая пища, полученная нами у фашистов, — пол-литра приправленной отрубями теплой грязной воды с разваренной картофельной шелухой.
Отойдя в сторонку, мы уселись у стены барака и принялись по очереди отпивать из пилотки. Управившись с «бульоном», мы поделили картофельную шелуху.
Котелок мы унесли с собой. Нелегкая это была ноша. Подумать только! Нести в руках котелок баланды и не прикоснуться к ней. Но это доля Николая и Ивашина — мы несли ее бережно, как святыню. Нам уже было известно, что вторая колонна хлеба не получила и не получит. Его не выдавали даже больным в лазарете под вывеской Красного Креста.
Мы долго бродили, пока заметили Сергеева, подававшего нам знаки. Из колонны, где он стоял, никого не выпускали. Мы бросились к нему. Он обеими руками обхватил котелок и единым духом опорожнил его.
— Больше у вас ничего нет? — сказал он, облизывая губы.
Посредине площади, где мы стояли, на большом щите, прибитом к круглой афишной тумбе, висело несколько объявлений, написанных крупными печатными буквами. Одно из них гласило:
«Граждане! Желающие получить пропуск в Петроград (бывший Ленинград) должны обратиться в местную комендатуру».
На другой бумажке было написано:
«Вчера доблестные немецкие войска заняли и окончательно освободили Москву…»
Я не сомневался, что фашисты лгут, хвастливо лгут, и все же острая боль полоснула по сердцу… На меня нахлынула волна воспоминаний.
…Просторные приднепровские степи, где протекло мое детство, завод, где я потом работал, институт, в котором учился, московские шумные улицы и площади, — великий город, где началась моя счастливая юность, комсомол, мои сверстники и друзья, небольшой дом в Подмосковье — как все это было привычно и буднично просто! И только сейчас я ощутил всю меру любви к тому, что объединяется в одном слове — родина. Нет для меня ничего лучше той земли, что меня вскормила, той земли, на которой стоит мой отчий дом, где я делал первые шаги. Я перед ней стоял, как перед своей совестью.
По-видимому, в последнем бою я потерял много крови. Кроме того, у меня в паху застрял осколок, причиняющий острую боль при ходьбе.
С горечью смотрю на нашего богатыря Сергеева: давно ли его большие серые глаза светились спокойствием уверенного в своем здоровье и силе человека; давно ли на его щеках играл завидный румянец — теперь его лицо стало бескровным, желтым, под глазами появились отеки, губы потрескались до крови. Крепко держится на ногах один только Пименов. В его узких, монгольского разреза глазах даже мелькает иногда подобие улыбки. И подумать только — это тот самый низкорослый, тщедушный Федя, о котором наш старшина, бывало, говорил, что он попал в училище только по чьему-то недосмотру.
На крыльцо дома вышло несколько фашистских офицеров. Один из них, высокий, сухопарый, по-видимому из белогвардейцев, обратился к нам на чистейшем русском языке:
— Приказание будет повторено до трех раз: евреи, выходите из строя!
Немецкие офицеры устремились к колонне и стали рыскать по рядам. Рядом с нами, опираясь на палку, стоял пленный, на петлицах его шинели виднелись следы шпал. Заметив его, белогвардеец злобно крикнул:
— Господин капитан, выходите и вы из колонны! — Он притянул пленного к себе и изо всей силы оттолкнул так, что тот упал на камни. Офицер брезгливо отряхнул руки и снова процедил сквозь зубы: — Гос-по-дин…
Я до сих пор слышал это слово только со сцены, с экрана кино, читал в книгах. Сейчас оно для меня впервые прозвучало в жизни, и я постиг его подлинное значение.
Лица тех, что вышли вперед, выражали крайнюю степень обреченности. Мимо меня несколько раз прошли гитлеровцы, но я пока не вызывал ничьих подозрений.
Вблизи раздались очереди из автомата — расстреливали коммунистов из нашей колонны.
Вот объявили, что всякий, кто, зная о еврее, не выдаст его, будет сам расстрелян. Я рванулся вперед, но Пименов и Сергеев держали меня с обеих сторон за руки.
Мертвая тишина…
Вдруг послышалось:
— Не прикасайся ко мне, не прикасайся, говорю!
Головы всех повернулись в ту сторону. Мне сначала не видно было того, кто кричал, — его заслонял долговязый гитлеровец. На шум подбежал белогвардеец, и снова предостерегающе прогремел тот же голос:
— Не подходи, шкура!
Его конвоировали двое, и нам было видно, что не он на них, а они на него поглядывают с опаской.
— Связать!
Теперь он стоял со связанными за спиной руками, в коротком солдатском ватнике, невысокий ростом, неширокий в плечах, но когда белогвардеец ударил его кулаком в подбородок, он только пошатнулся и посмотрел на врага с такой ненавистью, что тот инстинктивно отступил.
Однако я не понимал: почему в него не стреляют?
Я попытался вырвать руки, но друзья держали меня крепко, Пименов шепнул:
— Ты с ума сошел!
Сергеев — во второе ухо:
— Ты и нас погубишь!
И все же решение принято. Я отчаянным усилием вырвал руки, бросился туда, где стояло несколько десятков пленных евреев, и встал рядом с парнем в ватнике. Я спросил его:
— Как твоя фамилия? Кто ты, откуда?
— Клейнман, шофер из-под Киева. Теперь все это уже не важно…
Не знаю, что выражали тогда мои глаза, но голову держать так гордо, как он, я не мог. Один из немецких офицеров ткнул в меня указательным пальцем:
— Ду бист айн юде?
Я ответил по-русски:
— Да. Я еврей!
И снова, как тогда, мы копали яму, в мозгу билась одна мысль: «Скорее, скорее бы!..»
— Ап! Ап! Ап!
Офицеры разогнали колонну, а нас по булыжной мостовой повели в дом, где находился лазарет. К стене был прибит кусок фанеры с большим красным крестом. Сопровождали нас белогвардеец, немецкий солдат, вооруженный автоматом, и полицай. Это был первый полицай из военнопленных, которого я видел. Оружия у него не было, в руке он держал гофрированную трубку от противогаза, за поясом торчал кинжал в ножнах. Я шел в первой шеренге. Клейнмана увел куда-то немецкий автоматчик. Приказали входить в дом по одному. Я вошел в небольшую комнату на первом этаже. Здесь было нечто вроде бани, на полу лежали деревянные решетки, у стены стояли две скамьи.
Белогвардеец приказал мне снять шинель, пилотку, гимнастерку. На мне было две гимнастерки. Я остался в нижней, изорванной в клочья. Он обыскал все карманы и нашел компас, бинт и десять рублей.
Я не мог себе простить, что забыл передать Феде компас. Им он мог еще пригодиться…
Гитлеровец уставился на мои сапоги. На одном из них подошва подвязана проволокой. Он осмотрел сапоги и приказал разуться. Я остался в одних портянках и, чтобы они не сваливались с ног, закрепил их проволокой, снятой с сапога.
— Следующий! — крикнул он, а мне махнул рукой: — Выходи!
«Сейчас, — думаю я, — в меня выстрелят». Но, кроме него, в комнате никого нет, а парабеллум в кобуре, и он, по всему видно, не собирается его вытаскивать. Но ощущаю, знаю то место, куда попадет пуля, — где-то сзади, пониже шеи, там уже испытываю острую боль. Меня охватывает озноб, и я быстро выбегаю из комнаты, так, чтобы он не успел вынуть парабеллум.
Облокотясь на перила, ведущие на второй этаж, стоит полицай и смотрит на улицу, на тех, кто по очереди входит в комнату, из которой я только что выбежал. Сверху спускается пленный с повязкой Красного Креста на рукаве. Он двигается, едва волоча ноги.
— Кто ты? — спрашивает он меня.
Я молчу.
— Кто он? — обратился он к полицаю.
— Говорит, что еврей, — отвечает тот, не повернув головы.
— Он такой же еврей, как и ты. Просто со страху рехнулся.
Человек с повязкой спустился с последних ступенек, поглядел на меня, покачал головой, потом, опасливо осмотревшись по сторонам, спросил тихо:
— Ты знаешь, что тебя ждет?
— Меня расстреляют, а ты здесь умрешь от голода, холода и побоев.
— Не кричи, — перебил он меня, — слушай, что тебе говорят. Тут евреев не расстреливают. Смотри туда, видишь, вон за теми бараками глубокие ямы, это были когда-то картофелехранилища, потом в них свозили нечистоты. Туда тебя бросят, и там ты будешь стоять по шею… Я врач и могу поручиться, что за одну ночь ты не умрешь. Слышишь, как они кричат, слышишь? — Он потянул меня за руку.
Да, я действительно услышал, но, кроме того, и увидел… увидел Пименова и Сергеева, неотрывно смотревших в распахнутую дверь.
Пока доктор говорил, полицай стоял, не трогаясь с места, но, как только тот взял меня за руку, полицай оттолкнул его.
— Отойди! Тебя это дело не касается, — буркнул он. — Не отойдешь, начальника позову.
— Следующий! — донесся голос белогвардейца.
Пименов и Сергеев приблизились на несколько шагов. Когда полицай отвернулся, я им кивнул головой и сделал рукой знак, чтобы не уходили. Они, кажется, поняли.
«Если полицай от меня не отстанет, — решил я, — удавлю его, а то вцеплюсь и утащу вместе с собой в яму, и тогда меня застрелят».
Последний пленный вышел из комнаты, когда уже стало темнеть. Белогвардеец, видимо, устал.
— Отведешь их сам, — приказал он полицаю.
Я шел последним. Все пленные были уже в бараках. Я попытался отстать и вдруг увидел: наперерез нам быстро шел Сергеев, за ним следом Пименов. Николай поравнялся с полицаем, и я услышал:
— Этого парня отпусти, — Сергеев показал на меня.
— А если не отпущу?
В то же мгновение полицай упал как подкошенный. Я знал силу Николаева удара. Надо полагать, не так-то скоро полицай придет в себя.
НЕ ПОГИБАТЬ ЖЕ ДРУГУ…
Мы бежали что было сил.
Попытались втиснуться в один барак, в другой — напрасная затея. Вплоть до самых дверей они так набиты людьми, что некуда ногу поставить. Запыхавшиеся, бросились мы к бараку, откуда только что вышло несколько человек: они прислонились к стене, глубоко и жадно вдыхая холодный, свежий воздух.
— Еще немного, и я задохнулся бы там. Лучше тут помереть, чем вернуться в барак, — громко жаловался один из них.
Где-то позади раздался протяжный свист. Сергеев решительно направился к входу и гаркнул:
— А ну-ка, полундра, расступись, дай дорогу пехоте!
С тех пор как мы в плену, у Николая впервые такое приподнятое настроение. Он счастлив, что так удачно провел освободительную операцию. Видимо, не мне одному придавало мужества сознание, что дружба победила смерть, такую страшную смерть…
В глубине барака немного просторнее. Мои друзья обливаются потом, а у меня все еще зуб на зуб не попадает от внутреннего озноба.
— Глядите, — Сергеев показал рукой вверх, и мы задрали головы.
На стропилах под самой крышей сидели полуголые люди и искали вшей; из огромной плетеной корзины, подвязанной веревкой к балке, торчали две босые ноги, — как человек туда забрался и как оттуда выберется, уму непостижимо. Воздух такой тяжелый и спертый, что мы вынуждены остановиться и передохнуть. Да, пожалуй, сейчас уже можно остановиться; раньше следующего дня нас тут никто искать не станет. Мы уселись в самом дальнем и темном уголке. Отдышавшись, Николай поднялся.
— До моего возвращения не уходите отсюда.
— Ты куда?
— Раздобыть ему амуницию, — произнес Сергеев так, словно собирался зайти в ближайший магазин.
Пименов накинул на меня свою шинель и стал растирать мне ноги.
— Скажи на милость, — удивился он, — а я думал, они у тебя обморожены. Ты не заметил, — Пименов понизил голос, — остальные успели разбежаться?
— Нет, не заметил, — ответил я.
— О чем ты говорил с тем парнем, в ватнике?
— Я узнал, что его фамилия Клейнман, он шофер и работал до войны где-то под Киевом.
— Когда его уводили, мы с Колей пошли следом. Им так и не удалось живым бросить его в яму — он сопротивлялся, пока не застрелили. Так ты говоришь, Клейнман его фамилия, — у Феди заблестели глаза. — Запомню, обязательно запомню.
Пименов не сомневался, что полицай от Колиного удара не оправится. А если да? Оставаться в этом лагере опасно. Необходимо во что бы то ни стало выбраться отсюда, и это, кажется, возможно: здесь, по рассказам, каждый день формируются колонны, отправляемые на запад.
Решили, что я за баландой становиться не буду, к утру переберусь в угол, где лежат больные дизентерией, и не высуну голову из-под шинели, пока друзья не окликнут меня по имени.
Вернулся Сергеев, на его плечах чья-то старая шинель, в руке пилотка.
— Эту шинель, — заявил он, — на новую не променяю. Она, правда, не без изъянов: правый рукав держится на честном слове, левая пола прожжена, да дырка невелика — с человеческую голову…
Пилотку он получил в обмен на свой котелок, а за шинель расплатился двумя сигаретами.
— Где же ты, Коля, достал сигареты?
Сергеев шепотом поделился с нами величайшим секретом: у него есть еще восемь сигарет. Они понадобятся для того, чтобы нас приняли в отправляемую отсюда колонну. Хуже обстоит дело с сапогами. А ведь если до утра я не раздобуду обуви, нам придется задержаться здесь.
Прижавшись друг к другу, мы наконец уснули. Сон мой был неспокоен, ныли ноги. Сергеев часто просыпался и жаловался:
— Дышать нечем…
Федя безмятежно храпел — сначала тихо, затем все громче, с присвистом, на мгновение затихал, потом заводил снова.
…Найти свободное место в углу, где лежали дизентерийные, было невозможно. Вплотную к стене, скрючившись, лежал кто-то закутанный в невообразимое тряпье. Николай несколько раз подходил к нему, слегка прикасался, толкал — тот не подавал признаков жизни. Тогда Сергеев решительно поднял его руку и резко отпустил — она плетью упала вниз.
— Этот отмучился, — проговорил Сергеев.
Прикрыв его лежавшей рядом шинелью, мы заслонили Николая, который, наклонившись, стал стягивать с трупа сапоги. Левый сапог сполз легко, правый же никак не поддавался. Тогда Коля стал на колено и, взявшись за сапог, рванул его к себе.
И вдруг труп заговорил:
— Чего тянешь? Грабишь, да?
Николай отскочил, а тот закричал:
— Душегуб! Душегуб!
Поднялся шум. Даже Николай растерялся.
— Теперь, — уверял он, — нас будут бить, сопротивляться опасно, хуже будет.
И правда, на нас двинулось несколько человек.
— Кто тут мародерничал? Кто? — раздались голоса, — Бей их, бей, паразитов!
Я видел: Коля, несмотря на свое же предупреждение, ответит в случае чего ударом на удар. Против него стоял невысокий, но крепкий, кряжистый парень.
— Как ты смел? — Он занес кулак.
Я бросился вперед и стал между ними.
— Сперва выслушайте! — крикнул я.
Раздались голоса:
— Бей, бей того, большого!
— Не он, я виноват, меня и бейте!
Так уж, видно, всегда бывает: раз человек сам заявляет о своей виновности, всем интересно знать, в чем же она заключается. Вокруг нас все больше и больше народу, нас окружают возбужденные, озлобленные, любопытные лица. Мы с Пименовым объясняем, перебивая друг друга:
— Мы считали, что он помер…
— А наш товарищ босой, совершенно босой, — показывает Федя на меня. — Не дать же погибать другу.
— И впрямь босой, — подтвердил тот, что наступал на Сергеева. Он снова накинул шинель на «воскресшего» и двинулся вместе с нами осматривать больных. Он сам стащил сапоги с ног одного умершего и, пристально глядя на меня умными, понимающими глазами, вручил их мне:
— На, и впредь не теряй.
ОДИН ДЕНЬ НА ВОЛЕ
И опять мы в пути. Дует порывистый ветер, низко плывут тяжелые хмурые облака, поливая нас мелким, унылым дождиком пополам со снегом. Только однажды проглянуло солнце, огненно-красное, словно перед бурей, и тотчас исчезло, затянутое грязно-бурой пеленой.
Нигде, кажется, война не оставила таких тяжелых следов, как вдоль больших дорог. Изрытая окопами, искрошенная снарядами, изъязвленная бесчисленным множеством воронок, вся израненная, лежала родная земля. Сколько сил понадобится, чтобы поднять из пепла и щебня разрушенные города, сожженные деревни, чтобы снова задышало, вернулось к жизни все, на чем теперь лежит печать гибели и уничтожения!
Идем уже третий день. Единственное наше питание — мороженая свекла, подбираемая в поле. Одежда намокла и тяжелым грузом оттягивает плечи, с шинелей падают на землю мутные капли. Понурив головы, плетемся из последних сил.
Возле железной дороги, которую нам предстояло пересечь, мы остановились в ожидании, пока подтянется конец колонны. Из ближней деревни к нам бежали дети и женщины со свертками в руках, горшками, крынками, лукошками, узелками.
— Кто тут ивантеевский? Нет ли кого из Ивантеевки? — кричала одна.
Женщины совали конвоирам крынки с молоком, только бы они не мешали передать пленным хоть кое-что — кому вареную картошинку, кому немного каши, щепотку соли, был и счастливец, которому досталось крутое яйцо.
Пожилая женщина в потертом мужском полушубке, опершись на шлагбаум, глядела на гитлеровца, пившего молоко, и говорила вроде безразличным голосом:
— Звери, что вы творите на нашей земле? Говорят, что наши, помоги им господь, уже гонят вас назад…
Вытирая усы, конвоир улыбался.
— Хорошо, матка, очень хорошо, — сказал он довольно и, возвратив крынку, стал разгонять собравшуюся вокруг пленных толпу…
Я шагал, опираясь на палку.
О том, куда нас ведут, высказываются самые разнообразные предположения. Напоследок распространились слухи, что идем в Оршу, откуда нас поездом увезут в Германию.
Недалеко от нас шел пожилой конвоир. Нижняя губа его уныло отвисла, автомат болтался на шее, полы маскировочного халата то и дело прихватывало зубчатым колесом велосипеда, который он толкал правой рукой. Улучив минуту, Пименов обратился к нему по-немецки:
— Куда вы нас ведете?
— Нах Дойчланд, — ответил он. — Ого, да ты знаешь немецкий? Это хорошо, очень хорошо. Когда приедете в Германию, они, — он показал рукой на нас, — будут работать, тяжело работать, а ты будешь переводчиком. Наш фельдфебель утверждает, что вскоре наступит время, когда людей, не говорящих по-немецки, и людьми-то считать не будут.
Он передал Феде свой велосипед, а сам, рукой прикрыв от ветра огонек зажигалки, закурил длинную толстую сигару. Кто-то из колонны крикнул Пименову:
— Спроси его, прощупай, что он знает про Москву.
— Как только Москве будет капут, — ответил конвоир, — сразу будет и войне капут. Тогда и я вернусь домой, возьму нескольких пленных, они будут работать, а я смогу отдохнуть на старости лет.
Но, заслышав треск мотоцикла, на котором фельдфебель объезжал колонну, он схватил свой велосипед и оттолкнул Федю. И все же для гитлеровской армии того времени это был необычный солдат: огрызок сигары он не бросил на землю, не растоптал, как другие, сапогом, а отдал Пименову. Федя передал окурок Николаю, тот, с наслаждением затянувшись, так опьянел от дыма, что, не подхвати я его, несомненно, свалился бы. У него еще долго кружилась голова, и мы с Федей вели его под руки.
Во второй половине дня мы поравнялись с моторизованной воинской частью, растянувшейся вдоль дороги. При нашем приближении оттуда раздались выстрелы. Пленные бросились прочь от дороги.
На обочине стояли эсэсовцы и били проходящих палками, камнями, стреляли из винтовок, автоматов. Мы с Пименовым слышали, как они уверяли фельдфебеля, что справа ровное поле и никому не удастся убежать. Много ли им нужно, расстреляют человек сто — двести, и хватит.
Самое опасное место мы миновали благополучно. Я предложил своим товарищам:
— Если снова начнется суматоха, побежим влево, в кусты, махнем через поле в лес. Смотрите, до него совсем близко.
Пименов сразу согласился, а Николай ответил неуверенно:
— Посмотрим…
Мы с Федей выбросили из кармана щепки, собранные за день, потуже затянули веревки, которыми были подпоясаны. Все чаще и чаще слышатся выстрелы, а вот, поливая дорогу огнем, застрочил пулемет. Я бросился влево, меня обогнал Пименов. Обернувшись, я увидел бежавшего вслед за нами Николая, а через минуту услышал за собой его тяжелое дыхание.
Все произошло так, как я и предполагал, — слева оказался крутой склон, и нас не заметили.
Внизу, в ложбине, мы перевели дыхание. Легли на землю и прислушались — стрельба прекратилась. Николай предложил немедленно пробираться в лес, Пименов считал, что надо подождать, пока стемнеет. Я склонился на сторону Сергеева, но не было сил бежать. Когда мы оглянулись, то заметили, что не одни здесь — метрах в ста от нас лежала, затаившись, еще одна группа, а кроме того, сюда шли, едва передвигая ноги и почти не пригибаясь, двое пленных. Если их заметят, мы все пропали.
Теперь уже ясно, что идти немедленно в лес рискованно — нас слишком много. Незаметно нам не пройти, обнаружат.
Один из соседней группы пополз к нам. Вот он перестал двигаться, прижался к земле и, не поднимая головы, а только скосив глаза в нашу сторону, спросил:
— Сколько вас?
Федя сделал ему знак рукой, чтобы он приблизился. Лицо этого человека обросло густой щетиной, трудно понять, сколько ему лет. Но глаза у него молодые, карие, лоб высокий. Он подполз ближе.
— Егором меня звать… Я со всеми, — шептал он, — пустился сначала вправо, полем, но споткнулся и упал. Тут-то я и заметил, как вы махнули в кусты, сразу понял ваш план и вернулся назад.
— Сколько вас?
— Тоже трое. Но тех двоих я не знаю, они просто побежали за мной. Нашли где-то тыкву и едят.
— А тебе ни куска не дали? — спросил Николай.
— Нет.
— Значит, ребята никудышные. Если каждый будет себя так вести, ничего хорошего не получится, — сделал решительный вывод Сергеев. Он был готов хоть сейчас отправиться учить уму-разуму обладателей тыквы. Нам едва удалось удержать его.
Между тучами показался клочок голубого неба, то тут, то там стали заметны зеленые островки: еще не вся трава сдалась на милость осени.
Когда стемнело, нас собралось на опушке леса восемь человек. Мы лежали под высокой густой елью. Стройная, величественная, стояла она мощной зеленой колонной у входа в лес. Глухо шумели над нами ветви. Мы были опьянены горьковатым запахом хвои, ощущением неожиданно вернувшейся свободы.
Посовещавшись, сошлись на одном — идти всем вместе, курс держать к линии фронта, двигаться лесом, избегая центральных дорог. Тут же решили выбрать старшего, а так как только мы трое хорошо знали друг друга, нам предложили выдвинуть кого-нибудь из своих.
— Если среди остальных нет командира, — согласился я и тут заметил, что Егор потупил глаза. — Ты командир?
— Да, ребята, командир.
— Чем командовал?
— Саперной ротой, лейтенант я.
Старшим стал Егор, а Пименов его заместителем. Условились: важные решения, если обстановка позволяет, принимать сообща; все, что удастся каждому из нас добыть, распределять между всеми поровну; раненых и больных не оставлять; высшая мера наказания — изгнание из группы.
Плохо, что никто из нас в этих краях никогда не был. Вот когда пригодился бы компас, отобранный белогвардейцем!
Пока мы лежали и тихо переговаривались, двое отправились в разведку. Вернулись они скоро с неутешительными вестями: мы находились не в лесу, а в небольшой рощице. Недалеко отсюда они обнаружили штабеля ящиков, много бочек, — видимо, патроны и горючее, там же разбиты две палатки. Откуда-то донесся рокот машин, кажется, совсем близко. Нужно было немедленно пробираться в большой лес.
В течение ночи мы дважды натыкались на деревни. В одной оказались немцы, в другую мы не зашли потому, что не хотели задерживаться — ночь уже была на исходе, а до леса все еще далеко.
Только надежда на спасение давала нам силы двигаться без отдыха все дальше и дальше. Хорошо еще, что ветер был попутный.
Но вот уже стало рассветать, а мы все еще в открытом поле. И откуда только они здесь, эти бескрайние степи? На всех полевых дорогах — свежие следы автомашин, велосипедов, кованых солдатских сапог. Пропели где-то петухи, скоро станет совсем светло, а спрятаться некуда — ни куста, ни даже сухого бурьяна. Командир наш требует не останавливаться и держаться подальше от дороги.
Впереди показалась деревня. На отшибе стояли два каких-то строения, и мы решили пробираться к ним. Первое строение оказалось небольшим домиком с чешуйчатой черепичной крышей, с резными наличниками на окнах и небольшим палисадником, второе — большим амбаром. Одно окно домика было заколочено досками, другое чем-то занавешено, дверь заперта.
Ворота амбара открылись со скрипом. Мы вошли, спотыкаясь в темноте. Здесь, судя по всему, хранился в свое время колхозный инвентарь. Обшарили все уголки и не нашли ничего съестного.
Один из нас в щель следил за тем, что происходит во дворе и на дороге. У Егора чудом сохранились карманные часы, и он передал их часовым, чтобы каждые два часа производить по ним смену. Все улеглись и уснули крепким сном. Егор лег у самых дверей.
Я проснулся, когда на посту стоял человек, чье имя никто из нас не мог запомнить. Сергеев называл его Ипташ, что по-татарски означает товарищ.
— Который час? — спросил я у него.
— Сорок минут первого, — ответил он и добавил: — Хозяйка варит что-то вкусное, по дыму чувствуется. Не будь я на посту, пошел бы к ней, курсак житья не дает… — Он чуть не плакал.
— Вечером, — утешил я его, — перед уходом отсюда зайдем к ней.
Я вернулся на свое место. Меня вдруг охватило предчувствие беды, и я разбудил Сергеева.
— Коля, хозяйка стряпает что-то. Боюсь, как бы Ипташ глупостей не натворил.
— Спи, — ответил сквозь сон Николай. — Я его, Ипташа, если он посмеет бросить пост, удавлю.
Последние слова Сергеев пробормотал едва слышно, он снова крепко спал. Улегшись рядом с товарищами, я понемногу успокоился. «Ничего, — говорил я себе, — вечером разживемся где-нибудь едой, а в следующую ночь доберемся и до леса. А в большие леса немцы не забираются». Моей последней ясной мыслью было: Егор мне нравится.
Не знаю, сколько я спал. Мне снилась печеная картошка, белая, рассыпчатая, Егор и Ипташ выуживали ее из золы, мяли в ладонях, макали в соль и ели с черным хлебом.
Вскочили мы все разом. Совсем близко от нас раздалось несколько выстрелов. Дверь амбара была приоткрыта. Едва Егор взялся за нее, ударила очередь из автомата, и он растянулся у порога. Кровь залила высокий лоб.
Нас вывели. В нескольких метрах от амбара, раскинув руки, лицом кверху лежал Ипташ. Его тонкогубый рот был полуоткрыт, и немецкий унтер-офицер объяснял молодому солдату, почти подростку, как извлечь золотой зуб изо рта. За свою неосторожность Ипташ поплатился жизнью.
Если бы не Пименов, нас, скорее всего, расстреляли бы тут же во дворе.
— Мы, — объяснил он унтер-офицеру, — бежали от обстрела и заблудились. Если бы мы собрались бежать, — твердил он, — то конечно уж остались бы в лесу, а не шли сюда через открытое поле.
У Пименова огорченный вид, весь он олицетворение наивности и простоты. Не верить ему невозможно. Но когда он поворачивал голову к нам и взгляд его падал на Ипташа и на Егора, в его глазах вспыхивал огонь яростной, неистребимой ненависти.
Унтер-офицер послал в деревню одного из солдат — узнать, как с нами поступить.
Мы стояли, прислонясь к забору. Егор неподвижно лежал у дверей амбара, и минутами я завидовал ему.
ОТ РОСЛАВЛЯ ДО МОГИЛЕВА
Снова бредем по неширокому шоссе, недавно омытому холодным октябрьским дождем, плетемся в хвосте длинной колонны. Влажный ветер дует в лицо, мешает идти. Едва держусь на ногах, и то только потому, что с обеих сторон поддерживают друзья — Федя Пименов и Николай Сергеев. Высоко над нашими головами пролетают стаи птиц, без устали машут крыльями, спешат туда, где теплей, — на юг. Нас гонят на запад…
Рославльский лагерь.
Здесь для нас приготовлены нары — новые узкие нары в четыре яруса. Пахло свежеоструганным деревом. Нам троим удалось устроиться рядом на втором этаже. Какое же это блаженство — лежать, вытянув ноги, лежать несколько часов подряд, когда у тебя есть крыша над головой!
Федя и Николай куда-то ушли, а я сразу задремал.
Я услышал треск, но соскочить уже не успел. Нары надо мной проломились и упали со всем грузом человеческих тел. Мне придавило грудь и голову.
Удивительное дело! Сколько раз за последнее время я призывал смерть, а сейчас, когда оказался с ней лицом к лицу, откуда только взялись силы закричать:
— Федя, Коля, где вы?
Они выросли точно из-под земли, и я услышал Николая:
— Держись, браток! — Мощный голос его покрыл шум и стоны. — Стой! Слушай мою команду! Раз, два, взяли! Раз, два, подняли! Раз, два, выше! Федя, тащи его!
В первые минуты я не мог и слова вымолвить, болела грудь, я с трудом дышал. Сергеев обнял меня, прижав к себе, и странно — не я, а он смахнул рукавом шинели набежавшую слезу.
— У, гады! Вырваться бы только из ваших рук, уж тогда посчитаемся!
Проклятия сыпались дождем.
— Надо спасать остальных, — первым напомнил Федя, — хватит распускать нюни.
…Путь на Кричев был последним пешим этапом, оказавшимся нам под силу. В тот день и Сергеев заявил:
— Если сегодня не добудем еды, не смогу дальше двигаться.
Хотя по дороге в нашу колонну вливались новые группы пленных, она все таяла — вдоль дороги оставались лежать десятки тел. Те, кого гитлеровцы не добивали, умирали за ночь от холода.
Будь я один, не подняться бы мне в то утро. Всю ночь мокрый снег вперемежку с дождем не давал уснуть. Первое, что мы увидели на рассвете, был густой туман, что стлался белой пеленой низко над рекой; ее медленно катившиеся воды были едва-едва различимы. На другом, высоком берегу реки виднелся дубовый лесок — его золотистый убор уже заметно поредел. Толстым ковром устилали замерзшую землю полегшие некошеные травы и опавшая листва.
Сегодня конвоиры впервые не обманули нас. У входа в Кричевский лагерь в деревянной постройке выдавали хлеб.
Мы проходили двумя шеренгами. В середине, спина к спине, на невысокой скамье стояли два немца: один пропускал правую шеренгу, другой — левую. В открытые с обеих сторон окна, на обитые белой жестью подоконники, снаружи подавали порции хлеба.
Когда мы подошли к порогу, часовой, стоявший в проходе, повернул к нам голову и крикнул:
— Хальт!
Не так-то просто остановиться, когда в нос бьет кисловатый запах долгожданного хлеба, когда желудок сводит судорога и все в тебе кричит: «Есть!» К тому же сзади напирают такие же изголодавшиеся люди. Николай сделал лишний шаг вперед и раньше времени протянул руку.
— Цурюк! — гаркнул гитлеровец, сверкнув глазами цвета стоячей болотной воды. Он явно не прочь огреть Сергеева нагайкой, в которую вплетены металлические нити, но ему со скамьи до Николая не достать, а слезть, видимо, лень.
Мы оттащили нашего друга назад, но часовой не сводил с него глаз, в которых не утихала злоба. Он двигал мясистыми губами, повторяя без конца:
— Швайн!
У окошка уже никого не было, и все же прошло еще немало времени, пока гитлеровец, помахивая нагайкой, наконец закричал, раздирая широкий жабий рот:
— Ап, ап!
На жести выложено много порций, и взять хочется самую большую, — у Николая рука непроизвольно тянется то к одному, то к другому куску хлеба. Нагайка со свистом рассекла воздух, и Николай схватился обеими руками за лицо. На него сыпались удары, превращая в клочья шинель, добираясь до тела. С рук, прикрывавших лицо, капала кровь. Уклоняясь от ударов, он вертелся во все стороны, но не отступал ни на шаг.
Неожиданно повернулся второй часовой и сильно ударил Николая носком сапога. Он упал. Теперь в воздухе свистели две нагайки.
Мы с Пименовым бросились и прикрыли друга — единственное, что было в наших силах. Сейчас нас изобьют до смерти… Что ж, пусть смерть… Только жаль, что мы так и не попробовали хлеба.
Двое подававших хлеб на подоконник подбежали, растолкали нас и оттащили Николая туда, где стояли уже получившие свою долю.
Мы с Федей протянули обмороженные руки. Пальцы не гнулись, и все же, как мне казалось, я захватил самую большую порцию, но какая же она маленькая… Это были приплюснутые ломтики хлеба из смеси отрубей с тертым картофелем. Верхняя корка, вся испещренная трещинами, напоминала землю после долгой засухи, в нижней было полно щепок и угольков, мякиш же представлял собой темную сырую массу, местами тягучую, как резина, а местами сыпучую, как песок. И все-таки мы держали в руках нечто называемое хлебом, его можно взять в рот, пожевать, затем, оцарапав нёбо, проглотить. Он пройдет в горло, раздирая его, и, словно камень, провалится в пищевод.
Мы отошли в сторонку, разделили две наши порции на три равные доли. Бережно, чтобы не пропала ни одна крошка, Федя повернулся к нам спиной и, положив одну порцию в пилотку, крикнул:
— Кому?
Отвечал я:
— Николаю!
Сергеев схватил пилотку и вмиг набил рот липким хлебом.
— Кому? — продолжал Федя.
— Тебе!
Пименов отломил маленький кусочек и скрюченной пятерней медленно отправил его в рот, стараясь не уронить ни крошки.
Больше я не в силах ждать. Я схватил свой ломтик. Когда от него ничего не осталось, я поднял глаза и увидел, что Николай стоит к нам спиной. На нас глядело множество голодных глаз.
Никто не заметил, как в черную полузамерзшую лужу начали падать редкие белые снежинки.
Кричевский лагерь находился на территории бывшего цементного завода.
Такой тесноты и грязи, как здесь, мы еще нигде не видели. Но тут давали через день по куску хлеба и ежедневно — порцию баланды.
Мы долго искали место, где бы присесть, пока не забрели в большой подвал, где остатки старого угля, перемешанного со шлаком и цементом, покрывали весь пол.
Мы так извозились в угле, что едва узнавали друг друга. У нас даже зубы почернели. Некоторые лежали здесь уже вторую неделю без еды, без воздуха, не в силах подняться.
Минут двадцать мы бродили по подвалу, наступая на ноги, на скрюченные тела. В середине у толстого столба, подпиравшего потолок, устроились трое, свободно растянувшись во всю длину. Сергеев направился туда. Кто-то нас предупредил, что разлегшиеся у столба — негодяи, способные на любое преступление. Они хвастали, что добровольно сдались в плен, поэтому, дескать, им и полагается больше места, чем остальным.
На исполосованном нагайкой лице Николая яростно сверкали глаза, на щеке вздрагивала жилка, широко раздувались ноздри. Я знаю — теперь его никакая сила не удержит. Мы едва поспевали за ним.
— А ну-ка, подвиньтесь! — В голосе Николая звучала неприкрытая злоба.
В ответ ни звука.
Сергеев наклонился, и один из лежавших отлетел, перекатываясь, словно мяч. Другой едва успел подняться, как Николай нанес ему один за другим два сильных удара кулаком. Теперь рядом с Сергеевым стояли не только мы с Пименовым, но и десятки людей, не нашедших места.
Те трое быстро убрались.
Я сидел, поджав под себя ноги, упершись спиной в столб. Меня ощутимо покидали силы — съеденный хлеб не спас. Подбитый глаз так заплыл, что не поднять века. Кругом стоял неумолчный глухой гул, словно к моему уху кто-то приложил гигантскую морскую раковину.
Но вот шум начал стихать. Я удивился. Какая сила смогла утихомирить эту взбудораженную массу? И тут до меня донеслись чудесные звуки. Как странно было слышать их здесь… Кто-то пел. Кажется, в жизни мне не довелось слышать более красивого голоса. Неведомый певец закончил какую-то знакомую арию и сразу же запел «Широка страна моя родная». Постой, постой… Теперь могу поклясться, что именно в его исполнении я слышал эту песню много раз по радио. Я поднял голову и увидел худого, изможденного человека. Его тонкие пальцы нервно вздрагивали, будто бегая по клавишам. Прервав на минуту пение, он сообщил:
— Врачи запрещают петь, а я их обманываю — пою, видите, пою, сколько хочу…
— Он был известным певцом, — рассказывал кто-то из знавших его, — сам вызвался поехать с концертной бригадой на фронт, и вот…
Сергеев куда-то вышел. Трудно сказать, сколько времени он отсутствовал. Я задремал, положив голову Феде на ноги. Разбудило меня чье-то прикосновение: это была холодная, колючая щека Николая.
— У тебя жар?
— Не знаю. Куда ты уходил?
— Спи. Завтра расскажу.
— Завтра? Завтра я не встану.
— И Федя так считает…
После недолгой паузы Сергеев добавил:
— И я недолго протяну. Видишь, весь опух, это не от побоев. Только ему, — Коля показал на спящего Пименова, — только ему, быть может, удастся вырваться отсюда.
Рано утром Федя с Колей помогли мне подняться, взяли с обеих сторон под руки, и мы втроем встали в очередь. В этот день нам повезло — каждый получил пайку хлеба и черпак баланды. А Сергеев даже ухитрился снова встать в очередь и получить вторую порцию баланды.
Мы только успели поесть, как группа гитлеровцев окружила человек сто, в том числе нас, и погнала к выходу.
Куда теперь? Хорошо хоть, что мы по-прежнему вместе.
Наша группа была последней из тех, кого привели к железной дороге, где формировался эшелон военнопленных. В середине товарного состава только один пассажирский вагон, в нем, очевидно, будет находиться охрана. Нас, человек пятнадцать, подвели к переполненному вагону.
— Почему все сгрудились у дверей? — спросил офицер.
— Яблоку упасть негде! — ответили голоса.
— Сейчас проверим.
Два конвоира сняли с плеч винтовки и начали прикладами бить людей, стоявших у дверей вагона. Когда освободилось немного места, стали бить нас.
— Ап! Ап!
Тех, что шли позади, били смертным боем, но дальше двигаться было некуда.
— Вот теперь, — хохотали гитлеровцы, чрезвычайно довольные своей проделкой, — теперь мы убедились, что действительно больше места нет.
Со скрипом и скрежетом закрылась за нами дверь вагона. Мы слышали, как снаружи, визжа, пролезала в скобы задвижка. Три вагонных люка были забиты жестью и досками, только одно окно, зарешеченное, пропускало узкую полоску света и тонкую струю воздуха.
Не прошло и получаса, как изо всех вагонов понесся душераздирающий вопль:
— Воздуху! Воздуху! Задыхаемся!
В дверь нашего вагона постучали чем-то тяжелым.
— Ахтунг! Ахтунг! Не стучать и не кричать, иначе откроем огонь!
— Стреляйте! Лучше умереть от пули, чем от удушья.
По резкому толчку и гулкому перестуку можно было догадаться, что к эшелону прицепили паровоз. Он рванулся вперед, потом неожиданно попятился. Послышалось лязганье буферов. Загромыхали вагоны. Но упасть невозможно, так плотно мы прижаты друг к другу.
С нами сыграли еще одну злую штуку — эшелон загнали на запасный путь, в какой-то тупик. Сколько здесь не кричи, сколько ни стучи, никто не услышит. От окна нам удалось отодрать жесть. Но доски, как выбить доски? У одного из пленных нашлась железка, похожая на долото.
— Давай сюда! — потребовал Сергеев.
Николай уперся головой в стену вагона, а Пименову, вооруженному железкой, помогли взобраться к нему на плечи. Чтобы отвлечь внимание часовых, все застучали и закричали еще громче. Феде тем временем удалось выбить доски и открыть люк.
Едва он успел слезть, как над нашими головами засвистели пули. Но дело было сделано. За эту «операцию» нам троим предоставили место у открытого люка.
Все же, когда мы прибыли в Могилев и открыли дверь, в нашем вагоне были задохнувшиеся.
И вот перед глазами предстал большой железнодорожный узел, забитый военными эшелонами. Позднее мы увидели и раскинувшийся на высоких холмах город, омываемый с двух сторон Днепром.
ДУРНАЯ ПРИМЕТА
Могилевский лагерь был одним из самых крупных и самых страшных в Белоруссии. Многое мне довелось увидеть, немало наслышался я о зверствах фашистов в различных лагерях, но все это не шло в сравнение с преступлениями, творимыми в Могилевском лагере. Очень немногим посчастливилось выйти из него.
Как только мы оказались за колючей проволокой, нас повели к виселице, сооруженной в центре площади, против комендатуры. Это была, так сказать, эмблема лагеря. Сильный ветер раскачивал тело с дощечкой на груди. На дощечке жирными буквами было написано:
«Смотри и запомни! Так будет со всяким, кто посмеет хоть раз не выполнить приказа немецких властей!»
Старожилы рассказывали нам, что в самые жаркие дни, с рассвета и до поздней ночи, пленных гоняли из конца в конец лагеря вдоль рва, наполненного водой. Но стоило кому-нибудь в изнеможении нагнуться, чтобы глотнуть воды или только смочить губы, в него немедленно стреляли или избивали до потери сознания.
С приходом осени, а затем зимы смерть еще нещаднее стала косить людей — гибли от холода, голода, сыпного тифа, дизентерии.
Лагерь был окружен несколькими рядами колючей проволоки, по которой часто пускали электрический ток. Вдоль заграждений, через определенные промежутки, стояли вооруженные пулеметами сторожевые посты со специально дрессированными собаками. С наступлением ночи охрана усиливалась, и каждые несколько минут вся территория освещалась ракетами. И тем не менее не проходило недели, чтобы кто-нибудь не пытался бежать.
Одной стороной лагерь примыкал к окраине города, противоположная выходила к роще. Эта роща не давала покоя. Дожить бы до лета, а там — бежать, скрыться в зарослях орешника, спрятаться в густой тени старых дубов и рассчитаться… рассчитаться сполна — за разрушенные города и села, за все муки, издевательства, голод, убийства… Бежать в лес…
Мечтать гитлеровцы не могли запретить, но как осуществить мечту?.. Как?
Одну-единственную ночь мы провели в бараке. Наутро покинули его, предпочитая замерзнуть под открытым небом; мы расчесали себя до крови, так извели нас вши и блохи.
Друзья притащили меня на какой-то чердак, укрыли тряпьем. Над головой гремела старая железная крыша.
Прошло два дня. Я не поднимался, не шел за пайкой хлеба и порцией баланды. Федя принес мне кусочек хлеба и немного похлебки в котелке.
— Ешь, — сказал он, — мы все поделили на три части.
Я видел: что-то произошло между Пименовым и Сергеевым. Николай сидел с опущенной головой и избегал взгляда Феди. Снова Пименов пришел один и снова принес мне кусочек хлеба и немного баланды. Вечером, тяжело ступая отекшими ногами, явился и Сергеев. Долго лежал рядом, не произнося ни слова. Он день ото дня все сильнее распухал, уже едва видны были его глаза — тоненькие голубые полоски под мертвенно-бледными веками, кровоточили десны, шатались зубы, потрескавшиеся губы посинели. На нем лопнула шинель, сапоги он сменил на ботинки огромного размера. И все же в нем жила еще немалая сила.
— Знаешь, — тихо заговорил он, — один только Федя делится с тобой своей порцией. Я не могу. Сегодня утром я поклялся, что оставлю тебе часть, и не выдержал, съел. Слышишь? — Он потряс мою руку. — Есть новости: завтра всем, кто не может ходить, будут выдавать хлеб и баланду возле наших бараков. Мы тебя осторожно спустим вниз и, как только получишь, поднимем снова. Ладно?
…Назавтра было Седьмое ноября. Крики и суматоха начались за час до рассвета. Новость, которую сообщил Николай, знали все. Выстроились две колонны, в одной люди, способные передвигаться, в другой больные и вконец ослабевшие. Пименов и Сергеев поддерживали меня.
К нам подошло несколько немцев с большой группой полицаев, вооруженных резиновыми дубинками. Сначала повели колонну «здоровых». После долгих колебаний Николай решил остаться со мной.
Небо нависало сплошной серой пеленой, снег падал крупными мокрыми хлопьями, дул резкий, порывистый ветер. Откуда-то послышался шум. С другого конца лагеря сюда бежали запыхавшиеся окровавленные люди: побои вместо хлеба и баланды — вот чем их накормили гитлеровцы. Только теперь я заметил, что наша колонна окружена. Ждут кого-то, что ли?
— Господа пленные, — обратился к нам немецкий офицер через переводчика.
Нас называют господами. Это дурная примета.
— Господа пленные, — повторил офицер, — поздравляем вас с вашим праздником Седьмого ноября и просим принять наш подарок — по десять ударов каждому!
Он повернулся к полицаям и поднял правую руку:
— Внимание! Не торопиться! Начали!
И на этот раз Сергееву досталось больше, чем другим. Кто-то по-звериному рычал:
— Бей его, того, большого!
Потом я снова очутился на чердаке, не ощущая ни боли, ни холода, ни голода. Решил: от Фединой доли откажусь. Не может же это длиться вечно, меня он не спасет, а сам погибнет!
В этот день Коля к нам не вернулся, не явился он и на следующий день. Сколько Федя ни искал, все было безуспешно — Николай Сергеев как в воду канул.
ПОЧТИ ЧУДО
Обычно угрюмый и молчаливый, Пименов был на этот раз оживлен и разговорчив. Его глаза искрились — он вспоминал, как по окончании института участвовал в экспедиции, как пришлось целую неделю голодать, как он потом учился на немецком факультете института иностранных языков, рассказывал о своей молодой жене. Вдруг он сказал:
— Знаешь, что я решил? Отведу-ка я тебя в лазарет.
В лагере было запрещено всякое передвижение с наступлением темноты. Часовые, завидя после положенного часа пленного, стреляли без предупреждения. Все об этом знали.
Время перевалило за полночь, когда Пименов потащил меня в лазарет. Сначала он меня только поддерживал, но потом я окончательно обессилел, и он тянул меня волоком. Железные подковы ботинок гулко стучали по булыжнику. Через каждые несколько шагов Федя опускал меня на камни и отдыхал.
— Почему в нас не стреляют? — недоумевал он.
Это удивляло и меня. Мы уже были недалеко от лазарета, когда под деревом близ дороги блеснул острый луч электрического фонарика и раздался окрик:
— Хальт!
Следом послышалась вторая команда:
— Один ко мне, остальные на месте!
Пименов направился к часовому, и я слышал, как он объяснял по-немецки:
— Мой товарищ умирает, я тащу его в лазарет.
Федя с двумя часовыми подошел ко мне. Один из них наклонился, посветил и махнул рукой:
— Рус капут.
— Откуда ты так хорошо знаешь немецкий? Кто ты по профессии? — спросил второй часовой у Феди.
— Учитель, биолог.
— Коллега! — воскликнул тот. — Я тоже учитель, лингвист. Русская литература — хорошая литература. Толстой, Тургенев, — он понизил голос и оглянулся: — Горький. Меня зовут Гюнтер Пургель.
Он потребовал, чтобы Федя назвал свою фамилию. Затем вынул большой кусок сахару, поделил пополам, часть дал мне, часть Феде, налил из фляги в котелок черного кофе.
При всей своей слабости я все же не терял сознания, а теперь усомнился: в здравом ли я уме и твердой памяти? Уж очень все это было похоже на сон…
— Вот я педагог, — говорил часовой Феде, — а стою на посту, мой же командир едва умеет подписываться, а спит в теплой постели. Это потому, что он немец, а мы с ним, — он показал на второго часового, — австрийцы.
Второй часовой все время оглядывался — он был явно обеспокоен тем, что товарищ так разговорился.
Пименов и часовой расстались добрыми друзьями.
— Дня через два, — сказал он Феде, — я буду дежурить у кухни, где варят баланду, подойди, я налью тебе полный котелок.
Долго стучался мой друг в дверь лазарета. Наконец послышались быстрые шаги, дверь открылась, и мы увидели полицая с заспанной физиономией, на которой застыло выражение подобострастия, готовность ответить угодливой улыбкой на поток ругани, — кто же среди ночи станет стучаться в лазарет, как не пьяный немецкий офицер?
Увидев нас, он дрогнул от неожиданности и начал протирать глаза: не верил, что его посмели потревожить «доходяги». В глубине коридора раздался чей-то голос:
— Кто там?
Полицай вытянулся, щелкнул каблуками и отрапортовал:
— Эти доходяги так обнаглели, что стучатся даже ночью. Сейчас я проучу их, господин обер-арцт.
— Не надо. Запри дверь.
Я сидел, упираясь головой в косяк, а Пименов, чтобы не замерзнуть, топтался возле меня — пять шагов вперед, пять шагов назад…
И точно — «доходяги»…
Прошло всего несколько минут. А нам казалось, что уже целую вечность мы мерзнем здесь, под дверью лазарета.
…Кто-то шагал по дороге, шла смена караула. Вскоре вблизи раздались чьи-то голоса. Вот и те, что задержали нас. Пименов вышел на дорогу.
— Что случилось? — Увидев его, Пургель остановился.
Федя стал рассказывать, как встретил нас полицай в лазарете. Второй часовой потоптался недолго на месте и ушел.
Пургель застучал в лазарет кулаками, сапогами, потом отошел в сторону и подтолкнул Федю:
— Когда спросят, ответишь ты.
Послышался поток отборных ругательств, закончившийся вопросом:
— Кто там?
— Это мы. Я же вам говорил, что часовой приказал…
— Сейчас поговорю с тобой, да так, что сам уснешь навек и других будить не станешь.
Дверь распахнулась с такой силой и быстротой, что Федя не успел отскочить. Полицай схватил его, с силой рванул к себе, еще мгновение — и Федя полетит на камни мостовой, но… упал полицай.
— Встать! Позвать старшего врача!
Со страхом глядя на Пургеля, полицай поднялся и, втянув голову в плечи, вошел в дом. Мы последовали за ним и очутились в широком коридоре. К нам вышел высокий, худой человек с изможденным, но все еще красивым лицом.
— Слушаю вас, — обратился он к Пургелю.
— Этого больного, — австриец показал на меня, — нужно принять в лазарет.
Пименов перевел Пургелю ответ врача:
— Некуда. Все палаты переполнены. К тому же комендант запретил.
— Спроси его: умирают здесь люди?
Врач ответил спокойно, не задумываясь:
— Да, да, умирают, по нескольку десятков в день. Эти сведения, если вас интересует, я ежедневно передаю в комендатуру.
— Вот вы в завтрашнем донесении и укажете на одного мертвого меньше, поняли?
Врач колебался.
— Боитесь? — Пургель подошел вплотную к врачу. — А ведь я не побоялся — они мне встретились после двенадцати ночи, понимаете? Вам перевести?
— Нет, не нужно, — ответил по-немецки врач.
— Ваш дежурный полицейский знает немецкий? — спросил Пургель.
— Нет, — ответил врач, и глаза его улыбнулись, — у него, знаете, такая должность: он либо раздает тумаки, либо получает их, и то, и другое случается довольно часто, а знания языка для этого не требуется…
— Иди сюда! — приказал австриец полицаю.
Тот подбежал и вытянулся, часто моргая глазами.
— Отвести его в палату!
Пименов перевел, и полицай ответил:
— Яволь! — Это, наверное, было единственное немецкое слово, которое он знал.
Пименову разрешили провести ночь в лазарете.
Справа перила, за которые можно держаться, слева — надежнейший из друзей, Федя, и все же как трудно подниматься на второй этаж!.. Последнее, что донеслось до меня снизу, был голос Пургеля:
— Вы разрешите мне заходить к вам?
— Это запрещено. К тому же здесь недолго заразиться сыпным тифом, дизентерией, — прозвучал ответ доктора.
Как только рассвело и сюда, в лазарет, донесся шум — колонна выстроилась за баландой, — Федя стал собираться.
— Второй раз чуда не случится, в лазарет мне больше не прорваться… Ну-ну, не горюй!.. Баланду с пайкой хлеба ты получишь через час-другой. Тут даже на полу не так холодно, как на улице, не так тесно, как в бараках, а главное — сюда немцы не ходят… А я, может быть, — говорил он, пытаясь, очевидно, хоть чем-нибудь утешить меня и себя, — еще разыщу Николая.
И он ушел, мой лучший друг. Больше я не встречал его никогда. Сколько ни спрашивал, никто не мог ничего сообщить о нем.
О друзьях более благородных, более верных, чем Николай Сергеев и Федор Пименов, я никогда не слышал, не читал. Давно закончилась боевая страда, но каждый раз, когда я вспоминаю о минувших днях, перед моими глазами встает широкоплечий великан Николай Сергеев, я вновь слышу запах его светло-русых волос, ощущаю силу его рукопожатия, вижу мягкое сияние голубых глаз в минуты радости, их темный, грозный блеск в минуты гнева. А рядом с ним невысокий, худощавый, молчаливый Федя Пименов, на меня глядят его умные и строгие глаза. Как он любил встречать первые лучи восходящего солнца, восхищался искрящейся пеленой выпавшего за ночь снега… Забыв о стуже, о голоде, он улыбался и, слегка обняв меня, шептал:
— Хорошо!..
Только самые близкие друзья знали, сколько тепла хранил этот человек в своем большом сердце.
ИМЯ МОЕГО ОТЦА
Я ворочался с боку на бок на полу между двумя ржавыми железными койками. Моих соседей с обеих сторон не разглядеть — они лежат на голых досках, натянув шинели на голову. Стены и потолок покрыты густым слоем сажи. Окно забито кусками фанеры; вместо форточки торчит скомканная рваная гимнастерка. Ветер треплет рукав, и металлические пуговицы выбивают дробь на фанере.
У входа стоит нетопленая железная печурка — нет дров. Чтобы немного согреться, я свернулся, и это вызвало острый приступ боли. Шинель у меня длинная, удалось прикрыть и голову и ноги.
Открылась дверь, в палату вошел фельдшер, и санитар, заикаясь, стал ему жаловаться:
— Плохи наши дела, фельдшер.
Тот ответил медленно, растягивая слова:
— Доброе утро, Кузьма. Для начала полагается поздороваться. А теперь можешь доложить, что произошло за ночь.
Кузьма недоволен, что ему не дали высказаться до конца, и, боясь, как бы снова не перебили, заговорил быстро и стал оттого еще больше заикаться:
— Утро-то и вовсе не доброе. Ночь прошла, а никто не помер, ни один человек. А нового приняли. С тех пор как работаю тут, такого еще не было. Никто не помер, а нового приняли.
— Ясно, — все так же не спеша ответил фельдшер. — Сейчас пересчитаем больных.
— Ну и считайте. Сколько ни считай, а порции баланды и пайки хлеба сегодня наверняка не хватит.
Оба двинулись к койкам и громко три раза подряд пересчитали больных. Фельдшер насчитал тридцать восемь, а Кузьма — тридцать девять.
— Тридцать девять, и никак не меньше, — упрямо твердил он.
Фельдшеру надоел этот спор, и он раздраженно оборвал санитара:
— Кузьма, прекрати! Баланду поделишь на всех, а хлеба одну пайку оставишь. Доложишь об умерших, а я подготовлю листы.
Потом я узнал, что двое в ту ночь умерли. Кузьма сам вынес их из палаты.
— Кузя, что же это? Фокус не удался? — раздался ехидный голос с одной из дальних коек.
— Раз Кузьма твердит одно и то же, значит, врет, — откликнулся другой, судя по произношению, волжанин.
— Надо ему подсказать, — вмешался третий, — чтобы никогда больше одного разу ничего не говорил. Жалко Кузю, сам ведь не догадается.
— Да я уж пробовал, — ответил волжанин, — не помогает. После тифа наш Кузьма словно пыльным мешком ударенный. Только и осталось, что силушка прежняя. Никто нас, кроме него, не отнесет в «Могилевский»…
Мне не терпелось взглянуть на Кузьму. Осторожно, одним глазом, выглянув из-под шинели, я рассмотрел густые рыжие усы под вздернутым носом, круглое, одутловатое лицо, глаза, совсем по-детски округлившиеся от огорчения.
…Снова тихо. Никто не произносит ни слова. Кузьма подмел пол, вынес ведро с мусором, натаскал воды, откуда-то притащил полено и наколол щепок.
Будь у меня силы, следовало бы немедля бежать отсюда. На меня ведь обязательно заведут карточку.
Федя не раз предупреждал:
— Твое имя, твоя фамилия — еще куда ни шло! — сойдут, но имя отца — Арон… Обязательно измени…
Имя моего отца… Никогда еще я не видел перед собой так ясно, так живо, как сейчас, моего отца, тихого рыжебородого человека с натруженными, узловатыми руками. Вот он стоит и молится. Что-то с жаром шепчет, просит, кажется, у господа бога дождя вовремя, солнца вдосталь, чтобы созрел виноград. В эти минуты его ничем не отвлечь. Часто его губы шептали молитву и во время работы. К вечерней молитве он становился так, чтобы был виден весь колхозный виноградник: как бы, упаси бог, кто-нибудь из маленьких озорников не сорвал гроздь. Он вслушивался в шум кустов, в шепот листьев, любовался игрой солнечных лучей на тонкой кожице налитых сладостью ягод, вдыхал терпкий запах свежего виноградного сока.
Имя моего отца… Я младший из семи детей, которых он вырастил и воспитал. Голодать приходилось нередко, но через всю свою жизнь он пронес надежду на лучшее будущее.
Отец никогда не поднимал на нас руку, очень редко повышал голос — да и к чему? — достаточно было одного взгляда его единственного глаза, чтобы напроказивший виновато опускал голову. Мы знали, чего он требует от нас: мы должны быть честными, любить труд и уважать труд других. И когда я, младший, балованный сын, приехавший из далекого города на каникулы, забрался однажды ночью с гурьбой пацанов в землянку, куда был снесен урожай винограда, мой отец запер нас снаружи и поспешил в соседнюю деревню за председателем сельсовета — пусть накажет тех, кто посмел коснуться колхозного добра. Мать, конечно, обрушилась на него с упреками, заступаясь за своего любимца, а отец тихо оправдывался:
— Чего ты от меня хочешь? Это же не только мое добро.
Имя моего отца… Его последнее письмо летом сорок первого года мне переслал брат, тоже курсант военного училища. Отец писал:
«Мы с мамой ночами не спим, сердце болит за вас, дети, но благословляем вас и заклинаем — бейте его, кровавого врага».
И вот это имя, имя моего отца, я должен сейчас изменить… Прости меня, отец.
В одно мгновение сонная тишина взорвалась — три санитара в сопровождении фельдшера принесли еду. Сначала распределили хлеб — на четырех человек полбуханки. Пайки уже нарезаны, но кто может быть уверен, что все они абсолютно одинаковы, да и середина или горбушка — не одно и то же. И вот, чтобы не было обиженных, применяют испытанный способ. Мой сосед повернулся к нам спиной, закрыл голову телогрейкой, из которой торчали клочья темно-серой ваты.
— Кому? — спросили его громко.
Он ответил:
— Новенькому.
Я схватил свой хлеб. Соседа я в лицо еще не видел, но по интонации можно было определить, что он не русский. Снова раздалось:
— Кому?
Хлеб распределен. Мой сосед сбросил с себя ватник, повернулся лицом ко мне — на меня смотрели глубоко ввалившиеся черные глаза. Гимнастерка и сорочка у него расстегнуты, на груди кусок почерневшей марли, под которой угадывается большая рана. Он тяжело дышит.
— Ложка, — спросил он, — у тебя есть?
С тех пор как я в плену, мне еще ни разу не пришлось пользоваться ложкой. Я отрицательно покачал головой.
— На, возьми, — он подал мне алюминиевую ложку, — она осталась от товарища, который лежал на твоем месте… Хороший был человек. До последней минуты верил, что ему удастся бежать. «Этой ложкой, — твердил он, — я еще буду красноармейские щи хлебать». Он был сибиряк, танкист, настоящий советский человек. А ты откуда?
— Москвич.
— А я армянин, из Ленинакана. Слышал ты о таком городе?
— Слышал.
— У нас в Ленинакане, — его исхудалое лицо засветилось, — я прошел бы сквозь щель, где и мышь не пролезла бы, а тут — Могилев, одно слово — могилевский… — Он сопровождал свои слова резкой и выразительной жестикуляцией.
К нам приблизился человек в длинной, кавалерийской шинели с повязкой Красного Креста на рукаве. На нем не было фуражки, и я разглядел на лбу глубокий рубец, след недавней, еще не совсем зажившей раны. Его лицо с тонкими чертами было спокойным, а в движениях чувствовались скрытая сила и ловкость.
Он присел на койку к моему соседу, они обменялись крепким рукопожатием. При этом, заметил я, пришедший передал ему одну или две вареные картофелины. Они о чем-то тихо поговорили между собой, потом «кавалерист» обратился ко мне:
— Я старший санитар палаты. Расскажи, откуда ты, как ты попал в плен?
Карандаша и бумаги у него нет, строгий и прямой взгляд внушает доверие. Ленинаканский товарищ — он мне с первой минуты понравился — закивал головой: не бойся, мол, ему можешь все рассказать.
И все же я медлил.
— Ты москвич? — начал старший санитар.
— Да, — подтвердил я, — работал мастером на заводе.
— На каком? — заинтересовался он.
На мгновение я задумался — сказать или не сказать? Глупости, решил я, не нужно быть слишком подозрительным.
— На оборонном.
Он засыпал меня вопросами — и вдруг неожиданно, в упор:
— Сколько раз ты пытался бежать?
— Один.
По фашистским законам этого ответа достаточно, чтобы расстрелять меня. Но в его голосе я уловил скрытое одобрение, когда он произнес:
— Один раз — мало…
Он направился к столику возле печурки, вынул из ящика картонную коробку и вернулся к нам. Коробка, полная бумажных карточек, напоминала библиотечную картотеку и была поделена фанерной дощечкой на две неравные части. Из меньшего отделения он вынул карточку моего соседа слева, который несколько минут назад скончался, в левом ее углу, где обычно кладут резолюцию, крупными буквами написал «от дистрофии» и переложил карточку в большое отделение.
Теперь он должен завести новую карточку, на меня. Нужно ответить всего лишь на два вопроса: фамилия, имя, отчество и прежний домашний адрес. Сколько я ни готовился к этому опросу, все-таки, когда дело дошло до отчества, запнулся. Его карандаш готов написать любое, какое ни назову, а я молчу. В мозгу бессильно билось: «Имя отца измени». Мне об этом не раз напоминал Пименов — Федор Андреевич…
— Как же твое отчество? — спросил старший санитар, пытливо глядя мне в глаза.
— Андреевич.
— Таких вещей, — проговорил он строго, — никогда не следует забывать. Ясно? Вот так! Меня зовут Глеб Иванович Чернов.
Он обернулся к младшему санитару и крикнул:
— Кузьма, эту койку займет новенький, ясно? Вот так!
Кузьма не ответил, он все еще злился — сэкономить пайку хлеба так и не удалось.
Мне хотелось знать, чем Глеб занимался до войны, — на кадрового командира он не похож ни походкой, ни выправкой. Чем-то он напоминал педагога, но спрашивать не хотелось. Жизнь в плену установила свои, железные законы, неписаные заповеди. Одна из них гласила: «Не спрашивай!»
Только на третий или четвертый день Глеб повел меня в перевязочный кабинет. Мы прошли по длинному коридору — это здание, видимо, было прежде учебным корпусом, и двери с обеих сторон вели в классы.
Меня положили на два сдвинутых канцелярских стола. За стеклом книжного шкафа виднелась белая металлическая ванночка, а в ней два пинцета, скальпель, ножницы. Рядом — две высокие банки, в одной из них с надписью «горный дубняк» — темная густая жидкость, которой здесь лечили больных дизентерией; в другой — светло-зеленая жидкость, горьковато пахнущая хвоей, средство от цинги.
В лазарете, где лежало столько больных и раненых, не было больше никаких инструментов, никаких медикаментов, и высококвалифицированные советские врачи, сами находившиеся на пороге смерти, были бессильны спасти человеческую жизнь.
Вошел человек в белом халате — врач. Белые халаты здесь носят только врачи.
— Ну, как дела, больной?
С таким вопросом, очевидно, обращаются к своим пациентам врачи всего мира. Но здесь, в лагере, где все делается для того, чтобы уничтожить как можно больше людей, от этих слов на меня пахнуло неожиданным теплом. Я поднял глаза. Возле меня стоял седоволосый, но еще крепкий человек, на лице серая тень усталости и озабоченности, голос тихий, мягкий. Выслушав несколько слов, сказанных Глебом вполголоса, он обратился ко мне:
— Прекрасно, сейчас мы вас посмотрим.
Кроме нас в кабинете находились еще двое — пожилая невысокая, полная женщина со спокойными, добродушными глазами, все звали ее Пашей, тетей Пашей, и красивая молодая девушка Юлия. В лазарете работали еще две женщины. Все они из одного санитарного батальона.
— Прасковья Михайловна, — обратился врач к пожилой женщине, — намочите, пожалуйста, тряпку и попытайтесь добраться до его лица, на нем такая маска, что трудно понять, молодой он человек или старик.
Уже который раз тетя Паша выжимала и ополаскивала тряпку в тазу с водой и все не могла стереть с моего лица следы окопного чернозема, дыма костров, грязь Сухиничского лагеря, глину Рославльского, цемент и уголь Кричевского, пыль и паутину чердака, с которого Пименов приволок меня сюда.
— Довольно, — махнул рукой доктор, — на полную обмывку у нас воды не хватит. Для первого раза больше чем достаточно, — уже видно, что внуков у него нет. Покажите, дорогой, что у вас болит?
Глеб помог мне раздеться. Паша подавала все, что требовал доктор. Юлии же, захотевшей ему помочь, врач сказал:
— Не нужно, сестра, с этим больным я управлюсь сам.
Когда меня несли назад в палату, Глеб незаметно сунул в мою руку две маленькие вареные картошки. Это была первая полученная мною дополнительная порция. Ясно — здесь есть товарищи, на которых можно положиться. Все они связаны незримой нитью и приходят на помощь людям в трудную минуту. Это Глеб, мой сосед по палате ленинаканец Алвардян, вероятно, наш врач Александр Иванович Зоринкин, сестра Прасковья Михайловна — тетя Паша… Кто еще? Время покажет…
Через несколько дней все женщины и девушки, работавшие в лазарете медицинскими сестрами, куда-то исчезли. Одни говорили, что их отпустили на свободу, другие — что их перевели в городскую больницу, но правы, думаю я, были те, которые полагали, что их отправили в другой лагерь.
Тогда-то мы почувствовали, чем была для нас Прасковья Михайловна. В самые трудные минуты тяжелораненые, больные всегда просили:
— Позовите тетю Пашу.
И было ли это среди ночи, поздним вечером или на рассвете, она сразу являлась, ни о чем не спрашивала, а присаживалась к больному и, гладя ему руку, перебирая мягкими пальцами волосы, вытирая влажной тряпкой пот со лба, говорила тихо, спокойно ласково:
— Крепись, солдат!
СКАЗКА О МАЛЕНЬКОЙ ЛОШАДКЕ ПОНИ
— Женя, сегодня я в лагере снегиря видел, а сорок — видимо-невидимо, стаями летают.
Эту новость сообщил до крайности худой, обросший черной щетиной мужчина, стоявший возле своей койки, опершись на две палки. Вместо правой ноги болталась пустая штанина.
— Дядя Ваня, какие они? — спросил слабый голосок.
— Обыкновенные. Снегирь красный, а сороки с белыми грудками, сороки-белобоки…
У двенадцатилетнего Жени Антонова лицо густо усеяно крупными веснушками, а глаза окружены морщинками, как у старика. Уже больше трех месяцев лежит он в этой палате с тяжелым ранением. Женя здесь единственный, кому сестры смогли раздобыть подушку, рваный матрац и растрепанное одеяло. Воспитанник артиллерийской части, мальчик во сне и в бреду зовет какого-то майора, плачет и просит прийти забрать его отсюда. Он получает двойную порцию баланды, несколько картошек, ему подсовывают и лишний кусок хлеба, но все равно его никак не удается поставить на ноги.
— Уже несколько раз, — рассказывал мне Глеб, — наш главный врач обращался в комендатуру с просьбой разрешить перевести Женю в городскую больницу, но все ходатайства остались без ответа.
Больше всех привязался к Жене Кузьма. Долгое время не мог я понять истоки этой дружбы. Позднее мне стало ясно: и Кузьма и Женя самозабвенно любили слушать сказки.
Сказку про маленькую лошадку пони они с Кузьмой готовы были слушать сколько угодно. Рассказывал ее бывший педагог дядя Ваня — и, уступая их просьбам, не один раз. Поэтому я хорошо ее запомнил.
Начинал дядя Ваня обычно так:
— Ты, Кузьма, в Москве бывал?
— В Москве? — Кузьма снимал с головы рваную меховую шапку и чесал бритую голову. — В Москве… Гм… Гм… Знаешь, сколько раз я там был?
То, что случилось с ним давно, много лет назад, Кузьма прекрасно помнил, события же последнего времени улетучивались из его памяти без следа.
— Ну, а маленькую лошадку, пони называется, ты видел?
— Чего не видал, того не видал, — признавался Кузьма.
— А Женя видел и даже катался на пони.
— Да ну?! — Лицо Кузьмы выражало неподдельное восхищение.
— Честное слово, — клялся Женя, — сейчас ты услышишь, как поймали эту маленькую лошадку.
Дядя Ваня говорил тихо, и Кузьма, боясь упустить хоть одно слово, весь превращался в слух и от других требовал того же.
— В густом, дремучем лесу жила семья маленьких лошадок. Их привезли туда то ли из Шотландии, то ли из Японии — точно не скажу, не знаю. Но одно мне доподлинно известно: жили они дружно, держались всегда вместе и поэтому никакого зверя в лесу не боялись.
Был среди них один пони, что вел себя не как все: то отстанет, то вперед забежит, то в одну, то в другую сторону ускачет.
«И-го-го! Пони! — кричали ему лошадки. — Не отрывайся от нас, заблудишься ненароком или зверь какой нападет на тебя, кто тебе поможет?»
Но пони был молод и глуп, и казалось ему, что нет на свете никого сильнее, ловчее и умнее его.
«И-го-го! — отвечал он. — Кто всего боится, тому в лесу не житье, а мука».
Однажды пони гонялся за солнечными зайчиками, прорывавшимися сквозь густую листву. И один такой зайчик завел его, как злой волшебник, далеко-далеко. Пони задирал голову, подпрыгивал, ему казалось, что вот-вот поймает его, а тут откуда ни возьмись ветерок как подует, ветви как закачаются, и зайчика как не бывало. И вот пони изловчился, подпрыгнул и уже прижал его копытом, да тут тучка по небу проплыла, солнышко прикрыла, и зайчик — тю-тю, пропал, а пони смотрел и не понимал, куда он девался.
Бежал пони, бежал и забежал в такое место, где росли одни липы, а там, где растут липы, всегда полно пчел. Как набросились на него страшные, злющие пчелы! Правда, он не испугался их, скакал, бил копытами, махал хвостом, тряс гривой, но спасли его… ноги: убежал он от пчел.
Потом он, запыхавшийся, остановился возле маленькой осинки. Едва держался на ногах от усталости.
«И-го-го! Где вы?» Пони ржал, пони звал, но то, что он принимал за ответ, было лишь эхом его собственного голоса. Догнать эхо оказалось не легче, чем поймать солнечный зайчик. Можешь прыгать, можешь даже летать, эхо к себе не допускает. Не дает поймать себя — и все тут!
Долго блуждал пони по лесу. Если бы друзья сейчас слышали его голос, они бы его не узнали — куда девалось звонкое, радостное «и-го-го!».
Теперь все его пугало — стук дятла по стволу, шорох падающей шишки, журчание лесной речки, шум ветра. Все он теперь видел и слышал по-иному.
Пришла ночь. Черные тучи обложили небо, прокатились раскаты грома. Пони дрожал от холода и страха, но наконец ему посчастливилось — так ему тогда казалось — он набрел на костер. Подкрадывался он медленно и тихо, пока не убедился, что никакой ловушки нет, только трещат горящие ветки и взлетают роем искры.
Пони сначала опустился на колени возле костра, потом улегся на папоротник, и то ли пережитое за день его утомило, то ли тепло разморило, но он уснул крепким-крепким сном.
Голодной курице, говорят, просо снится, а коню — овес. Но пони сроду не ел овса, и ему снилась просторная солнечная лужайка с высокой и сочной травой. Он жевал траву, рот его был полон густого вкусного сока, с губ падали хлопья зеленой пены.
К костру вернулись охотники с винтовками, с веревками.
«Глянь, что за гость!» — сказал шедший впереди и остановился.
Посоветовавшись между собой, охотники тихонько подкрались и разом набросились на пони.
Сначала он сопротивлялся, брыкался, кусался, его ноздри раздувались, из них бил густой пар. Он молил охотников, проклинал их, но все впустую — их нельзя было пронять никакими словами, тем более лошадиными.
Много горя хлебнул пони, пока попал в зоопарк. Тут ему отвели отдельный уголок, кормили самыми лучшими лошадиными лакомствами, чистили, мыли. Дети и взрослые стояли часами возле него, любовались горделивой шеей, белой звездочкой на лбу. Домашние животные ему завидовали, дикие злились и скрежетали зубами, но пони ничего не замечал, он смотрел отсутствующим взглядом куда-то вдаль, где, наверное, виделся ему родной лес.
Ему надели белый ремень на шею, повесили много позолоченных бубенцов, впрягли в ярко раскрашенную двухколесную тележку. Никто не смел не то что ударить, но и голос на него повысить. А он все покачивал головой, и бубенчики звенели. Дети думали, что это пони их развлекает, на самом же деле он вызванивал одно только слово: «Убегу! Убегу! Убегу!»
И он убежал. Однажды забыли запереть клетку, и пони исчез. На его место поставили другую лошадку. Но дети требовали: «Мы хотим нашу, с белой звездочкой на лбу».
Поди объясни им, несмышленышам, что в плену для пони жизнь не в жизнь.
Дядя Ваня замолчал. Кто-то обратился к Кузьме:
— Ну что, Кузьма, скажешь? Пони-то сбежал…
— Так на то у него четыре ноги…
— А у тебя на то голова на плечах…
На столе догорала коптилка, отбрасывая тусклую полоску света. В печурке давно погас огонь. На куске фанеры, которым забито окно, появилась изморозь. Резкие порывы ветра долетали сюда, в палату. Из дальнего угла коридора послышалась знакомая мелодия — кто-то на разбитом рояле играл «Священную войну». Нам хорошо знакомы слова этой боевой, суровой песни, они тревожат и зажигают сердца. Слушаю и гляжу на Алвардяна, у него в глазах загорается огонь, погасить который сможет только смерть.
«МОГИЛЕВСКИЙ»
В нашей палате почти все способные двигаться, слушать и говорить проявляли огромный интерес к географии. О чужих, о дальних краях разговоров не было, любознательность пробуждалась с необычайной силой лишь тогда, когда речь заходила о Белоруссии, о белорусских лесах и особенно о лесах Могилевской области. Жаль, что очень мало было таких, кто мог бы сообщить нам об этом крае что-нибудь имеющее практическую ценность.
Дядя Ваня хорошо знал Полесье, край густых и дремучих лесов, многочисленных рек и речушек, непроходимых болот и трясин. О белорусском заповеднике, где ему доводилось бывать, о Беловежской пуще, подробно рассказывал Тихон Терехов, санитар соседней палаты, человек лет пятидесяти. В его глазах частенько вспыхивал мальчишеский задор, и тогда совсем невозможно было определить его подлинный возраст.
Слушая их, каждый из нас старался запомнить самое важное — то, что могло пригодиться в будущем. Могилев был одним из крупных промышленных центров Белоруссии со значительным рабочим населением, и мы не могли себе представить, что между городом и лагерем нет связи.
Алвардян спросил у Зоринкина:
— Доктор, как вы думаете, выкарабкаюсь я?
Александр Иванович развел руками:
— Что мне вам сказать? У вас остеомиелит грудной клетки. Сами понимаете, будь другие условия…
— Спасибо, — поблагодарил Алвардян, — впервые вы говорите со мной как мужчина с мужчиной.
Было заметно, что и сам доктор плох: темные круги под запавшими глазами, мертвенно бледные губы… Он обратился ко мне:
— А с вами что делать? Долго держать вас тут не могу, а выписать — погибнете.
— Очень благодарен вам, доктор, за все, что вы сделали для меня, а дальше… поступайте, как сможете.
Доктор мягко пожал мне и Алвардяну руки и, уже уходя, произнес:
— Глупые мальчишки, за что вы меня благодарите? Доброй вам ночи, мальчишки…
— Доброй вам ночи, доктор…
Назавтра — что случилось? — мы не узнали Зоринкина. Он был гладко выбрит, халат выстиран, к гимнастерке подшит белоснежный подворотничок, сапоги — их уже давно пора бы сменить — начищены до блеска, волосы тщательно зачесаны. Он даже пошутил с Кузей.
Подойдя к нашим койкам, доктор сказал:
— Вчерашний разговор забыть! В наших условиях врач обязан уметь все. Его, — показал он на Алвардяна, — сразу же после обхода отвести в перевязочную, а этому, — доктор, глядя на Глеба, кивнул в мою сторону, — помогите спуститься на первый этаж — от того, как он проделает это «путешествие», зависит многое.
Вам, конечно, случалось видеть опрокинувшегося на спину жучка, наблюдать, как он беспомощно барахтается, дрыгает ножками… Уверяю вас, я был в ту пору не менее беспомощен. Жучку в конечном счете удается обычно самому встать на ноги. А мне даже с помощью Глеба спуститься на первый этаж с первого раза так и не удалось.
Тонкая шея не держала голову, словно налитую свинцом, стучало в висках, ноги подкашивались, упрямо не желая слушаться меня. Как я ни старался, но так и не смог выпрямиться, а лестничная клетка вместе с потолком, ступенями, перилами и поднимавшимся навстречу человеком медленно кружилась передо мной. Страшно оглянуться назад…
— Хватит! Отдохни и вернемся, — пытался меня уговорить Глеб.
— Нет, Глеб, — ответил я, закусив губу, — доктор сказал, что от этого многое зависит, я ему верю.
— Когда больной уверен в своем выздоровлении, он уже наполовину здоров.
Это сказал не Глеб. Мне хорошо знаком голос, произнесший эти слова, — вслед за нами, оказывается, ступенька за ступенькой спускался Александр Иванович. Он мне дал понюхать чего-то, и Глеб отвел меня обратно в палату. Вечером он принес мне несколько картошек. Сегодня я в последний раз получал от него дополнительный паек.
— Растолкуй мне, пожалуйста, Глеб: что зависело от моего сегодняшнего «путешествия»?
— Все! — ответил он. — Сегодня мы убедились, что ты еще кое на что способен. А коли так, значит, не все пропало. Ясно? Вот так!
Для меня уже не секрет, что он бывший комсомольский работник и до сих пор так и не отвык от этого: «Ясно? Вот так!»
Алвардян, с которым мы успели подружиться, целыми днями не произносит ни слова, тяжело дышит, часто задыхается и просит пить. Когда он подносит воду ко рту, я слышу, как его зубы лихорадочно стучат по жестяной кружке — у него, вероятно, сильный жар, а термометра нет. Возвратившись, я пожал его худую, почти прозрачную руку и рассказал, что до первого этажа все-таки не дошел.
— Не беда, не беда, — утешал он меня, — они хорошие люди, держись их.
— И тебя… — горячо добавил я.
— Обо мне, — он говорил с усилием, — разговора нет. Моя песня спета — я скорым еду в «Могилевский»… Жаль, что не могу прихватить с собой хоть десяток фашистов…
Зоринкин был знаком с Эмилем, начальником похоронной команды. После того как я с большими муками спустился наконец во двор, где затем с полчаса приходил в себя, Глеб, коверкая русские и немецкие слова, объяснил Эмилю, что я и есть тот, кого он обещал принять на работу.
Эмиль бросил на меня беглый взгляд и сразу оценил:
— Этот не годится, его самого на днях хоронить придется.
Глеб то ли не понял, то ли сделал вид, что не понял.
— Доктор, — продолжал он как ни в чем не бывало, — просил поблагодарить вас и передал, что сегодня вечером можете прийти — он вам поставит банки.
При слове «банки» на лице Эмиля появилась довольная улыбка. Шутка ли? Сколько лет у него болела поясница, а тут, в России, он избавился от своего недуга, и вылечил его русский доктор, поставив ему банки, о которых Эмиль раньше и понятия не имел. Теперь чуть что — он к Зоринкину:
— Доктор, поставь мне банки!
Если бы начальство об этом узнало, ему бы, без сомнения, порядком влетело, а доктор мог бы и головой поплатиться. Но русские не трусливого десятка, в этом он не раз убеждался.
— Передайте доктору, — сказал Эмиль, — справится этот музульман с работой, — так гитлеровцы называли людей, истощенных до предела, — не знаю, но порцией баланды я его обеспечу, с ней он справится.
Во дворе лазарета стоял большой, сколоченный на скорую руку сарай из старого горбыля, крытый ржавой жестью. На железном листе, прибитом недалеко от входа в сарай, слабо проступала сквозь ржавчину старая надпись: «Могилевский…» Так вот почему здесь об умершем говорят: «Уехал в «Могилевский»!.. Специальная команда, сопровождаемая полицаями, сносила в этот сарай трупы со всего лагеря. Тут с них снимали одежду, после чего уносили к братским могилам.
Длинными и ровными рядами тянулись эти могилы. В каждой из них — сотни трупов. Зима в этом году была лютая. Верхний слой почвы так замерз, что пленным не под силу стало копать ямы. Приходилось прибегать к взрывчатке — целыми днями взрывы сотрясали воздух.
Комендант издал приказ, запрещающий пленным раздевать мертвых. Несмотря на это, на одних трупах не было обуви, на других — шинелей, третьи были раздеты догола. Гнусавый человек с рассеченными носом и верхней губой целый день стоял в сарае и снимал с мертвецов одежду с профессиональной ловкостью. После этой операции тела складывали штабелями, как дрова для просушки. И тут фашисты выработали определенную систему — трупы высоких людей клали отдельно от трупов низкорослых. Этим занимались два человека, и каждый раз, когда они, раскачав тело, бросали его на место, раздавался глухой стук, словно две сухие доски ударялись одна о другую.
Мне казалось, что меня теперь уже ничем не удивишь, но этот несмолкающий глухой перестук мертвых человеческих тел сводил с ума. А Глеб обязал меня слушать, подсчитывать, запоминать число ударов — кто-то в лазарете занимался учетом смертности. Прежде пытались установить число умерших по количеству комплектов снятой с мертвецов одежды, но, убедившись, что этот метод далеко не точен, решили вести счет трупам.
Эмиль долго подыскивал мне подходящую работу. Наконец додумался.
— Ты будешь опорожнять карманы. Все, что не представляет ценности, бросай в корзину, а деньги, даже советские, нательные крестики — все, что может пригодиться, отдавай мне, мне одному, больше никому, понял?
Объяснял он через переводчика — высокого полицая, который знал немецкий гораздо хуже меня.
Эмиль был так доволен своей выдумкой, что не переставал улыбаться. Он великодушно разрешил мне выбрать что-нибудь из тряпья, валявшегося в сарае, и теплее одеться. Все так же улыбаясь, он мне втолковывал, что я не должен ничего класть себе в карман, иначе он сделает «пиф-паф» — и «рус капут».
Ослепительно сверкал под солнцем снег, а в сарае было темно и холодно. Я так закутался в тряпье, что несколько часов на морозе мог выдержать, только руки мерзли. С работой справляться было нетрудно — карманы кто-то опустошал до меня. Хуже было дело с заданием Глеба: когда счет дошел до пятидесяти пяти, я запутался — кружилась голова, а делать какие-либо пометки Глеб категорически запретил.
В одной из гимнастерок я обнаружил подшитый изнутри большой карман. В нем оказались завернутые в тряпку фотографии, не меньше двух десятков, пожелтевшие, смятые… Я оглянулся — начальника не было, полицай рылся в груде обуви в дальнем углу. Я разложил на рваной шинели фотографии, разгладил их. Через несколько минут я уже знал, что погибшего звали Виктор, что он москвич и его сыну Владимиру к началу войны было три с половиной года.
Как давно не видел я милого детского личика!.. Вот Володя на белой простыне с поджатой под себя левой ножкой, короткая рубашонка задралась почти до шеи. Кто-то из взрослых, может быть мама, стоял перед ним, щелкая пальцами и приговаривая, наверно: «А ну, а ну», — об этом можно догадаться по сосредоточенному взгляду глазенок — двух черных бусинок, по пухлым губам, готовым расплыться в улыбке. На оборотной стороне надпись: «Вова — пять месяцев и двадцать четыре дня».
А вот Вова стоит один на ковре и трогает ручкой резиновую белку, висящую на шее. Наверное, у него режутся зубки, и он часто сует эту белку в рот. Взгляд у Вовы серьезный — не так-то легко стоять на собственных ногах.
Как счастлив, наверное, был Володя, когда вот так восседал у папы на плече! На такой головокружительной высоте сердечко билось часто-часто, но слезать не хотелось ни за что!
На последней фотографии я успел разглядеть сад. На ветвях сирени набухли почки. Володя стоял в саду и жмурился от яркого солнца.
Что-то тяжелое ударило в спину — полицай бросил в меня рваным сапогом. Я вскочил, как со сна, но поздно — ко мне шагал Эмиль. «Сейчас, — подумал я, — он будет меня бить». Фотографии рассыпались, и взгляд немецкого солдата упал на карточку, где Володя восседал у отца на плече. Эмиль нагнулся, поднял ее, вгляделся в лица, посмотрел на надпись, которую не смог прочесть, и спросил:
— Как звать этого мальчика?
— Володя, — ответил я.
— А его отца?
— Виктор.
— Виктор? — повторил он. — Виктория… Победа… Где же он? Здесь?..
Он распорядился налить мне котелок баланды и велел передать доктору, что придет, обязательно придет. Странный человек этот начальник похоронной команды…
Под моими ногами поскрипывал снег. Надвигался вечер, и мороз крепчал. Недовольный собой, возвращался я в палату: как взгляну Глебу в глаза? Первое задание — и сразу провалил. Выяснилось, что не это самое главное, гораздо важнее документы мертвых. Надо придумать, как их сохранить. Для чего? Об этом можно только догадываться.
Всего несколько дней прошло с тех пор, как я работаю в похоронной команде. Но время и молодость берут свое, я уже могу без посторонней помощи спуститься со второго этажа, подмести пол, вынести ведро с помоями.
Проходя по двору с ведром, я увидел столпившуюся у сарая большую группу пленных. В середине, красный и возбужденный — видать, хватил лишнего, — стоял Эмиль. Отобрав у полицая резиновую дубинку, он отыскал место, где снег был не утоптан, и стал что-то чертить.
— Что здесь происходит? — спросил я у знакомого из похоронной команды.
Тот ответил шепотом:
— Эмиль сейчас расскажет о событиях на фронте, обещает сообщить самые свежие новости.
Я отставил в сторону ведро и протиснулся поближе к Эмилю.
Он начертил далеко друг от друга два кружочка. Отступив на шаг и действуя дубинкой, как указкой, показал по очереди на кружки и назвал один — «Берлин», другой — «Москау». Возле кружочка, обозначавшего германскую столицу, он вывел: «1939». Приказав собравшимся расступиться, Эмиль пошел по кругу, оттянув обеими руками пряжку ремня так, чтобы все видели на ней крупную надпись: «С нами бог». Потом он поправил пилотку, вытянулся, выпятил грудь, задрал подбородок и лихо зашагал, размахивая руками и напевая марш, несомненно зовущий в атаку: «Тра-тата! Тра-тата! Трам-пам-пам-пам!» Он маршировал, называя европейские столицы — Прагу, Варшаву, Париж, — и рисовал при этом на снегу кружочки и стрелы от Берлина к ним, потом, произнося «пшик», перечеркивал каждый кружочек крестом. Чем дальше, тем больше у Эмиля надувались щеки и выпячивался живот.
Когда речь зашла о Москве, я привстал на цыпочки. Все глаза были прикованы к Эмилю, продолжавшему чертить на снегу. К Москве вело несколько стрел. Толстый немец снова наступает, но кружок, названный «Москау», все не удается перечеркнуть. Мало того — русский, которого Эмиль только что изобразил худым и беспомощным, расправил плечи, поднял голову, раскачался и двинулся в контрнаступление. Здесь Эмиль показал, как грянули морозы, — он весь съежился, тер рукавом мокрый нос, зубы выбивали дробь, а щеки опали и обвисли. Опять на снегу появилась стрела, но уже не на «Москау», а нацеленная острием в немцев. Чеканно печатая шаг, Эмиль представил наступление русских на запад. Затем он изобразил бег на месте, причем все время в страхе оглядывался. Мы догадались, что немцы бежали от Москвы.
Полицай схватил его за руку.
По ту сторону колючих заграждений, окружавших лазарет, шел офицер-эсэсовец. Словно по команде, мы, растоптав все кружочки и стрелы на снегу, вернулись к своим занятиям. Я схватил ведро с помоями. У Эмиля в глазах загорелась лукавая искорка, он быстрым шагом подошел к заграждениям и, когда офицер поравнялся с ним, гаркнул:
— Хайль Гитлер!
С какой радостью спросил бы я его: «А как же виктория?»
Впрочем, я был ему благодарен — за добрые вести. Назад я не шел, а бежал — где только силы взялись? — перескакивал по лестнице через две ступеньки сразу. Навстречу мне шел Зоринкин.
— Доктор, я ищу вас!
— Что с вами? Что случилось?
— Случилось!
Он внимательно посмотрел на меня и приказал:
— Ступайте в перевязочную и ложитесь на стол. Мы с Глебом сейчас придем туда.
Они вошли, закрыв за собой дверь, но не заперли ее. Я хотел встать, но доктор знаком приказал мне лежать, и я, лежа, тихо рассказал обо всем, что узнал. Глеб был вне себя от радости.
— Так вот почему гитлеровцы последние дни так злобствуют, — сказал Александр Иванович. — Эмиль много знает, он ремонтирует радиоприемники у немецких офицеров. Глеб, скажите ему, чтобы пришел сегодня вечером, поставлю банки…
ПАЛАТА № 5
Глеб мне сказал:
— В пятой палате опять умер санитар.
Не понимаю, зачем он мне об этом говорит. Смерть тут явление самое обычное, тем более в пятой, тифозной, палате. Вшей в лазарете не меньше, чем в бараках. Удивительно ли, что санитары заражаются сыпным тифом и умирают.
Меня вызвал к себе Зоринкин. Он сидел на табурете возле печки, на которой варился лечебный напиток — горный дубняк. Мы были одни, и он пригласил меня сесть. Что он мне скажет?
Доктор снял очки, стал краешком халата протирать единственное стекло и, слегка наклонив вперед голову, посмотрел на меня близорукими глазами. Сейчас, казалось, он посвятит меня в какую-то очень важную тайну. Но вместо этого он спросил:
— Вы болели сыпным тифом?
— Наверняка не знаю, — ответил я. — Кажется, нет.
— Так вот, — проговорил он, как бы продолжая прерванный разговор — открылась вакансия, и я хочу рекомендовать вас санитаром в пятую палату. Считаю своим долгом предупредить — скорее всего вы заразитесь сыпным тифом, но… не вижу для вас иного выхода. Очень важно, чтобы в палате был человек, который поддерживал бы больных, не давал их в обиду, не разрешал лишать их порции хлеба, баланды… Ну как?
— Согласен.
Немного помолчав, он продолжал:
— Ликтанову, главному врачу, вы скажете, что до войны работали санитаром.
…Средних лет человек в шинели сидел у стола и хлебал баланду из железной миски. Рядом стоял тщательно вычищенный солдатский котелок и лежала пайка хлеба. В комнате было холодно, и воротник его шинели был поднят, руки посинели.
— Садитесь, покушайте со мной, — пригласил он доктора.
— Вам уже сообщили, вероятно, — заговорил Зоринкин, — что в пятой палате умер санитар. Необходимо срочно послать туда другого. Я рекомендую этого человека.
— Не могу, — сухо ответил Ликтанов.
— Направим его туда временно.
— Там и без того все временно…
Александр Иванович встал и подошел к Ликтанову вплотную.
— Я вам не раз говорил, что в наших условиях порция баланды для больного и теплое слово важнее, чем бесплодный визит человека с дипломом врача. Прошу не забывать, что он согласен идти в пятую палату, зная, что многие санитары, работавшие там до него, заразились сыпным тифом и умерли. Сам он сыпным тифом не болел, а санитаром работал еще до войны.
— Где вы работали санитаром? — обратился ко мне главный врач.
— Я учился в институте, жить на стипендию было трудно, и я долгое время работал санитаром в медпункте студенческого общежития.
— В каком вы учились институте?
— В Педагогическом имени Ленина.
— Где находился институт?
— Улица Пирогова, дом один, а общежитие — Усачевка, шестьдесят четыре.
— А какой там вуз по соседству?
— Институт тонкой химической технологии.
— А еще ближе?
— Второй медицинский.
Глубокий вздох вырвался у Ликтанова.
— Это мой институт… — сказал он Зоринкину. — Что делать? Не хочется вам отказать…
— Что ж, вызовите Аверова, пусть отведет его в палату.
Казимир Владимирович Аверов — старший санитар лазарета. Я никогда не слышал, чтобы он на кого-нибудь повысил голос, но, по правде говоря, боялся его взгляда, тяжелого, пристального взгляда из-под густых бровей, его сурового, всегда нахмуренного лица.
Мы поднимались по ступенькам. Узнав, что я москвич, он проговорил:
— Ничего умнее, чем пойти в тифозную палату, ты не мог придумать?
— Нет, не мог.
В палату меня не пустили. В коридоре стояли два ведра с помоями. Казимир встал поодаль и наблюдал, как я управляюсь с ведрами. Нести их нужно было далеко — по всему коридору, через первый этаж, через весь двор. Немыслимо было справиться с обоими ведрами сразу, но, чувствуя на себе свинцовый взгляд старшего санитара, я нагнулся, ухватил слабыми руками железные дужки, напрягся так, что вся кровь хлынула в лицо. Ведра подняты, но сдвинуться с места нет сил. Я стоял и шатался, как пьяный, вот-вот помои прольются на чистый пол. К счастью, мне на помощь подоспел Тихон Терехов. Одно ведро взял он, второе ведро мы понесли вдвоем.
— Оказывается, вы дружки? — крикнул нам вслед Аверов.
— Такие же, как с вами, Казимир Владимирович. У нас в Сибири так заведено: говорим «бог в помощь», но особенно на бога не полагаемся, где надо, сами помогаем.
Ведра мы опорожнили, очистили и протерли снегом.
— Я тебя тут подожду, — сказал мне Терехов, — а ты отнеси эти ведра и приходи с чистыми, натаскаем воды.
Мы шли по протоптанной в снегу тропинке. Я внимательно слушал, что говорил Тихон.
— Казимира Владимировича тебе особенно бояться нечего. Труднее будет с фельдшером, он обкрадывает больных и передает хлеб для продажи в лагере, с ним тебе не миновать сцепиться. Его побаивается даже Ликтанов. Доктор человек хороший, но ни во что не вмешивается, и фельдшер полный хозяин в палате. Вот он, подлюга, стоит у окна и следит за нами.
В палату я внес сперва одно ведро, потом второе. Сразу же послышались слабые голоса:
— Воды! Пить!
Я посмотрел на печурку — нет ли там кипяченой воды? Нет, кипяченой воды не было. Длинными рядами растянулись койки, на них в лохмотьях лежали живые трупы — исхудавшие, измученные голодом и болезнью люди. Лежавший у самых дверей бредил, шинель валялась на полу: на оголившемся животе, на груди розовато-красная сыпь. Меня подозвал пожилой человек, сидевший у стола.
— Я фельдшер, Петр Петрович Губарев.
У него короткие, ежиком, волосы, на лбу — хотя ему уже, несомненно, за пятьдесят — ни единой морщины. Для своего роста он, пожалуй, слишком широк, даже толст. Кажется, и не повернул головы ко мне, но то, что его интересовало, заметил.
— Твоя шапка сшита из одеяла? Покажи.
Я снял шапку с головы и передал ему.
— Сам сшил? А долго ты ее шил? Трех часов на это дело более чем достаточно.
Не понимая, чего ему нужно от моей шапки, я решил пока не спорить с ним и ответил шуткой:
— Сам до сих пор не пойму, как я такое за неделю смастерил. А вы, Петр Петрович, хотите, чтобы я их как блины пек?
— Хочу, — ответил он, — вот чего: дам тебе материал, и ты будешь шить шапки, за каждую шапку получишь полпорции баланды. Сошьешь четыре шапки — съешь две порции. Идет?
Я не таким представлял его себе. Не исключено, что он подтрунивает надо мной. Я ответил самым серьезным тоном:
— Что вы говорите, Петр Петрович? Как же вы выживете, коли мне свою баланду будете отдавать?
В его колючих глазах я прочитал: «Дурак». Но сказал он спокойно:
— Не твоя забота.
Теперь я уже знал, что разговор он вел всерьез.
— У тебя густые волосы, небось вшей полно, — рассердился он.
— Есть, Петр Петрович, а много ли — не скажу, не считал. Но меньше, думаю, чем у других, — у меня они не держатся.
— Почему?
— Сами же говорите — волосы у меня густые, вот и гибнут от удушья, дышать им нечем.
И снова я читаю в его глазах: «Да ты, брат, редкостный дурак».
Когда к столу подошли другие два санитара, он сказал, глядя на них исподлобья:
— Глядите-ка, какие шапки он умеет шить, пусть и вас научит.
Старший санитар пятой палаты Степан Шумов, парень лет двадцати двух, угодливо сказал:
— Хорошо, Петр Петрович, научимся.
Второй санитар, Григорий Тимченко, бросил на фельдшера взгляд, полный откровенного отвращения и ненависти.
В конце коридора находилась комната для санитаров с двумя ярусами нар, но нас туда не пускали: никто не хотел соседства с «тифозной командой», как нас называли. Наши четыре койки стояли в середине палаты, возле железной печурки. Ложась спать, мы разувались, но никогда не снимали одежды. Петр Петрович каждый вечер смазывал свою койку какой-то темно-коричневой жидкостью, издававшей отвратительный запах. Что это за снадобье, он никому не говорил, а бутылку хранил в запертом ящике стола. Кроме меня, все санитары здесь переболели сыпным тифом.
В том, что Шумов относится ко мне хорошо, не было ничего странного. С моим приходом он почти освободился от работы. Мы с Тимченко вставали за несколько часов до рассвета, подметали палату, мыли полы, выносили помойные ведра, приносили чистую воду, подкладывали дрова в печку, вытаскивали умерших, поили больных горным дубняком и напитком из хвои, — словом, делали все, что могли. Степе оставалось только давать указания, следить за тем, чтобы к каждой койке была прикреплена карточка больного, как в настоящем госпитале, и вместе с фельдшером делить еду, которую мы получали один раз в день.
Миновало время, когда пайки хлеба умерших Губарев забирал себе. Не одна пара строгих глаз следила теперь за тем, чтобы хлеб достался тому, кто нуждался в нем больше других. И все же нередко случалось, что и сейчас Петр Петрович будил Степана по ночам:
— Поди посмотри, тот, на третьей, уже окочурился?
Сам он не шел, хотя Степана было нелегко разбудить.
Однажды он так долго шептал: «Поди посмотри, поди», что Тимченко не выдержал, грузно повернулся на своей скрипучей койке и громко сказал, обращаясь ко мне:
— Ты слышал поговорку насчет того, кто другому яму роет…
С тех пор мы больше не слышали, чтобы Губарев будил Степана.
Я об этом рассказал Глебу и Терехову.
— Григорий человек молчаливый, — сказал Тихон, — но когда Губарев однажды стал дразнить его, что у начальника полиции лагеря Тимофея Тимченко дела идут не в пример лучше, чем у Григория Тимченко, он ответил: «До моего однофамильца мне не добраться, но смотрите не идите по его пути, до вас-то я доберусь».
…Ночь. В палате темно, через единственное уцелевшее стекло в окне виден фонарь на улице. Ветер раскачивает его, по полу мечется полоска бледного света, вот она легла на койку, на стену, вот снова падает на пол.
Сегодня я дежурный. Прижимаюсь горячим лбом к холодному стеклу — так легче прогнать сон — и слежу за диким хороводом снежинок вокруг фонаря. Немецкий часовой, видимо, устал ходить. Засунув руки в рукава, он стоит, весь покрытый снегом, сгорбившись, опершись плечом о столб. Зачем он здесь? Чтобы стоять и мерзнуть на чужой ему земле?
Очень редко в нашей палате бывает так тихо, как сейчас. Вдруг… Я ослышался? Нет, не может быть. Кто-то только что плачущим голосом сказал по-еврейски:
— Мамэ, подойди ко мне, ма-а мэ…
Кругом все снова было тихо, но в моих ушах еще звучал умоляющий голос: «Мамэ…» Я переходил от одного больного к другому, и мне снова и снова чудился страдальческий зов, теперь уже звучавший жалобным упреком: «Мамэ, зачем ты родила меня на свет?»
На койках лежали десятки больных, больше похожих на скелетов, чем на живых людей, — у одного сильный жар, другой без сознания, у третьего предсмертные судороги… Кто же, кто из них говорил на языке моей матери? В этом лагере были уничтожены даже те, кто хоть чем-нибудь напоминал еврея.
Стой! Кажется, знаю. Это, должно быть, тот, на самой крайней койке, его фамилия Мясников. Он в бреду уже вторые сутки, у него сыпной тиф, дизентерия и, кажется, гангрена левой ноги, но умрет он от голода; «дистрофия» — напишет Степа в верхнем левом углу его карточки.
Я сел на койку, взял его за руку, вытер покрытое потом лицо и спросил:
— Мясников, дать тебе пить?
Он повернулся ко мне, застонал.
Я приподнял его голову и прошептал на ухо несколько слов по-еврейски.
Он вздрогнул и разрыдался.
К утру он умер.
В палате стоял невыносимый холод, воду в ведре затянуло ледяной коркой. В эту ночь кроме Мясникова умерло еще пять человек. Мы их сняли с коек и сложили рядом на полу.
Петр Петрович добился разрешения спилить елку, росшую на территории лагеря. Пила была ржавая, туго шла и пронзительно визжала, два-три раза проведешь ею и остановишься передохнуть — нет сил. На затвердевший снег посыпались желтые опилки, в морозном воздухе запахло свежей хвоей, смолой. Тимченко, который без нужды не обломал бы и веточки на дереве, сказал:
— Ели весь свой век растут, до самой смерти.
Мы позвали на помощь Глеба и Кузьму, хотя знали, что Губарев будет недоволен — придется выделить немного топлива второй палате, а это в его расчеты не входило.
КОМЕНДАНТ РАЗВЛЕКАЕТСЯ
Мы с Тереховым однажды видели, как развлекается Шульц — комендант лагеря. Утром, едва рассвело, мы отправились наломать сосновых веток для хвойного напитка и увидели, как в направлении кухни прошел старик в новой офицерской шинели. Я успел рассмотреть его морщинистое, похожее на печеное яблоко лицо с низким лбом и крупным носом. Он слегка прихрамывал на левую ногу, не теряя, однако, при этом военной выправки. За плечом у него висело охотничье ружье, на боку ягдташ. На некотором расстоянии за ним следовал толстый немец с багровым лицом и шеей циркового борца, еще дальше шагал высокий и прямой, точно жердь, полицай, на нем тоже висела охотничья сумка, а в правой руке был длинный хлыст.
Я почуял недоброе и предложил убраться отсюда поскорее. Но Тихон возразил:
— Этот старик — комендант лагеря, а последний — начальник полиции Тимченко. Надо посмотреть, что их принесло сюда.
Недалеко от амбара, где хранился замерзший картофель, фашисты остановились. Шульц расстегнул свою сумку и рассыпал по снегу пшено, овес, горох, таким же образом опорожнил сумку Тимченко — в ней оказались хлебные крошки. Затем они спрятались за амбар.
В воздухе появилась ворона и стала кружить, опускаясь все ниже и ниже. Вот она, блестя черным оперением, не складывая крыльев, осторожно озираясь по сторонам, пошла по снегу, готовая в любую минуту снова взлететь. Приблизилась к разбросанной пище, клюнула, оглянулась и стала клевать все быстрее и быстрее.
Кар! Кар!
На ее призывный крик сразу слетелись десятки птиц.
Мы с Тихоном стояли, укрывшись за стеной второго амбара. Гитлеровцы нам не были видны, и я ждал — вот-вот раздастся выстрел. Но Тихон знал, когда Шульц выстрелит.
— Смотри!
Я посмотрел туда, куда показывал Тихон, и увидел направлявшуюся к кухне колонну. Медленно, шатаясь от слабости, спотыкаясь и скользя, в полном молчании двигались люди. Звяканье котелков в утренней тишине казалось погребальным звоном. Кто-то упал и остался лежать на снегу.
Кар! Кар! — вспугнутые птицы взмыли ввысь.
Один из пленных, крадучись, двинулся туда, где только что чернело воронье. Он оглянулся на конвоиров, сопровождавших колонну, но те делали вид, что ничего не замечают. Теперь уже ничто не могло его удержать — он побежал, припадая к земле, хватал замерзшими пальцами крошки хлеба, зерна и вместе с комьями грязного снега заталкивал в рот.
Через несколько минут уже не меньше десяти человек собирали крошки на снегу.
Кар! Кар! — предостерегающе надрывались вороны.
Но их предостережение было напрасным — люди знали об этой ловушке коменданта, но они также знали, что он не всегда стреляет… Кто знает, быть может, и на этот раз…
Раздался выстрел. Те, у кого хватило сил, убежали, некоторые отползли, несколько человек осталось на снегу. К ним подбежали полицай Тимченко и толстый немец. Приковылял и Шульц. Одного из раненых он велел отвести в лазарет.
— Доложите мне, сколько дробинок в нем! — приказал он Тимченко.
— Яволь, господин комендант! — Тимченко щелкнул каблуками.
Шульц приложил руку к околышу и ушел: ко господин мендант спешил завтракать.
В хмуром небе низко плыли облака. Снова стал падать густой снег и через несколько минут засыпал расплывшиеся пятна крови.
Некоторым из местных жителей, узнавшим, что их родные находятся в плену, удалось ценою больших взяток посетить наш лагерь.
…Медленно возвращалась из кухни колонна пленных — порция баланды уже съедена, котелок дочиста вылизан. Люди шли понурив головы.
Вдоль колонны туда и обратно несколько раз прошла крестьянка. Ее пытались прогнать, но она, равнодушная к брани, которой ее осыпали, не чувствуя ни пинков, ни ударов, упрямо шла и, заглядывая пленным в лица, повторяла, как одержимая:
— Михась! Михась! Где ты? Отзовись!
И он отозвался.
— Ма-а-ма! — услышали мы нечеловеческий вопль.
Она ринулась на крик, подбежала, остановилась и — попятилась. Перед нею стоял старый, вконец изможденный человек. Простирая руки и шатаясь от слабости, он звал:
— Мама! Что же ты, не узнаешь меня?
Он покачнулся… Она подхватила его, прижала к себе, словно хотела вдохнуть в него свою душу, отдать все свое тепло, и заметалась — вправо, влево, — искала выхода отсюда, искала место, не огражденное колючей проволокой.
Колонна застыла. Люди в немом ужасе смотрели на эту сцену. Мать споткнулась, чуть не упала, но сына, который весил не больше десятилетнего ребенка, не выпустила из рук и все кричала:
— Собаки! Будьте вы трижды прокляты! Что вы сделали с моим сыном?
Подбежавший унтер-офицер увел их в комендатуру.
Колонна тронулась с места, извиваясь по дороге черной змеей.
К палате, где лежали больные полицаи, нам запрещали даже приближаться, но, несмотря на это, мы ухитрялись перехватывать предназначенные для них медикаменты и распределяли затем среди больных в наших палатах. Кое-что перепадало нашим больным и из их пищи. Все шло как будто гладко, но вдруг комендатура заинтересовалась: почему почти все полицаи, заболевшие сыпным тифом, умирают? Врачи объяснили это тем, что упитанные люди переносят сыпной тиф гораздо хуже, чем истощенные.
Нескольких врачей арестовали.
— Если полицаи теперь перестанут умирать, арестованных врачей расстреляют, — сказал я Тихону.
— Полицаи умирать не перестанут, — ответил он.
Несколько дней спустя Глеб, Тихон и я шли по воду.
— Связь, установленная с городом, прервалась, — сообщил нам Тихон. — За лазаретом стали очень строго следить. Если до весны не удастся восстановить связь, я готов бежать вместе с вами.
От него мы узнали, что в Бобруйской крепости сожгли живьем много пленных.
В это тяжелое время, когда зверства против нас усилились и казалось, что спасения нет, произошли события, вселившие в нас надежду.
Всех пленных командиров перевели в другой лагерь. Осталась только группа летчиков, авиатехников и бортмехаников, которых заставили работать на аэродроме рядом с лагерем. К ним никого не допускали, и никто достоверно не знал, чем они занимаются, хотя о многом мы догадывались. Их часто били на площади, одного повесили, как говорили, за порчу каких-то деталей. Содержали их в отдельном бараке.
Однажды немецкий летчик поднялся на своем самолете после ремонта и, сделав в воздухе несколько кругов и фигур, вернулся на аэродром.
— Хорошо! — похвалил он наших механиков, готовивших машину к полету.
Молча и бесстрастно выслушали они похвалу.
— Ну, а как я летал? Как посадил машину? — приставал он с расспросами.
Ответил один из механиков.
— Неплохо. Но, по правде говоря, у него получалось гораздо лучше, — он показал на советского летчика, — он у нас считался мастером высшего пилотажа.
Это задело немца за живое.
— Пусть докажет.
И прежде чем кто-либо успел разобраться в происходящем, они уже сидели в кабине. Машина взмыла в воздух.
Самолет взял курс к линии фронта.
Спустя несколько дней советская авиация бомбила военные объекты в городе. Нам никогда не забыть ту ночь, когда мы услышали и узнали гудение наших тяжелых бомбардировщиков. Мы готовы были поклясться — нет в мире более прекрасных звуков. Не передать, как горели глаза раненых и больных. При каждом взрыве дрожащие губы шептали:
— Так! Еще! Так! Еще! Давай!
В отместку фашисты учинили кровавую расправу над пленными нашего лагеря. Прибежавший оттуда санитар сообщил:
— Избивают пленных, многих расстреляли. Говорят, сменили охрану.
Позднее рассказывали, будто были найдены листовки, подписанные теми нашими товарищами, которые перелетели линию фронта на немецком самолете.
АЛВАРДЯН
Алвардян, мой бывший сосед по второй палате, пытался покончить с собой.
«Обо мне разговора нет. Моя песня спета, я скорым еду в «Могилевский»…» Теперь, вспоминая эти его слова, я не мог себе простить, что не рассказал об этом товарищам.
Поздно ночью меня разбудил Глеб:
— Скорей к Алвардяну!
Сам он спешил к врачу. При слабом свете каганца я увидел — мой друг лежит, смертельно бледный, из левого виска течет кровь, на полу валяется окровавленное бритвенное лезвие. Кузьма держал его за руки, когда я и следом за мной Тихон вбежали в палату.
— Отпусти его, — приказал Терехов Кузьме и чуть не с кулаками набросился на Алвардяна: — Как ты смел? Я тебя спрашиваю — как ты смел? Сегодня ты покончишь с собой, завтра — он, послезавтра — я. Ведь этого-то они и добиваются. Потому они и создали здесь условия, в которых не выжил бы ни один гитлеровец. Но ты… Какое ты имел право?
Признаюсь, я всегда завидовал необычайному самообладанию Тихона. Мне до этого дня не довелось ни разу видеть, чтобы он вышел из себя, повысил голос, но сейчас его не узнавал — он не мог успокоиться, подергивались брови, дрожали руки.
Алвардян лежал с полузакрытыми глазами и тяжело дышал.
— Не надо… Знаю, ты прав… Показалось, что другого выхода нет, — говорил он Тихону прерывающимся голосом.
Зоринкин тут же, на койке, туго перевязал рану, затем слегка ударил Алвардяна по носу и сказал:
— Эх ты, глупый мальчишка! А я, старый дурак, говорил с тобой, как с настоящим мужчиной. Молокосос, вот ты кто!
Хорошо, что Зоринкин отвернулся, мне не хотелось, чтобы еще кто-нибудь, кроме меня, заметил слезы, заблестевшие у него на глазах.
Прошло несколько дней. Каждый, кто в силах был вымолвить хоть слово, спрашивал у соседа или у санитара:
— Ну как? Он сказал что-нибудь новое?
«Он» — это Алвардян.
Вечером, свободные от дежурства, сидели мы в комнате санитаров и беседовали. Тихон чинил сапог, я шил шапку. Вдруг в полуоткрытую дверь ворвался крик:
— По фашистам огонь! Огонь! Ура! Смерть фашистам! Бей! Бей их!
Я сразу узнал голос Алвардяна.
Мы бросились во вторую палату. Первым перед нами предстал Кузьма, ошалело моргающий выпученными глазами, — на такой случай он не получил никакой инструкции. Все больные вскочили со своих коек и затаив дыхание, как зачарованные, слушали:
— За нашу Родину! Бей гадов!
Женя в восторге махал нам руками.
— Во дает жизни! Во дает!
Так мы стояли минут пять в полной растерянности. Первым спохватился Глеб и напустился на Кузьму:
— Видишь ведь, больной говорит со сна, что же ты его не разбудишь?
Кузьма начал трясти Алвардяна:
— Ах ты, беда ты моя, проснись!
Все захотели знать, что приснилось Алвардяну. Тот вытер лоб и со стоном ответил:
— Последний бой покоя не дает… Сердце болит…
— Ничего нет удивительного, — сказал мне Степан Шумов, — от такого сна и у здорового может сердце заболеть.
Через несколько часов сон повторился. И потом из ночи в ночь Алвардян оглашал криками лазарет, — казалось, последние остатки его сил сосредоточились теперь в голосе. Только он смыкал глаза, как его начинали мучить кошмары. Больные во всех палатах не спали, не позволяли закрыть дверь, с нетерпением ждали, когда Алвардян начнет говорить. Стоило посмотреть на этих полумертвых людей, не скрывавших радости. Многие повторяли за Женей:
— Во дает! А?
А Алвардян тем временем жаловался Зоринкину:
— Доктор, я от этих снов с ума не сойду? Может, дадите мне что-нибудь, чтобы крепче спать?
— Что мне тебе дать? Снотворное? А где я возьму? Но ты не расстраивайся — что-то не было на моей памяти случая, чтобы кто-нибудь умирал от снов…
Признаться, у меня возникло сомнение насчет этих невероятно стойких кошмаров Алвардяна.
Кузьма плакался мне:
— Не могу его никак разбудить. Я его толкаю, а он кричит: «Мы победим!»
На рассвете мы с Глебом и Тихоном шли к колонке по воду. По-зимнему бледное солнце только что взошло, и снег ослепительно искрился. Мы останавливались, топтались, били ногу об ногу, но мороз нас не щадил — колол и щипал веки, ноздри, пальцы.
— Сегодня дежурю я в палате, — рассказывал Глеб, — только положил голову на стол и задремал, как Алвардян завел свое. Подошел я, смотрю — глаза широко открыты, рукой мне знак подает: погоди, мол, не буди, я еще не все сказал. Трудно было удержаться от смеха, а тут он как закричит: «Смерть фашистам и их приспешникам полицаям!» Я давай трясти его изо всех сил: «Проснись, перестань буянить!» А он протирает глаза и бормочет: «Что случилось? Я опять кричал?»
Я потирал руки, не от мороза, а от восторга, даже забыв на минуту о голоде. Мы взялись за ведра, прошли еще несколько шагов и снова остановились.
— Так, так, значит, он на этот раз и полицаев включил, — довольно произнес Тихон.
В последующие ночи Алвардян изменил свой «репертуар». В перерывах между атаками он стал рассказывать о поражении немцев под Москвой, рассказывал со всеми подробностями, какие нам были известны. У дверей толпились все, кто еще держался на ногах.
— Тихо! — наводил порядок Кузьма. — Еще разбудите, а потом жди, пока ему опять что-нибудь такое приснится.
Кто-то из полицаев донес об Алвардяне в комендатуру. Зоринкину дал знать об этом переводчик. Что делать?
Мы с Тихоном шли, как обычно, по воду.
— Есть выход, — придумал Тихон. — Устроим его к тебе в палату — сыпным тифом он болел, а Зоринкин сообщит в комендатуру, что Алвардян не сегодня завтра умрет.
На том и порешили.
Теперь я каждую свободную минуту проводил у койки друга. В палате все его называли Гришей. Он рассказал мне о своей матери, старой учительнице.
— И не только я ее люблю, она — депутат Верховного Совета Армении.
Поведал мне и о девушке, чья фотография, залитая кровью, хранится у него в кармане гимнастерки, об институте, где учился.
— Слушайте, ребята, ведь может же случиться, — мечтал он вслух, — что кто-нибудь из нас выживет… Правда, ведь не так уж трудно запомнить два слова: «Ленинакан, Алвардян». А если забудете фамилию, остановите первого встречного армянина и спросите, как по-армянски «алая роза», — его ответ вам сразу напомнит мою фамилию.
Однажды открылась дверь, и в палату вошел главный врач в сопровождении высокой, стройной женщины средних лет, одетой во все черное.
Полицай остался за порогом.
— Бог не нуждается в свидетелях, — сказала ему женщина. — Он любит говорить со своими чадами с глазу на глаз. Жди в коридоре, а дверь закрой.
Она повернулась к нам и поклонилась в пояс.
— Будьте благословенны, рабы божьи. Я монахиня.
Женщина выпрямилась и стала молча разглядывать больных. Я сидел возле Алвардяна.
— Гриша, мне это не снится? — шепотом спросил я.
— Нет, друг мой. В снах, ты ведь знаешь, я недурно разбираюсь… Сейчас эта божья уполномоченная начнет туманить нам мозги. Погоди, я с ней поговорю.
Превозмогая боль, он приподнялся и встал на колени, черные глаза сверкали гневом. На мою попытку урезонить его он ответил резко:
— Отойди!
И, дрожащими руками вцепившись в койку, стал кричать:
— У них на пряжках ремней тоже начертано: «С нами бог». От имени какого бога вы пришли с нами разговаривать? Женщина в рясе, берегитесь, здесь очень много вшей и очень мало верующих! Знайте, мы хотели бы видеть другого человека, такого, перед которым не полицай распахнул бы двери…
Им овладел приступ раздирающего грудь кашля. Женщина стояла недвижимо, пальцы ее судорожно мяли сжатый в комочек платок. Она изменилась в лице, но взгляд Алвардяна выдержала. После минуты молчания произнесла:
— Успокойся, ты не из тех, кто умеет стоять на коленях… Ложись, я постараюсь ответить на все твои вопросы.
— Не обращайте на него внимания, — стал успокаивать ее фельдшер Губарев, — он малость не в своем уме…
— Не смей! — Женщина подняла правую руку, сжатую в кулак. — Только ты один тут выглядишь сытым и здоровым. Побойся бога, объясни перед всеми: какому чуду ты обязан этим? Молчишь? — Она обернулась к главному врачу: — Уверяю вас, он обкрадывает, грабит больных. Если наказать его не в ваших силах, я буду говорить о нем с комендантом. А теперь прошу всех, оставьте нас, хочу побыть наедине с больными. Вот этот санитар, — она показала на меня, — пусть поможет мне нести корзинку.
— Иди! — подтолкнул меня Гриша. — Эта игра начинает мне нравиться.
Я взял корзинку, она оказалась полной вареной пшеницы. Зерна были желто-розовые, местами белые, и как же они пахли!
— По двадцать зерен будешь отсчитывать каждому, — сказала она, — тяжелобольным можешь дать побольше. Мы принесли картошку, хлеб, но сюда пропустили только пшеницу.
В ушах еще звучал ее возглас: «Не смей!» — и мне очень захотелось как-то намекнуть ей, что я догадываюсь…
— Мы, сестра, понимаем, — ответил я.
Переходя от койки к койке, она беседовала с больными и для каждого находила теплое, ласковое слово, а я отсчитывал зерна.
— Что у тебя болит, сын мой?
— Нога огнем горит.
— Покажи. Антонов огонь. Не тебе бы его… Ох, в страшном огне будут гореть те, что мучают вас!
Этому больному я отсчитал лишние зерна, она кивнула в знак согласия и подала ему кружку холодной воды. Он пил долгими глотками, не переводя дыхания.
— А ты? — спросила она другого. — Сколько тебе лет?
— Двадцать восемь. Хочу вас попросить — когда-нибудь перешлите эту ложку по адресу, который на ней вырезан.
Он подал ей алюминиевую ложку, на которой пунктиром были изображены женская и детская головки, а под ними нацарапаны адрес и слова: «Дорогие мои, будьте счастливы!»
Ложка задрожала в ее руке.
— Твоя воля, сын мой, исполнится. Но ложка пусть останется здесь.
— Почему?
— Мне запрещено выносить отсюда что-либо. Меня могут обыскать при выходе, и я уже больше сюда не попаду. Ты художник?
— Нет, инженер. Отец мой был гравером. Что же, отказываете мне?
— Хорошо, возьму.
— Лебедев, забери свою ложку, — вмешался Алвардян. — Просто глупо так рисковать.
Ложка осталась на койке. Когда женщина подошла к Грише, я подал ей наш единственный табурет. Не отводя глаз от шрамов на виске и марли на груди, она тихо сказала:
— Благодарю вас, товарищ.
Алвардян встрепенулся, радостно загорелись его черные глаза, когда он прошептал:
— И я — вас, не только за пшеницу… Сестра, обо всем, что вы здесь видели, вы обязаны рассказать…
— Нет, вы должны выжить, вы сами должны об этом рассказать, я буду свидетельствовать. У тебя есть семья? — спросила она громко.
— Мать, невеста, — кажется, достаточно?
— Да, — подтвердила она, — тебе не о чем просить?
— Не крестите меня.
Она его все же перекрестила и, уходя, громко сказала:
— Подумай, сын мой, что ты говоришь!
Было время, когда Алвардян еще верил, что вместе с нами будет участвовать в побеге, и говорил:
— В том леске, на воле, и смерть была бы не так страшна.
Капало с крыш, снег оседал и таял — близилась весна. Еще немного, и, быть может, нам удастся осуществить свою мечту. В один из таких дней Алвардян положил мне на колени холодную руку и сказал:
— Да, да, теперь уже определенно моя песня спета, мне не миновать «Могилевского»… — Он вздохнул глубоко-глубоко. — Как ты думаешь, Тихон простил меня? Мне тогда казалось, что все кончено… А теперь, знаешь, теперь я, как никогда, верю в нашу победу… Но мне уже голоса матери не услышать.
Грише с каждым днем становилось все хуже.
Пятого мая выдался на редкость теплый и светлый день. Глеб, Тихон и я стояли с опущенными головами у сарая. Мы принесли сюда Алвардяна. Мои глаза скользят по ржавой жести, на которой едва заметно, но все еще проступает: «Могилевский». Только месяц прошел с тех пор, как мы принесли сюда нашего доктора Александра Ивановича Зоринкина, несколько дней назад умерли дядя Ваня, Женя… Люди тают на глазах… Чья очередь теперь?
Мой взгляд упал на ряды колючей проволоки, и вдруг я заметил под ними травинки, живые зеленые травинки. Стебельки еще очень тонкие, их гнет ветерок, но они так ярко, так изумрудно зелены!.. Идет весна…
ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО
Снег сохранился только по обочинам дорог да кое-где на утоптанных стежках. Бог весть откуда пробился сюда и весело мурлычет ручеек, отражая светлую лазурь и редкие легкие облака. На высоком, кажется, единственном сохранившемся в лагере дереве пара пичужек строит гнездо, летают грачи. Весна…
Вот уже третий раз нас, группу санитаров, берут на работу в город — два дня мы таскали бревна, третий день копали яму. За работу давали добавочную пайку хлеба и черпак баланды: кроме того, нам доставалось несколько картошек, морковок, свекол — угощение женщин и детей, поджидавших в переулках, по которым обычно вели пленных. Всей этой пищей мы делились с товарищами, оставшимися в палатах.
Немецкий офицер, которого мы называли «господин инженер» (скорее всего, он никаким инженером не был), руководил нашими работами по сооружению новых рядов колючих заграждений. Когда все уже было оплетено проволокой так, что и шагу не ступишь без того, чтобы не наткнуться на ограду, он затеял какие-то другие работы. Маленького роста, худой, уродливый, подслеповатый, он по малейшему поводу избивал пленных: не поймет кто-нибудь приказания, отданного по-немецки, и носок офицерского сапога бьет куда попало — по ногам, в пах, в живот.
Ни разу нам — Глебу, Тихону и мне — не посчастливилось попасть в одну рабочую команду. Подберись еще несколько подходящих человек, мы могли бы напасть на двух наших конвойных и «господина инженера», — конечно, не в городе, битком набитом фашистами.
Немало ведер воды мы перетаскали, пока обсудили план побега в мельчайших подробностях. Надо постараться как можно дольше задержаться на работе, чтобы возвращаться назад, когда стемнеет, и расправиться с охраной неподалеку от лагеря. Но, допустим, удастся быстро, без шума, убрать конвойных, отобрать оружие, переодеться в их одежду. А как пройти мимо лагеря, чтобы нас не заметили с пулеметных вышек? Куда девать трупы гитлеровцев? Остаться в леске, который виден отсюда, — безумие. Хватит ли у нас сил добраться за одну ночь до большого леса? И все же нам казалось, что этот план имеет больше шансов на успех, чем побег из самого лагеря.
Комендант, словно догадавшись о наших планах, запретил брать санитаров на работу в город, и вот уже почти месяц, как мы безвыходно торчим в лазарете.
Мы уже знаем, что в лесах близ Могилева действуют группы партизан. Теперь незачем добираться до линии фронта. Только бы убежать отсюда, а там…
Через день мы с Глебом отдавали Тихону по четвертушке наших хлебных паек, и он прятал их на чердаке, где хранилось два острых ножа, заступ без черенка и маленькие ножницы.
Мы с Григорием Тимченко мыли пол в коридоре. Шумов сидел у открытого окна и пел:
Сижу за решеткой в темнице сырой…Не ему бы петь эту песню: у него писклявый, ребячий голос, но поет он с таким чувством, что у самого крупные слезы катятся по щекам.
Вскормленный в неволе орел молодой.Могли ли мы, советские юноши, понять раньше эту песню? А сейчас… Сейчас мы немало можем рассказать о том, что такое решетка, что такое неволя. Немало можем добавить и своих слов к этой песне…
Послышались быстрые шаги — с первого этажа бежал сюда Саша, переводчик. Он еще издали закричал:
— Всем санитарам — на первый этаж! На построение! Быстрее!
С тех пор как я в лазарете, впервые санитаров созывали на построение. У меня мелькает мысль: спрятаться на чердаке? Ну, а если нас пересчитают или проверят по спискам? Меня только что здесь видели, это может вызвать серьезные подозрения. Что же делать?
— Пошли! — скомандовал Аверов. По его лицу видно, что и он обеспокоен. — Саша, — схватил он переводчика за руку, — будь другом, скажи, что случилось.
Тот вырвал руку и, не останавливаясь, ответил:
— Сам не знаю. Но, по-моему, бояться нечего.
Первым встал в строй Аверов, вторым Шумов, рядом с ними остальные старшие, затем рядовые санитары. Глеба, Тихона и еще трех человек здесь не было — таскали картошку из амбара на кухню.
Перед строем стоял помощник коменданта, щеголеватый офицер с сытым, холеным лицом, аккуратной прической и подкрученными усами, казалось сошедший с вывески провинциальной парикмахерской.
Он заговорил:
— Требуются санитары в другой лазарет, там будут лучше кормить. Кто согласен перейти туда, пусть сделает три шага вперед.
Все хорошо знали, что нельзя верить ни одному слову фашиста, и никто не тронулся с места.
— Кто? — повторил немец.
Стало так тихо, что я слышал стук собственного сердца.
— Кто у вас старший санитар?
— Я! — ответил Аверов.
Помощник коменданта взглянул на него и после недолгой паузы скомандовал:
— Выходи из строя!
Казимир Владимирович вышел — бледный, лицо, как всегда, каменное.
Помощник коменданта двигался вдоль шеренги и приказывал самым молодым, самым с виду здоровым выйти из строя — рядом с Аверовым оказался Шумов, Кузьма и еще два человека. Но этого, видимо, было мало и офицер велел Аверову вывести еще санитаров. Теперь уже Казимир Владимирович шел вдоль шеренги, и, если тот, на кого он показывал пальцем, не выходил немедленно, раздавался свирепый окрик немца:
— Фортретен!
Когда Аверов оказался возле моего соседа справа, я тихо шепнул:
— Прошу, меня не берите…
В ответ он ткнул пальцем в меня, и через секунду прогремело:
— Фортретен!
Немного позднее Казимир Владимирович сказал мне, как бы оправдываясь:
— Должен же я был на кого-нибудь указать. Ты не думай, я тебе зла не желаю и в обиду в случае чего не дам.
Помощник коменданта пересчитал нас, приказал переписать пофамильно и через час явиться в дезинфекционную камеру. Назад в лазарет, предупредил он, мы уже не вернемся.
Кто из стоящих рядом со мной мог понять, как меня пугала эта дезинфекционная камера?
Я переходил от койки к койке и в полумраке прощался с больными:
— Выздоравливайте, будьте счастливы…
— Перед уходом давайте присядем на минутку, — предложил Шумов.
С Тимченко мы обнялись, расцеловались.
— Ежели что, не поминай лихом, — проговорил он.
— И вы меня не поминайте лихом, — громко произнес я и тихо добавил: — Беги к картофельному амбару и расскажи Глебу и Тихону, что здесь произошло.
— Сейчас, — так же тихо ответил он.
В дезкамере я сидел в темном углу, прижав колени к животу, весь съежившись от внутреннего холода.
В общем лагере нам была отведена полуразрушенная комната, полная грязи и мусора. Каждый нашел себе дело — кто чинил нары, кто закладывал чем попало дыры в окнах, мы с Кузьмой подмели и очистили от мусора наше жилище — надолго ли?
— Казимир Владимирович, узнали вы что-нибудь новое?
Он пришел сюда немного позднее нас, и все бросились к нему с расспросами.
— Нас отошлют в другой город, — ответил он, — там открывается большой лазарет для пленных.
Меня называли и «отец» и «дедушка», а кличка «доходяга» даже стала привычной. Теперь полицаи называли нас «помощниками смерти», совсем не догадываясь, что у них и правда есть на это основание. В Могилевском лагере немало их «коллег» отправилось к праотцам не без нашей помощи.
Рано утром, как только погас фонарь, мы услышали звон — на площади били куском железа по подвешенному рельсу.
— Помощники смерти! Айда в колонну за баландой! — гнал нас полицай.
Не меньше часа стояли мы потом на площади. Из комендатуры вышло и направилось к нам несколько гитлеровцев. Проходя мимо колонны, один из них — на груди его блестели кресты и другие регалии — бросил на землю недокуренную сигарету. Пленный шагнул из колонны, чтобы поднять окурок, фашист, очевидно, только этого и ждал, — резко развернувшись, он ударил пленного кулаком и еще раз до блеска начищенным сапогом. Потом приказал полицаю:
— Тащи его в карцер, там я с ним рассчитаюсь.
Офицеры ощупывали людей, заглядывали в рот, спрашивали, нет ли среди пленных автомехаников, автослесарей, стекольщиков, садовника, огородника. На последние должности охотников не нашлось, — работать пришлось бы у Шульца, у него здесь был обширный огород, прекрасные цветочные клумбы, а всем известно, что никто еще не ушел от него живым.
Вооруженный автоматом немецкий солдат привел на площадь нескольких пленных в наручниках, приговоренных комендантом к порке: кому двадцать ударов, кому тридцать, а одному, как раз самому слабому на вид, — пятьдесят. Я стоял опустив голову и закусив губы. Меня подтолкнул Аверов:
— Будь осторожен! Так стоять запрещено. Все обязаны смотреть туда, где происходит экзекуция.
Свистели плети, опускаясь на человеческие тела, разрывая кожу и рассекая мышцы. Из открытого окна комендатуры неслись звуки до боли знакомой музыки. Что же это?
— Полонез Огинского, — как бы угадав мои мысли, подсказал Аверов.
Нежная цветочная клумба — и заряд дроби, всаженный в тело пленного, собиравшего воронью пищу на снегу… Полонез Огинского — и в кровь исполосованные спины истязаемых людей… А возле меня, слышу, говорят, что сегодня счастливый день — никого не расстреляли, никого не повесили, никто из избитых не умер.
Быть может, и теперь, много лет спустя, сидит где-нибудь старик Шульц, слушает музыку и наблюдает за садовником, поливающим его любимую клумбу… Именем тысяч невинно загубленных и замученных заклинаю: не спускайте глаз с этого чудовища! Не спускайте с него глаз, даже если увидите, что он кормит белых голубей…
В НАЧАЛЕ ЛЕТА
Мои друзья получили разрешение посещать нас. У Тихона приподнятое настроение — ему удалось наладить связь с «монашкой». Он пока бежать не собирается, а Глеб готов хоть сейчас. Я попросил Тихона отдать мне ржавую банку бобовых консервов, спрятанную на чердаке, а с Глебом условился: если нас опять поведут на работу и я не вернусь, значит, я прячусь в развалинах по ту сторону лагеря; как стемнеет, переберусь в лесок и буду ждать его там до полуночи. Если он к тому времени не придет, уйду один.
Спустя несколько дней двое полицаев повели нас через ближние к леску ворота. Сразу же за колючей оградой тянулась дорога, у которой стоял полуразрушенный каменный дом. Это были те самые развалины, о которых я говорил Глебу. До полудня мы собирали вокруг лагеря на дороге, согретой по-летнему жарким солнцем, пожелтевшие бумажки, куски железа, щепки. Возвращались в лагерь вразброд.
Проходя мимо разбитого дома, я незаметно юркнул туда и, прильнув глазами к щели, следил за нашими до тех пор, пока они не вошли в ворота, где стоял немецкий часовой. Никто их не пересчитал, моего исчезновенья не заметили. Будь на мне другая одежда, я немедленно направился бы к леску.
Добравшись до ступенек, я спустился в подвал, полный мусора, битого кирпича, глины, тряпья, где стоял дурманящий запах гнили и сырости. Как я ни старался отвлечься, мысли неизменно возвращались к Аверову и Шумову. Неужели они еще не спохватились, что я исчез? Сейчас они входят в барак, берутся за свои котелки — они стоят рядом на нарах… Хорошо, что котелок со мной! Будь он там, меня стали бы звать — бери, мол, свой котелок…
Как тянется время! Полжизни я отдал бы за то, чтобы быстрее стемнело, чтобы хлынул ливень, чтобы разразился ураган… Где там! Солнце в самом зените, а небо такое глубокое и чистое, каким оно уже очень давно не было. Даже легкий ветерок не шелохнет тонкие стебельки трав.
Я нашел острый кусок железа, положил банку консервов на тряпку, другой тряпкой обмотал правую руку и стал тихонько бить ею по железу. Напрасно я боялся, что бобы испортились, — как они чудесно пахнут! Я набрал ложку, вторую, третью… Стоп! Больше нельзя. Эта банка — мое питание на первые два-три дня.
Сколько времени прошло? Час? Два? Может быть, солнце уже садится? Хорошо, что сегодня суббота, — после полудня никого на работу не погонят. Прижимаю к себе банку: здесь много крыс.
Когда я уже готов был поверить, что моего отсутствия никто не заметил, до моего уха донеслись чьи-то голоса, затем раздались шаги.
Конец… Еще несколько минут, и меня найдут. Я лег на тряпки, свернулся в клубок, прикрыл ладонью банку с бобами и закрыл глаза. Они пришли гораздо раньше, чем можно было ожидать. Вроде я все предусмотрел, но о том, что на глине останутся следы, не подумал.
Узкую полосу дневного света пересек острый луч карманного фонаря, скользнул по подвалу, метнулся вправо, влево и нащупал меня.
— Я же вам говорил, что он где-то тут уснул, — узнал я голос Аверова.
Никто ему не ответил, но я почувствовал удар сапога, и лицо залила кровь. Банка с бобами, отлетев, стукнулась о противоположную стену. Теперь я увидел: меня разыскивали Аверов и три полицая, среди них один из наших утренних конвоиров.
Меня привели в комендатуру. У входа на скамейке сидел, лихо заломив фуражку, начальник полиции Тимченко.
— Пропавший нашелся! Он спал в погребе разбитого здания! — отрапортовал один из полицаев.
— Обыскать!
У меня родилась смутная надежда на спасение: меня назвали «пропавший», а не «бежавший».
— Рассказывай! — Тимченко сверлил меня глазами.
Я вытер рукавом кровь с лица и начал:
— Я искал все, что было приказано… В котельной нашел банку с бобовыми консервами, съел несколько ложек, у меня начались рези в животе. Я обложился тряпками, согрелся и задремал…
— Эта брехня мне уже знакома. Одного такого «умника» мы зимой из этого подвала вытащили и повесили. Кто их конвоировал сегодня? — обратился он к полицаям.
— Я, — тихо ответил один из них.
— Подойди сюда!
Тот стал подходить, опасливо, бочком, но это не спасло его от пинка сапогом в живот.
— Прогнать в лагерь. А его, — Тимченко показал на меня, — в карцер.
Не раз проходил я мимо этого дома и не догадывался, что тут карцер. Спустившись по нескольким ступенькам, прошел я по длинному коридору, повернул вправо. После короткого разговора между полицаем, приведшим меня сюда, и часовым меня подвели к обитой железом двери.
— Открой, — приказали мне.
Только я взялся за дверную ручку, как на меня обрушился страшный удар. Я влетел в распахнувшуюся дверь, ударился о противоположную стену и упал на холодный цементный пол. Дверь за мной сразу же захлопнулась.
Несколько минут я лежал неподвижно, потом стал осторожно двигать рукой, ногой — целы!
Одиночка. Она, право, не так уж мала — не меньше двух метров в ширину и метра два в длину. Есть тут и окно, но оно заложено кирпичом, и только сверху оставлено отверстие, зарешеченное извне и изнутри. Здесь было достаточно светло, и я заметил, что стены и даже потолок покрыты надписями. Фамилии. Имена. Даты. Адреса. Патриотические призывы. Проклятия. В одном месте я прочел: «Погибаю, а не знаю, за что. Гурьев». Немного ниже: «За Родину! Смерть фашистам! И.».
Я выбрал место и ногтем нацарапал свои инициалы и дату. Полежать на цементном полу еще успею. Завтра воскресенье, до понедельника меня, может быть, не тронут. И все же каждый раз, когда в коридоре раздавались шаги, у меня холодело сердце. Я взялся руками за решетку и выглянул на улицу. Проходивших близко в лицо не видно, только те, что подальше, мне видны во весь рост. Прошел быстро гитлеровец с большим рюкзаком за плечами — его, нетрудно догадаться, отпустили на воскресный день в город, вот он и спешит.
Мое оконце обращено на запад, и я вижу, как заходит солнце. Почему оно так спешит? Еще один раз я увижу закат… Напротив — двухэтажный дом, солнце спряталось за ним, и на крыше из белой жести последние лучи переливаются радугой. Оказывается, не надо быть героем, чтобы за несколько часов до смерти любоваться заходящим солнцем.
Я уже собрался отойти от окна, когда мое внимание привлек перешедший через дорогу человек. Кто это? Его лицо мне очень знакомо… И, не успев отдать себе отчет в том, что делаю, я прильнул лицом к решетке, крикнул:
— Алексеев! Алексеев!
Тот остановился и оглянулся.
— Алексеев! Подойди к карцеру!
Стоявший в углу полицай закричал:
— Эй ты, доходяга, замолчи, а не то мы тебя переведем в строгий карцер — оттуда тебя никто не услышит!
Алексеев обменялся несколькими словами с часовым, потом подошел к решетке и спросил:
— Откуда тебе известна моя фамилия?
Алексеев бывший курсант нашего училища. Мы были с ним в одном батальоне. Неужели он меня не узнает?
— Так вот ты кто такой… А я думал, что из наших только мне удалось уцелеть. Теперь я спешу, приду к тебе позднее.
Алексеев внешне мало изменился. Он чисто одет, свободно расхаживает по лагерю, полицай говорит с ним уважительно… Меня стали мучить сомнения: надо ли мне было его останавливать, ведь он знает, кто я…
— Тимченко разрешил мне зайти к нему, — услышал я разговор Алексеева с часовым в коридоре.
«Уж больно быстро ты успел повидаться с Тимченко, — подумал я, — и птица ты у них, видать, важная, раз тебе верят на слово…»
Алексеев вошел и закрыл за собой дверь.
— Привет, последний из могикан, — он протянул мне руку и спросил: — Что, не удалось бежать?
Я выпустил его руку и отступил к стене.
— Тимченко хитрый негодяй, он все понял, но не в его интересах, чтобы об этом узнал Шульц. Ведь виноваты-то его, Тимченко, полицаи. — Алексеев говорил так тихо, что я с трудом слышал его.
Мое недоверие к нему не исчезло, и я сказал:
— Нет, Алексеев, я не бежал… От консервов у меня заболел живот, потом я задремал…
— Ладно, пусть так, — перебил он меня, небрежно махнув рукой, — я не следователь.
— Кто же ты?
— Повар в бараке у полицаев.
— О-о-о!
— А ты что думал?
— Что он со мной сделает?
— Что в голову взбредет. До понедельника он хозяин — может удавить тебя и может освободить, но только до понедельника. Послезавтра утром тебя здесь уже не должно быть, иначе ему самому здорово влетит. Ты знаешь, что он просит у меня за твою голову? Яичницу.
— Что?!
— Вот именно, яичницу, да из пяти яиц, пусть из гусиных, пусть из утиных, и подать ему к обеду не позднее завтрашнего дня.
— Яичница? Здесь это невозможно. — Я говорил об этом как об обычной сделке и глядел Алексееву в глаза. — Если бы что-нибудь другое… Мне бы друзья помогли.
— Вот какие друзья у тебя!
Меня все еще не покидало сомнение в его искренности.
Надеяться не на что, не на что рассчитывать. В этом лагере, где горсть соли, щепотка махорки стоят больших денег, — достать яйца?..
— Дело не в деньгах, их бы я, пожалуй, раздобыл, но яйца… — произнес Алексеев.
Я был беспомощнее только что вылупившегося цыпленка: в минуту опасности он прячется под крыло наседки и — поди найди его… Гуси, утки… Я помню, они вперевалку спешили к нашему пруду на коротких красных лапках, блестевших от росы; куры в нашем дворе по утрам поднимали такой галдеж, что будили меня. И вот я могу купить себе жизнь за пять белков и пять желтков в пяти скорлупках, пусть гусиных — больших, продолговатых, пусть утиных — поменьше, с синеватой скорлупой, пусть куриных — маленьких, белых…
— Попытаюсь выпросить у повара офицерской кухни, может быть, он согласится продать. — Алексеев, пожав плечами, повторил: — Может быть… — Пожимая мне руку, он приблизил свое лицо вплотную к моему. — Но смотри, здесь больше не попадайся… Иначе мне каюк.
Теплая темная ночь окутала лагерь, обнесенный колючей проволокой, в которую включен электрический ток. Очертания пулеметных вышек едва различимы. Неужто нет выхода?
Край неба алеет, а я все еще стою и держусь за железные прутья решетки. Два воздушных потока омывают мое лицо: один из карцера — сырой, промозглый, другой снаружи — свежий, полный запахов весеннего утра. А время идет… Мое время исчисляется уже не днями, а часами, мгновениями…
Алексеев подал Тимченко к обеду яичницу.
В воскресенье в полдень меня выпустили из карцера.
В один из первых летних дней нас построили, чтобы вести к станции. Попрощаться со мной пришли друзья из лазарета. Мы с Глебом и Тереховым тихо беседовали. По ту сторону заграждений тянулся широкий луг. Недавно там цвели незабудки, теперь он пестреет белой ромашкой, лиловыми колокольчиками.
Мы попрощались, и Глеб сказал:
— Встретимся ли еще когда-нибудь, кто знает? Такова уж наша, солдатская, судьба…
А Тихон добавил:
— Не отчаивайся. Два раза не удалось — в третий обязательно удастся…
ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ
Топ-топ… — топают по булыжнику тяжелые немецкие сапоги. Конвоир держит винтовку штыком вниз. Вижу клочок мостовой, короткие, покрытые пылью голенища, фалды серо-зеленого мундира и лужицу света на штыке — луч солнца, отраженный в блестящей стали.
Хочется подставить лицо теплому ветру, что гонит тучи с юга. Где-то далеко они, по-видимому, уже пролились дождем. Вместе со зловонием свалок сюда, на окраину города, доносится запах смолы, стекающей по стволам деревьев, и еще чего-то, что напоминает о клейких листьях тополя после дождя.
Мы, пленные, как зимние, сонные, случайно уцелевшие мухи. Мы бредем, словно в дурмане, словно опоенные злым зельем. Глаза сами смыкаются. Ни кровинки в изможденных лицах. Одним словом, «доходяги», люди, у которых сохранилось только воспоминание о прошлом, когда у них был дом, были друзья, люди, которые могли себе представить все, что угодно, но только не эту колонну истощенных, голодных, ободранных узников, себя среди них и конвоиров в сапогах, подкованных большими квадратными гвоздями.
Может быть, позже, через долгие годы, когда острота пережитого притупится, кто-нибудь из тех, кто шагает сейчас вместе со мной, не поверит, что все это было в действительности…
Если не считать меня, уцелевшего чудом, самый удачливый из нас Казимир Аверов. Его широкое лицо, плотно сжатые губы, квадратная челюсть — все свидетельствует о замкнутости и об упрямстве. Он не по годам гибок и силен. Сила чувствуется даже в его тихом голосе, во взгляде глубоко посаженных глаз, смотрящих тебе прямо в душу.
Аверова я еще не раскусил. Мне все кажется, что он притворяется, прячет от всех истинное лицо. И я все еще боюсь его, правда, меньше, чем прежде. Полчаса назад, когда я прощался со своими лагерными друзьями, он многозначительно сказал:
— Человек без друзей, что дерево без корней.
И после короткой паузы добавил:
— Пожелайте друг другу счастья. Полагаю, пригодится.
Что он хотел этим сказать? На что намекал?
Рядом с Аверовым шагает долговязый, длиннолицый Степан Шумов. Идет он тихо, будто крадучись, осторожно, как заяц. Пожалуй, и до плена он шел по жизни не прямым путем, а кривыми стежками-дорожками. Голос у него такой до приторности сладкий, что Терехов однажды не выдержал:
— Ты бы уж лучше молчал, — сказал он. — Испокон веку известно: яд слаще меда, а лекарство горше полыни.
Шумов не из тех, которые любят задумываться. Тем не менее он сразу сообразил, что в лагере всегда виноват не обидчик, а обиженный, и потому лучше быть в стане обидчиков.
Кузя, шагающий между мной и Шумовым, ругается так искусно, что, приложи он столько старания к чему-нибудь путному, можно было бы позавидовать его таланту. Не знаю, как он выглядел до того, как переболел сыпняком, но сейчас его простодушное лицо, с ежиком седых волос, выражает только одно — наивное, детское любопытство. Он часто говорит сам с собой, и его большие, добрые глаза смотрят вопрошающе в спину идущего впереди.
Нам навстречу мчится немецкий велосипедист. Горбатый автомат болтается на груди, рукава засучены выше локтей. Когда он уже проехал, кто-то из конвоиров крикнул вслед:
— Гутен морген, Курт!
Велосипедист притормозил и повернул голову:
— Гутен морген, Гюнтер!
— Поди сюда, — позвал Гюнтер. — Шульца в лагере нет. Зря торопишься.
Курт несколько мгновений колебался, потом положил велосипед на обочину дороги и тяжелой, как у грузчика, походкой подошел к Гюнтеру.
И тут меня осенило: да ведь это тот самый Гюнтер Пургель, который в холодную осеннюю ночь отвел меня и Пименова в лазарет! Теперь я разглядел его: он выше среднего роста, сутуловат, голова тщательно выбрита, глаза прячутся за большими роговыми очками.
Нам приказывают спуститься в ров, который тянется вдоль дороги. Пургель и Курт присаживаются на траву недалеко от нас.
— Расскажи, — говорит Гюнтер, — расскажи о славных победах, одержанных вами. Сколько деревень вы захватили? Сколько лесных бандитов взяли в плен?
Сытое лицо его собеседника багровеет, короткие толстые пальцы нервно барабанят по пустой фляге.
— Поди ты к черту, Гюнтер. Хорошо тебе шутить. Посмотрел бы я, что бы ты делал на моем месте.
— Я? Такие ответственные операции мне не поручают. Меня через две недели отправят на фронт.
— Так тебе и надо. Разве мы, твои земляки, — фельдфебель Губерт и я — не предупреждали тебя: не старайся быть умнее всех.
Курт достал свою зажигалку, похожую на пистолет, нажал на рычажок. Сначала появилось темное облачко дыма, затем трепещущий язычок пламени лизнул кончик толстой сигары и вгрызся в спрессованные листья табака. Курт не сводил глаз с Гюнтера.
— Нам поручили поймать четырех беглецов, — похвалился он. — Всего четырех. А мы поймали двенадцать…
Светлые брови Гюнтера медленно поползли вверх. Губы дрогнули в усмешке.
— Браво, Курт! Тебя на фронт не отправят, хотя на этот раз ты солгал. Ты из тех, что любят откусить больше, чем могут проглотить. Да ты не злись. Ведь я не тринадцатый пленный. Ты мне лучше объясни, как тебе это удалось.
— Знаю, Гюнтер, в Венском университете вас этому не обучали. Так ведь при такой лысине можно быть и поумнее. — Он махнул рукой в сторону дороги и самодовольно ухмыльнулся. — Вон они идут сюда. Можешь проверить.
Кому, кому, а нам-то сразу стало ясно, что из двенадцати приближавшихся к нам арестантов только четверо бежали из лагеря. У троих руки были скручены за спиной, четвертого несли на маскхалате.
Остальные восемь были так называемые «примаки» — красноармейцы, попавшие в окружение и оставшиеся в деревнях. Одеты они были по-деревенски и по сравнению с нами, пленными, выглядели как люди из иного мира.
Знали ли они, что ждет их в лагере? Безусловно. Почему же они, как батраки, копались на огородах, а не ушли в лес? На этот вопрос трудно ответить.
Курт заметил красные кресты у нас на рукавах.
— Не худо бы твоим «медикам» проверить, жив ли он или уже капут, — сказал он, ткнув пальцем в сторону лежащего на маскхалате пленного. — Когда вешаешь мертвеца, говорит Шульц, эффект не тот. Но вешать мертвецов безопаснее. Помнишь того русского, которого повесили сразу после Нового года? Кожа да кости, в чем только душа держалась, а все же успел лягнуть Губерта в пах, а Шульцу плюнул в лицо.
Установить, дышит ли еще человек, лежавший на маскхалате, было нелегким делом. Жизнь едва теплилась в нем, пожалуй, медики поопытнее нас могли ошибиться.
Не годы изрыли его лицо глубокими морщинами. На синей, распухшей, покрытой ранами и волдырями руке вытатуировано: «Вася — 1920».
Где-то он родился, где-то жил — на Енисее или на Волге, в большом городе или в маленькой деревушке. Был славным парнем. А осталось только горе матери, которая на все запросы будет получать один ответ — сын ее Василий пропал без вести.
И если матери Василия суждена долгая жизнь, она всегда будет вздрагивать, когда скрипнет калитка во дворе или зазвенит звонок на двери ее квартиры… Почтальон будет виновато обходить ее дом стороной, а она каждый день будет ждать его и верить, что однажды он принесет ей долгожданную весточку. Время точит камень, с годами многое забывается, но везде и всегда все будет напоминать матери о ее невернувшемся сыне…
Нет, Василий не должен быть забыт. У памятника, который будет когда-нибудь воздвигнут без вести пропавшим, пусть будет произнесено и его имя.
Гюнтер не подал Курту руки при прощании. Большим голубым в клетку платком он вытер очки и приказал нам двигаться в путь.
ВНЕ ЗАКОНА
Могилев, древний город на Днепре…
Уж полдень, а улицы и переулки безлюдны. Дом с наглухо закрытыми ставнями. Дворы без детского гомона и смеха.
На углу стоит пожилая женщина с добрыми, усталыми глазами. Платок на голове повязан по-деревенски, на ногах лапти. В руке плетеная кошелка. Когда мы приближаемся к ней, она вынимает несколько вареных картофелин и, указывая на нас, спрашивает у Гюнтера:
— Пан, можно?
Он не отвечает, но, внезапно закашлявшись, отворачивает голову. Другого ответа ей не надо. Она идет за нами до конца переулка и сует каждому в руку по две картофелины. Сварены они уже давно — кожица сморщилась, как лицо у старушки.
— Дай тебе бог здоровья, бабуся, — шепчет елейным голосом Шумов и истово крестит ее издали.
Конвоир с лицом, перечеркнутым черной повязкой, закрывающей один глаз, замахивается на нее нагайкой:
— Убирайся отсюда, русская свинья!
Даже под такой охраной мы здесь ближе к свободе, чем там, в лагере. Здесь и небо кажется более высоким и пыль на листве придорожных деревьев — не такой удручающе серой.
Минуем улочку за улочкой. Незаметно для себя перестаю обращать внимание на злую ругань конвойных, на лай сторожевых псов. Мной постепенно овладевает безразличие: не все ли мне равно, светит солнце или луна, ясный ли день на земле или темная ночь. Где-то, в самом дальнем уголке памяти, промелькнуло воспоминание о девушке, которую я любил…
— Ап, ап, — напоминает о себе конвой.
Но я заставляю себя вернуться в пригрезившийся мне только что мир. Вот я у нее во дворе, под Москвой. Поднимаюсь на крылечко и тихо-тихо стучу в окно. Она отодвигает белую занавеску, смотрит на меня сквозь стекло и не узнает. Не мудрено — ведь она еще никогда не видела меня таким: грязным, оборванным, заросшим…
Нас приводят на вокзал. Гюнтер о чем-то беседует с шофером санитарной машины.
Прислоняюсь к столбу, на котором нарисованы череп и две кости крест-накрест. Под ними грозные слова: «Опасно для жизни».
Как и в тот раз, когда нас привели сюда из Кричева, станция забита воинскими эшелонами, платформами с танками, пушками и множеством ящиков, тщательно укрытых брезентом и замаскированных ветками и жухлыми листьями.
Молодой немецкий солдат, совершенно голый, стоит на платформе. Он поливает себя водой из ведра, и по его телу стекают грязные ручьи. Он смотрит на нас с презрением, не понимая, что и его самого бросили в чрево войны, как слепого щенка в быстрину.
На другом пути остановился санитарный поезд. Голый солдат о чем-то спрашивает раненого, высунувшего голову из окна вагона.
Семафор показывает, что путь на восток открыт. Короткий гудок, и эшелон с платформой, на которой возвышается голый немец, трогается с места. Солдат смотрит на последние платформы санитарного поезда, груженные обломками немецких самолетов. Неужели его не тревожит мысль о тех, кто на них летал?
Эшелоны идут и идут на восток. Значит, немцы готовят новое наступление?
Из теплушки, к которой нас подвели, пахнуло навозом и карболкой. Почему-то сразу вспомнился зеленый луг, медленно жующие коровы с тяжелым выменем и одновременно, но более отчетливо — госпиталь в лагере, бараки, с которыми мы только несколько часов назад расстались.
Внимательно смотрю на вагон. Непохоже, чтоб он был предназначен для перевозки пленных. Окошечко под самой крышей забрано не железной решеткой, а узкими деревянными рейками.
— Земляк, о чем задумался? — спрашивает Аверов.
Могу ли я сказать ему, что в эту самую минуту пытаюсь вообразить себе: вот я вырываю винтовку у одноглазого конвоира… Как тогда поведет себя он, Казимир Аверов? И еще я думаю о Гюнтере: как бы я поступил с ним?
— О чем? Да все о том же, Казимир Владимирович, гастрономические сны.
— Знал бы, ни за что бы не помешал. Что же ты ел, если не секрет? Баланду из крапивы или хлеб из опилок?
— Я ел свежие, горяченькие, с пылу, с жару, оладьи из тертой сырой картошки, поджаренные до хруста на свином сале.
— Вот истинно христианская душа! Ежели так, залезай, брат, опять на небеса, а я займусь земными делами. Как твое мнение, при нынешнем новом порядке разрешит мне этот ариец отойти в сторону и справить нужду?
Я заметил: Аверов чем-то встревожен, он сегодня более суетлив и разговорчив, чем обычно.
Свыше часа прошло, а мы все еще стоим у запломбированного вагона, и никто не решается дернуть тоненькую проволоку, на которой висит пломба.
На соседнем пути работают люди с желтыми заплатами на спинах. Они разгружают с платформы тяжелые бревна.
Теперь, когда судьба разлучила меня с друзьями: с Ивашиным и Глебом, с Алвардяном и Тереховым, когда Пименов и Сергеев не виснут у меня на руках, — что мне теперь мешает броситься, как тогда в Сухиничах, к ним, к этим людям, с немой скорбью несущим на себе печать смерти? Предупреждение Феди Пименова: «Ты с ума сошел?» Или тот невероятный факт, что я жив, все еще жив, несмотря на все муки? Теперь я знаю: самоубийство — это смелость трусов. Так просто я жизнь не отдам.
Железные борта платформы не очень высокие, но зато высоки стойки, восемь с каждой стороны, поставленные здесь, чтобы бревна не раскатывались. Сейчас, когда платформа почти разгружена, они уже не нужны, наоборот, из-за них оставшиеся бревна приходится поднимать намного выше. Кто-то попытался вытащить стойки, но тут же раздался окрик эсэсовца:
— Не сметь!
Затем он не спеша приблизился к нашему одноглазому конвоиру.
— Хайль! Мы с тобой случайно не земляки ли?
Одноглазый не спешит с ответом, рот у него набит хлебом и колбасой. Потом он вытирает усы и, поглядев на эсэсовца, отвечает:
— Здесь, на этой проклятой земле, все немцы земляки. Я лично из-под Лейпцига.
— А я из Берлина. Из самого центра. Это ты зря насчет того, что земля здесь проклятая. Единственное, чего не хватает, так это нашего нового порядка. Ты, я вижу, дорого за него заплатил. Ну что же, зато над твоей головой пули больше не свищут. В крайнем случае тебя отправят в обоз, на самую что ни на есть последнюю подводу. Ха-ха! — доволен он своей шуткой.
— Ха-ха, — передразнивает его наш конвоир, — сострил и рад! В обозе я уже, к твоему сведению, был. И именно на последней подводе, как ты изволил выразиться, потерял глаз. Тут ведь не знаешь, где раньше сложишь голову — на передовой или в тылу. Вот посмотри, стоят — ни дать ни взять овечки, а попробуй отвернись, сейчас же придушат, не успеешь и пикнуть.
— Думаешь, мои евреи лучше? Как бы не так. Тут и двух глаз не хватит. К тому же осталось их всего ничего. Зачем меня еще на службе держат! Нет, не говори, теперь таким, как ты, хорошо. Спросят тебя, что происходит, а ты всегда можешь ответить: «Прошу прощения, не вижу». — Он снова рассмеялся. — Как тебя звать?
— Кому какое дело до того, что у меня один глаз? И зачем мне, скажи на милость, говорить, что я — Карл меня звать — не вижу, если одним глазом я вижу лучше, чем ты двумя? Не веришь? Пошли на пари на пачку сигарет, что с первого выстрела попаду в того долговязого на платформе.
Сказано — сделано. Карл улегся между двумя шпалами, винтовку плотно прижал к плечу. Рядом с ним его пес, острая морда — на передних лапах. Длинный красный язык мелко дрожит. Пес шумно втягивает воздух, затем из-под его черного влажного носа поднимаются два фонтанчика пыли. Он не смотрит на своего хозяина, но следит, кажется, за каждым его движением. У Карла от напряжения набегает на лоб глубокая складка, а у пса на шее шерсть встает дыбом и в больших, навыкате, глазах с красноватыми белками начинают сверкать зеленые огоньки.
Человек, в которого Карл целится, стоит неподвижно, словно искушая судьбу. Что делать? Молчать я не имею права. А закричать — значит проститься с жизнью. Человек стоит так далеко от меня, что и знака я ему подать не могу. Вокруг напряженная тишина, даже маневровый паровоз и тот перестал гудеть.
— Погоди, — эсэсовец нагнулся и тронул Карла за плечо. — Сперва стреляй в кого-нибудь из своих. Попадешь — пачка сигарет твоя.
— Нет, этого я сделать не могу. Все пленные пересчитаны.
Карл снова целится.
— Что здесь происходит? — раздается голос фельдфебеля, который идет к нам вместе с Гюнтером. — Карл, в кого ты?
— В еврея.
— Встать! Проклятье! На минуту нельзя вас оставить одних! Забыл, что ли, приказ начальника гарнизона? Строго запрещено стрелять в черте города без крайней необходимости.
— Господин фельдфебель, — отозвался эсэсовец, — так ведь я тоже не знал, что нельзя стрелять в еврея без особого разрешения.
— Не в евреях дело, а в стрельбе, в ненужном шуме. Отведите их подальше в поле и расстреляйте хоть всех до единого.
Одетый в рваный, кургузый пиджачишко явно с чужого плеча, в брюках из мешковины, худой, заросший человек, чья жизнь только что висела на волоске, стоит как ни в чем не бывало и громко, в голос, командует:
— Раз, два — взяли! Раз, два — выше! Раз, два — еще выше!
А когда поднять выше тяжелое бревно у истощенных людей не хватило сил, он сам плечом подпер его, толкнул и сбросил на полозья.
Кто он, тот, на платформе? Кем был когда-то? О чем сейчас думает? Какая разница! Если он еще жив, то не потому, что его охраняет закон, подобно тому как охраняет вход в вагон проволочка с пломбой. Нет, он остался жив только потому, что его смерть могла вызвать ненужный шум.
ОТКРЫТИЕ ГУБЕРТА
Только сейчас я почувствовал, как у меня пересохло во рту. И сразу вспомнился ручеек, мимо которого мы недавно проходили, медвяный запах светло-зеленых лип, густая тень стройных тополей. Ручеек был так мал, так медленно тек и так устало журчал, что казалось — вот-вот исчезнет, иссушенный жаждой. И только широкий Днепр, с шумом несущий где-то совсем рядом свое могучее тело, напоминал, что маленькие ручьи превращаются в полноводные реки.
Карл злится. Его ременная плетка со свистом рассекает воздух и опускается на Кузины плечи, на его голову.
Одноглазый достает из вагона короткую лесенку и, подвесив ее на дверную задвижку, приказывает Кузе влезть в вагон. Лесенка не достает до земли, качается из стороны в сторону. Поддержать ее Карл не разрешает, а в вагоне нет никого, кто мог бы протянуть Кузе руку.
Третий раз плетка впивается в Кузины распухшие ноги. Счастье его, что он лежит животом на металлической планке, почти в вагоне, и что Карл не понимает ни единого слова из тех ругательств, которыми его кроет Кузя.
В середине вагона досками выгорожено место для конвоя. Пол посыпан известкой. Конвоиры притащили и разостлали на полу охапку душистого сена. Половина вагона занята пустыми ящиками. Гюнтер разрешает нам открыть одно оконце и присесть на полу.
Солнце садится. Здесь, где до станции с ее шумом и сутолокой далеко, а до полей рукой подать, стало вдруг тихо — так тихо, что слышно, как лепечет листва на деревьях, на каждом дереве по-своему: на березе — легко, шаловливо и весело, на осине — задумчиво и немного испуганно… А стоял бы здесь дуб, подумал я, ни один листок не шелохнулся бы от такого ветерка.
Наступающие сумерки заволакивают все вокруг серой дымкой. Откуда-то наползают длинные тени. Сквозь приоткрытую дверь вагона тянет свежестью, влажным запахом земли.
Я прикорнул около Кузи. Он сидит согнувшись, сжимая обеими руками распухшую щеку, и по своему обыкновению тихо, но замысловато ругается. Спрашиваю:
— Все еще болит? Зубы целы? Перевязать?
— Не надо. Хотел бы я знать: какой болван выбил ему только один глаз? Уж я бы его перевязал…
— Глянь-ка, — вмешивается Аверов, — Кузя-то от побоев умнеет.
Кто-то дернул задвижку снаружи и постучал в дверь.
— Кто там? — спросил Гюнтер.
— Это я, Губерт. Открой.
Пургель снял цепочку и посветил фельдфебелю своим фонариком.
— Ну, как тут у вас? Все в порядке?
— Яволь!
— Хочешь прогуляться, Гюнтер? Могу здесь пока посидеть.
— Благодарю. Ты ведь знаешь, что у меня куриная слепота. В темноте мне лучше не выходить.
— Что ж, давай выкурим по сигарете, и я, пожалуй, пойду к себе. Собралась теплая компания. В карты режутся напропалую. А у меня в кармане вошь на аркане. Несколько марок. В вагоне одни немцы, австрийцев, кроме меня, ни одного. Два офицера едут в отпуск. Вот кому повезло! Покажи-ка мне список команды.
Шуршат бумажки. Вот, очевидно, и та, которая интересует фельдфебеля. Он направляет на нее луч фонарика и медленно читает незнакомые русские фамилии и имена:
— Аверов, Казимир Владимирович.
— Я, господин фельдфебель.
— Вы были старшим санитаром лагерного лазарета?
— Яволь, господин фельдфебель!
— Вам сказали, куда и зачем вас везут?
— Нет, господин фельдфебель.
— До войны вы тоже были медиком?
— Зоотехником.
— Немецкому вы научились в лагере?
— Здесь я только усовершенствовал свои знания.
Губерт читает дальше. Я замер. Нет, не зря я так боюсь списков. Как оглушительный взрыв бомбы, раздается:
— Лев, Леви, юде! Гюнтер, можешь ты себе представить, что вместе с тобой, со мной здесь находится еврей? Жалко, нет с нами лагерфюрера Шульца. Он ведь хвастает, что запах водки и еврея чует за версту. Что ты скажешь, Гюнтер, по поводу моего открытия?
— И вовсе это не открытие, Губерт, а одно воображение. Представь себе — приходишь и докладываешь старику Шульцу, что среди подвластных ему военнопленных ты летом тысяча девятьсот сорок второго года обнаружил еврея. Даже будь это трижды правдой, он тебе все равно не простит.
Мне кажется, Губерт не слушает Гюнтера. Он упрямо повторяет:
— Лев, Леви, юде! Помнишь, у нас на Кирхенштрассе жил еврей с седой бородой? Леви… Однажды я разбил мячом витрину в его лавке, и он пришел жаловаться на меня отцу. Деньги брать отказался, стоял и скреб свою козлиную бородку до тех пор, пока отец мне не всыпал, как полагается, и не заставил просить прощения у этого типа. Погоди-ка, ведь с нами вместе учился его сын. Как его звали? Тоди, Доди… Если я не ошибаюсь, ты даже дружил с ним. В футбольной команде он у нас был главным заводилой. Помнишь, Гюнтер?
— Ну, так что же? Если фельдфебелю Губерту угодно, могу сообщить, что я вплоть до самого аншлюса, когда приезжал в Вену, обязательно встречался с Тоди. Он был детским врачом. Еще могу тебе напомнить, что целых два месяца у него в больнице лежал твой тяжело больной племянник. Тоди пригласил лучших профессоров на консилиум, сам часами сидел у его постели, ни пфеннига не взял с твоей сестры, вдовы. А ты? Ты одно только запомнил, что у его отца была козлиная бородка и что он не пришел в восторг, когда ты разбил у него витрину.
— Гюнтер, не забывай, дружба дружбой, а служба службой. Твой Леви из Вены меня сейчас не интересует. А вот Лев…
— Господин фельдфебель, — раздается в темноте голос Аверова, — это я, старший санитар лазарета. Разрешите обратиться?
— Говорите!
— Я их тоже терпеть не могу. Русских и польских евреев я знаю хорошо, узнаю их в любом обличье. С Левом мы в лагере встретились случайно, но мы с ним земляки, почти что соседи. Я знаком с ним и с его отцом Андреем. Он русский человек, истинно христианская душа. Разрешите, я его разбужу.
— Пока не надо. Утром я сам проверю. Вас это не пугает?
— Нисколько. Я ведь прекрасно знаю, что, если совру, мне головы не сносить.
— Конечно!
В вагоне снова напряженная тишина. В темноте никто не видит ужаса у меня на лице. Ушам своим не верю. Аверов! Вот от кого не ждал добра. Ясно одно: он не сомневается, что я русский. А что будет с нами завтра?
Уже уходя, Губерт спрашивает:
— Гюнтер, дашь взаймы немного денег?
— На, бери.
— Спокойной ночи. Я тебя закрою снаружи.
Губерт ушел, но в вагоне остался страх, который впился когтями в мою душу. Хочется обнять соседа, шепнуть ему на ухо:
— Плохи мои дела, Кузя!
И еще хочется, чтобы он мне ответил:
— Здесь, в плену, минута что год. Вот и посчитай, сколько таких минут ты уже пережил и какие мы с тобой древние старики! Не забудь, не раз уже тебя спасал слепой случай…
— Все это правда, — возразил бы я, — но что меня может спасти на этот раз?
— Мало ли что! Всего несколько дней назад, когда тебя освободили из карцера, ты считал, что еще одну такую ночь тебе не пережить. А сейчас думаешь о завтрашнем дне…
Открываю глаза. Нет, не правы те, что говорят, будто в последние минуты жизни у человека мутится разум. Вижу все ясно и отчетливо… Любому, кажется, могу помочь советом, любому, но не себе. Легче выбраться из трясины, чем из этой тюрьмы на колесах.
Который час уже? Возможно, двенадцать.
Миллионы людей слушают сейчас Кремлевские куранты. Еще бы хоть разочек услышать их звон!
Ночь все быстрее катится под гору, все быстрее и быстрее. Издалека доносится глухой взрыв. В ночной тишине, учили нас, гул летящего самолета слышен километров за сорок. Взрыв, по-видимому, где-то еще дальше. Сквозь открытое оконце вижу, как лучи прожекторов шарят в чернильной тьме, цепко щупают небо, но гула аэропланов не слышно.
Над Могилевским железнодорожным узлом сегодня ночью советские бомбардировщики так и не появились. Ни со мной, ни с Губертом в эту ночь ничего не случилось, если не считать того, что у меня на висках прибавилось седины, а у него в кармане — несколько тысяч выигранных в карты марок. Его так захватила игра, что он забыл не только обо мне, но, пожалуй, и о себе.
С первыми петухами он постучал в дверь нашего вагона.
— Гюнтер, у тебя легкая рука. Давно уж мне так не везло в карты, как сегодня. Вот мой кошелек, спрячь. Держи — вот часики, браслеты, кольца и даже золотая брошь. Все это я выиграл у хромого капитана. А вот бутылку я тебе не доверю. За нее на станции такую цену заломили. Пойду выпью и лягу спать.
Губерт пригладил прямые, редкие волосы и перед уходом предупредил:
— Смотри, чтобы был полный порядок. Если что не так, разбуди меня немедленно.
Когда первые лучи солнца позолотили небо и в садах за высокими плетнями весело защебетали птицы, поезд тронулся. Набирая скорость, он миновал станцию, водонапорную башню, семафор.
ЦЫГАНСКИЙ ТАНЕЦ
Почему мы так долго стояли в Могилеве? И почему так спешим сейчас?
Мог ли я тогда знать, что те далекие, глухие взрывы, которые слышал ночью, первый привет от белорусских партизан…
Гюнтер и Карл, раздвинув дверь вагона, умываются, поливая друг друга водой из солдатского котелка.
Только что казалось, что конца-краю не будет длинному ряду телеграфных проводов, то сходящихся, то вновь разбегающихся в разные стороны. Но вот неподалеку от узкого железнодорожного мостика со столбов свисают, свернувшись спиралью, онемевшие нити оборванных проводов. От сгоревшего домика путевого обходчика осталась лишь одна труба. Чем дальше, тем чаще встречаются воронки, перекореженные рельсы, обугленные деревья. Вот мчится нам навстречу высокая глухая стена элеватора, местами сохранившая свою изначальную белизну, и какими-то совсем уж странными кажутся белые камешки, оставшиеся кое-где на насыпи. И вдруг попадется черно-белый полосатый столбик, тогда пахнет на тебя чем-то до боли родным, особенно если вокруг него сохранилась выложенная из кусочков кирпича красная пятиконечная звезда…
Раздается тревожный, протяжный гудок паровоза. Поезд замедляет ход. У железнодорожного полотна стоят ремонтники. С ненавистью смотрят они на Карла, на Гюнтера и на немецкого солдата, стоящего в тамбуре нашего вагона.
Издали кажется, что лес, спокойно и мирно дремлющий на пригорке, врезался в голубизну неба. Первыми бегут нам навстречу тощие и длинные деревья, напоминающие изголодавшихся мальчишек. Затем надвигается темной стеной ельник. Среди елей особняком стоят могучие сосны с красными стволами. Из леса тянет терпким запахом хвои.
У самой дороги, что бежит через неоглядное поле, стоит подвода с поднятыми кверху оглоблями. Женщина топчется у плуга. В упряжке тяжело шагает корова. Год назад здесь наверняка днем и ночью весело гудели тракторы.
Гюнтер позавтракал, напился черного кофе из термоса, чистым платком вытер губы. Теперь он сидит, охватив руками колени, во рту торчит толстая сигара. У него высокий умный лоб, пересеченный двумя глубокими морщинами. Волосы выгорели на солнце, да и время их не пощадило. Если бы не ненавистная серо-зеленая шинель, меня бы не пугал даже чужой и жесткий язык, на котором он говорит, — попросту не верилось бы, что он солдат гитлеровской армии.
Карл шагает взад и вперед по вагону. Его сапоги вызывающе скрипят. Лицо напряжено. Единственный глаз широко раскрыт. С мельчайшими подробностями рассказывает он Гюнтеру, как провел вечер у одной своей знакомой дамы, некоей Марии. Голос у него хрипловатый.
— Знаешь, — меняет он наконец тему разговора, — у меня к тебе просьба, напиши-ка мне письмо домой. Жена жалуется, что не все письма доходят, а те, что доходят, мараны-перемараны, ни черта не поймешь. Кто-то «помогает» мне переписываться с собственной женой. А ты, говорят, мастак по письменной части.
— О чем ты хочешь писать?
— Конечно же не о том, о чем я тебе сейчас рассказывал. Напиши ей, что на этот раз фортуна улыбнулась ее мужу. Вскоре она по-настоящему почувствует, что прав был фюрер, когда говорил — все достанется нам, немцам. Напиши ей, что я буду начальником большого склада амуниции. В моем распоряжении будут также швейные и сапожные мастерские. Возможно, в конце года получу отпуск.
Смотрю на Гюнтера: иронический взгляд, одобрительное покачивание головы. Что кроется за этим?
Глаза смыкаются, но я слишком устал и слишком взволнован, чтобы заснуть. Вот уж три часа, как мы едем без остановки. Фельдфебель Губерт, наверное, в единственном пассажирском вагоне нашего состава. На первой же станции он может зайти.
Кузя лежит с запрокинутой головой, будто подставляя шею под нож. У Аверова даже во сне лицо — загадка. Они, мои соседи, спят сегодня крепко, даже не предполагая, как чутко я прислушиваюсь к каждому шороху. Прижимаю колени к животу, глубже втягиваю голову в воротник и через мгновение уже не знаю, действительно ли серая, как дымок, птичка сидит на телеграфных проводах или это пригрезились во сне птички с открытки в альбоме моей сестры.
— Ауфштейн!
Ищу глазами фельдфебеля. Но не тороплюсь вставать.
— Ауфштейн! — Плечо обжигает удар нагайки. — Ауфштейн, руссишер швайн!
Хочется крикнуть, но язык будто одеревенел. И все же камень свалился с души: пока я еще такой, как все. Оказывается, нет никакого фельдфебеля, а Карл имел в виду вовсе не меня, а Кузю, моего соседа, которого он трясет, как грушу.
Наш состав остановился на полустанке. Дверь теплушки распахнута. Недалеко отсюда течет река. У берега дремлют вербы. В воздухе носятся ласточки. Вот они ввинчиваются штопором в воздух, застывают на месте, а затем камнем падают вниз со сложенными крыльями.
У вагона стоят Гюнтер и здоровенный, коренастый солдат, которого я видел в тамбуре. Он держит автомат наперевес, будто только что кого-то застрелил и сейчас ждет очередную жертву.
— Оправиться! — командует он нам.
Нас ведут к концу состава. Проходим мимо пассажирского вагона, — там собралась шумная пьяная компания.
В последней теплушке вижу раненых бельгийских лошадей. Хвосты коротко подстрижены, шкуры вычищены до блеска, все они такие сытые и спокойные. Когда мы проходим, они поворачивают к нам свои длинные головы. Уши торчком. Красные глаза смотрят настороженно. На минуту лошади даже перестают жевать прессованное сено.
Конь, стоящий ближе других к двери, раздувает ноздри и встряхивает густой гривой. Конюх поглаживает его стройную шею и приговаривает успокоительно и нежно:
— Ну, чего ты, глупыш, волнуешься? Тебя никто не тронет.
Еще бы, ведь это лошади.
— Куда их везут? — спрашивает Гюнтер.
— В Бобруйск.
Стало быть, едем туда. Из Могилева в Бобруйск есть два пути: через Жлобин и через Осиповичи. Каким же из них везут нас? В том и другом случае расстояние одинаковое — около двухсот километров. Значит, вскоре мы будем на месте. А по мне лучше бы тащиться как можно дольше.
Посреди двора у домика путевого обходчика стоит старик в засаленной рубашке, по-видимому хозяин, и подпиливает дерево. У него седая окладистая борода, падающая на грудь, но дерево, видать, еще старше его.
У опущенного шлагбаума останавливается телега. На ней лежит мужчина в белорусской серой свитке. Руки скручены за спиной. Возле него у телеги стоит тонкая, гибкая молодая цыганка с двумя детьми. Младшего ребенка она держит на руках, а старший — черноволосый кудрявый мальчик лет пяти — стоит, уцепившись за подол ее юбки. Около них — два полицая.
— Дядя Олесь, — обращается цыганка к хозяину дома, — будь ласка, вынесите кружку воды. Дети смерть как пить хотят.
Олесь поворачивает голову к телеге, прикрыв глаза ладонью от солнца, и долго смотрит на женщину. Наконец узнает ее:
— Боже мой, Маша, ты? Сейчас же принесу…
К домику приближается пьяная компания, что раньше шумела возле пассажирского вагона. Больше всех беснуется хромой капитан.
— Поди сюда! — кричит он цыганке. — Брось щенка и спляши-ка нам. Спляши! — показывает он руками и здоровой ногой.
— Пляши! — поддерживает его пьяная ватага и хлопает в ладоши.
Цыганка стоит в растерянности. Испуганно озираясь, она видит Олеся, который несет кружку молока и ломоть хлеба.
— Возьми! — подает она ему младшего и старшего тоже толкает к нему.
Маленький, прислонив головку к широкому плечу Олеся, тут же, сладко посапывая, засыпает. Старший мальчик беззаботно укладывается под деревом, на пыльной земле. Ему и здесь хорошо. Возможно, впервые за долгое время он наелся досыта и напился вдоволь молока. Еще раз взглянув на детей, цыганка, вытерев фартуком пот со лба, начинает дробно перебирать босыми загорелыми ногами. Однако сил ей хватает только на то, чтобы показать в вымученной улыбке ряд кипенно-белых зубов и вяло тряхнуть плечами.
— Господин капитан, — подает голос кто-то из офицеров, — она нас водит за нос. Разве так пляшут?
— Пускай разденется.
— Раздевайся! — приказывает капитан. — Считаю до трех!
Цыганка оглядывается на детей и, тряхнув головой, начинает рвать на себе цветную ситцевую кофточку, затем сбрасывает юбку и остается в одной сорочке.
— Так ты выполняешь мой приказ! — Капитан подходит к мальчику, лежащему под деревом, хватает его за горло и поднимает кверху.
Мне пришлось видеть, как истекают кровью на поле боя, как умирают в госпитале, как погибают от голода и холода. Но то были солдаты. А сейчас в когтях у зверя бился ребенок.
Стало тихо, очень тихо. На миг почудилось, что сам убийца пожалел о содеянном. Но где там… С парабеллумом в руках он шагнул к матери, которую пьяная компания не выпускала из круга. Она не кричала, не плакала: слишком велико было горе.
— Цыган надо истреблять точно так же, как евреев. Они все жулики и воры. Так сказал сам фюрер.
Он раздвинул сомкнутый круг, но Олесь опередил его:
— Пан офицер, она местная. Ее отец и муж были кузнецами.
Утомленный собственной истерикой, капитан опустил парабеллум.
В КРЕПОСТИ
И еще раз мне довелось встретиться с фельдфебелем Губертом. Это было в Бобруйске, нас только что вывели из вагона. Он шел нам навстречу. Лицо небритое, заспанное, мешки под глазами. На слабо затянутом широком ремне болтался тяжелый парабеллум.
— Сакраменто! — вопил он, сплевывая на все стороны. — Нет, больше я этой треклятой водки не пью! Вот только еще одну рюмочку, опохмелиться. Как у тебя дела, Гюнтер? Все в порядке?
— Все в порядке, — ответил Гюнтер.
— Тогда давай-ка сюда несколько марок и веди их дальше. Я вас догоню. В случае чего ждите меня у базара.
Базар шумит, бурлит. Из общего гомона вырываются зазывные крики:
— Картошка! Горячая картошка! Две штуки за немецкую марку! За русскую пятерку — одну!
— Соль! Десятка за ложечку! Налетайте! Только здесь, только у меня настоящая соль!
— Покупайте березовые угли!
Столы, столики, лотки. Грязно, загажено. Смотрю и не верю глазам своим. Неужели это тот самый край, богатый картофелем, льном, яблоками? Но еще больше меня удивляют люди. Из каких щелей вылезла вся эта нечисть, гудением своим напоминающая надоедливых мух перед дождем? Вот, например, толстуха с тройным подбородком. Она бойко торгует самогоном. Прыщавый молодой человек предлагает порнографические открытки. Накрашенная девица в коротком, выше колен, узком платье подмигивает прохожим. А вот и жандарм с круглой бляхой на груди ощупывает всех щелками пьяных глаз.
Но больше всего здесь голодных, великое множество голодных, которые, подобно нам, не в силах оторвать глаз от нарезанного тоненькими ломтиками хлеба. Нищие — молодые и старые, хромые и слепые, отекшие, рыхлые, как квашня, и худые, как скелеты. Они слетелись сюда, как птицы на крошки после чужого пира.
— Подайте милостыню, Христа ради.
Один из них, с впалой грудью, с лихорадочными, чахоточными пятнами на щеках, сидит, поджав под себя ноги, склонив голову набок, неотрывно глядя в одну точку, и тихо напевает советскую песню. Едва слышно повторяю знакомые слова…
Видно, у него болит грудь. Его то и дело душит кашель. После каждого такого приступа на сухих синих губах остаются хлопья розоватой пены. Мужик, что сидит неподалеку от него и плетет лапти из липового лыка, подсовывает ему что-то из своих скудных припасов. Курносый мальчонка с копной русых, давно не чесанных волос — он чувствует себя здесь как рыба в воде, — споласкивает кружку и подает певцу напиться. На несколько мгновений на его лице застывает выражение недетской скорби и гнева, но вскоре, увидев, наверное, нечто такое, что заставило его забыть обо всех горестях и печалях, он безудержно хохочет так, как умеют смеяться только дети. И снова звенит его голосок:
— Кому воды? Холодная и вкусная, прямо из колодца! Кому охота пить, налетай, не стесняйся!
Жандарм грозит ему издали тяжелым кулаком: мол, брось озорничать, а то уши оторву. Но маленький водонос не из пугливого десятка. Наоборот, блеснув глазенками, он смело переходит в контратаку: сначала дразнит жандарма, высовывая язык, а затем, когда тот направляется к нему, пальцем тычет куда-то вбок: эй, дяденька, не горячись, мол, оглянись-ка лучше, взгляни, кого бог несет! Как бы тебе не попасть впросак. Понятно?
И жандарму волей-неволей приходится отступить. Он туже затягивает ремень, поправляет бляху на груди и, изогнув губы в угодливой улыбке, отправляется навстречу начальству.
К нам приближается офицерский патруль. Высокий унтер-офицер строго спрашивает у Гюнтера:
— Другого места, где остановиться, не нашли?
— Фельдфебель приказал, — спокойно отвечает Гюнтер.
— Вы ведете их на работу?
— Нет, в крепость.
— Тогда нечего стоять, марш!
Сколько воды утекло с тех пор, как я в плену, и снова, как в первые дни, нас гонят по шоссе Москва — Варшава, что рассекает Бобруйск на две почти равные части.
На углу главной улицы, на единственной уцелевшей стене разрушенного дома, рядом с новым непрошеным названием сохранилась табличка с надписью: «Ул. Социалистическая». Можно, конечно, сорвать и этот клочок жести, но самое слово из памяти никому не вычеркнуть…
Крепость с трех сторон омывают воды Березины. Внутри, в самой крепости, несколько валов. Они сложены из кирпича, покрыты землей и поросли травой. На крышах слепых каменных башен растут березы и липы. В земляных валах прорыты туннели, в которых резвятся стаи мышей и крыс. Вот низко над землей стелется струйка пыли — это мышь, выскочив из земляного вала, мчится к каменной башне.
Нас ввели через ворота, что неподалеку от белой церкви. Сегодня нестерпимо жарко. Раскалены и земля, и воздух. Камни жгут ноги. Спасаясь от палящих лучей солнца, Гюнтер забрался в вахтерку, около которой стоит столб под зеленым навесом. На всякий случай он приказал двум полицаям охранять нас. Те о чем-то пошушукались, и один отправился к расположенному напротив зданию.
В лагере, откуда мы прибыли, полицаи старались держаться так, чтобы всем было ясно, какая пропасть нас разделяет. А тут полицай разговаривает с нами дружелюбно, спрашивает, откуда мы, рассказывает, как он спасся, когда осенью 1941 года здесь живьем жгли пленных. К Казимиру Аверову он обращается на «вы».
— Знаете, — улыбается полицай ему почти дружески, — мне бы больше хотелось служить в Могилевском лагере.
— Почему?
— Уж больно вы хорошо одеты.
— Господин полицай, — вмешивается в разговор Шумов, — в Могилевском лагере только у Казимира Владимировича были целые штаны, хороший китель и кожаные сапоги. Он у нас был старший санитар в лазарете.
— А ну-ка, покажите свой ремень, — обращается полицай к Аверову.
— Пожалуйста.
— Видите, как он мне впору? Честное слово, как по заказу.
К нам приближается второй полицай. Тремя пальцами он брезгливо держит грязный, рваный, видавший виды мундир. Швырнув его на землю, говорит своему приятелю:
— Ну, я пошел. Меня зовут…
Полицай, беседовавший с нами, носком сапога отбрасывает гимнастерку в одну сторону, брюки — в другую и дружелюбно, как и раньше, обращается к Аверову:
— Переодевайтесь, да скорее.
В Могилеве Аверову, «лагерному аристократу», такое мог приказать только немец. И сейчас Казимир Владимирович все еще думает, что с ним шутят. Но полицай уже расстегивает пуговицы у него на груди, не спеша, спокойно, со знанием дела. Со стороны может показаться, что сам Аверов просил его об этом.
Этот мародер — как не похож он теперь на простодушного деревенского парня, каким прикинулся сначала. Пусть только жертва попытается возразить: сдерет рубаху вместе с кожей, как срывают кору с дерева.
У Казимира Владимировича лицо налилось кровью. Он сопротивляется полицаю до тех пор, пока тот не начинает полосовать его нагайкой.
Отступив на несколько шагов, зову Гюнтера.
— Вас ист дас? — кричит он.
Полицай так уверен в своих правах, что не находит нужным оправдываться. А может, он не понимает немца?
Аверов, окровавленный, в разорванной рубашке, делает несколько шагов навстречу Гюнтеру.
— Грабеж среди бела дня! — говорит он. — Сам небось пленный, а за тряпку готов горло перегрызть.
— Поди сюда! — подзывает Гюнтер полицая.
Я знаю, что он сейчас сделает.
— Давай ремень! Ложись!
Ремень с таким свистом рассекает воздух, что я готов поклясться: Гюнтер в эти минуты видит перед собой цыганку и ее загубленного ребенка, старого железнодорожника, который посмел заступиться за нее, а может быть, и своего друга, доктора Леви из Вены…
— Вас ист дас?
С тем же вопросом, который Гюнтер задал полицаю, к нему самому сейчас обратился эсэсовец, обер-лейтенант. Гюнтер Пургель, отряхиваясь от пыли, лихо щелкает каблуками:
— Хайль Гитлер!
— Хайль! Что здесь происходит?
— Эта свинья, — показывает Гюнтер на полицейского, — забыл, кто здесь хозяин.
— Возможно. При других обстоятельствах я бы вас даже поблагодарил, но здесь строжайшим образом запрещено бить полицаев в присутствии пленных. Ясно?
— Яволь, господин обер-лейтенант.
Мы все сидим на земле. Только Аверов и полицай стоят друг против друга, как два подравшихся петуха. Полицаю, видно, не привыкать к таким переделкам: это не первая и, конечно, не последняя его «боевая операция». А Казимир Владимирович стоит с опущенной головой. Он знает — этот тип не скоро отвяжется. Несмотря на нестерпимую жару, Аверов дрожит. Из-под густых бровей смотрит на нас. На мне его взгляд задерживается немного дольше. Мне кажется, что-то надломилось в нем. Теперь, больше чем когда-либо, он нуждается в верном друге и, наверное, сожалеет, что не рассказал мне о своем заступничестве. Он присаживается около меня. Полицай шагает взад и вперед. Аверов выбирает подходящую минуту и спрашивает меня:
— У тебя есть чем защищаться?
— Иголка и бритвенное лезвие.
Иголка — это понятно. Он знает, что я всю зиму шил теплые шапки из старых одеял. Но лезвие? Он смотрит на меня удивленно. Я объясняю:
— Алвардяна помнишь? Это его.
— Не забывай, я на тебя рассчитываю.
— Не сомневайся, Казимир.
Шумова разбирает любопытство. Ему до смерти хочется знать, о чем мы говорим. Он делает вид, что дремлет, глаза закрыты. Но верить этому опасно.
— Эй, ты, поди сюда! — бросает Гюнтер, повернувшись к нам.
Шумов, всегда готовый к услугам, уже стоит на одном колене и, вопросительно улыбаясь, показывает рукой на себя.
— Иди, — подталкивает меня Аверов, — кажется, он имеет в виду тебя.
Кровь отхлынула от сердца. Наверное, вернулся фельдфебель. Если это так, Казимир Владимирович, тогда нам обоим несдобровать…
— Слушаю вас.
— Вы говорите по-немецки?
— Плохо, — отвечаю я.
— А понимать понимаете?
— Немного.
Он подает мне солдатский котелок и показывает на железную бочку с водой, стоящую поблизости.
— Ты мне будет поливай.
Гюнтер раздевается по пояс. Без очков он совсем другой: обросшее лицо кажется меньше и суше, губы тоньше. Глубокие серые глаза смотрят вроде бы строго, но даже когда он сердится, в них нет злобы и ненависти, потому что все время в их глубине прячется насмешливый огонек. У него широкая грудь, крепкие мускулы и гладкая кожа. Из ружья, прислоненного к стенке, он вынимает замок и кладет в карман брюк.
Заметив, что я облизываю пересохшие губы, Гюнтер разрешает мне напиться теплой, тухлой воды из бочки. Я смотрю, как Гюнтер намыливает лицо. Он поворачивает ко мне голову, но глаза у него плотно закрыты.
— Твоя фамилия Леви?
Некоторое время я молчу. Смахнув зеленую пену, вижу в воде свое отражение. Оно колышется вместе с маленькими волнами, поднятыми моим движением. Я и мое отражение — король пик. Но тот все-таки больше похож на человека.
И это исхудавшее, заросшее щетиной существо, не еврей, не татарин, вообще не человек, — это я?
— Моя фамилия Лев.
— А я думал, — говорит он, — что Лев имя, а не фамилия. О Льве Толстом ты слышал?
Оказывается, даже Гюнтер считает нас дикарями.
— Слышал, — отвечаю я.
— Кто ты по профессии?
Уж конечно я ему не стану докладывать, что, если бы не война, мы были бы коллегами.
— Рабочий.
— Ах, так! Будем знакомы. Я педагог. Звать меня Гюнтер, фамилия Пургель. Не станешь ли ты уверять, что слышал и обо мне? — смеется он.
— Да! Вы лингвист, — впервые рискую заговорить с ним по-немецки, повторяя его же собственные слова: — Русская литература хорошая литература! Толстой, Тургенев. — И так же, как он в ту ночь, оглянувшись, говорю тихо, но внятно: — Горький…
— Доннерветтер! Что за чудеса?
— Никаких чудес, господин Пургель. Вы меня уже однажды спасли. Вспомните. Осенняя ночь. Вы стояли на посту, а меня мой товарищ, тоже педагог, тащил в лазарет. Не помните? Осветив меня карманным фонариком, вы сказали: «Рус капут…» Скажите, пожалуйста, больше вы моего друга не встречали?
— Нет. Хотя погоди… Однажды во время моего дежурства на кухне он подошел ко мне. Ну, человече, если ты не врешь, значит, родился в сорочке. Скажи-ка мне, Леви, да не бойся ты, ради бога, мне это важно знать: ты еврей?
— Моя фамилия Лев.
— Знаю. Вчера, когда ты спал, приходил фельдфебель, тот, с которым мы тогда вместе стояли на посту. Твоя фамилия ему кажется подозрительной. Понятно? Сам по себе он вовсе не плохой человек, да только вот фельдфебеля получил совсем недавно, а новая метла, как известно, чисто метет… Предупреждаю: сегодня вам придется пройти медицинское освидетельствование. Скажи, Леви, могу я тебе, камрад, чем-нибудь помочь?
Хотя слово «камрад» прозвучало тепло и сердечно, я все никак не могу забыть, что на нем серо-зеленый мундир. И если бы не широкая, открытая улыбка, он бы узнал от меня не больше, чем от той стенки, к которой прислонил свою винтовку.
— Помоги, камрад!
И, сам испугавшись вырвавшегося признания, тут же добавляю:
— Моя фамилия Лев.
Почувствовав мое замешательство, он взволнованно спрашивает:
— Еще кто-нибудь об этом знает?
— Нет.
— А тот, твой приятель, педагог, тот знал?
— Да.
Гюнтер надевает очки, нервным движением снова срывает их, вытирает стекла, жмурит близорукие глаза, а с его лица не сходит выражение крайнего недоумения.
Мое недоверие развеялось окончательно, когда он мне крепко пожал руку и торжественно, как клятву, произнес:
— Спасибо. Если мне не суждено погибнуть, до конца своей жизни буду гордиться, что ты доверился мне…
Гюнтер ввел меня в вахтерку, дал кусок хлеба с маслом. Сам он встал у дверей и с видом человека, занятого важным делом, стал усердно чистить замок ружья.
ГЮНТЕР ПУРГЕЛЬ
В Могилевском лагере у врачей была крыша над головой. Они вовремя получали свою порцию баланды, свою пайку хлеба, их не гнали на тяжелую физическую работу. Кроме обер-арцта — приставленного для надзора за нашим лазаретом ефрейтора Леона, никто из немцев не осмеливался сунуть нос в лазарет — боялись заразных болезней, а если же кто-нибудь из охраны и врывался, Леон его немедленно выпроваживал. И тем не менее врачи были такими же пленными, как все остальные.
Здесь же, в крепости, мы увидели совсем других русских врачей: из-под распахнутых халатов выглядывали новехонькие серо-зеленые мундиры, а на плечах топорщились немецкие офицерские погоны. Один — пожилой, низкорослый, лысый, с большими торчащими ушами; второй — средних лет, русый, почти белобрысый, с холодными голубыми глазами — очень смахивал на немца.
Лысый обратился к Аверову:
— Вы врач? Ваша специальность?.. Ах, так, вы вовсе не врач! По какому же праву вы носите повязку с красным крестом?
Аверов ответил вопросом на вопрос:
— Разрешите узнать, как к вам обращаться?
Доктор смерил его глазами с головы до пят.
— Я Крамец, главный врач зондерлазарета, который вы будете ремонтировать. Конечно, если я вас возьму. Потом я вас, возможно, оставлю на работе в моем лазарете. Меня вы должны называть «господин гауптман».
Последние слова он произнес с гордостью.
— Господин капитан, я…
— Капитаном медицинской службы, — перебил он Аверова, — я был когда-то в вашей Красной Армии. Там я был вынужден лечить комиссаров и евреев. Здесь перед вами немецкий гауптман, запомните это!
— Простите, господин гауптман. Я не комиссар и не еврей, я зоотехник и повязку с красным крестом ношу потому, что был старшим санитаром в Могилевском лазарете. Все они, — показал он на нас, — опытные санитары.
— Разрешите, господин гауптман, — вмешался Шумов, — среди них я единственный со специальным медицинским образованием.
— Вот как? С кем имею честь? Вы академик или всего-навсего профессор? Ах, вы, оказывается, кончили в армии курсы санитаров? Великолепно. Так вот, запомните: медицинское образование здесь имеют только двое — Анатолий Леонидович и я! Вы, уважаемые господа, будете носить воду, глину, кирпичи, известь, убирать мусор. Завтра, например, вы засыплете старую уборную. А теперь, будьте любезны, раздевайтесь.
Напрасно Казимир Владимирович боится снять сорочку. Глупости! Гауптману не нужно его тряпье. Страшно мне. Не было бы хоть так ослепительно, так невыносимо светло.
Стою в углу, прикрываясь одеждой. Если бы я мог забиться в какую-нибудь щель! Доктор заглядывает Аверову в рот, считает зубы, щупает мускулы, нагибается, будто не знает, что у пленных не может быть венерических заболеваний.
Столько пережить, столько выстрадать и в конце концов попасть в руки такому негодяю! До чего же я был глуп, до чего наивен, как вон та муха, что так отчаянно бьется о стекло. Ее понять можно, стекло-то ведь прозрачное. И она еще, может быть, найдет щель… А на что я могу рассчитывать?
Доктор прикладывает фонендоскоп к спине Аверова, а сам смотрит, кажется, на меня…
— Одевайтесь, — приказывает он Аверову, — а ты, — обращается он к Кузе, — поди сюда! — Он велит Кузе закрыть глаза, вытянуть вперед руки, вынимает из кармана маленький деревянный молоток и ударяет Кузю по правому колену.
Стою, опустив глаза. Видеть мне сейчас никого не хочется. Но слышу, кто-то вошел.
— Здравия желаю, герр арцт!
Узнаю голос. Гюнтер. Поздно, дружище, поздно ты пришел…
Поднимаю голову и вижу, как Гюнтер подходит к столу, отодвигает в сторону офицерскую фуражку врача и кладет на ее место свою солдатскую пилотку и носовой платок, которым вытирал пот с лица.
У доктора дрогнула верхняя губа. Но Гюнтер не смотрит на него. Он роняет:
— Воды!
И еще раз, к врачу:
— Прошу вас, чистой воды!
— Анатолий Леонидович, — кричит гауптман своему заместителю, — будьте любезны, принесите воды, немец хочет пить!
Минутой позже на столике уже стоит вода в графине с отбитым горлышком.
Гюнтер вынимает из рюкзака картонную коробку и ставит ее рядом с графином, отвинчивает крышку фляги и приказывает принести еще два стакана. Вместо стаканов доктор приносит кружку и мензурку. Гюнтер разливает воду по посудинам, вынимает из коробки и бросает в воду красноватые таблетки. Вода начинает пениться и становится розовой.
— Пейте! — поднимает он свою кружку.
Врачи переглядываются.
— Пейте! — повторяет он. — Вы что, не слышали о законе военного времени?
Всем ясно, о каком законе он говорит: на оккупированной территории каждый колодец может быть отравлен. Поэтому хозяин, прежде чем угостить немца, сам должен отведать воды.
Анатолий Леонидович не пил, он тянул каплю за каплей. Его же коллега одним духом выпил кружку до дна и, вытирая губы, удовлетворенно сказал:
— В жизни ничего вкуснее не пил. Вот видите, Анатолий Леонидович, что значит западная цивилизация!
Врачи встали, поблагодарили Гюнтера, но тот и не собирался уходить. Он угостил их русским самосадом, от которого в горле дерет.
— Спросите-ка у них, — подмигнул он Аверову, — с каких это пор они перестали верить в немецкую медицину? А может быть, они не доверяют известному доктору Леону?
— Не понимаем, — ответили в один голос оба, когда Аверов перевел им слова Гюнтера.
— Вот как? — удивился Гюнтер. — Неужели вы не слышали о военном враче Леоне? Он самолично из сотен пленных отобрал именно этих. — И тут же добавил несколько мягче: — Доктор Леон мой земляк и, возможно, будет обер-арцтом вашего гарнизона.
Глаза Аверова сияют — он изо всех сил старается подобрать такие русские слова, которые не ослабили бы впечатления от слов Гюнтера.
Уже перед уходом Гюнтер спрашивает у врачей, куда ему нас доставить. Заодно он напоминает им, что Аверов высокообразованный человек и что доктор Леон относился к нему весьма благосклонно.
— До свидания, господа.
— До свидания. Спасибо за таблетки.
Снова светит солнце. Мы медленно идем по двору. Гюнтер приказывает Аверову:
— Отведите их к башне. А он, — показывает Гюнтер на меня, — поможет мне нести рюкзак до выхода.
Вот она, знакомая вахтерка. Гюнтер присаживается на пороге, стаскивает тяжелые солдатские сапоги, медленно перематывает портянки. Я стою в стороне и смотрю на него.
— Ну? — спрашивает он.
Что мне ответить? Отворачиваю голову. Горло сдавливают спазмы. Гюнтер надевает сапоги, встает, встряхивает меня за плечи и, приложив палец к губам, говорит:
— Молчи, камрад. Хотелось бы знать, как ты обойдешься со мной, когда я попаду в плен к вам. А ну, давай руку, вот так. Жалко будет, если мы не доживем до конца. Думаю, что потом больше войн не будет и тебе не придется скрывать правду.
Друг мой, Гюнтер Пургель! Как мне хочется знать, жив ли ты, как хочется, чтобы ты знал, что я жив. Позже я, кого мог, предупреждал: если где-нибудь встретите пленного немецкого солдата по имени Гюнтер Пургель, знайте: это наш друг.
СОКОЛ В НЕВОЛЕ
Здесь тесно, невероятно тесно: кажется, поднимешь ногу, потом уже не сумеешь поставить ее на прежнее место. Большие назойливые мухи беспрерывно жужжат и без страха садятся на лицо, забираются в уши, даже под рубашки. Жарко, душно, нечем дышать.
Люди стоят плечом к плечу, и хотя пересохшие губы, кажется, не в состоянии вымолвить ни слова, в воздухе стоит неумолчный, с ума сводящий гул.
Нижние нары захватили старожилы. На средних можно еще найти свободное местечко, а на верхние, прямо под накаленной солнцем железной крышей, никто не решается взобраться.
Аверов тяжело сопит и качается, будто в шторм на палубе корабля. Лицо пышет жаром. На шее вздулись голубоватые вены. Он спрашивает у соседа, что стоит, опершись о стенку:
— Почему у вас закрыты двери?
Тот поднимает опущенные веки и удивленно смотрит на Аверова.
— Ты что, с неба свалился? Неужели ты не знаешь, что даже входить и выходить нужно так, чтобы мухи не успели вылететь. Почему, спрашиваешь? Казармы немцев, правда, далеко отсюда, но они до смерти боятся дизентерии.
Теперь я понимаю, почему с потолка свисают длинные липкие бумажные ленты и сотни мертвых мух валяются на нарах и на полу.
Полицай, стоящий у входа, ударил по куску рельса, привязанному к столбу. И сразу в бараке стало тихо.
— Санитары из Могилевского лагеря, быстрее берите котелки. Марш за баландой!
Это обращение относится непосредственно к нам, но почему «быстрее»? Надо ли томимого жаждой в пустыне подгонять к источнику? И все же даже в этом случае, как, впрочем, и во всех остальных, нас все время подгоняют: «Быстрее!»
Похоже, во всех лагерях баланду готовят по одному и тому же рецепту: грязная вода, картофельные очистки, немного отрубей и много песка, который потом оседает на дне котелка. Баланда. Слово-то какое! И кто это придумал такое название для пищи? Но тот, кому довелось отведать это блюдо, знает, что вкус у него еще хуже названия. Зато пайка хлеба здесь больше, да и лучше выпечена, чем в Могилеве. Тихонько подсовываю Казимиру кусок хлеба с маслом, один из двух, которыми меня угостил Гюнтер. Аверов смотрит на меня, как на сумасшедшего.
— Выдержал? Не съел? Хотя погоди, догадываюсь… Он тебе, видать, рассказал, что было вчера вечером.
До чего же люди не похожи друг на друга, думаю я. Николай Сергеев вовсе не удивился, когда после долгого голодания мы поделились с ним в Сухиничском лагере первой порцией баланды, а в Кричеве — первой пайкой хлеба. Зато потом настала пора, когда он не мог сдержать слово и оставить хоть малую толику из того, что получал.
А Федя Пименов, сам на краю гибели, по-настоящему обиделся, когда я попросил его не делиться со мной.
— Не нужна мне твоя жалость, — сказал он со злостью. — Пока я что-нибудь оставляю тебе, я знаю, что сам остаюсь человеком.
А вот Казимир Владимирович не может себе представить, чтобы в плену кто-нибудь просто так поделился куском хлеба с товарищем.
— Не понимаю, о чем ты. Немец дал мне два куска хлеба, один для меня, другой приказал отдать тебе.
— Во-первых, — говорит Аверов, — он не немец, а австриец. А во-вторых, если бы вся армия Гитлера состояла из таких солдат, фюрер уже давно проиграл бы войну.
Он бы ее с такой армией и не начинал, хочется мне поправить его. Но я позволяю себе только пожать плечами, что можно истолковать по-разному: мол, кто знает или не нашего ума дело.
— А я, — говорит Аверов, — ни за что бы не донес хлебушек. Вот даже сейчас, — протягивает он свободную руку, — дай мне кусочек из твоей пайки, я и его, не задумываясь, проглочу.
Его рука дрогнула, будто он и впрямь собирался вырвать у меня хлеб.
— Осторожнее, если тебе неохота еще раз схлопотать по морде.
По отношению к Аверову я себе еще никогда такого не позволял.
— А ты, оказывается, кусаешься.
Как только стемнело, мы забрались на верхние нары. Во всем нужна привычка. Другие вот лежат, вытирают рукавом пот с лица и ничего, не жалуются. А у меня рубашка расстегнута до пояса, но воздуха все равно не хватает: голова кружится, в ушах звенит. Такое ощущение, наверное, у рыбы, выброшенной на песок. Будь на то моя воля, я предпочел бы всю ночь простоять на ногах, чем лежать здесь под все еще не остывшей крышей. Но Аверов боится, что его придет искать полицай, с которым он затеял драку.
У человека, что лежит возле меня, выбиты передние зубы. В руках он бережно держит старую, пожелтевшую фотографию и неотрывно смотрит на нее. Боже, до чего он худ. Кожа на лице так натянута, что, кажется, вот-вот лопнет. Сколько ему лет?
— Хотите познакомиться с моей женой? — застенчиво спрашивает он и протягивает мне фотографию, тут же тихо предупреждая: — Только осторожно, прошу вас. Больше у меня ничего нет.
Я не собирался заводить новые знакомства, но как-то само собой вырывается:
— У меня и этого нет.
Он пытается шутить:
— Жены или карточки?
— Ни того, ни другого.
Все. Кажется, можно поставить точку. Но мне почему-то неловко. Я подношу фотографию ближе к глазам и вижу нежное улыбающееся лицо в волнах кудрявых волос. Если они одного возраста, ему не больше тридцати пяти. Нет, невозможно представить себе его молодым. Может, из-за кустиков седых волос, оставленных лагерным парикмахером. Хочу вернуть ему фотографию, но он уже забылся беспокойным сном, и улыбка блуждает по его запекшимся губам. Может, ему снится любимая, а может, просто томится в жару. Осторожно толкаю его в бок:
— У меня в котелке есть немного воды. Не хотите ли глоток?
— Спасибо. Я уж лучше намочу тряпку и приложу ко лбу. Ну как? — спрашивает он, и в голосе его звучит наивная гордость. — Нравится вам моя жена?
— Прелесть до чего хороша.
— Правда? — Глаза его радостно сияют. — А некоторые смеются надо мной. Где она сейчас? Сегодня моей младшенькой исполняется два года. В прошлом году я ее поздравил телеграммой, но повидать так и не довелось.
— Сидели? — вмешивается в разговор Аверов. Это скорее не вопрос, а констатация факта. А я-то думал, что он уже давно спит. Недавно его так клонило ко сну, что голова беспомощно моталась из стороны в сторону.
— Нет, — отвечает наш новый знакомый, — летал на истребителе.
В голосе — сдерживаемая боль. Не верить его скупым словам нельзя. А мне почему-то хотелось спросить у него, не скрипач ли он. Кстати, зачем он говорит о своей профессии? Надо как-то напомнить ему, что здесь не место откровенничать.
— Разве отсюда не забрали командиров и летчиков?
— Уж давно. Но мне нечего бояться. Как говорится, утопленнику не страшна виселица. Видите?
Только сейчас я заметил пустую штанину.
— Начальник полиции прекрасно знает, кто я. Выбитые зубы — его рук дело.
Казимир Владимирович очень любопытен. Вот и сейчас он хочет выведать, что к чему.
— Вы из одной части с ним?
— Нет. Он-то как раз сидел, когда я летал.
Аверов весь напрягся, как охотничья собака на стойке. Сейчас он сядет на своего любимого конька.
— Так я и думал. Небось посадили ни за что ни про что. Вот он и обозлился. А мы еще удивляемся, откуда что берется.
Летчик рывком поднимается и поворачивается к Аверову.
— У вас все? — В его голосе раздражение. — Так вот послушайте, за что он сидел. Передаю слово в слово, что он сам не раз мне рассказывал. Родом он из Ростова. К восемнадцати годам уже прославился как дебошир и выпивоха. Однажды зашел в пивную и взял сто пятьдесят граммов водки. Только он поставил стакан, откуда ни возьмись пьянчуга, хвать стакан — и в глотку. В наказание он так двинул несчастного алкоголика, что тот пулей вылетел на тротуар. Но этого ему показалось мало, он выскочил на улицу и добавил. Короче говоря, когда приехала «скорая помощь», помогать уже некому было… Сам он еще не додумался до того, чтобы напялить на себя личину невинно пострадавшего. Зачем же вы пытаетесь нарядить волка в овечью шкуру?
Лицо у Аверова багровеет. Он зло смотрит на летчика.
Ссора, как обвал в горах, начинается с пустяка. И, как обвал, ее иногда никто не в состоянии остановить. И сейчас казалось, что ссора захлестнет весь барак. Но удар по куску рельса у входа предупреждает: а ну раздевайтесь-ка побыстрее и замолчите. Не то…
У меня так отекли ноги, что каждый раз, снимая или надевая свои рваные сапоги, я корчусь от боли. И сейчас, согнувшись в три погибели от пронизывающей боли, я медленно стягиваю сапоги с чудовищно распухших ног и укладываюсь на нары.
В висках стучит. Неумолчно звенит в ушах. Вытираю рукавом липкий пот с лица и становлюсь на колени у круглого оконца. Может, удастся хоть на мгновение избавиться от омерзительной вони, кажется пропитавшей тебя всего насквозь. Сильный, порывистый ветер гонит по небу отяжелевшие тучи. Молния, еще одна. Огненные зигзаги полосуют оловянное небо. Отсюда я вижу верхушку высокого дерева. Оно качается и скрипит, как флагшток тонущего корабля.
Мой сосед, летчик, кажется, заснул. Сон его беспокоен. При вспышках молнии я вижу, как он жует и облизывает пересохшие губы. Пустая штанина свернулась в узел.
За всю мою жизнь, приходит в голову мысль, у меня не было столько встреч и расставаний, столько вновь приобретенных врагов и друзей. Вот и этот человек. Возможно, я никогда больше не встречу его, не узнаю его имени. И все же я, как и многие другие, надолго запомню его.
Только-только забрезжил рассвет, как кто-то ворвался в барак. Шум, рев, гулкий топот сапог по цементному полу. Казалось, корабль моих сновидений взят на абордаж морскими пиратами. Свет включен. Голые электрические лампочки под потолком слепят глаза. По нарам шныряют полицаи. Они срывают шинели, всматриваются в лица. Ясно, кого-то ищут.
— Не меня ли? — в тревоге шепчет мне на ухо Аверов.
— Успокойся. Не похоже.
Нас предупреждают: ни с места. Кто попытается сейчас снять гимнастерку или сапоги, будет болтаться на виселице. Лежащие на первых нарах благополучно прошли проверку. Приказ — слезть со вторых нар. Наконец очередь доходит и до нас. Один из полицаев не спускает глаз с летчика, что стоит, как цапля, на одной ноге.
— Ты спал?
— Как ребенок после купания, — отвечает летчик, даже не пытаясь скрыть насмешливого огонька в глазах.
Полицай бьет его наотмашь по лицу и рычит:
— Не прекратишь болтать, язык вырву!
Были обнаружены двое, спавшие в одежде. Полицай, только что избивавший нашего соседа, летчика, спрашивает у дежурного, стоящего перед ним навытяжку:
— Кто из них недавно вбежал сюда?
— За всю ночь я никого не впускал и не выпускал.
— Ах, так! Пойдешь вместе с ними.
Казимир Владимирович доволен: искали не его. На радостях он даже помогает летчику забраться на место, заодно выясняет:
— Это кто? Начальник полиции?
— Нет. Его помощник. Сначала мы подумали, что эта собака из тех, которые лают, но не кусают. Теперь уже всем известно, что он умеет не только бить, но и убивать.
Снова барак погружается в тревожный сон. Шумов храпит и во сне, как и наяву, елейным голоском мурлычет: «Прости, господи». Аверов делает вид, что его не интересует разговор, который вполголоса ведут между собой наши соседи. Он забывает в эту минуту, что с такими широко раскрытыми глазами трудно сойти за спящего.
В лагере, оказывается, идет охота за душами. Группа предателей вербует среди пленных «добровольцев» для борьбы с партизанами. В ход пошел весь арсенал средств, которыми располагает гитлеровский рейх: побои, голод, жажда, клевета, всякие посулы. Немцы делают вид, что стоят в стороне, а всем, мол, делом заворачивает полиция. Случается, что, когда полицаи уж чересчур усердствуют, избивая пленных, к концу экзекуции появляется немецкий офицер и пытается их усовестить:
— Нехорошо. Вы ведь собираетесь вербовать добровольцев.
Совсем недавно каждый клочок бумаги ценился на вес золота. Теперь появились газеты, плакаты, воззвания, листовки. В большинстве своем они составлены топорно и глупо. Авторы их, по-видимому, полагают, что чем нелепее ложь, тем она правдоподобней. Но есть листовки, написанные рукой опытного провокатора, который отлично знает, что значит для преследуемых людей доброе слово.
В таких воззваниях ни единым словом не упоминается о борьбе против партизан, о том, что придется вырядиться в ненавистный серо-зеленый мундир. Зато там есть такие слова: «Не жди, поторапливайся, используй единственную возможность вырваться из плена». На цветном плакате нарисован повар в белом колпаке. На сытом, с румянцем во всю щеку лице добродушная улыбка. В руках тарелки со всякой аппетитной снедью, а в туманной дали колючая проволока и силуэты истощенных людей. Повар их зовет: пожалуйста, ешьте на здоровье.
Людям, умирающим с голода, если только дух их ослабел, такое западает в душу. Приманка застревает где-то в подсознании и на каком-то этапе обретает неожиданную силу. Берегись тогда — ты уже запутался в липкой паутине, что соткал для тебя двуногий паук. Душа твоя в опасности, ей грозит нечто более страшное, чем смерть, если только кто-то, отважный и мужественный, ради твоего спасения не поползет глухой ночью от стены к стене и кусочком угля — карандаша у него нет, — спеша и волнуясь, не напишет вкривь и вкось на одном плакате: «Пока ты еще не стал предателем, одумайся!», на другом: «Лучше смерть, чем предательство», на третьем: «Цена их обеда — братоубийство».
Виселицы, виселицы, виселицы. Переполненные карцеры. Людей перегоняют из лагеря в лагерь. В бараках дежурят полицаи. Приказано на ночь обязательно раздеваться. И все же борьба полумертвых, истощенных людей против сытых, до зубов вооруженных убийц продолжается. Фашистские листовки исчезают, сорванные чьей-то рукой. Чья-то рука пишет на них воззвания к узникам.
Ветер разгулялся не на шутку. Клонит к земле деревья, прогоняет с них ворон, которые с возбужденным карканьем носятся в воздухе, забирается под полу шинели вахмана, стоящего на посту, залезает в трубу и выводит там дикие, заунывные напевы.
Но вот тучи замедляют свой бег, плотно сбиваются и наспех, до того, как повернуться к земле перед уходом серой круглой спиной, освобождаются от своей влажной ноши.
С деревьев и крыш еще стекают прозрачные капли, а на сером предрассветном небе уже сияет радуга. Потом медленно появляется солнце, то самое солнце, что только недавно взошло над Москвой.
Семью часами раньше его первые лучи приветствовали дальневосточную тайгу, затем необъятные просторы Сибири, уральские домны, азербайджанские нефтяные вышки. А потом, поближе к линии фронта, его беспощадный свет то и дело рассекречивает аэродромы, огневые точки, танки, бронепоезда…
Солнце торопится на запад. Но и через два часа вместо того, чтобы ласковым теплом заливать хлеба на полях, цветы на скверах, воды в реках, оно будет освещать тысячи и тысячи немецких касок. Так будет в Будапеште и Белграде, в Варшаве и в Вене, в Праге и в Брюсселе и тем более в Берлине. И так пока изо дня в день.
«КАРЬЕРА» АВЕРОВА
Сначала показался домик, стоящий как бы на краю света. На коньке — деревянный петух с красным гребешком. У плетня — беременная женщина в широкой кофте. По всему видно, не сегодня завтра ей придется решать, как назвать ребенка. Во дворе — крошечный садик. Клумба насыпана бугорком, напоминающим могильный холмик. За домиком — узкая улочка, которая в зависимости от времени года тонет то в грязи, то в пыли.
У каждого города, как у каждого человека, свой характер, своя физиономия. Только руины все на одно лицо. Поросшие травой развалины напоминают старые, покосившиеся надгробья.
Город, расположенный на правом берегу реки, тихо принял группу военнопленных с краснокрестными повязками на руках, сопровождаемую двумя полицаями. Прохожие даже не оглядываются: столько за время оккупации пережито, столько горя каждый из них хлебнул, что вид еще нескольких несчастных не может привлечь их внимания.
Нам навстречу по мостовой шагает рота «добровольцев», уже вырядившихся в ненавистную форму. Появись на улицах города марсиане, они наверняка не произвели бы такого впечатления. На них смотрят в упор, не отводя глаз. Нас такими взглядами никогда не встречают, немцев не провожают. На нас почти все смотрят с жалостью, редко кто безразлично. На немцев — чаще всего со скрытой ненавистью. На этих же смотрят кто с ненавистью, кто с недоумением, но все с презрением и гадливостью.
— Выше голову, орлы! — требует офицер, человек с торопливыми, неуверенными движениями. Хоть командует он на чистейшем русском языке, слова звучат как чужие. — Ать, два, три! Ать, два, три! Малинин, затягивай.
И Малинин затягивает.
Что-то знакомое почудилось мне в голосе, во всем облике Малинина. Знаю, где-то я его видел, но не могу вспомнить, где и когда.
Роту сопровождает несколько немецких офицеров и солдат, вооруженных автоматами. Похоже, хозяева хотят командовать парадом, оставаясь в тени.
Мы идем мимо высоких зданий, мимо маленьких домишек. Доходим до длинной аллеи. Высокие тополя шумят листвой. По обе стороны аллеи — четыре стандартных двухэтажных дома. У второго слева копошатся несколько военнопленных.
— Саша, а Саш! Глянь-ка, нашего полку прибыло.
Тот, кто оповещает о нашем прибытии, задирает голову вверх, предоставляя нам возможность полюбоваться его курносым профилем. Саша, по-видимому, находится на втором этаже, а может быть, и на чердаке. Оттуда доносится глухо:
— А нас, поди, прогонят? Спроси у них, Петька.
Петька, может быть, и спросил бы, но Аверов угрожающе насупил свои густые брови, и Петька исчез.
— Кого вы привели? — спрашивает у полицаев молодой человек с помятым, одутловатым лицом и красными веками. На нем заплатанный, видавший виды немецкий мундир.
Полицаи пожимают плечами. Им приказано доставить нас сюда. Что делать дальше, им скажут здесь. Аверов вмешивается в разговор:
— Мы медики, но пока будем помогать строителям ремонтировать госпиталь.
А строителей-то, оказывается, уже нет. Стены и потолки побелены. На первом этаже даже покрашены полы. Несколько пленных слоняются из угла в угол, как сонные мухи. Их дело — вынести мел, глину, мусор со второго этажа. На сверкающих свежей краской полах они оставляют грязно-белые следы. Тут-то Аверов показывает свой нрав. Как только нас вводят в помещение, он схватывает подвернувшегося под руку Петьку за шиворот и начинает орать, стервенея от злости:
— Твоя работа? Кто тебе разрешил здесь шататься?
Петя не оправдывается, не делает попытки освободиться, стоит молча, втянув голову в плечи. Придя наконец в себя, он, испуганно озираясь, зовет:
— Саша, что он ко мне пристал как банный лист?
Задыхаясь от быстрого бега, в комнату врывается Саша, который, оказывается, на голову ниже своего друга. Он мгновенно оценивает обстановку: тот, кто держит Петьку, не немец и не полицай. А раз так, можно бросить на него взгляд, который более красноречиво, чем слова, предупреждает: «Не тронь». Когда это не помогает, Саша кричит:
— А ну-ка, отпусти парня!
Аверов послушно забирает руку.
— И ты тоже хорош гусь, — с насмешливой улыбкой поддразнивает Саша приятеля. — «Саша! Саша!» Руки у тебя отсохли, что ли? Чего стоишь, как казанская сирота? Двинул бы его разок лопатой по голове, живо отучился бы руки распускать.
В словах, в самой интонации слышится глубокая привязанность к тому, кого он защищает.
Не знаю, как бы обернулось дело, но на пороге появляется доктор Крамец.
— Что за шум?
— Господин гауптман, — Аверов делает шаг вперед, — разрешите обратиться!
— Молчать! — рычит Крамец. — Отвечать будете, когда вас спросят. А вот вы, фельдшер, — тычет он пальцем в сторону молодого человека с одутловатым лицом, — вы обязаны мне обо всем доложить.
— Прошу прощения… В нашей армии мне тоже всегда доставалось за нерасторопность.
— Не в нашей, а в Красной, — поправляет его гауптман. — Не рассусоливайте. Что здесь произошло?
— Вот тот схватил за шиворот этого за то, что он разносит грязь по палатам.
— «Тот», «этот»… От вас за версту несет гражданкой. Приказываю: всех, кто с грязными ногами войдет в чистую палату, гнать отсюда в лагерь. Полицейские, кто здесь старший?
— Я, господин гауптман.
— Слыхали мой приказ?
— Слыхали. Будет выполнено, господин гауптман.
— Слушайте дальше. Все они должны работать, а не баклуши бить. Вот этого дурня с лопатой оставить без обеда. Ясно?
— Ясно, господин гауптман.
— Фельдшер, даю вам два дня сроку. Чтобы у меня везде блестело. На первом этаже пусть сегодня же приберут. Потом вы им покажете, где рыть яму под фундамент дезкамеры.
— Разрешите спросить: а что будет с окнами?
— Скажи пожалуйста, — ухмыльнулся Крамец, посмотрев на фельдшера как на ожившее чучело. — А мне казалось, что вас, фельдшер, ничего не интересует. Ящик со стеклом стоит на чердаке. Стекольщика я вам на днях пришлю. А вы что хотели у меня спросить? — обращается он к Аверову.
Казимир Владимирович угодливо кашляет в кулак:
— Прошу прощения, я бы советовал вперед убрать второй этаж, иначе работа затянется. Кирпичный бой и глину надо ссыпать подальше, чтобы пыль не летела в комнаты.
— Согласен. Но запомните: здесь не комнаты, а палаты и кабинеты. Ваша фамилия? Фельдшер, запишите: он назначается старшим. С него и спрашивайте. Итак, помните — два дня сроку.
Назначение Аверова обрадовало меня. Будет легче связаться с кем-нибудь на воле и бежать.
Хитрец Аверов прекрасно понимает, с кем имеет дело. Особенно он пришелся по душе Крамецу своими замечаниями о кабинете для главного врача.
— В палатах, — доказывает он Крамецу, — двери должны быть до половины стеклянные. Пусть больные знают, что за ними наблюдают. Но в кабинете главного врача — ни под каким видом. А вдруг кто из немцев захочет к вам зайти? Зачем лишние глаза! Я бы ваши двери обил коричневым дерматином. Еще бы мне с десяток латунных гвоздиков, таких, знаете, блестящих, с широкими шляпками… А стены? Зачем их белить? Если уж нельзя достать масляную краску, то хотя бы клеевую с колером или обои. Так будет приятнее вам и нашим посетителям.
Переделать без особого разрешения дверь главный врач не решается. Но зато он достал для своего кабинета ситцевые занавески. Вместо краски и обоев немцы выдали ему несколько порошков синьки. Аверов смешал ее с мелом и сам покрасил кабинет Крамеца.
Фельдшера главврач окончательно отстранил от хозяйственной деятельности после истории со стеклами…
А началась эта история вот с чего.
Каждый день, когда нас приводили на работу, мы обнаруживали в какой-нибудь палате выбитые окна.
В соседнем доме квартировали бельгийские солдаты. Они пьянствовали, буянили, приставали к женщинам. Но особой любовью у них пользовалась игра в мяч. Фельдшер вечно жаловался, что это именно они бьют стекла.
Однажды гауптман набрался смелости и отправился в сопровождении Аверова-переводчика к соседям. Оттуда они выскочили как ошпаренные, а вслед им неслось дикое улюлюканье и свист.
— Сумасшедшие! — ругался Крамец. — Да ладно, наплевать. Стекла у нас есть. Вот будет постоянная охрана, тогда и остеклим окна.
Верил и я, что стекла бьют веселые соседи лазарета. Но однажды я увидел, как Саша палкой, которой он только что размешивал глину, одним ударом раскрошил матовое стекло. Заметив меня, он замер. Вся кровь, казалось, отхлынула от лица.
После того как он так решительно заступился за Петю Ветлугина, мне захотелось подружиться с ним. Но Саша смотрел на меня зло, с недоверием, на мои вопросы отвечал сквозь зубы, разговаривал со мной редко и неохотно. Я понимал, что причиной тому моя кажущаяся близость с Аверовым. И вот теперь…
«Наябедничаешь?» — с презрением спросили его глаза.
Поблизости никого не было.
— Давай сюда палку, да поскорее…
Выбить еще два стекла не стоило большого труда. Ущерб, принесенный немцам, был столь незначителен, что и говорить о нем не стоило бы, но с этих пор началась наша с Сашей дружба. Несколько позже Саша пожаловался Аверову, что дикари опять «считали» наши стекла, и меня взял в свидетели.
— Ну их к дьяволу, — в сердцах сказал Аверов. — С ними разговаривать можно разве что пулеметами и пушками.
Пришел стекольщик. Принесли лестницу, и мы залезли на чердак, заваленный всяким хламом. Стекло в ящике, о котором столько говорил Крамец, было разбито на мелкие кусочки.
Стоило взглянуть на господина гауптмана в тот момент, когда ему доложили о случившемся!
С неожиданной для его рыхлого тела ловкостью он взобрался на чердак, а когда спустился, в лице не было ни кровинки. Он бегал из комнаты в комнату, словно сорвавшись с цепи, кричал, что мы сами рубим сук, на котором сидим, плевался, грозил, что нас всех упрячет в карцер. Фельдшера он наградил оплеухой. Потом сел писать рапорт начальству. А нас для острастки оставил без обеда.
Среди санитаров больше всех горячился Шумов, из кожи лез, доказывая, что виноват кто угодно, только не он.
— Тут дело не обошлось без вас, — показал он широким жестом на нас всех, — вот пускай и вешают того, кто заслужил, а я не хочу быть без вины виноватым.
Аверову, по-видимому, не понравилось, что Шумов его включил с нами в одну компанию. Он подошел к Степе и, наклонившись к его уху, будто собираясь поверить тайну, сказал громко:
— Чего треплешься, сопляк несчастный? Ежели человек громче всех кричит: «Держи вора», он сам и есть вор. Не из-за тебя ли все страдаем? Помнится мне, что несколько дней назад я тебя посылал на чердак за тряпьем.
— Аверов, вас зовет Пипин Короткий.
— Кто? — спросил Аверов удивленно у фельдшера.
— Главный врач. — Теперь, когда он допустил оплошность и при всех назвал гауптмана так, фельдшеру уже нечего было терять, и он говорил с Аверовым в нашем присутствии, не таясь. — Помните, только вы можете уговорить его не посылать рапорт. Отошлют — тогда нам всем крышка, запорют до смерти.
Далеко не все знали, подходит ли главному врачу данное ему фельдшером прозвище, но оно сразу к нему прилипло, и за глаза Крамеца только так и называли: «Пипин Короткий».
Казимир Владимирович свою миссию выполнил. Рапорт он перевел на немецкий, но Пипину намекнул, что главному врачу придется отвечать в первую очередь. Что касается его, Аверова, он, мол, абсолютно уверен, что все это штучки бельгийских солдат. Сегодня рано утром они уехали и всю ночь накануне так буйствовали, что в доме, где они жили, ни одного стекла не уцелело.
У главного камень с плеч свалился. Он еще для приличия некоторое время колебался, но другого выхода не было. Казимиру Владимировичу он заявил:
— Если дело со стеклом пройдет, считайте, что вы сделали карьеру. Я вас назначу старшим по госпиталю. Сам я буду заниматься лечебной частью, вы — всем остальным.
Через несколько дней Аверова куда-то увели. Прошло не больше часа. Сидя на полу и глотая жидкую похлебку с плавающими в ней капустными листьями, мы судили-рядили, что могло случиться. Вдруг дверь открывается, и в комнату входит немецкий унтер-офицер и медленно проходит мимо нас. Глоток застрял у меня в горле. Мне стало страшно до дурноты: это был Аверов.
В конце дня он меня вызвал к себе. Теперь у него была отдельная комната. Там громоздились железные кровати, лежали груды подушек, одеял, простынь — все необходимое для будущих больных. Сам он сидел, подперев голову руками.
— Господин унтер-офицер, прибыл по вашему приказанию.
— Чего дурака валяешь? Хватит выпендриваться. Садись, — указал он на разбитый, изъеденный шашелем стул.
Я стоял, не двигаясь с места.
— Что уставился на меня, будто я с луны свалился? Уж не издеваешься ли ты надо мной?
— Господь с вами! Вы унтер-офицер германской армии, а я советский военнопленный.
Несколько минут молчания. Потом он бросил на меня взгляд исподлобья.
— Молод еще мне нотации читать. Последний раз говорю, садись.
Будь я поспокойнее и повнимательнее, я бы заметил — дольше сопротивляться опасно. Кулаком он так стукнул по столу, что кружка, стоявшая на нем, упала на пол. Меня он обложил трехэтажным матом и силой усадил на стул.
— Болван несчастный, ведь я тебя, дурака, жалею. Хочешь есть досыта?
От него разило водкой.
— Отстаньте от меня. Такого хлеба мне не надо. И, пожалуйста, не воображайте, что вам завидуют. Отпустите меня. Вы пьяны.
— Такой у них обычай: вместе с чином подносят водку. Одно вакантное место у нас еще есть. Требуется старший санитар. В два счета обработаю Пипина, и ты устроен. Вот зачем я тебя позвал.
Сердце у меня замерло. По телу побежали мурашки. Заяви он мне: «Я знаю, что ты еврей», меня бы это не так потрясло.
— Казимир Владимирович, будьте вы хозяином своего слова! Вы ведь обещали не причинять мне зла. Казимир…
— Уже сорок с лишним Казимир. Сказал — так и будет.
— Нет, я не позволю так обращаться со мной.
— Вот как? Думаешь, я забыл, что у тебя есть иголка и лезвие Алвардяна? Это, мальчик, ты имеешь в виду, да?
— Это или другое, не важно. Вы помните, я сам вам все рассказал, хотел, чтобы вы знали — я готов заступиться за вас. Поверьте, я выполнил бы свое обещание.
— Верю. И не забыл о куске хлеба с маслом.
— Так окажите божескую милость, оставьте меня в покое. Лучше уж прогоните в лагерь.
— Понимаешь, — он положил мне руку на плечо, — на эту должность метит Шумов. А я его терпеть не могу. Нужен он мне, как пятое колесо телеге.
— Может, еще кто из санитаров хотел бы занять должность старшего?
— Во-первых, мне никто об этом не заявлял, во-вторых, мало ли кому что хочется. Не каждого я захочу. Вот, к примеру, Саша Мурашов. Прямо тебе скажу, не по душе мне твоя с ним дружба. И то, что этот дурень Ветлугин ходит за ним, как теленок за коровой, мне тоже не нравится.
— Напрасно, Казимир Владимирович. Мурашов — хороший парень. Он мне рассказывал, как подружился с Ветлугиным. Оба они родом из Казани, служили в одной части. Когда они попали в окружение, Саша вытащил контуженого Ветлугина из-под обстрела и тащил до тех пор, пока в него самого не угодила пуля. И тогда Петя из последних сил понес его, добрался с ним до леса и несколько суток не отходил ни на шаг, пока Саше не полегчало. И в плен они вместе попали. Что ж в том удивительного, что они держатся друг друга? Конечно, в старшие санитары Саша не годится. Молод и горяч. К тому же он, как и я, не получил медицинского образования.
— Хватит, — процедил Аверов сквозь зубы. — Пьян-то я пьян, да не очень и отлично понимаю, что ты имеешь в виду. Сегодня я с Крамецем о тебе говорить не стану. А дальше увидим. Может, тебе какое лекарство нужно?
— Что-нибудь от кашля, с вашего разрешения. Летчика кашель замучил.
— Твой летчик птица не простая. Да ладно уж, если тебе так хочется, бери. Вот там стоят капли датского короля. Привет не забудь передать. Но обо мне ему ничего не рассказывай.
— Казимир Владимирович, а вам не все ли равно?
— Ежели прошу не рассказывать, стало быть, не все равно.
— Значит, мы к тому разговору больше не вернемся…
И на этот раз я не раскусил Аверова до конца.
СПАСИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЕК
Крамецу, главному врачу, дал прозвище фельдшер. Мне — Шумов. Десятки раз на дню ему не надоедает орать во всю глотку:
— Эй, жених, невеста ждет!
Степа щерит в похабной улыбке длинные, острые зубы, подмигивает, будто намекая на какую-то грязную историю, о которой известно только нам двоим.
Жених да жених, и понемногу все забыли, что у меня когда-то было имя, была фамилия. Для меня, быть может, это к лучшему. Но не пострадает ли она? Ведь и ее Шумов не раз окликал:
— Погоди-ка, невеста, сейчас пошлю тебе жениха.
Моей «невесте» неполных шесть. Она не понимает, что Шумов хочет ее обидеть. Она даже самого значения слова «жених» не понимает. В одном она уверена — «женихом» называют дядю, который ее очень любит.
Познакомились мы с ней в первый же день моего прибытия сюда. По ту сторону колючей проволоки, ограждающей наш двор, в тени тополей темнел овраг. На дне его, где трава была особенно зеленой и сочной, паслась черная коза. И хоть она весь день, не поднимая головы, жадно щипала траву, на запавших боках можно было пересчитать все ребра. Коза то и дело поворачивала голову к своей хозяйке, издавая при этом протяжное «ме-е-е». А хозяйка, босоногая, худенькая девочка, точно случайно залетевший в наши унылые края мотылек, тихо сидела, пригнув головку к плечу.
Почему, думал я с горечью, она даже не смотрит в нашу сторону? Мама не велела или сама догадалась, что нами, горемычными, интересоваться не след? Позже я, к великой своей радости, узнал, что просто в то утро бабушка так туго заплела ее льняные косички, что бедняжка не могла повернуть голову.
Скоро обед. Минуты ожидания тянутся для нас, вечно голодных, как страшный сон. Мы с Кузей лежим в тени под забором. Узловатые корни деревьев впиваются в бока, но я не двигаюсь с места, потому что рядом груда битых кирпичей, покрытых толстым слоем пыли.
Мы с Кузей смотрим в одну сторону. Он беззвучно шевелит губами. Целую вечность мы не видели детей. А тут — вот она, сидит, загорелая, в пестрой ситцевой юбчонке на узких бретелях, в колпачке из газеты на светлой головке. Сидит, по-детски скособочившись. Ножки длинные, тонкие, и сама вся тоненькая и гибкая, как ивовый прутик. Иногда улыбается чему-то, и на щечках появляются ямочки.
Кузя заснул. Брови у него совсем белые, будто припорошенные снегом. Под глазами синие круги.
Девочка возится в траве, хворостиной копает землю. Вот она вынула из кармана ломтик серого, как высохшая глина, хлеба, узелок с солью. Она, очевидно, заметила, что я слежу за ней, вздрогнула, повернула голову в мою сторону и прикусила губенку.
«Ме-ме-ме», — плачет, надрывается коза. Она запуталась в веревке, стоит, пригнувши голову к земле, и не может двинуться с места. «Ме-ме-ме».
Освободить ее не так-то просто. Надо оттолкнуть заупрямившуюся козу, может, даже развязать узел веревки, которой она привязана к колу. Пастушка, хоть еще не хочет признаваться в своем бессилии, вот-вот расплачется.
— Разрешите, — прошу я полицая, стоящего у калитки, — на одну минуту.
Вот при каких обстоятельствах я узнал, что девочку звать Томой, а козу — Муркой.
Назавтра Тома уже на правах старой знакомой рассказала мне, что бабушка все утро проплакала. Почему? Оказывается мать Томы и ее старший брат ушли к тетушке в деревню. Вот уж три дня прошло с тех пор, а их все нет. Бабушка говорит, что теперь, даже если придется всем помирать с голоду, она маму больше из дома не выпустит. На мой вопрос, где папа, она не ответила и, кусая ногти, низко опустила русую головку, вздернув узкие, худенькие плечики.
Понимает ли она, что фашисты лишили ее детства? Пока еще, пожалуй, нет, но, когда придет светлый день победы, похищенные дни, те, с которых все начинается, уже не вернуть. Ей не играть с девчонками в классы, не рисовать мелом на шершавом тротуаре квадраты и, прыгая на одной ноге, не толкать плоский камешек или кусочек стекла — в «рай» и в «ад».
У меня в кармане есть тонкая бечевка. Я связал оба конца, натянул веревку на мизинец и на большой палец, потом перехватил ее указательными пальцами обеих рук и выставил через колючую проволоку.
— Хочешь, — сказал я, — сделать речку? Осторожно просунь пальцы сюда. Нет, не так. Давай ручки, я надену тебе на пальцы бечевку и покажу, как перехватить ее, чтобы получилась речка.
Игра захватила ее. Жаль, что перерыв так мал. Свисток уже напоминает: за работу.
Потом Тома вдруг исчезла. Какие только мысли не томили меня: наверное, с матерью и братом случилась беда. А может, немцы забрали козу, девочка льет горькие слезы и некому ее утешить? А что, если она сама захворала?
И вдруг мне удивительно ясно и отчетливо представился отчий дом, родная деревня в широкой степи. Был я тогда в Томином возрасте. Раз в месяц, в ночь со среды на четверг, отец отправлялся на базар в соседний город, за сорок километров от нашей деревни. Зимой, если до вечера отец не возвращался, я стоял, бывало, у окна и дыханием отогревал на изукрашенном морозными узорами окне маленький, с копеечку, глазок. Через это оконце, глядящее в темный вечерний мир, я видел, как медленно кружатся в воздухе снежинки и устало ложатся на скирду сена у нас во дворе, на замерзшую землю. Я смотрел на белые пальмы на стеклах, на падающие хрустальные звездочки и забывал, зачем смотрю в окно. Мать напоминала:
— Слышишь, скрипит? Это сани или ветер?
— Ветер, мама.
И снова она шагает из угла в угол, ломая руки и проклиная ветер: негодяй, украл у отца из-под носа дорогу. Ее беспокойство передается мне. А разыгравшееся воображение услужливо рисует картины одна страшнее другой. Вот я дерусь один на один с ветром, который с адским шумом налетает на меня, ловлю пригоршнями колючий снег, бросаю его ветру в лицо и, собравшись с силами, останавливаю подгоняемый им столб белой пыли. А затем вижу совершенно отчетливо — нет, не отца, а только его нос, который вот-вот замерзнет, потому что злой ветер украл у него дорогу. В страхе я отступаю от окна и прижимаюсь к маме.
— Горе мне! — восклицает она. — Кто напугал ребенка?
И она, что знает каждую родинку на моем теле, нетерпеливо ощупывает меня, будто ищет то потаенное местечко, где гнездится страх, чтобы изгнать его оттуда.
Почему воспоминания о далеком детстве всколыхнулись во мне именно сейчас? Не потому ли, что меня снедает забота о Томе, о ее матери, которую я никогда в глаза не видел?..
Кабинет главного врача снова переоборудуется, согласно новейшему плану Аверова. Тоненькая перегородка отгородит угол, где будет стоять койка Крамеца. Мы с Сашей Мурашовым носим фанеру и доски. На обратном пути накладываем на носилки куски штукатурки, стружку и мусор. Еще на лестнице, деревянные ступеньки которой приятельски скрипят в такт нашим шагам, слышу голос Шумова:
— Жених, открывай ворота. Невеста с тещей пожаловали.
Степан, Степан, если это правда, какую же ты, сам того не желая, доставил мне радость! Даже гаденькая твоя улыбка не может отравить мне ее.
Степан не соврал. На том месте, где Тома обычно пасет козу, разостлан старый, рваный мешок. На нем сидит, надув губы, сама Тома, с ней рядом — женщина с копной светло-русых волос. У нее строгое, но нежное лицо, весь ее облик, грудной голос, мягкие движения, старое, в заплатках, но чистое и наглаженное платье — все вызывает уважение. По всему видно, Томина мать. Она сидит боком, и поэтому кажется, что одно плечо у нее выше. Не только девочка, но даже Мурка повернула голову и смотрит к нам во двор. Ведь мы с ней тоже добрые друзья. Она не раз брала с моей ладони мокрыми, мягкими губами немножко сена, найденного мной во дворе.
От забора меня отделяют трухлявое бревно, пустая бочка и носилки, поставленные на ребро. Моя голова, как в рамке, торчит между ручками носилок. Оглядываюсь налево, направо. Кажется, опасаться некого.
— Мама, — слышу я Томин голосок, — вот он. Видишь?
— Здравствуйте, — приветствую я Томину мать. — Благополучно съездили?
— Здравствуйте. — Мой вопрос она либо не расслышала, либо не поняла. Потом, сообразив, о чем я спрашиваю, пригрозила дочери пальцем: — Ах ты болтушка! Знаете, — обращается она ко мне, — уж не припомню, когда я так смеялась, как нынче утром. Чуть свет она забралась ко мне в постель, прижалась и шепчет: «Мама, у меня есть дядя, жених. Вот увидишь. Он добрый, но очень оборванный и голодный». А потом начала хвастать вашими подарками — бумажным корабликом, речкой из бечевки и сшитым вами колпачком — и не отставала от меня, пока я ей не пообещала познакомиться с вами.
Слушаю, и волна радости захлестывает меня. Но вдруг страх, как острая иголка, кольнул сердце. А что, если эта женщина больше сюда не придет? Будет ли у меня еще раз возможность поговорить с человеком с воли, да еще с таким, что ходит из города в деревню. Мне-то нечего терять. Но ей, матери троих ребят, не покажется ли ей подозрительным мой вопрос? И все же я рискнул.
— Скажите, пожалуйста, по дороге в деревню, куда вы ходите, есть лес?
— А как же. Сейчас все расскажу. Наши края я знаю как свои пять пальцев. Тома, отдай дяде туесок с земляникой и возвращайся немедленно.
— Спасибо. Спасибо за пшенную кашу, за картофельные оладьи. Одну я дал моему соседу по нарам, больному летчику. Он тоже просил передать вам благодарность.
По выражению ее глаз вижу — она понятия не имеет, о чем я говорю. Значит, худенькая моя приятельница делилась со мной теми крохами, которые ей доставались. Тома схватила мать за руку и так сжала ее, что пальцы посинели.
— Меня пока не за что благодарить. Лучше послушайте. Леса занимают больше трети территории нашей области. Вон там, — показывает она рукой на купол церкви, сверкающий на солнце, — там Старобин, Глуск. — Теперь она совсем близко от меня, и я кивком головы подтверждаю, что все слышу и понимаю. — Моя сестра живет в Кличевском районе. Оттуда недалеко до Осипович и Стародорожска. Все три района славятся своими лесами. Добрая половина из них сосновые. Но есть и смешанные: береза, ольха, дуб, осина, граб, липа, ясень, клен. Видите, какой я специалист по этой части!
— Да, действительно. В деревню вы ходите менять?
— Ходила. Но в высохшем колодце воды и на донышке нет. Нечего больше менять. Вчера принесла корзину грибов. Хорошо, ночь была дождливая, теплая да туманная. Грибы ведь хорошо собирать рано поутру, как только они появляются на свет божий. Вы собирали когда-нибудь грибы? Нет? Спросите у Томы, она вам объяснит, как это делается. Я сама детей научила. Всю жизнь люблю ходить по грибы.
С минуты на минуту нам могут помешать, а мне еще надо узнать кое-что.
— А вы не боитесь? — перебиваю ее.
— Кого?
— В Кличеве, говорят, партизаны.
— Ну и что? Они такие же люди, как вы, как ваш друг летчик, разве только посмелее. Один из их командиров жил у моей сестры. Дай бог моему сыну вырасти таким, как он. Его любимая поговорка: «Смерть нам не кума». Ну, всего хорошего. У меня работы непочатый край.
Она встала и пошла. Я глядел ей вслед. Даже большие, стоптанные мужские ботинки не смогли изуродовать ее удивительно легкую, стремительную походку.
Говорят, ясная зорька предвещает хороший день. А сегодня солнце почти не появлялось. С раннего утра ветер метет тучи пыли. К вечеру он и вовсе разгулялся. Но меня не страшит сейчас его завывание. Передо мной мелькнул вдалеке спасительный огонек. Границы жалкого мира, который давит, душит меня, раздвинулись…
Короткая летняя ночь кажется еще короче, когда после дня непосильного труда снопом валишься на нары и тебе мерещится, что они покачиваются вместе с тобой, как вагон на полном ходу. Но как же долго тянется она, эта летняя ночь, если сон нейдет и мысли не дают покоя.
Собственно говоря, почему я так взволнован? Что случилось? Пока я только рассказываю себе сказку с хорошим началом. А будет ли благополучным конец? Кто знает? Я перемолвился несколькими словами с женщиной, у которой сестра живет в деревне. У этой сестры в свою очередь жил человек — партизан, партизанский командир. Он в лесу, он свободен, как ветер, что расшумелся сегодня вовсю, а я — в неволе.
А все-таки сегодня хороший день. Нет для меня лучшего лекарства, чем те несколько слов о партизанах, которые в разговоре со мной обронила Томина мать.
Только-только проросло зерно надежды, а я уж вижу, куда тянется ниточка, — она свяжет меня с народными мстителями. Теперь даже в кромешной тьме моего существования лесной житель для меня уже не смутный, расплывчатый силуэт, а реальный, живой человек. Вижу его ясно. Томина мать включила меня с ним в одну электрическую цепь.
Мечты, мечты. Как радужные мыльные пузыри, они могут лопнуть от неловкого прикосновения. Где же он, тот смелый и бывалый, что подскажет мне, как их осуществить? Знаю, конечно, знаю, что я сам должен быть тем смелым и бывалым. А женщина, с которой я сегодня познакомился, лишь счастливый случай. Суметь бы только им воспользоваться. Лес — он так близок и так далек от меня…
Рано утром, как только нас привели на работу, меня вызвал к себе Аверов.
— О чем ты беседовал со своей тещей? — интересуется он.
— Это что, допрос?
— Нет. Слушай меня. Старшим санитаром будет Шумов. Пипин считает, что ты и Кузя — два сапога пара. Но ты, говорит он, и вовсе чокнутый. Насилу мне удалось уговорить его оставить вас уборщиками. Все остальные, работающие здесь, будут санитарами. На днях начнут поступать больные.
И вдруг почему-то стал, фальшивя, насвистывать под нос какой-то мотивчик. Ясно, он все еще колеблется, говорить ему со мной начистоту или нет.
— Казимир Владимирович, что вам нужно от девочки и ее матери?
— От девочки — ничего, от матери, может быть, что-нибудь и нужно.
— Не понимаю вас.
— Сейчас поймешь. — Тихо, на цыпочках, он подходит к двери: хочет, по-видимому, убедиться, что нас никто не подслушивает. Потом продолжает: — А что, если часть наших медикаментов попадет не к тем больным, что будут здесь лечиться? На мой взгляд, беда невелика.
— А к кому?
— К тому, кто может заплатить.
— Ясно. Но женщина, по всему видно, бедна, как церковная мышь.
— Именно поэтому ей придется рискнуть. Как ты сам понимаешь, обманывать ее я не собираюсь.
— А в случае провала? У нее ведь трое маленьких детей.
— Если иметь дело не с болванами, как вас называет Пипин, провал исключен. Но предупреждаю с самого начала, что непосредственно от меня она никогда ничего не получит. Случись что, вором и спекулянтом окажешься ты.
— Выгодное дельце, ничего не скажешь.
— Зато прибыльное. Твое дело — придумать, как выйти сухим из воды.
— Меня, Казимир Владимирович, это не устраивает.
— С ответом не спеши. Поимей в виду, в случае чего будет кому за тебя заступиться.
— Вы ведь меня только что предупредили…
— Не я придумал эту комбинацию.
— Кто, кроме вас, знает о женщине?
— Один человек. Да ты не беспокойся. Он был так далеко, что не мог заметить, с кем она беседует. Именно он в первую очередь возражал бы против твоей кандидатуры.
Вот оно, самое крошечное звено в большой цепи преступлений. Если бы речь шла не о медикаментах, я бы уж давно отказался — ищите, мол, другого компаньона. Ну, а вдруг партизаны нуждаются в них? Надо серьезно подумать. Так я и сказал.
— Подумать надо. Пока мне не будет известно, с кем я имею дело, я ей и слова не скажу. Но если разговор состоится, интересно знать, о каких именно лекарствах может идти речь.
— Вот это деловой подход. Пока — о валерьянке, английской соли, кодеине, каплях датского короля, мази Вилькинсона.
Хотя мои познания в области фармакологии более чем поверхностны, мне ясно, что бойцов такие лекарства мало интересуют.
— Полагаю, что на кашель, запоры и даже болезни сердца мало кто сейчас обращает внимание. Не такое время. А как насчет стрептоцида, йода, перевязочных материалов, ваты?
— А это, думаешь, более ходовой товар? — подозрительно смотрит он на меня.
— Наверняка не знаю. Но ослабленные голодом люди чаще болеют такими тяжелыми болезнями, как воспаление легких. Сейчас каждый что-нибудь да мастерит. Вы сами знаете, долго ли неопытному человеку руку, ногу покалечить? А самое главное — из ваты и марли можно соорудить какую-нибудь одежонку.
— Может, ты и прав. Но тут уж я не хозяин.
Твердо решаю: Томина мать пока не должна знать об этом разговоре.
РАСПОРЯЖАЕТСЯ КАРЛ
Вот уже несколько дней, как главврач и его помощник не выходят из лазарета. В сопровождении полицая нас отправили на реку за песком и приказали посыпать все дорожки. Сам Пипин, как мокрица, залезает в каждую щель. Он водит пальцем по мебели, по стеклам. Следит, чтобы дверные ручки были надраены, как медные части корабля. Шумов получил распоряжение: со второго этажа следить за дорогой и, как только появится высокое начальство, немедленно доложить.
Первым представителем немецкого командования, которому надлежало проверить, готов ли лазарет и его персонал к приему больных, оказался… одноглазый Карл. Ошибка исключалась. Кто хоть однажды видел эту физиономию, запомнил ее на всю жизнь. Кое-какие изменения в его внешности, правда, произошли. Вместо черной повязки — стеклянный глаз. Короткие светлые усики, погоны фельдфебеля и нашивки, свидетельствующие о том, что он был дважды ранен.
Карл пожаловал около полудня. Никто его не видел. Тихо и незаметно он прошел по двору, поднялся на несколько ступенек и направился — не зря говорят, у волка волчий нюх — в крайнюю комнату, где на полу сидел Кузя, с головой ушедший в важное занятие — давил вшей. Зайди Карл несколькими минутами раньше, он застал бы там всех санитаров за тем же делом.
Как произошла встреча, никто из нас так и не узнал, ибо прибежали мы, только услышав Кузины вопли. Первое, что бросилось нам в глаза: здоровенный разъяренный фашист с лицом, перекошенным от злобы, полосует новой ременной скрипучей плеткой пытающегося убежать от него голого, худого, как скелет, Кузю.
Главврач в растерянности. Остановить Карла он не решается. Он только приказывает Аверову спросить, что случилось, чем провинился Кузя.
— Доннерветтер! Вы еще спрашиваете? — Единственным глазом, побелевшим от бешенства, Карл уставился на Казимира Владимировича, и… его лицо запылало, как костер на ветру: оказывается, унтер-офицер-то из пленных, тех самых, которых он, Карл, совсем недавно конвоировал. Вот, стало быть, с кем его, чистокровного арийца, хотят поравнять! Тяжело, отрывисто дыша, он замахнулся плеткой, но, спохватившись, в последнюю минуту опустил ее снова на Кузю. Единственное понятное слово в монологе, который он выпаливает, не переводя дыхания, — «дрек». Главный врач, который сейчас не чувствует себя не только хозяином, но даже и гостем, заводит глаза от страха:
— Где?
Карл от бешенства теряет дар речи и жестом, достаточно красноречивым, показывает, чем занимался Кузя.
— Ай, ай! — хватается Крамец за лысую голову. — Такой скандал!
Его большие торчащие уши наливаются кровью, мутные глаза, кажется, вот-вот вылезут из орбит. Он топает ногами:
— Надевай свое тряпье — и марш отсюда! Духу его чтобы здесь не было. Слышите?
К кому он обращается? К своему помощнику, у которого узкие, бледные губы, как всегда, поджаты? К Аверову, который так низко опустил голову, что густые, нависшие брови совсем заслонили глаза? Ко всем нам? Он ищет кого-то глазами. Полагаю, мне лучше скрыться. Уже в коридоре слышу, как Карл приказывает: отвести Кузю не в барак, а в карцер. Теперь Кузе уже никто не сумеет помочь, не сумеет облегчить его участь. Ведь приказ отдал сам Карл, который чувствует себя здесь генералом, командующим парадом.
С чердака, где царит удивительная, пугающая после только что разыгравшегося скандала тишина, я вижу Кузю. Бледный, сгорбленный, он идет, загребая пыль босыми ногами. Уголки посиневших губ вздрагивают. Он шмыгает носом: может быть, тихо плачет и уж наверняка проклинает всю родню своих мучителей и палачей по седьмое колено.
Крамец делает вид, будто до визита Карла он не замечал, что мы одеты как огородные пугала, заросли грязью и завшивели. Сейчас он вынужден кое-что предпринять. Первый сеанс дезкамеры посвящен нам, обслуживающему персоналу лазарета. Затем нам сообщили еще об одной милости: на ночь нас не будут гнать в лагерь. Мы будем ночевать в крайней комнате, где устанавливают двухэтажные нары.
Сам Крамец уже давно переселился в лазарет, да не один, а со своим серым котом Васькой, который, как тень, следует за ним. Саша Мурашов считает, что кот и его хозяин похожи друг на друга: оба часто облизываются, спят долго и крепко, но от Крамеца несет водкой, а от кота — валерьянкой.
Не зря Васька редко появлялся без Пипина. Все, что накипело в душе против главврача, срывали на его четвероногом спутнике. Однажды Пипин нашел его полумертвым в дезкамере, через несколько дней — зашитым в матрац. Больше суток Васька провисел в мешке. Кто-то остриг ему усы. Когда выдали едкую мазь от чесотки, больше половины ее досталось Ваське. Валерьянкой его угощал не только хозяин. Но тогда в любимый напиток кота подливали касторку, подсыпали английскую соль.
…Раз в неделю на врачебном обходе присутствовал Карл.
Официальной причиной столь частых визитов этого «специалиста» в области медицины была необходимость следить, чтобы в госпитале не залеживались симулянты. Истинную же подоплеку его служебного рвения я узнал позже. Оказалось, что все операции по торговле медикаментами проводились по его инициативе и под его непосредственным руководством.
— Этот, — указывает главврач Карлу на одного из больных, — уже здоров.
— Нет, — отвечает тот слабым голосом, — живот болит — мочи нет.
Крамец в свое время был зубным врачом, но, как и Карл, считал себя светилом на медицинском небосклоне.
— Пиши в истории болезни, — приказывает он фельдшеру, — живот мягкий.
Помощник главврача, Анатолий Леонидович, ядовито улыбаясь, подмигивает фельдшеру.
— Конечно, мягкий, — говорит больной, — а как же. Мы ведь из уборной не вылезаем. А все из-за кого? Из-за этого треклятого кота, — показывает он пальцем на Ваську, который, чувствуя себя в полной безопасности, блаженствует у ног своего господина. — Из-за него мы животами маемся, мажемся и чешемся.
— Выписать! — кричит гауптман. — Выписать и сообщить в часть, что он симулянт.
Карл настораживается. Скверно, ох, скверно, когда в твоем присутствии говорят на непонятном языке. Будь его власть, он отменил бы все языки, кроме немецкого. Вот и сейчас приходится верить переводчику, а ведь, кем бы русский ни был, доверять ему нельзя. По-видимому, ему, Карлу, голову морочат, говорят не о болезнях, а о старом, облезлом коте, которого он ненавидит так же люто, как его хозяина. Одно понятное слово он все же уловил: симулянт. Да, конечно: здесь лежат почти одни лишь симулянты! А как же! Вот в глазах у того, который только что жаловался плаксивым голосом, еще не погас насмешливый огонек.
— Поди сюда, — подзывает Карл Аверова. Властным движением руки он велит всем остальным отойти в сторону, а Аверову приказывает: — Переведи точно, слово в слово, все, что здесь было сказано. Что ты долго думаешь?
Карла несколько успокаивает, что Аверов упоминает Ваську. Стало быть, не врет.
— Не сметь! — теперь на Аверова кричит Крамец.
— Почему? — Карл уже догадывается, в чем дело, и бросает на главврача злой взгляд. — Ну, говори, — приказывает он больному.
— Господин фельдфебель! Кот лазит по палатам, забирается на койки, а ведь у него дизентерия и чесотка. Пока его не прогонят, нам не выздороветь.
Возможно, ни один кот в мире не был источником столь ожесточенных споров, как Васька, а он лежит себе как ни в чем не бывало, вертит хвостом и следит за мухой, которая медленно ползет по полу. Откуда ему знать, что в эти минуты решается его судьба.
— Скажите вы, — обращается Карл к помощнику главврача, — кот болен?
Анатолий Леонидович, помещавшийся в одной комнате с Крамецем, больше всех страдал от присутствия Васьки. К тому же это был подходящий случай напакостить шефу и, чем черт не шутит, может, занять его место…
— Болен, — подтверждает он, — и я об этом неоднократно предупреждал господина гауптмана.
— Так вот чем, доктор, вы занимаетесь! — Карл бросает на Крамеца оценивающий взгляд, словно снимая мерку для гроба, затем приказывает закрыть окна и двери, а сам нагибается к Ваське.
Но, чувствуя рядом своего защитника, Васька, вспомнивший все перенесенные надругательства и обиды, и не помышляет сдаваться. Шерсть на спине встает дыбом, в глазах зловещие зеленые огоньки, он выпускает когти и шипит, как змея. Изогнутый вопросительным знаком хвост дерзко торчит. «А ну-ка, — как бы дразнит Васька Карла, — а ну-ка, тронь меня, если ты такой герой!»
Героем Карл никогда не был. Разъяренного кота испугалась не только ленивая муха, но и доблестный фельдфебель гитлеровской армии: он отступил на заранее подготовленные позиции. Но обида, считает Карл, нанесена не только ему, а в его лице самому фюреру, которого он здесь представляет. А этого допустить никоим образом нельзя. Он приказывает:
— Господин гауптман, через минуту кот должен висеть на дереве напротив окна.
— Разрешите… — Главврача начинает душить тяжелый кашель заядлого курильщика.
— Не разрешаю. Приказываю!
Крамец разводит руками, густо поросшими рыжей щетиной.
— Понимаю, господин фельдфебель. Но вы ведь сами видите, он не подпускает к себе чужих.
— В таком случае вы его повесите сами. Слышите? Я жду!
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
Еще в Могилевском лагере доктор Зоринкин как-то сказал: «При таком голодании действует совсем иной календарь. Сейчас невозможно вести счет времени днями и неделями. Здесь вечностью кажутся минуты, потому что каждая приносит невыносимые страдания».
Но когда Алвардян пытался наложить на себя руки, этот же доктор, сам от слабости едва шевеля губами, втолковывал ему: «Есть вещи более страшные, чем голод, — это безнадежность, отчаяние, когда в твоем исхудавшем, истощенном теле не осталось места ни для каких чувств, кроме страха. Так бывает, когда ты уже не способен осознать, что жизнь действительно непобедима, что презрение сильнее смерти, что никогда и никому не дозволено сказать — все кончено. Никогда, ибо может прийти то, что называется вторым дыханием».
Как не вспомнить эти несколько высокопарные, но от сердца идущие слова, когда ты видишь вокруг себя людей, которые ради спасения собственной шкуры продались врагу! А они как раз и лечатся в этом лазарете.
Днем, когда они натягивают на себя ненавистные серо-зеленые мундиры, я знаю твердо: у каждого из них душа черна, как сажа, и не сегодня завтра они обагрят свои руки кровью братьев. В эти часы я проклинаю жизнь: мне приходится выносить мусор, мыть полы — обслуживать врагов.
Но вот наступает ночь, и, словно повинуясь взмаху волшебной палочки, кое-кто из этих людей меняется: очевидно, темнота помогает им освободиться не только от постылой одежды. Проходит вечер, другой, я прислушиваюсь и не верю ушам своим. О чем бы здесь ни говорили, все всегда сводится к разговору о еде, и все же один вчера вслух высказал то, о чем, быть может, думают и еще некоторые. Со стоном у него вырвалось: «Лучше бы уж мне околеть в лагере».
На чью-то реплику, что, мол, голод не тетка, немедленно из противоположного угла палаты последовало возражение:
— Не всегда. Вот вернусь и, если захотите, расскажу вам правдивую историю.
Что я знаю о человеке, который собирается доказать, что есть нечто более могущественное, чем голод? Он похож на мастерового. Тихий, скромный, с умными глазами и добродушной улыбкой, обнажающей белые, выпуклые, как дольки чеснока, зубы. Этого очень мало, чтобы судить о человеке. Его фамилия Хромов. Иван Хромов. Он здесь всего несколько дней. За это время он успел починить остановившиеся часы, наладить сломанный шприц, вырезать из щепок фишки для домино. Привычка рабочего человека ко всякой вещи подходить с одной меркой — а нельзя ли ее исправить, переделать, улучшить?
И этот же Хромов назначен командиром отделения «добровольцев». Как и на Аверове, на нем погоны унтер-офицера. Какой же из двух Хромовых возьмет сейчас верх? Что он собирается рассказать?
Я прикорнул на полу возле окна. В проходе между койками узкая полоска лунного света. А за окнами медленно плывет ночь. Как дым в морозный день, над крышами завивается легкий туман.
Хромов возвращается, укладывается поудобнее на своей койке, закуривает. Когда он затягивается, тлеющий огонек самокрутки освещает стянутые к переносице брови, сомкнутые веки и морщины на юношеском лбу. Может, он клянет себя за излишнюю словоохотливость? Но, по-видимому, он уже не властен над собой и, отлично понимая, чем он рискует, отбрасывает прочь сомнения и высказывает то, что долго копилось в душе.
— Служил я в оружейной мастерской, в пулеметной роте, — начинает Хромов, — стояли мы под Москвой, в Серпухове. Сам я родом из Костромской области. Наш хлеб — это лес. Куда ни глянь, кругом лес. До армии я большого города и в глаза не видал. На службе, особенно на первых порах, приходилось мне не сладко. Рассказывают о замке пулемета «максим», а я мыслями на вечерке в соседней деревне. После карантина все просят увольнительные в город, а я ищу уголок потише да потемнее.
— Ну, этот на всю ночь завел шарманку, — перебивает его нетерпеливый голос. — Уже двенадцатый час.
За Хромова заступается сосед справа:
— Не любо — не слушай, а врать не мешай.
Недовольный не унимается, грозится завтра же пожаловаться главврачу.
— Если тебе жизнь не мила, пожалуйся, — предупреждает его сосед Хромова. И, подбодряя Ивана, говорит: — Езжай дальше, браток, а кому не нравится, пускай заткнет уши ватой.
Как только все утихомирились, Иван, вдохнув поглубже, как перед прыжком в воду, снова заговорил:
— Был в нашем взводе красноармеец Борис Медведев. Его родители жили на другом конце города. Как сейчас помню. Конец дня. Дело было в субботу. Подходит ко мне Медведев и показывает две увольнительные — на себя и на меня. «Идем, — говорит он, — со мной. Комиссар приказал пригласить тебя в гости». Мы, лесовики, народ стеснительный. К тому же, выходит, я непрошеный гость. Но на то армия, приказ есть приказ. Потом уж Медведеву незачем было меня приглашать. Всю неделю я старался не заработать замечания, внимательно слушал объяснения командиров, и все потому, что не меньше самого Бориса я с нетерпением ждал часа, когда мы с ним отправимся в город.
Воспользовавшись паузой, кто-то подал голос:
— Скажи-ка, Хромов, а у твоего Медведева не было сестры на выданье?
— Нет, не было. Но там был маленький садик, несколько деревьев, сарай, где мы кололи дрова. На окнах, низких, как у нас в деревне, зрели помидоры, а в доме пахло дегтем. А главное, меня тянуло к его матери. Знал бы комиссар, что говорила мать Медведева, недовольная всем на свете…
— Поди, где комиссару виделась укатанная дорожка, она замечала рытвины да кочки, — попытался помочь сосед слева, бывший автомеханик.
— Как бы мне вам получше объяснить? Мне думается, ей просто хотелось, чтобы все было лучше, чем на самом деле. А может, она просто стеснялась своей доброты. Борис тоже, бывало, ворчал, на политзанятиях зевал и, кажется, единственный в нашем взводе не вступил в комсомол.
Тот, недовольный, снова вмешался:
— Подавай своего Медведева сюда, к нам. Этот подойдет.
— Не лезь поперед батьки в пекло. Лежи, молчи и слушай.
Теперь уже и другие потребовали:
— Не тяни волынку, Хромов, давай закругляйся.
— Когда война началась, я был уже старшиной пулеметной роты. Странно, но пока рота была ротой, я в боях почти не участвовал. А вот под Могилевом, когда отступать уже было некуда, мы, горстка красноармейцев, залегли у пулемета и встретили наступающих немцев навесным огнем. Почти все бойцы погибли, я был тяжело ранен. Фрицы считали меня мертвым, по мне ходили, топтали сапогами. Ночью я видел, как полыхал Могилев.
В плен я попал через десять дней. Первым, кого я встретил в Могилевской тюрьме, куда нас привели, был бывший солдат из моей роты, пристроившийся здесь переводчиком. Кусок хлеба я у него не взял, разговаривать с ним не стал, а вот слова: «Бориса Медведева я устроил в колонну, которую отправили в Борисовский лагерь» — запомнил крепко.
Как я попал в тот лагерь, долго рассказывать, да и незачем. Что там за жизнь, сами знаете. Ни Бориса, ни кого-нибудь еще из нашей части мне не удалось найти. Поздней осенью я заболел сыпняком — свалился и потерял сознание. Кому-то удалось меня унести и определить в госпиталь. Потом я узнал, что это был Медведев и его друг, который находится сейчас среди нас и может подтвердить, что рассказываю я истинную правду.
В ту зиму мы не подохли с голоду только потому, что одному из нас удалось устроиться на работу в кухне. А потом начали вербовать в батальон против партизан.
Пока хватало сил, мы держались. Первым сдался наш друг Павел. Вторым — я. И после долгих уговоров, что выхода нет, что, как только мы разлучимся, всем нам крышка, согласился пойти с нами Борис.
Через несколько дней к нам пожаловала группа немецких офицеров — знакомиться с «добровольцами». Высоких «гостей» сопровождали комендант лагеря, начальник полиции и вербовщики — русские белогвардейцы. С одной стороны площади выстроили нас, с другой — всех остальных военнопленных. И вот, стало быть, выходит белогвардеец и, показывая на нас, обращается к другим пленным:
«Смотрите. Их ожидает светлое будущее. А вас вши съедят живьем. С голода передохнете все до единого. В последний раз предлагаю: кто хочет записаться в добровольцы, три шага вперед».
Четверо вышли из общей колонны.
«Кто еще?»
«Я! — услышал я возглас возле себя. И раньше, чем я успел повернуть голову, Медведев сделал три шага вперед. — Я не согласен быть предателем».
«Назад! — Вербовщик погрозил ему кулаком. — Ты уже зачислен в списки добровольцев, так что у тебя никто не спрашивает».
Борис не двинулся с места. Но те, что уже готовы были записаться, как только услышали слово «предатель», тут же смешались с колонной.
«Объясните ему, — прошипел сквозь зубы немецкий офицер, — что уже поздно передумывать. Для этого нужны веские причины».
«Есть веская причина, — ответил Борис, — я коммунист».
Мороз пробежал у меня по коже.
Ведь достаточно было указать на кого-нибудь, что он коммунист, — и все… Но чтобы человек сам на себя возвел такую напраслину!
В палате стало шумно. Кто-то даже присвистнул:
— Знаешь, братишка, брось байки рассказывать.
— Для кого байки… — взвился Хромов, а потом более спокойно продолжал: — И все-таки так было. Полицаи бросились вязать его. Я не выдержал и закричал: «Вы слушайте меня. Мы с ним из одной части. Клянусь, он никогда даже комсомольцем не был. Голову даю на отсечение, что не вру». Тогда вмешался комендант. Общую колонну он приказал увести, а Медведева бить, пока тот не откажется от своих слов. Господи боже мой! Как же его били. После каждых десяти ударов обливали холодной водой, заставляли подняться и спрашивали: «Ну как?» — «Коммунист». Когда у него уже не было сил открыть рот, он кивнул головой: да, мол, коммунист. Начальник полиции переспросил: «Берешь свои слова назад?» Медведев покачал головой: «Нет». И, уже падая, прошептал: «Коммунист». Нас погнали к вокзалу, а он остался на земле, в беспамятстве.
— Спать! — кричит Аверов из своей комнаты напротив. — Спать. Если главврач услышит, он вас завтра всех выпишет.
Чем угодно могу поручиться — все, что рассказал Хромов, чистая правда. Такое выдумать невозможно.
На рассвете, когда все спали и только мы с Сашей Мурашовым мыли полы, мы тихонько открыли комнату, где лежали истории болезни, и листали их до тех пор, пока я не нашел то, что мне нужно было: «Хромов Иван Федосеевич, родился в 1916 году в деревне Павловка, Костромской области. Служит в велосипедном взводе. Диагноз — дизентерия». В графе «диагноз» — вопросительный знак красным карандашом.
Что это значит, известно. Его подозревают в симуляции. Если это предположение подтвердится, Крамец выпишет его, и в истории болезни, пересылаемой батальонному врачу, будет приписка по-латыни, что он симулянт. Придется вмешаться. Как только Шумов проснется, будем ему жаловаться, что от Хромова покоя нет, каждые полчаса бегает в уборную.
Еще один больной меня интересует. Малинин. До сих пор не могу вспомнить, где и когда я с ним встречался. Вот и Саша говорит: «С этим типом будь осторожен».
В его истории болезни записано: «Малинин Василий Васильевич. Родился в 1914 году в Калинине». Кажется, вспомнил: не Малинин, а Дубинин. Если, конечно, он нам тогда не врал. Помню, как он нам втолковывал, что пленный должен все уметь и ни перед чем не останавливаться. Это он ограбил красноармейца, которого немецкий конвоир потом расстрелял. Почему он здесь — понятно!
Напрасно наш командир, старший лейтенант Ивашин, только припугнул его. Надо было его еще тогда прикончить. Какая же у него болезнь? Тот же диагноз — дизентерия. Я не фельдшер, но открыть средний ящик стола, вынуть красный карандаш и поставить вопросительный знак — минутное дело.
Пленные очень редко обращаются друг к другу на «вы». Только с Аверовым, до того памятного случая в вагоне, когда он заступился за меня, я никак не мог перейти на «ты». А теперь он недовольно хмурит свои кустистые, густые брови, когда я спрашиваю: «Вы меня звали?» После такого обращения он какое-то время холоден, как мраморное изваяние. Когда же я наедине с ним величаю его немецким титулом, он и вовсе выходит из себя. Совсем недавно он меня так отчитал за «господина унтер-офицера», что я понял: человек в моем положении не может себе позволить подтрунивать ни над кем, тем более над Аверовым.
Яркий, солнечный день. О чем-то шепчутся темно-зеленые листья тополей у нас во дворе. А здесь, хоть окно и выходит на юг, темно, как в сумерки. Сквозь густой слой пыли солнечные лучи едва пробиваются. Вот где следовало бы выбить стекла, чтобы пахнуло свежим воздухом, светом, жизнью. В длинной и узкой комнате на полках лежат личные дела больных. В углу — несгораемый шкаф с медикаментами, немного дальше — железная койка, на которой спит Аверов. Тишину нарушает только мерное тиканье обшарпанных ходиков.
С хмурым и замкнутым выражением лица, напоминая чем-то покрытый ржавчиной несгораемый шкаф, на который он опирается, Аверов всем своим видом хочет доказать: «Плевать я хотел на всех на вас». Но я понимаю, на душе у него погано. Лицо заросло щетиной, под глазами мешки. Голодать ему, конечно, не приходится, но даже в Могилевском лагере в нем было больше жизни, чем сейчас.
— Почему ночью было так шумно? — обращается он ко мне.
— Сказки рассказывали друг другу.
— Сказки, говоришь? Слышал я конец одной такой сказки и, как видишь, не повесился, не отравился, хотя у меня есть чем. — Он несколько мгновений молчит, а затем продолжает: — С тобой говорить — все едино что слепому радугу малевать. Почему, хотел бы я знать, ты молчишь, будто я не к тебе обращаюсь?
Мы стоим так близко друг от друга, что я чувствую на своем лице тепло его дыхания. Лихорадочный огонек в глазах выдает его беспокойство. На щеках под кожей перекатываются желваки. И меня обдает жаром.
— У вас, Казимир Владимирович, сегодня плохое настроение.
— Это я и без тебя знаю. С тещей говорил?
— Нет. Я ей не доверяю.
— Врешь! Напрасно ты вообразил, что меня так легко вокруг пальца обвести. Дурак тот, кто носит личину и думает, что никто этого не видит. — С остановившимся сердцем, опустив голову, жду, что еще он скажет. Не вижу, но всей кожей чувствую, что он напряженно следит за мной. — И еще мне интересно знать: что за идиотское обыкновение не смотреть человеку прямо в глаза? Не хочешь ли ты, чтобы я считал тебя покорной овечкой? Другой на моем месте давно дал бы тебе пинка под зад. Но черт с тобой. В тебе уже никто не нуждается. Обходятся даже без меня.
Хотя мои опасения еще не улеглись, я теперь вовсе не уверен, что правильно понял его. Беру себя в руки и говорю как можно спокойнее:
— И я так думаю.
— Чтобы думать, надо знать. А что тебе известно?
— После каждого посещения торговки, которую Карл приказал пропустить, у Пипина блестят глаза. За что-то она ему платит.
— Смотри, жених, — тычет он в меня длинным указательным пальцем. — Смотри, много будешь знать, скоро состаришься. Как бы Пипин Короткий не прищемил твой длинный нос.
— Почему? Я ведь не сую его куда не надо.
— Хватит об этом. Скажи, тебе не трудно убирать и дежурить каждую ночь? — добреет он вдруг.
— Нет, не трудно.
— Предупреди потихоньку любителя рассказывать сказки — пусть держит язык за зубами.
— Это меня не касается. Я уборщик. Мое дело ночью, если кому надо, позвать санитара или фельдшера.
Усталый, выжатый, как лимон, я спускаюсь по лестнице. Руки и ноги совсем ватные. Хорошо, что до коридора, где находится наша комната, недалеко. Тихий свист заставляет меня повернуть голову. Дежурный у входной двери зовет меня. У порога, где из-под камня робко поднимает зеленую голову травинка, стоит велосипедист в немецкой форме. Дежурный указывает ему на меня:
— Дай ему сигареты, он передаст. Меня требуют к калитке.
— Кому передать? — спрашиваю я.
— Хромову.
— От кого?
— Он знает.
— Вас зовут Павел?
— Откуда ты знаешь?
— Хромов рассказывал о Медведеве.
— Он что, рехнулся? — Павел испуганно оглянулся. — Скажи ему, что я просил прекратить болтовню.
— Незачем вам так беспокоиться. Но вашу просьбу я передам.
— Куришь? — спрашивает он у меня.
— Нет.
— Возьми, — сует он мне в руку начатую пачку сигарет, — да ну, бери, бери. Обменяешь на что-нибудь.
Через несколько минут я бужу Хромова и говорю ему, что мне приказано проводить его в уборную. Он смотрит на меня и не может сообразить со сна, что мне от него нужно.
— Чего тебе? Убирайся! — со злостью гонит он меня прочь.
— Пошли, главврач интересуется, нет ли у вас дизентерийных палочек.
— Что?!
Хоть лопни, не знаю, что еще придумать. К счастью, он не ждет ответа. Сует босые ноги в сапоги и идет со мной.
Накидываю цепочку, нажимаю пальцем на рычажок смывного бачка и под шум льющейся воды предупреждаю:
— Стой и слушай внимательно. Есть подозрение, что ты симулируешь. Пожалуйся Шумову, что ты нынче всю ночь бегал. Будь осторожен. Не болтай лишнего. Берегись Малинина из четвертой палаты.
— А ты кто? — хватает он меня за рукав мокрыми руками.
Я сую ему в руки сигареты.
— Это тебе просил передать Павел. — Он меня все еще не отпускает. Цепкий взгляд его прикован к моему лицу. Он требует ответа. — Отпусти меня. Сюда идут. Я твой друг.
…Когда Карл снова пожаловал в лазарет, Малинин спросил его:
— Скажите, пожалуйста, господин фельдфебель, уборщики имеют право следить за нами?
— Конкретно, в чем состоит ваша жалоба?
— Мне рассказывали, что уборщик разбудил унтер-офицера Хромова и сказал ему: «Главврач приказал мне проводить вас в уборную».
— Я? — ткнул себя Крамец в грудь. — Я?
— Зачем вы оправдываетесь, доктор? — И к Шумову: — Принесите мне их истории болезни.
Степа вытянулся, стукнул каблуками и помчался выполнять поручение.
У Хромова вопросительный знак был зачеркнут чернилами. У Малинина красовались три вопросительных знака подряд, один больше другого.
— Выписать и отправить в карцер. Есть еще жалобы?
Нет. Больше жалоб ни у кого не было.
Стою в ванной и жидкостью, похожей с виду на выдержанное вино, мою раковину. Входит Аверов. Он тщательно закрывает за собой дверь. Его вид ничего хорошего не сулит.
— Скажи-ка, Крамец тебе действительно приказал проводить Хромова?
— Нет.
— Кто же?
— Вы.
— Я? — Его лицо сереет.
— Вы сами велели мне потихоньку предупредить любителя сказок, чтобы он держал язык за зубами. Неужели вы забыли, Казимир Владимирович?
— Помню. Ничего не скажешь, выкрутился-таки.
Ночью в палатах больше не шумели. Но, как и прежде, здесь кипели страсти. Не прогнал бы Карл Малинина, кое-кто, наверное, пострадал бы. Стало известно, что в карцер его не посадили. Начальник гестапо у предателей Миронов тремя пальцами, сохранившимися у него на правой руке, дал ему по физиономии и сказал, что не хотел бы оказаться на его, Малинина, месте, если он еще раз проштрафится.
Хромова тоже в лазарете долго не продержали. Он был не мастак обманывать, и медики вскоре заметили у него «улучшение». Через несколько дней его выписали и отправили в батальон.
Мы с Сашей Мурашовым предпочитали ночью дежурить, а не укладываться вместе со всеми на нары. И вот почему. Сам Саша предупредил меня:
— Будь осторожен, не доверяй мне секретов. Во сне я могу проговориться.
— В Могилеве был у меня друг, Алвардян, так он по ночам такие речуги закатывал — заслушаешься.
— Небось тоже после контузии?
— Нет, так ему нравилось.
— А я боюсь заснуть. Разве ты не слышал, как Петя меня будит?
— Слышал, как ты скрежещешь зубами и бормочешь что-то непонятное.
Как бы то ни было, но я не рассказал ему многого из того, чем при других обстоятельствах, возможно, и поделился бы…
Сегодня нам с Мурашовым впервые выдали по кусочку мыла. Надо было видеть, как Саша обрадовался.
— Понимаешь, — сказал он мне с улыбкой, — эту руку мне сегодня надо мыть и отмывать.
— Чем она так провинилась, Саша?
— Пипин под пьяную лавочку ее крепко пожал.
Мыло было в красивой обертке, но вместо мыльных пузырей из него сыпался песок, обыкновенный речной песок.
— Слушай, — начал Саша, — все помнить, с ума сойдешь. Но есть вещи, которые запоминаются на всю жизнь. Родом я из большого села. Неподалеку от нас жил старый фельдшер. Один на много деревень. Однажды во время жатвы все взрослые были в поле, прибегает ко мне шкет, такой же, как я, и кричит: «Саша, пошли скорее, ведьму привезли!» Сам понимаешь, ведьмы жаловали к нам не каждый день. Опрометью я выскочил со двора на улицу, и там — светопреставление. С шумом и гамом мчится ребятня, а за ней с лаем свора деревенских собак. И все к дому фельдшера. Я был самый маленький, и поэтому мне особенно трудно было добраться до телеги, вокруг которой толпился народ. На телеге лежала старая женщина. Платье растерзано, волосы всклокочены. Руки и ноги связаны полотенцем, и вся она, как неводом, оплетена веревками. Старуха пыталась подняться, выкрикивала какие-то непонятные слова, непристойные ругательства.
Испуганный, я смотрел на это страшное зрелище и не мог понять, что происходит. И не было поблизости человека, который бы мне растолковал, что это просто психически больной человек. Хотя тогда я и слов-то таких не знал. Мужик, который ее привез, выпряг лошадей, а сам растянулся на земле, дожидаясь, пока фельдшер вернется из какой-то дальней деревни. Когда мы уж очень громко загалдели, он на нас наорал и пригрозил кнутом. Я забрался на забор. Вдруг старуха рванулась, подняла голову, плюнула — и прямо в меня. Полумертвый от страха, я скатился с забора. Бежать вместе со всеми я не мог, ноги подкашивались. А мужик, до сих пор не могу понять, зачем он это сделал, сказал участливо: «Пропал ты, мальчонка, ни за понюшку табака. Заболеешь, как она». От ужаса я онемел. И не спрашивай, как добрался домой, сколько воды вылил, отмывая место, куда попала слюна. Никто меня не мог успокоить: ни отец с матерью, ни фельдшер. Несколько лет после этого я заикался.
— Ты что же, Саша, боишься, что опять начнешь заикаться?
— Нет, не боюсь. Но тошнота подкатывает к горлу. И еще больше, чем тогда, хочется мыть то место, которого Крамец коснулся.
Степан Шумов очень скоро почувствовал себя в немецком мундире как в собственной шкуре. К тому же он еще раздобыл где-то пустую потертую кобуру и повесил ее на узенький ремешок, подпоясывавший брюки галифе с широкими кожаными полосами на заду. С большинства военнопленных жизнь в лагерях смыла все наносное, чуждое. Но Степа был замешен на других дрожжах. Он даже не замечал враждебных взглядов, гордо задирая голову, плотно сжимал губы — не губы, а две узкие, ядовитые змейки.
Однажды утром Степан проснулся, потянулся к ремню, к кобуре, но его холуйские регалии исчезли. Кого бы он ни спросил, никто ничего не знал. Меня в это время не было, но к Саше Мурашову, рассказывали мне, он приставал: кто, мол, дежурил, тот и виноват.
В ответ Саша потянулся, широко, со смаком зевнул, плюнул сквозь зубы, сунул Шумову под нос кулак и предложил понюхать, чем он пахнет. А немного придурковатый Петя, который, стоит кому-нибудь его обидеть, немедленно призывал на помощь Мурашова, на этот раз, забыв об осторожности, показал и свой грязный, но увесистый кулак.
Меня Шумов нашел на чердаке.
— А ну, докладывай, — толкнул он меня, — да поскорей: кто взял ремень?
— О чем ты? — не понял я, чего ему от меня надо. Он заглянул во все самые укромные уголки чердака и уже с лестницы крикнул:
— Лучше не валяй дурака, жид пархатый!
Позже я узнал, что Крамец приказал ему снять кобуру. Поскольку предупреждения не помогли, главврач ночью, когда все спали, забрал кобуру вместе с ремнем.
Как бы то ни было, спать я уже больше не мог. Значит ли это, что Шумов слышал разговор Губерта с Гюнтером в вагоне? А может, Аверов ему рассказал? Э, нет! Верил бы Шумов, что я еврей, он бы уже давно схватил меня и передал Крамецу, что называется, из рук в руки.
Правда, вроде бы в шутку, он у меня уже не раз спрашивал, не еврей ли я. С чего все началось, я прекрасно помню, словно это вчера было.
Первая военная зима. Могилевский лагерь. Канун Нового года. Лютая стужа. И вот однажды в сером предрассветном сумраке, когда по палате невозбранно гулял с разбойным посвистом морозный ветер, у раскаленной печурки собрались мы, санитары второй палаты, где лежали сыпнотифозные больные, и рассказывали друг другу всякие были и небылицы. Мимо нас прошел, странно припадая на одну ногу, больной. Сам он кожа да кости, а шинель — мозаика из разноцветных заплат. Длинная вереница таких людей промелькнула за это время передо мной, не оставив следа в памяти. Но этого я запомнил.
— Погляди, какая «лата», — обратился я тогда к Степе.
Поначалу он улыбнулся, потом отчужденно и строго взглянул на меня, процедил сквозь зубы:
— Это что еще за слово? Еврейское?
К пакостям Шумова я уже и тогда привык, но наивно полагал, что вместе с предрассветными тенями навсегда исчезнет и забудется этот вопрос, таящий смертельную угрозу для меня. Оказывается…
Два-три дня прошло с тех пор, как у Шумова пропала кобура. Был тот сумеречный час, когда дали наливаются вечерней синевой. Зачем-то я шел в комнату, где мы жили. В коридоре меня остановил Петя и шепотом сообщил:
— Поди посмотри, какой подарочек Шумов тебе приготовил.
У двери стоит истуканом Степан. Хочется перехватить его взгляд, но не удается. Следом за мной идет Петя. «Подарочек» я вижу еще издалека, но стараюсь ничем не выдать волнения, только веки слегка вздрагивают. На моей наре лежит фашистский плакат на русском языке. В центре — звезда Давида с головой человека в цилиндре. Один глаз полузакрыт. Правой рукой он поглаживает редкую бороденку. На плакате — несколько десятков подлых вопросов. После каждого вопроса один ответ: «Еврей».
По-видимому, чтобы ветер, врывающийся через выбитые окна, не унес плакат, Шумов положил на него несколько битых кирпичей. В комнате напряженная тишина. Ясно одно, смолчать нельзя. Нагибаюсь, будто для того, чтобы лучше рассмотреть плакат, хватаю обломок кирпича, резким, молниеносным движением выпрямляюсь и, поворачиваясь, что есть сил швыряю его в Шумова, который все еще стоит у порога. Степан судорожно глотает воздух и выплевывает выбитый зуб вместе с кровью. Он бросается ко мне. Но между нами вырастает Аверов.
— Ни с места! — кричит он. — Кто начнет драку, тому я самолично ребра пересчитаю. — Его глубоко посаженные черные, как смола, глаза внимательно смотрят на нас сквозь облачко дыма, вьющегося над его сигарой. Немного помедлив, он выносит приговор: — Теперь вы квиты.
Вокруг нас собрались почти все санитары. Разноголосый шум. Откровенно любопытные взгляды. Шумов не перестает сплевывать розовую, как малиновый сок, слюну и грозится, что будет жаловаться Карлу. На это Мурашов с нескрываемой угрозой отвечает:
— Попробуй. Только не советую. За такие фокусы у нас в Казани с тобой бы разделались, как повар с картошкой.
Петя, чьи темно-голубые глаза всегда кажутся заплаканными, сейчас широко улыбается. Он спрашивает с издевкой:
— У нас в Казани? — И сам себе отвечает: — Еще бы.
На этом инцидент как будто исчерпан. Степа еще несколько дней бросал на меня исподлобья злые взгляды, а затем то ли забыл, то ли прикинулся, что забыл обо всей этой истории.
«ТРА-ЛЯ-ЛЯ»
В лазарет поступил старшина музыкального взвода — длинноногий парень с густой шапкой вьющихся белокурых волос. Он ловок, силен, будто все тело у него состоит из одних лишь тренированных мышц. Но даже туго затянутый ремнем, застегнутый на все пуговицы и крючки, он выглядит рубахой-парнем, у которого что на уме, то и на языке, человеком, не способным на серьезный разговор. Именно поэтому он чувствует себя везде как дома. За несколько часов он перезнакомился со всеми. Однако не пойму: почему у него тогда такие глубокие глаза и высокий, умный лоб?
О чем бы он ни говорил, всегда сворачивает на одно — на женщин. Ими заняты не только его сердце, но все его помыслы. Если верить ему, они платят той же монетой. Сам главврач присаживается на койку старшины и прислушивается к его болтовне. До смеха Крамец не нисходит, а только улыбается одной половиной рта.
— Ну-ка, донжуан, расскажи нам еще что-нибудь!
«Донжуан» — человек не гордый, долго упрашивать его не приходится. Разных любовных историй, выдуманных и настоящих, у него вагон и маленькая тележка.
Меня послали сгружать дрова с подводы, которую привел низкорослый, круглолицый мужик со свисающими седыми усами, в лаптях и домотканой холщовой рубахе. В руках у него ломоть хлеба и темная бутыль с молоком.
Дрова сняты с телеги. Теперь возница ждет «бумагу», не то эти черти ему не поверят, что он «сполнил повинность». А пока он мне помогает перетаскивать и складывать дрова. Мое внимание привлекает молодая, коротко, по-мальчишески, подстриженная женщина, стоящая у калитки. Она щелкает семечки, во все стороны сплевывая шелуху. Губы у нее ярко накрашены, и улыбка кажется приклеенной к ним. Дешевым блеском сверкают большие медные серьги. Она просит вызвать Константина Мальцева. Сразу догадываюсь, что это старшина музыкального взвода.
Нашел я его в палате тяжелобольных. Те, что здесь лежат, похожи на мертвецов. Здесь его паясничанье не имело бы успеха. Кажется, он это и сам понял. В руках у него несколько пожелтевших страниц «Тараса Бульбы», которые Саша Мурашов на днях нашел на чердаке.
Как перебить его сейчас, когда он читает, как четыре дня подряд атаман и его казаки боролись, отбиваясь каменьями и кирпичами от врага… Не стал бы Тарас искать утерянную люльку, может быть, и ему удалось бы спастись, да не хотел атаман, чтобы даже люлька попала ляхам в руки.
Тут-то и набежали злые вороги и схватили его под могучие плечи, притянули его к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, приподняв его повыше, чтобы повсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер смотрел Тарас, не об огне он думал, которым собирались сжечь его; глядел он, сердечный, в ту сторону, где отстреливались казаки: ему с высоты все было видно как на ладони.
…А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и расстилался пламенем по дереву… Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!
Читал Мальцев медленно, и даже паузы были многозначительны, словно он и слушатели использовали эти минуты, чтобы вдуматься в каждое слово. Когда он кончил, я спросил:
— Вы Константин Мальцев?
Он встал, потянулся, и бездумный взгляд его скользнул по мне, словно не видя. Трудно было поверить, что это он только что так проникновенно читал «Тараса Бульбу».
— Допустим. Не собираешься ли ты получить с меня прошлогодний долг?
— Ничего не собираюсь. Вас вызывает женщина.
— Тра-ля-ля! — замурлыкал он, как мартовский кот. — Вот это я люблю.
Он достал из кармана зеркальце, расческу и начал прихорашиваться. Догнав меня на лестнице, схватил за плечо.
— Как ты думаешь, кем я был до войны?
— Клоуном в провинциальном цирке.
— Молодец. Ну, а в армии?
— Откуда мне знать? Небось тоже музыкантом.
— Пехота, стой и слушай. Был я агрономом, а в армии минером. Примечаю, не очень ты мне веришь. Ну и не надо. В протоколе будет записано: «Стороны остались при своем мнении». А теперь отчаливай. Сама Матильда, собственной персоной, ждет меня.
Когда Мальцев, напевая разухабистую песенку, появился во дворе, Шумов угощал Матильду сигаретой и воровато поглаживал ее обнаженную руку.
— Мальчик, исчезни! — прогнал его Мальцев. А Матильде, хотя даже непосвященному было видно, что они понимают друг друга с полуслова, он приказал отойти подальше от калитки, поскольку «там, где любовь, третий лишний». Они перекинулись несколькими словами, и она ушла, напоследок одарив Степана кокетливой улыбкой.
— Быстро же ты с ней столковался, — позавидовал Шумов.
— Что нам, малярам? Раз, два — и в дамки. Надо, мальчик, уметь. Вот что!
Мальцев подошел к лошадке, запряженной в воз с дровами, погладил ее, осмотрел затянутый бельмом глаз, из которого медленно выкатилась слеза, заглянул в рот.
— Ты, парень, не собираешься ли выменять моего рысака? — насмешливо спросил мужик, извлекая из глубокого кармана кресало и трут.
— Нет, дяденька. Повернул не туда — не пеняй на коня. Скажи-ка мне лучше, откуда дрова?
Мне и в голову тогда не пришло, что эти слова могут иметь какой-то тайный смысл. Крестьянин посмотрел на Мальцева исподлобья и, по-видимому, только для того, чтобы тот отвязался, буркнул:
— Из лесу.
— Это, дядь, мы и так понимаем. Я сам лесовик. Далеко ли тот лес?
— А тебе не все равно? Может, ты меня жалеешь?
— Да.
Крестьянин покачал головой, презрительно и горько улыбнувшись, и, ни к кому не обращаясь, сказал:
— Пожалел волк овцу. Ты себя лучше пожалей. Пошел, гнедой, — крикнул он так громко, что конь вздрогнул и натянул рогожные вожжи.
С тяжелым бревном на плечах я выпрямился и заглянул Мальцеву в глаза. Пустота. Никаких следов стыда, угрызения совести. Еще минута — и я услышу его обычное беспечное «тра-ля-ля». Но он спрашивает:
— Откуда ты?
— Из Москвы.
— Как звать?
Поворачиваюсь к нему спиной якобы для того, чтобы взять еще одно бревно, и отвечаю:
— Как назвали.
Мой ответ не обидел его. Он продолжает задавать вопросы:
— Зачем привезли дрова?
— Вон идет унтер-офицер Аверов. Он старший по лазарету, спросите у него.
Но Мальцев, оказывается, упрям. Он не отстает от меня:
— Может быть, я с ним разговаривать не желаю?
— А со мной желаете?
— Желаю.
— Странно.
— Фью-ю-ю! — сложил он губы бантиком и свистнул. — А ты что думал? Нынче такое время, что не все следует принимать за чистую монету. Я тебя спрашиваю: зачем сюда привезли дрова?
В голове закружились бешеным хороводом мысли. А может, все это обман и вовсе он не тот, за кого себя выдает? Не пустой балагур и бабник? Заглянуть ведь можно только в глаза, а не в душу. Как можно спокойнее отвечаю на его вопрос:
— Мостить пол в дезкамере будем.
— Дрова — топливо, а не асфальт, — жмурит он веселые, озорные глаза.
Вот пристал. Как банный лист. Не повторилась бы опять история с «латой». В плену, как никогда и нигде, я старался заранее обдумать не только каждый шаг, но и каждое слово. Объясню ему, может, наконец отвяжется:
— В сарае есть целый ящик гудрона. Еще привезут песок и котел, в чем варить гудрон.
— Бонжур, покедова, — прощается он со мной, махнув напоследок рукой. — Очень я любил смолить столбы. И еще любил ночевать в лесу. Вспомнишь, как солнце вставало из-за деревьев, аж сердце зайдется. Эх, пехота, пехота, ты небось и не знаешь, что васильки пахнут медом, а незабудки голубее летнего неба.
Только Мальцев ушел, как тут же словно из-под земли вырос Шумов.
— О чем он с тобой говорил?
Вот любитель совать нос в чужие дела!
— О чем? О тра-ля-ля.
— Ха-ха-ха, — Степу душил злой смех, — князь в рваных портках.
Крамец, Аверов, Шумов и несколько «аристократов» из среды больных режутся до поздней ночи в «очко». Больные из кожи вон лезут, чтобы проиграть Пипину, но стараются оставить несколько монет про запас для себя. Им хорошо известно, что главврач не любит выписывать из лазарета картежников, у которых в кармане еще водятся деньжата. Мальцев проиграл Пипину несколько последних помятых ассигнаций, за что получил разрешение отправиться на любовное свидание. Так он и сказал:
— За свое удовольствие я буду платить немецкими марками. Хотите знать, кто мне их даст? Отвечаю: «Кто может сравниться с Матильдой моей!» Тра-ля-ля.
В палате тяжелобольных лежат три истощенных высохших, как мумии, человека. Они слабы и беспомощны, как дети, делающие первые шаги. Передвигаясь, цепляются за стенки, за койки, за дверные косяки, но костлявые пальцы не слушаются. У одного, его фамилия Забара, туберкулез. Он тяжело, со страшным хрипом дышит остатками легких. Временами ему легче: значит, фельдшер, смилостивившись, не пожалел кодеина, извлек шприцем жидкость из плевры и ввел лекарство, хотя Крамец и запретил это делать. Оказалось, нет необходимого лекарства. Его сколько угодно в любом немецком госпитале, но не здесь. А впрочем, может, Пипин и получает его, да сбывает на сторону.
Один-единственный раз Карл проявил внимание к этому больному. В палату он не зашел, а, стоя на пороге, у открытой двери, спросил Анатолия Леонидовича, заместителя Крамеца:
— Откуда эта болезнь?
— От голода, холода, сырости, грязи…
— Доктор, — прервал его нетерпеливо гитлеровец, — такие сказки рассказывайте кому угодно, а не мне. Я сам валялся в окопах и знаю: кто выжил, того ничего не берет. Скажите-ка лучше, что нужно, чтобы он быстро выздоровел, а не нежился здесь, как у Христа за пазухой?
— Что? Витамины нужны, молоко, сливки, еще лучше кумыс. А главное — свежий воздух и абсолютный покой. Я просил бы, чтобы его, хотя бы временно, перевели в немецкий госпиталь. Требуется хирургическое вмешательство.
Стоящий тут же по стойке «смирно» Аверов в замешательстве. Перевести? Опасно. Поэтому он медленно подбирает нужные слова.
— Исключается. Хватит! — В единственном глазу Карла сверкнул недобрый огонек. — Молока и сливок не хватает для нас, немцев. Я не уверен, что он заслуживает колодезной воды. Скажите: сам он выкарабкается? Служить сможет?
— Наверняка не знаю. Бывает, что гной из плевры прорывается в бронхи и больной его выхаркивает.
— Снова плевра, бронхи, всякие идиотские слова. Я спрашиваю, что вы делаете, чтобы убедиться — туда или сюда.
— Пищу он у нас получает только холодную. Вот видите, около него, на стуле, стакан воды с разведенной в ней чайной ложечкой соли. Еще он получает у нас микстуру. И это, кажется, все. Ну конечно, санитары вытирают его, когда он потеет.
— Ясно. Толку от него что от иголки без ушка. В дальнейшем сыпьте поменьше соли. Микстуру давайте реже, а вытирать его можете. Так действовать, пока я не сообщу решение шефа.
У остальных двух больных диагноз, с которым сюда привозят десятки молодых людей, — дистрофия, результат длительного голодания. О них Карл тоже справлялся у Крамеца и, узнав об их состоянии, бросил брезгливо:
— Если к строевой службе они уже не будут годны, зачем же их здесь держат?
В свободные часы, которые так редко выпадают на мою долю, я забираюсь либо на чердак, где у меня есть свой, только мне принадлежащий уголок тишины, либо лежу в палате для тяжелобольных на полу. Здесь я себя чувствую в большей безопасности, чем на нарах в комнате, где живут санитары. Вот и сейчас я забрался в дальний угол. Луна заглядывает в окно, и на полу, между койками, стелется бледная полоса света. Я лежу тихо-тихо в темноте и пытаюсь уснуть, но думы одолевают меня.
А думать есть о чем…
Говорят, на днях «добровольцы» впервые будут участвовать в операции против партизан. Как же поведут себя вчерашние советские военнопленные?
Может, думаю я, уже существует подпольная группа, по чьему приказу будут уничтожены немецкие инструкторы и их прихвостни — Миронов, Малинин и иже с ними, а также банда белогвардейцев. Присоединятся ли нынешние «добровольцы» к партизанам? Не сомневаюсь, что об этом мечтает не один только Хромов. Но если кто-нибудь и лелеет такую мечту — держит язык за зубами. Здесь открывать душу опасно.
И еще одна мысль не дает мне покоя. Стефа, мать Тамары. Почему она не появляется? Надо бы с ней переговорить. Может, ей известно, — как предупредить партизан, что фашисты собираются напасть на них.
— Спишь? — шепотом спрашивает меня Забара.
— Нет.
— Помоги мне, браток, в последний раз помыться.
— Сейчас. Но почему, Алексей Николаевич, в последний раз? Может, на вас подействовала болтовня Крамеца?
— Глупости. Даже он сам, слизняк Пипин, знает, что его слова немногого стоят. Просто нас на днях из этой палаты куда-то увезут.
— Куда? — смятенно обронил я ненужный вопрос.
Будничным голосом, будто констатируя ничем не примечательный факт, Забара ответил:
— Возможно, обратно в лагерь для военнопленных, а вернее всего, в ближайшем рву расстреляют.
— Вы бредите. Дайте-ка вашу руку.
— Температура у меня такая же, как всегда в это время. Но я уже одной ногой в могиле, и врать своему человеку не хочется и не могу.
— Алексей Николаевич, не понимаю, кто вам мог об этом сказать? Карл? Шумов?
— Хороший человек.
— Вы уверены, что это хороший человек? Если вы имеете в виду хлюста, который сегодня у вас сидел, тогда я ничего не понимаю. По-моему, он за юбку отца с матерью продаст.
— Ошибаешься. Твоя осторожность мне нравится. Но здесь легко стать трусом, которого пугает собственная тень. Излишняя осторожность может тебе только повредить.
— В чем, Алексей Николаевич?
— Таких вопросов не задают. Согласен?
— Да. И все же мне очень нужно знать, должен ли я изменить мнение об этом человеке.
— Должен. Он, правда, поет, как соловей, но кусается, как волк, и знает, кого кусать. Сам в этом убедишься. А пока суд да дело, если он тебя о чем-нибудь попросит, постарайся выполнить. Считай, что ты это делаешь для меня.
Около полуночи Забара попросил меня спуститься на первый этаж, в маленькую палату на двоих, и посмотреть, не вернулся ли Мальцев.
— Только смотри в оба. Под одеялом может оказаться его свернутая шинель.
Хорошо, что Забара меня предупредил. Под одеялом лежал не Мальцев и даже не его шинель, а чернявый парень с лохматой шевелюрой и курносым носом. Парня этого я видел здесь впервые.
РАЗГОВОР У КОСТРА
Новости… Каждый день новости.
Завтра всех выписывают из лазарета. Собираются, как на ярмарку, с шумом и гамом.
Трех тяжелобольных куда-то переводят.
Прибудет немец, главный начальник над предателями.
Пипин носится как угорелый. Как назло, с потолка и стен начали сыпаться известка и мел. Не только мы трое — Мурашов, Ветлугин и я, — но Шумов и даже фельдшер моют вместе с нами полы. Аверов взгромоздился на табурет и бумагой протирает стекла.
Уже в сумерках, после захода солнца, привезли телегу речного песка. До утра мы должны успеть заасфальтировать полы в дезкамере и ванной комнате. Придется работать ночь напролет. Меня это устраивает. Аверов обещает, что завтра, когда шеф со своей свитой прибудет, можно будет отоспаться. Вот и хорошо. Забьюсь в уголок и не буду мозолить глаза начальству.
Обучить нас делу добровольно вызвался Константин Мальцев. Пипин вынес ему старый темный халат и сообщил, что разрешение жечь костер ночью уже получено и что он, Крамец, рассчитывает на Константина, как на самого себя. Сам он-де так переутомился, что хочет лечь пораньше. За ним, за Крамецем то есть, говорит он, не пропадет.
— Все будет в наилучшем виде, — заверил его Мальцев, — об одном прошу, выдайте мне справку за подписью и печатью, иначе Матильда не поверит, и придется мне, горемычному, искать другую.
— Пойдемте со мной, — улыбнулся главврач, — Аверов вам даст ключ от кладовой.
После их ухода Саша Мурашов заметил:
— Скажи, пожалуйста, этот пижон Мальцев, оказывается, не такой уж бездельник.
— А может, он и не пижон вовсе? С первого взгляда трудно разобраться.
— А кто? — Саша вытер рукавом вспотевший лоб и разгоряченное лицо.
— Откуда мне знать? Молчи, вот он идет.
Константин позвал меня — он хочет посмотреть, где лежит гудрон.
В кладовой низкий потолок, и Мальцеву приходится стоять согнувшись. Мы забираемся в дальний угол, где лежат бумажные мешки с цементом.
— У Забары, — шепчет он, — к тебе просьба. Как только у костра соберется побольше народу, скажи ему. А если надо будет, помоги добраться туда.
— Этого я не сделаю.
— Трусишь? Крамеца боишься?
Я стараюсь не обращать внимания на его колкости.
— Забара в тяжелом состоянии. У него высокая температура. Сегодня ветрено. Вы представляете себе, чем это может для него кончиться?
— Он сам все прекрасно знает. Сейчас не время для лишних разговоров. Я уступлю ему место у костра. А ты вынесешь одеяло и укроешь получше. Погоди, не спеши. Своему напарнику ты доверяешь?
— Да, — ответил я резко, обиженный за Сашу.
— Один из вас должен стоять у выхода и в случае чего предупредить свистом.
— Ладно.
Прожорливая пасть костра требует пищи. Языки пламени то наливаются алой кровью, то багровеют, как бы предупреждая: жухлые листья, сухая трава не годятся, не бросай также тряпок и прочей пакости. Жирные клубы удушливого дыма прогонят тебя. Хочешь, чтобы костер горел светлым, ясным пламенем, подбрасывай побольше сухих дров. Тепло и свет будут тогда звать и манить: поди сюда, постой, не уходи. Смотри, как, тебе на радость, пляшет пламя, как сплетаются и расплетаются огненные языки.
Может, это всего лишь игра моего встревоженного воображения, но почему тогда к костру слетелись не только ночные бабочки, но и давно выписанные больные, которые бог весть какими путями получили разрешение прийти сюда?
Трудно сказать, кто больше дымит, наш костер или те, что окружили его плотным кольцом. Мальцев сидит верхом на бревне. Многие из собравшихся уже, кажется, под мухой.
Чей-то грубый смех. Чей-то сиплый голос. Парень с тяжелыми плечами, тяжелыми руками и тяжелым взглядом упрашивает Мальцева:
— Константин, расскажи о своей Матильде.
Мальцев молчит.
— Не упрямься, чертушка, — не отстает тот от него.
Мальцев тянется к нему и что-то шепчет на ухо. Парень истерически хохочет.
Другой, с зычным голосом, говорит, будто продолжая давний спор:
— Плевать я на все хотел. Желаю взять от жизни все, что можно, и еще немного сверх того. Луны нет? Чихать на луну. Мне и звезд хватит. Хотя, откровенно говоря, и они мне на черта сдались. По мне что береза, что сосна — все едино. Велят мне, я их все повалю. Пусть только кормят досыта. Сегодня я живой — и баста.
— А ну как партизаны, которым нужны и солнце, и луна, и звезды, и березы, завтра угодят в тебя пулей? — спрашивает его сосед.
— Почему в меня, а не в тебя? — Он оглушительно сморкается и осторожно дотрагивается пальцем до синяка под глазом.
— Какая разница? Ведь это я так, к примеру.
— Какая разница? Нет, вы послушайте этого болвана. Ведь хоронить-то будут того, в кого пуля попадет. Вот сидит Мальцев. Он и его трубачи уже давно отрепетировали отходную по каждому из нас.
— Эй, шакалы, кто упоминает имя мое всуе? А что будет, если партизаны, — говорят, они стрелять умеют, — всех вас перебьют? Сколько же раз за день прикажете мне топать на кладбище? О моих ногах кто-нибудь подумал?
— Молчи, музыкант, — не на шутку злится сиплый, — нас посылают в самое пекло, а тебе жалко лишний раз в дуду подудеть. Какого же черта вы здесь нужны?
— Сейчас я тебе все разобъясню. В лагере для военнопленных ты был? Стало быть, тебе известно, что немцы требовали, чтобы и там мы топали бодро-весело. Завтра умрешь от голода, побоев, сторожевые псы тебя разнесут в клочья, а сегодня песни пой. Тем более здесь. С музыкой мы вас проводим. А тех, которые останутся в живых, с музыкой встретим. Не исключено, что такому, как ты, достанется крест… на грудь, конечно. Пожалуйста. И тут без музыки не обойтись.
«В лагере для военнопленных»… Кто бы они ни были, те, что сидят здесь, рана еще слишком свежа, и не могут они теперь, коль скоро слова эти уже произнесены, говорить о чем-нибудь другом.
С каждой минутой напряжение нарастает, атмосфера накаляется. Даже сиплый с ужасом вспоминает о недавнем прошлом.
— Было время, — глубоко вздыхает он, — когда я уже ходить не мог. «Тимоша, — сказал я себе, — каюк тебе». А теперь я хочу выжить, обязательно выжить.
— Вопрос только, как выжить: как человек или как трус?
Эти слова произнес Забара. Он не дождался меня и сам пришел, чтобы подлить масла в огонь. Мальцев уступает ему место, а сам начинает палкой ворошить костер. Огненные мячики с треском рвутся в ночное небо и чертят в чернильной тьме огненную дугу.
Тимоша не понимает Забару, но чувствует — этот человек, непрошеным ворвавшийся в разговор, хочет его оскорбить. Он требует:
— Не напускай тумана. Кто трус? Я?
Алексей Николаевич, с трудом глотая воздух, отвечает, даже не повернув к нему голову:
— Наверняка еще не знаю. А пока мой тебе совет: спрячь-ка руки в брюки, сиди и не рыпайся. Что мы с тобой трусы, доказывает мундир на нас. Что? Я не прав, что ли?
Но не Тимошу, который стоял несколько мгновений, непонимающе моргая большими выпуклыми глазами, а потом сонно зевнул, взорвал ответ Забары. Его интерес к разговору, затеянному Алексеем Николаевичем, уже погас. Сорвался с места другой — Морозов, который только на днях выписался из лазарета. Он скрежетал зубами от злости.
— На красных работаешь, паскуда! — раскричался он. — Тебе, герой, голову оторвать мало!
Близорукие глаза Морозова были сейчас не светло-зелеными, как обычно, а почти белыми от ярости и одновременно холодными, как плавающие льдинки. Так вот он какой, этот стройный, скромный на вид молодой человек! Допустим, что пионером, комсомольцем он никогда не был. Но с той минуты, как он появился на свет, отец и мать мечтали, что их сын вырастет человеком, ч е л о в е к о м. А он, кто он? Трус? Нет! Трус тот, кто в минуту опасности думает не головой, а ногами. Может, он был другим, но его исковеркал неожиданно налетевший вихрь войны? Неподалеку от лазарета стоит сломанный тополь. Совсем недавно на нем опять появились зеленые побеги. У Морозова было достаточно времени, чтобы задуматься над жизнью. Так вот до чего он додумался! О таких людях народ говорит: сорную траву с поля вон.
Ветер ерошит тонкие, преждевременно поседевшие волосы Алексея Николаевича. Его лихорадит. Худые, костлявые руки дрожат. Но взгляд его открыт и непреклонен.
— Героями, Морозов, да будет тебе известно, не рождаются. Была бы у тебя хоть капля совести, ты бы еще, быть может, стал если не героем, то хотя бы просто человеком. Мой батя говорил: не трудно дерево посадить, трудно его вырастить, чтобы устояло оно в непогоду, чтобы ветер его не свалил, мороз не побил. Наше горе — не выстояли мы и гнием, как поваленные деревья. Садись, парень, и не пугай меня. Поверь, напрасно, напрасно стараешься. Хочешь, запиши мое имя и фамилию. Забара Алексей. Наборщиком я был в типографии. И домашний адрес могу сообщить. Не беспокойся. Я уже никуда не убегу. Видишь, кровью харкаю. — Забару душил кашель. Синие жилки на щеках обозначились резче. Он сплюнул в тряпочку кровавую пену. — Не стесняйся. Беги за Мироновым. Не зря ведь говорят, что холуй хуже хозяина… Чего молчишь? От тебя с души воротит, как от паука.
Откуда-то донесся скрежет танковых гусениц, а затем женский голос завел тихую, давным-давно забытую песню. В этот вечер грустные слова ее и печальная музыка звучали особенно тоскливо, переворачивая душу у тех, кто сидел в мучительном раздумье у костра. Только Мальцев пытался еще шутить, но и в его шутках радости не было.
Скоро полночь. Давно уж погас свет в окнах домов. Где-то плачет ребенок. Изредка тишину нарушает топот солдатских сапог. Вот и луна выглянула из-за туч и осветила все вокруг мягким, ласковым светом. Даже сторожевые псы забыли о своих обязанностях и не лают на нее. Только кому-то из стражи хочется погасить ее, и в воздух взлетают три желтые ракеты. Но луна уже успела одарить своим живым светом почти каждую крышу, каждое окно. А ракеты, не успев догореть, мертвыми падают на землю.
От костра никому не хочется уходить. Напоминаю Забаре:
— Больной, пора в палату. Пошли.
Все стали собираться. Не позже двенадцати приказано быть в казарме. Атлетически сложенный парень, с волосатыми жилистыми руками, бронзовым загорелым лицом, потянулся, зевнул, и неожиданно из его глаз покатились слезы. Сплюнув сквозь зубы в огонь, он сказал:
— Честное слово, я готов заснуть здесь, у костра, и больше никогда не просыпаться. — И в голосе его почувствовалась боль человека, за спиной у которого нелегкая, путаная жизнь.
Алексей Николаевич, который уже стоял на пороге, повернулся к нему:
— Глупости. Это тебя червяк страха гложет. Подумай как следует и ты поймешь, что все зависит от тебя. Не надо только быть огородным пугалом — куда захотят, туда поставят.
Не место и не время сказать Забаре, как бесконечно я благодарен ему за то, что он не побоялся сказать правду этим людям. Конечно, взывать к совести Морозова — это то же, что пытаться горстями перетаскать песок пустыни. Спасибо Забаре за то, что он его распознал, показал его другим, но не потерял веру в тех, что еще могут стать людьми.
Забара очень устал и, безусловно, нуждается в покое, но до утра осталось всего несколько часов, и мне хочется еще столько у него узнать, столько ему рассказать, что я не выдерживаю и спрашиваю:
— Алексей Николаевич, неужто они не перейдут к партизанам?
Его молчание затянулось. Я уже потерял надежду получить ответ.
— Понимаешь, — наконец заговорил он, — мне кажется, что порядочные люди зачастую очень похожи друг на друга. Но каждый подлец — экземпляр, единственный в своем роде, и почти невозможно предугадать, что такой тип может предпринять. Невозможно потому, что думает он только о своей собственной шкуре, а на все остальное ему наплевать.
Я с ним согласен, но все же повторяю свой вопрос. Забара глотает немного горького овсяного кофе и говорит:
— Это зависит от разных причин. Пока, полагаю, попытаются лишь очень немногие. Плохо будет, если их всех до единого сочтут шпионами.
— Значит, надо предупредить партизан.
— Уже пытались, — отвечает он, огорченно вздохнув, — но пока безуспешно. Тех, в лесу, можно понять. Предатель под маской народного мстителя — ты себе представляешь, что это значит?
— Алексей Николаевич, — горячо шепчу я ему в ухо, — я собираюсь бежать. Если мне удастся, я им все расскажу.
— Об этом надо говорить с Мальцевым. Я ему уже предлагал такой вариант.
Крепко жму его влажную, горячую от сжигающего его жара руку и шепчу:
— Спокойной ночи!
— Спокойной ночи, говоришь? Где они теперь? Но верю, будут, обязательно будут еще спокойные ночи.
Стою, гляжу на него и дивлюсь: могло ли мне прийти в голову, что здесь, среди этого человеческого отребья, я найду такого человека, как Забара? До войны он, поди, жил тихо, незаметно. Звезды, они ведь светят только во тьме…
Разговор с Мальцевым я решил не откладывать. Нашел я его у костра. Он сидел в глубокой задумчивости.
— Константин, — умоляю я, — помоги мне вырваться отсюда.
— Одному бежать толку мало, — почти сурово отвечает он.
— Там я вам больше пользы принесу.
— Ты можешь понадобиться в лазарете.
— А если я больше не могу здесь оставаться?
— Кажется, я тебе уж как-то говорил, что у нас в армии я был минером.
— Ну и что? — не понимаю я.
Он достает из костра еще не погасший уголек, закуривает и, с наслаждением затянувшись, тихо продолжает:
— Командиром нашей части был образованный и умный человек. Он нам часто напоминал, что минер должен быть терпелив, как резчик по кости.
— Что я должен делать?
— К тебе может обратиться парень, Ганичев, тоже из музыкальной команды. Это наш человек. Назови улицу в Москве. Какую тебе угодно.
— Пироговская.
— Тебя он назовет «земляк». Спроси у него: «На какой улице ты жил?» Если он ответит: «На Пироговской», — значит, все в порядке. Он твой ровесник. Немного выше тебя. Крепыш. Брюнет, как ты. Говорит медленно и всегда вроде сонный с виду. Думаю, не ошибешься.
— Кажется, я уже его раз видел.
— Где?
— Ночью на твоей койке.
— Да, тогда у нас другого выхода не было. — Он сорвал и пожевал травинку. — Договорились? А теперь я иду спать.
Исчезли последние бледные звезды. Наш костер догорал. Временами хилый язычок пламени еще лизнет чернеющие головешки — и гаснет. Из освещенного окна комнаты, где собрались картежники, все еще льется яркий свет. А между тем ночь уже на исходе. Вот-вот наступит рассвет. Вот-вот донесется далекое пение первых петухов и из-за туч блеснут трепетные лучи восходящего солнца. Земля еще и сейчас, вопреки всему, чудо как хороша. Она пахнет рожью, цветами и душистой лесной травой.
СНОВА ШУМОВ
Чем больше Аверов сближается с Крамецем, тем более чужим он становится мне. Ему уже не хочется, как это было в самом начале, как можно меньше походить на «господина унтер-офицера». Теперь, кажется мне, его уже не устраивает, что я его называю Казимиром Владимировичем. Вот и сейчас. Он стоит — руки в брюки, а я вытянулся перед ним по стойке «смирно». Аверов еще не догадывается, что я его опять побаиваюсь. Он допытывается, что было вчера у костра. Возможно, сам знает, но просто проверяет меня.
— Казимир Владимирович, — отвечаю я, — что вы хотите? С одного вола две шкуры тянуть? Надо мной уже и так издеваются, что я сплю на ходу. Спорили. О чем? А черт их знает. Спросите их, они и сами не знают. Все перепились, мешали нам работать.
— Кто помог Забаре спуститься с лестницы?
— Никто. У меня у самого глаза на лоб полезли, когда я увидел, что он вышел за порог.
— А зачем он вышел?
— За воздухом. «Нечем дышать», — жаловался он.
— Почему ты его сразу не отвел в палату?
— Был занят. Потом присел на минуту передохнуть и не заметил, как задремал. Как только проснулся, тотчас же отвел его в палату, уложил, укрыл потеплее, к ногам положил грелку. Его лихорадило. Температура у него, наверное, была под сорок.
— Обязан был немедленно доложить мне или Шумову.
— О чем? Что у него ночью высокая температура, вы и сами знаете. А когда у Забары такая температура, он себя не помнит и несет такую околесицу — уши вянут.
Аверов сдвинул густые брови. Металлической расческой провел по длинным, зачесанным кверху волосам, закурил трубку. И вдруг, словно кто-то третий присутствует при нашем разговоре, Казимир Владимирович начинает громко, во весь голос, отчитывать меня, размахивая пальцем у меня перед носом:
— Какая честность, какая скромность! Только рясы не хватает, и был бы у нас свой собственный поп. Ты обязан был доложить кому-нибудь из нас, что тяжелобольной вышел во двор.
«Сейчас, — думаю я, — подпущу тебе шпильку. Не обрадуешься».
— Я, Казимир Владимирович, хотел. Но все были заняты — играли в карты.
— Не твое дело, — хмурится он еще больше. — Посмотри, на кого ты похож. Хуже обезьяны. Леший на болоте и тот чище тебя.
— Выходит, опять я виноват. Асфальтируй, убирай, мой, выноси, провожай. Когда же мне мыться?
— Хватит. Ух, и надоел же ты мне! Скоро должна прибыть комиссия. Чтобы вашего духу здесь не было. Бери своего дружка Мурашова за ручку — и марш на чердак. Одного не понимаю: где был Мальцев? Крамец ведь просил его. Как же он допустил, чтобы разыгрался такой скандал?
Тут мне подыскивать слова не надо. Как оправдать Мальцева, я знаю.
— Чему вы удивляетесь, Казимир Владимирович? Вы что, Мальцева не знаете? У этого шалопая ветер в голове. Ему бы только тра-ля-ля да тра-ля-ля, а остальное, говорит он, трын-трава.
— Так я и знал. Вы через минуту захрапите, Мальцев будет распевать «тра-ля-ля», а отвечай за все мы с главврачом. Счастье Забары, что его утром с другими тяжелобольными куда-то увезли. Для Миронова высокая температура не оправдание. Тут уже был его посланец. Миронов вызывает нас с Крамецем к себе. Что ему от нас надо? Черт его знает. Ну, чего стоишь? Отправляйся на чердак.
Мы с Мурашовым немедленно выполнили приказ Аверова. Хотя все тело ныло от усталости, мне не лежалось. Куда увезли Забару? Ох, не к добру это… Я подошел к оконцу и увидел ясную голубизну неба, крышу домика, которую не худо бы перекрыть, покосившийся плетень. У калитки босая, простоволосая женщина раздувает самовар голенищем сапога, как у нас в местечке в те далекие, полузабытые времена.
И еще я вижу редкий еловый лесок, реку без пароходов, без тяжело груженных барж, а несколько в стороне — старенький паровоз, тяжело выдыхающий струю дыма, всю в мелких седых кудряшках.
Тихо, крадучись, как мышь, Саша шагает туда и обратно по чердаку. Я — за ним. Сколько километров прошагали мы, погруженные в тяжелые думы, здесь, под нависающими над головой, затканными густой паутиной стропилами?
Свору фашистов я заметил, когда они уже были совсем близко. Впереди шагает некто крупный, полнотелый, в больших роговых очках, закрывающих половину лица. Крамец, который за это время отрастил порядочное брюшко, спешит ему навстречу. Чиновный немец приветствует его, прикладывая небрежно палец к козырьку фуражки с высокой тульей, сидящей на его голове хищно, как ястреб.
Они о чем-то беседуют, но вдруг вижу: Карл, тоже сопровождающий начальство, грозит кому-то своим тяжелым кулаком. Вот беда, ведь это Петя Ветлугин. Оборванный, грязный, словно пыль и грязь со всех развалин города осели на нем, стоит он перед начальством и вытирает руки подолом продырявленной осколками гимнастерки.
Мне приходится силой удерживать Сашу, чтобы он не слишком высовывал голову из чердачного оконца. Не ровен час увидят. Ветлугина он поносит последними словами — надо же, вместо того, чтобы поскорее унести ноги, ему именно в эту минуту понадобилось перемотать обмотки. Теперь, когда сам шеф его увидел, уже поздно что-либо предпринимать. Сердитым, высокомерным тоном немец спрашивает у Крамеца:
— Как попал в лазарет этот оборванец? Кто он, спрашиваю я вас?
Петя нам потом рассказывал, что не столько он, сколько Крамец начисто лишился дара речи от страха. Блестящая лысина Пипина покрылась испариной. Ему на помощь поспешил Карл:
— Разрешите доложить. Он здесь истопник и уборщик. Нужники чистит.
— В следующий раз чтобы ничего подобного… Отправьте его в лагерь или оденьте, поприличнее. Ваше счастье, что здесь нет оберста.
В тот же день нас отвели в сарай, открытый всем ветрам, где двадцать женщин и девушек сидели и перебирали грязную и рваную одежду, полинявшую от солнца, ветра и дождя. От нее за версту несло тошнотворным запахом запекшейся крови, пота, плесени. На нескольких швейных машинах женщины чинили, латали и лицевали это старье.
— Откуда вас сюда пригнали? — спрашивает у нас шепотом дивчина с упрямо вздернутым носом и русыми, длинными, до плеч, волосами.
Надзирательница, в это время находившаяся в другом конце мастерской, все же услышала вопрос и, поправив шпильку в высокой, тяжелой прическе, широкими, почти мужскими шагами направляется в нашу сторону. Бледное лицо девушки становится еще бледнее.
— Заткнешься ты, наконец? Или я сегодня опять пожалуюсь на тебя шефу.
Погоди-ка, погоди, не эта ли баба часто заглядывает к Крамецу, приносит ему спирт и уносит в своей корзинке капли, таблетки, порошки? Когда она уходит к сапожникам, которые работают в другом отделении, в покосившейся, наполовину ушедшей в землю деревянной хибаре, я спрашиваю у девушки, чье лицо не годы, а горе избороздило морщинами:
— Скажите, вы военнопленные?
— Нет, что вы! Мне еще и восемнадцати нет. Сюда нас послали с биржи труда.
— Ну, а на биржу труда вы сами пришли регистрироваться?
— Сама, — отвечает она, еще ниже склонив голову. — Мама больна, а у меня еще есть маленькая сестренка.
— А кто у вас работал до войны?
Она удивленно смотрит на меня снизу вверх.
— То есть как кто? Отец был капитаном на речном пароходе, а мама была здорова. — Вдевая в иголку машины нитку, она продолжает: — Я знаю таких, которые мне даже завидуют. Теперь, чтобы поступить сюда, надо иметь собственную машину. Мою приятельницу схватили на улице. Вот уже второй месяц пошел, как ее увезли, а от нее ни слуху ни духу.
— А ваша надзирательница тоже с биржи?
— Нет. Эту бабу-ягу доставили сюда из Могилева. Она помогает фельдфебелю Карлу спекулировать бельем, обувью.
— Ее не Марией ли звать?
— Да, Мария Петровна. Откуда вы ее знаете?
Собственно говоря, когда Карл тогда, в вагоне, рассказывал о ней Гюнтеру, я именно такой и представил ее себе. Что за это время изменилось? Вывеска. Она торгует не сахарином, а тряпьем с убитых фрицев, лекарствами. Алексей Забара и Морозов говорят на одном языке, а далеки друг от друга, словно живут на разных планетах. Эта же спекулянтка и одноглазый Карл говорят на разных языках, но понимают друг друга отлично.
Немецкие мундиры вызывают отвращение. Лучше ходить в тряпье. Но что поделаешь? Шумов, который привел нас сюда, и так орет на меня:
— Ты чего, жених, стоишь, как фон-барон? Поди, думаешь, специально для тебя сейчас вынесут новехонький мундир и лаковые сапожки? — Он улыбается собственной «шутке». А так как его слушает стройная, миловидная девушка, с которой он глаз не сводит, он пускается во все тяжкие, стараясь блеснуть перед ней остроумием: — Лаковые сапожки, да обязательно со шпорами. Под их малиновый звон никто не услышит, как ты вместо одного раза «кукуруза» скажешь два раза «пшенка». А ну, ваше сиятельство, сделай милость, продекламируй-ка вслух, да так, чтобы все слышали: «На горе Арарат растет красный крупный виноград».
Все эти слова я произношу не хуже Шумова. Что же я стою, как пригвожденный к месту, и смотрю, как он от удовольствия шмыгает носом? Что делать? Заехать ему по физиономии, как тогда, когда он положил фашистский плакат на нары? Опасно, хоть стрелять он может в меня разве что глазами. Ну, а если зайдет Карл или еще кто-нибудь из охраны? Ворон ворону глаз не выклюет. А у этих ведь есть оружие. Значит, сделать вид, что я ничего не слышал, и молчать? Улыбаться, как другие? Но на это у меня сил не хватит.
Кажется, все портнихи смотрят на меня. Но Мурашов, — чем десять родственников, лучше один такой друг, — Мурашов уже стоит рядом со мной, а Ветлугин нет-нет да бросит взгляд на ножницы, лежащие на дальнем конце стола. Саша говорит ему:
— Спокойно, Петя! Если мы втроем решим, что эту гниду следует убрать, приговор будет приведен в исполнение. Как ты думаешь, Петя?
Петя не отвечает, он только сплевывает сквозь зубы и носком тяжелого ботинка растирает плевок, будто уничтожая ползущего гада.
Шумов подходит ближе и, поворачиваясь лицом к Саше, становится в позу боксера.
— Так, так! А ну-ка, повтори, что ты сказал!
Девушка с длинными русыми волосами останавливает свою машину и кричит:
— Мальчики, пошумели — и хватит! Лучше мы вам споем, ладно? Леля, начали…
Леля затягивает песню, а остальные подхватывают. Еще минута, и загорелся бы пламень ссоры, а теперь я себя чувствую как выздоравливающий после тяжкой болезни. Не только одиночество, но, кажется, грязные стены отступают. И хотя я опять в лазарете на чердаке и никто уже не поет, но еще долго-долго слышу я эти звуки, что унесли меня к маленькому поселку, затерянному в безбрежных степях юга Украины, где осели первые переселенцы из еврейских местечек. Отец, мать и мы, семеро ребят мал мала меньше, месили босыми ногами саман, поднимали целину, сажали виноградники…
Бывшие местечковые сапожники, портные, мелкие торговцы учились у своих соседей — украинцев — новому для них делу, новой жизни. Не успев еще расстаться с вековыми привычками, они полюбили неоглядную степь с ее древними курганами.
Летом, как только вечерние сумерки укрывали землю, парни и девушки, отряхнув с себя степную пыль, наспех умывшись и перекусив, выходили из дому и до рассвета гуляли по единственной улице. Кто-то захватил с собой ломоть свежеиспеченного хлеба, усыпанного тмином, пахнущего полынью. Тепло, тихо. С пруда доносятся мерный всплеск воды, неумолчное кваканье лягушек.
К себе во двор я входил по-кошачьи тихо. Стучать в окно ни к чему. Рядом стог сена. Забираешься под лоскутное одеяло и под первые будоражащие звуки пения петухов, вдыхая прохладную свежесть раннего утра, щекочущий запах свежих трав, засыпаешь непробудным сном.
Воспоминания… Вы как огоньки в густом тумане. Почему я до сих пор помню все это? Может быть потому, что человек без отчего дома, без мечты и правда что птица без крыльев?
Гестаповец Миронов не забыл свою угрозу, вызвал Крамеца и Аверова к себе и, кажется, дал нагоняй. Что именно он им сказал, мне, конечно, неизвестно, но сегодня они в карты не играют. Пипин тихо, с тоской в усталых, красных от недосыпания глазах, слоняется, как чужой, по пустым палатам, куда, кроме него, заглядывают только последние лучи заходящего солнца. Затем он заходит в перевязочную и толстыми, как колбаски, короткими пальцами снимает крышку с металлического ящика, где хранится хирургический инструмент, никелированная поверхность которого излучает холодный блеск. Этими инструментами он пользовался, когда на высоком и длинном операционном столе лежал Алексей Николаевич Забара. Чтобы не внести инфекцию в рану, Крамец тогда долго мыл руки, протирал их нашатырным спиртом, окунал пальцы в йод. Зачем он все это делал? Для того, чтобы сегодня с легким сердцем, вместе с Мироновым и одноглазым Карлом стать палачом Забары?
Сам Пипин себе, по-видимому, таких вопросов не задает. Поглаживая свою коротенькую, с такой заботой отращиваемую бородку и длинный нос, он уходит к себе в комнату. Через несколько минут он погружается в глубокий сон. Даже в коридоре слышен его заливистый храп.
Когда горе становится хлебом повседневности, каждый день тянется, как год. Единственная уверенность, которая у меня есть, — это уверенность в том, что меня ждет неминуемая и скорая смерть. А тут еще Шумов проходу не дает. Не знаю, что делать, как заставить этого негодяя замолчать. Уступать ему нельзя. Он поймет, что я боюсь его, и тогда мне крышка. Прикончить его? Легко сказать… Выход один — форсировать побег. Минута промедления грозит гибелью. Но как же быть с обещанием, которое я дал Мальцеву? Ведь он, кому бежать значительно легче, чем мне, не делает этого. А оставаясь, он рискует не меньше меня. Очевидно, зря я не посвятил Забару и Мальцева в свою тайну.
Единственный человек, который может унять Шумова и к которому я еще, возможно, могу обратиться, — Аверов. Они с Крамецем с каждым днем все больше напоминают иголку с ниткой. Не знаю еще, что именно я ему скажу и должен ли я с ним говорить, но ноги помимо воли несут меня прямо к его комнате. Дверь плотно закрыта. По-видимому, на ключ. Постучаться я не решаюсь. А вдруг он спит? Дай-ка попробую толкнуть. Если не заперто, попрошу разрешения зайти, если заперто, отложу разговор до завтрашнего дня. К тому же, если я простою здесь еще несколько минут, то и вовсе раздумаю к нему обращаться. И теперь мне уже страсть как хочется, чтобы дверь была заперта. Дабы не передумать, я нажимаю на ручку, и дверь тихо, без скрипа, открывается. Все дальнейшее мне кажется диким, несуразным сном.
На табурете спиной к двери стоит Казимир Владимирович. На стене напротив двери висит портрет бесноватого фюрера, которого я до сих пор здесь не видел. У Аверова в руках сверкает нож. Один глаз у Гитлера выколот. Теперь Казимир Владимирович примеряется ко второму. На полу валяется не менее десятка порезанных на куски фашистских портретов и плакатов.
Удар ножом — и фюрер слеп на оба глаза. Но с табурета Аверов еще не слезает. Ему хочется, по-видимому, насладиться зрелищем учиненного им погрома. Он поворачивает голову. Лицо его искажено странной гримасой, выражающей разнообразнейшие чувства, только не сожаление о содеянном. Ясно одно: он выпил, и выпил изрядно. Что же это — неосознанная выходка человека, потерявшего контроль над собой, или «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке»?
Увидев меня, он так испугался, что свалился бы с высокого табурета, если б я его вовремя не поддержал. Аверову, казалось мне, хотелось закричать, закричать громко, криком заглушить овладевший им страх.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он меня, смертельно бледный.
— Вдвоем веселее. Что ты на меня уставился? Видишь, я придерживаю дверь. Тебя ведь надо оберегать.
— Она была заперта.
— Видать, нет.
— Не может того быть.
— В таком случае я вошел через трубу. Ну, не стой, как очумелый. Поскорей собирай бумаги. Кто-нибудь может зайти.
От спешки, да и от страха у него трясутся руки. Щеткой он заметает в угол последние клочки, не переставая оправдываться:
— Понять не могу, что здесь произошло. Налакался, как свинья. Кисленького бы сейчас. Клюквы, что ли.
Тон у него заметно меняется. Он опять обретает уверенность в себе. Что-то он замышляет. Не зря ведь он так настойчиво требует еще и еще раз рассказать, что именно здесь произошло. Значит, говорю я себе, держи, брат, ушки на макушке.
— Видишь? — тычу я пальцем в сторону портрета. — Видишь эти выколотые глаза? Чья это работа?
— Чья? — повторяет он за мной с наигранным любопытством.
— Моя!
— С чего бы!
Ах, так, дорогой Казимир Владимирович! Следы заметаешь! Придется на тебя, друг ситный, нагнать немного страху.
— Хватит, Казимир Владимирович, дурака валять. Хоть ты и крепкий орешек, но я тебя раскусил. Вот ты мне недавно сказал, что правда похоронена по первому разряду, но тем не менее от свидетеля, который все видел, не отвертишься.
Вру уверенно, без запинки. Ловушка срабатывает безотказно. Аверов тут же трезвеет. Его трясет, как в лихорадке. Он хватает меня за руку.
— Умоляю, скажи: кто? Крамец?
— Потише! Пипин спит.
— Шумов?
— Нет. Но больше давай не спрашивай, все равно не скажу.
— Если Степа, тогда мне каюк. Это он донес на Забару.
— Неправда. За весь вечер он ни разу не вышел во двор и даже не знал, что Забара сидит у костра.
— А ты откуда знаешь? Сказал ведь, что спал. Коли врешь, береги память, не то, гляди, засыплешься.
— Выходит, Казимир Владимирович, не так уж ты пьян, раз помнишь все, о чем мы говорили. Тогда незачем мне тебе объяснять, что пугать нам друг друга резону нет. Я в твоей грязи копаться не собираюсь. Но и твоя душа, вижу, задыхается в этой мерзости. А душу ведь не выплюнешь. Откуда же такая дружба с Крамецем? Задушить его мало, а ты счастлив, что господин гауптман с тобой изволит в картишки играть. Что молчишь, как глухонемой?
— Счастье, говорила моя мать, как нитка жемчуга. Одна жемчужина упала — все остальные рассыплются. Хочешь знать, почему я дружу с Крамецем? Так вот тебе мой ответ: в какой воде плывешь, ту и пьешь.
— Так, может, Казимир Владимирович, тебе повернуть в другую сторону?
Этого он, по-видимому, не ожидал. Глаза зло сверкнули. Мне показалось, что он снова готов все отрицать. Но нет. Его ответ мне показался искренним:
— Чужим умом не проживешь. Поживем — увидим.
Аверов угощал меня всем, чем был богат, стараясь выпытать, кто второй свидетель и следует ли его опасаться.
— Нет, Казимир Владимирович. Если только ты не заставишь его защищаться, ни одна живая душа не узнает и он сам тебе никогда не напомнит.
Через несколько дней Саша Мурашов спросил у меня:
— Скажи-ка, что стряслось с Аверовым? Ни с того ни с сего возлюбил меня, как родного сына. Как ты думаешь, надолго это?
— Да, Саша, надолго. В случае чего скажи ему с глазу на глаз, что тебе его бояться нечего.
— Вот как? А говорят, чудес не бывает.
Это последнее происшествие не сблизило меня с Аверовым. Но одно я знал твердо — больше я могу его не опасаться.
ГОСПОДИН МАЙОР
Молния прочертила огненный зигзаг на низких тяжелых тучах, и тут же хлынуло как из ведра. Через сутки немного распогодилось, и в небе повисла радуга. И хотя изредка все еще накрапывало, солнце успело подарить каждой капле, каждому ручейку яркую искру света.
Омытые дождем, травы и листья позеленели. И все же пахло осенью. Было ясно, как бы лето ни сопротивлялось, придется ему сдаться. Вчера, по-моему, даже рябина, что растет у дороги, выглядела совсем по-иному, а сейчас гроздья красных бусинок на ее раскидистых ветвях налились осенней зрелостью. Дни стали короче, ночи прохладнее. Скоро, скоро появятся, как первые седые волосы, первые желтые листья.
Кто не любит раннюю осень? Тесно, крыло к крылу, сидят на телеграфных проводах птицы. Они молчат или вполголоса поют свои песни. Еще по-летнему тепло, но в птичьих сердцах, так говорят знающие люди, уже поселилось предчувствие морозов и ветров. Птицы еще здесь, им трудно расстаться с пахнущими прелым листом березовыми рощами, с высокоствольными сосновыми лесами, в которых полно шишек с вкусными сладкими зернами.
Но вот пожелтеют и начнут опадать листья. И из-за по-осеннему грустных облаков донесется курлыканье журавлей и гогот диких гусей.
А потом придут самые грустные дни — предвестники зимы. Все кругом будет голо и печально. Зарядят унылые дожди. Тогда уже отсюда не увидишь край далекого леса. На том месте, покажется тебе, небо и земля слились в одну серую пелену. Если до той поры мне не удастся бежать, прощай, жизнь.
Сюда, к казарме, именуемой лазаретом, Стефа, мать моей маленькой приятельницы Томы, приходит редко. Она, не таясь, выражает мне свое сочувствие, но помочь пока не может. В деревне, где живет ее сестра, немецкий гарнизон. Если партизаны и появляются там, то только по ночам и тут же исчезают. А город набит немцами, как пельмени мясом.
Недавно приходила Тома. За время, что я ее не видел, она явно изменилась. Выросла, что ли? Так иногда незаметно для глаз вырастает, набирает силы молодое деревцо. Она, против обыкновения, сидит смирно на месте. Головка опущена.
— В чем дело, Тома?
Она подняла глаза и поведала мне о беде, которая с ними стряслась. Какая беда? Старший брат подрядился пасти двух коз. И вот однажды, когда он гнал их к крепости, из проезжавшего грузовика соскочили два гитлеровца в стальных касках и забрали обеих коз.
— Что же теперь будет? — спрашиваю я.
— Плохо, дядечка! Мама говорит, если не удастся перехватить у кого-нибудь в долг, у нас заберут Мурку.
Стараясь не расплакаться, она крепко, до боли, сжимает губы. А коза, словно понимая, что речь идет о ней, перестает щипать траву и поворачивает голову к своей хозяйке. Утешить Тому мне нечем, и я начинаю всячески расхваливать Мурку:
— Она у тебя умная. Все понимает.
— А как же, — подтверждает Тома, — она ведь свое имя знает. Сейчас она вам еще кое-что покажет. Мурка, где зудит? А еще где?
Коза рогами почесывает один бок, потом другой. У Томы в улыбке расцветают губы. Она довольна. Мурка ее не осрамила. Можно себе представить, сколько труда и терпения ей стоила дрессировка козы.
Долго ходить без дела мне не положено. Я должен работать до седьмого пота. Прощаюсь с Томой, беру веник и начинаю подметать крылечко у входа. Откуда ни возьмись Шумов. Еще издали он кричит:
— Жених, иди к главному, он тебе покажет, где раки зимуют!
Степе соврать — раз плюнуть. Ему просто доставляет удовольствие пугать людей, особенно меня. А все-таки зачем я понадобился Пипину и почему он послал за мной именно Шумова? Сердце замирает. А вдруг…
Сам Степа идет тихо и степенно. Поставь ему на голову тарелку, не свалится, а меня подгоняет:
— Князь, извольте поторапливаться! Идешь как на ходулях. А не жмут ли тебе ботиночки? Попроси, может, лапти выдадут. Ну-ну! Не злись. Ведь я это шутя.
Если бы Шумов на меня донес, думается мне, он бы не лез на глаза. Останавливаюсь у открытой двери, а Шумов, переступая порог, докладывает:
— Господин гауптман, ваш приказ выполнен. Разрешите быть свободным?
— Да, — отвечает Крамец, — но сначала проводите его, — показывает он пальцем на меня, — в ванную.
В кабинете у Пипина, успеваю я заметить, сидит немецкий офицер в новехоньком, только из-под утюга, мундире. Кто он? Зачем он прибыл сюда и какая связь между его появлением и моим вызовом к Крамецу? Если бы меня сопровождал не Степа, я сбегал бы на чердак и захватил мое единственное достояние — острый нож, спрятанный между стропилами.
В Сухиничском лагере в такую ванную комнату с деревянными решетками на полу и двумя скамейками у стен загнали евреев. Нас конвоировали белогвардеец, немецкий солдат, вооруженный автоматом, и полицай с резиновой трубкой от противогаза в руках и с кинжалом в ножнах за поясом. Тогда меня спасли мои друзья Федя Пименов и Николай Сергеев. Но сейчас со мной не они, а Степан Шумов. Он открывает дверь и произносит со злорадной улыбкой:
— Князь, айда в баню, и ждите дальнейших указаний.
Я почти уверен, что Степан запер дверь снаружи на задвижку. Однако, чтобы убедиться в этом, я плечом толкаю дверь, и она с тихим стоном открывается. Но бежать из неожиданно распахнувшейся клетки уже поздно. В ванную входит офицер, которого я видел у Крамеца в кабинете. Долго и тщательно он вытирает свои до блеска начищенные сапоги о влажную тряпку, лежащую у порога. Затем слышу стук накидываемой цепочки и слова, произнесенные очень тихо:
— Будем, стало быть, купаться.
Вот где собака зарыта… Начинается последний акт… Мне бы сразу действовать, а я стою, как окаменевший, не двигаюсь с места. Он мал, худ и старше меня лет на тридцать. Грудь как у воробья. Надо полагать, лагерное существование высосало даже ту каплю жизненной силы, которая была ему отпущена природой. Его можно утопить в ложке воды, не то что в ванне. На что он рассчитывает, собираясь проверять меня, когда мы остались вдвоем с глазу на глаз? Ведь даже если бы он был здоров, как бык, я бы ему так легко в руки не дался, перегрыз бы глотку и прихватил с собой на тот свет.
На еще влажной скамье он расстилает газету, садится и стягивает тесные хромовые сапоги. Портянки он аккуратно складывает и сует в голенища. Так же аккуратно снимает и складывает носки, вынимает карманные часы и прячет их в пузатый кошелечек.
Его неторопливые движения успокаивают меня. Кажется, мои страхи выеденного яйца не стоят. И как это мне раньше не пришло в голову: неужели ради того, чтобы убедиться, принадлежит ли такая мелкая сошка, как я, к народу, которому фашистские законы отказали в праве на жизнь, а тем более на сопротивление, — неужели ради такого пустяка пошлют высокопоставленного офицера? Зачем ему, спрашивается, устраивать водевиль с раздеванием? Мысленно я говорю себе: «Спокойно, милок, спокойно! С такой путаницей в голове ты сам себя погубишь». Может быть, именно поэтому я громко, как у глухого, спрашиваю:
— Разрешите налить воду?
— Пожалуйста, но я люблю горячую. Доктор сказал мне, что ваш товарищ, который здесь обычно работает, порезал себе руку. С ним мы уже знакомы.
Разгадка кажется сейчас настолько же простой, насколько сложной она казалась раньше. Ветлугин действительно вчера порезал руку. Крамец же, который тянется перед любым высшим чином в струнку и всегда рад в таких случаях разыгрывать роль гостеприимного хозяина, вызвал меня. А пришел за мной Шумов потому, что Аверов зачем-то отправился в немецкий лазарет.
Обычно такие «клиенты» ревут, как голодные ослы, а этот сказал «пожалуйста» и даже не забыл, оказывается, что есть такое слово «товарищ». Все это так, но ведь здесь каждый человек как белое пятно на карте, а посему лучше придерживаться тактики «здравствуйте» и «до свидания». Скажу ему, что ванна готова, — и баста, больше не о чем нам с ним разговаривать.
— Иду, иду, — говорит он. — Меня звать Федор Тарасович. А вас как?
В этом аду я уже отвык от своего имени. Оно мне кажется далеким и чужим. Из духоты наполненной паром ванной комнаты оно выплывает, как из плотного, густого тумана. И все же я отвечаю и, стоя к нему боком, делаю жест, который нетрудно понять: «Извините, пожалуйста, но зачем вам терять время на такую мелкоту, уборщика, у которого и без вас хлопот полон рот. Лучше занимайтесь тем, за чем сюда прибыли. Ведь городская-то баня, как всем известно, «только для немцев».
В такой воде я бы и минуты не усидел, а он лежит, свернувшись калачиком, только голова торчит, и все жалуется, что вода недостаточно горяча.
Что-то он еще бормочет. Неужто Пипин успел уже угостить его кое-чем покрепче воды? Да нет, вроде водкой не пахнет. Мне уже известно, что в канун войны его дочь вышла замуж за студента Днепропетровского горного института, что сын его артиллерист, а сам он бывший майор Красной Армии. У меня он хочет узнать, в какой части я служил и где именно попал в плен.
Конечно, я могу наплести любую чепуху, но вернее, пожалуй, будет придерживаться правды.
Где служил? В Подольском пехотном училище. Когда и где взят в плен? 17 октября 1941 года, в ста пятидесяти километрах от Москвы.
Все это я отбарабанил единым духом. А затем боль сковала рот. Сами собой выплыли навсегда запавшие в память первые строки где-то слышанной песни:
Тревога, тревога, тревога, Россия курсантов зовет!..Слово «курсанты», рожденное в грозовом восемнадцатом году, не раз повторял Ленин. Как же я могу произнести его перед этим отщепенцем, который, быть может, поначалу даже неплохо воевал, а потом покатился под гору и теперь, как всякий перебежчик, небось из кожи вон лезет, чтобы услужить своему новому хозяину.
Прочитал ли он эти мысли на моем лице, догадался ли, какие слова рвутся с языка, — не знаю, но он задумался, а затем, шлепая мокрыми губами, сказал:
— Так, так. Знаю. Западный фронт был прорван, и немецкий пятьдесят седьмой моторизованный корпус хотел первым войти в Москву. Остановить его не хватило сил, тогда, чтобы успеть подтянуть резервы, в прорыв бросили курсантов. Мне потом рассказывали, что дрались они великолепно. Это правда?
Ах, как мне хотелось сделать господину майору больно, очень больно!
— С нами вместе были молодые артиллеристы. Они почти все погибли.
Он вздрогнул, как пораженный громом. Вода выплеснулась через край ванны. Затем он судорожно схватил меня за руку.
— Скажите правду, только правду. Кто-нибудь из ваших командиров смог бы предпочесть голодной смерти службу у немцев?
Если это приманка, на которую я должен клюнуть, так ведь я не Тома, которая как-то раз сказала: «Дяденька, почему вы все у меня спрашиваете? Сами вы ничего не знаете?» Прикинусь-ка я простачком да отделаюсь ничего не значащими словами:
— Никогда об этом не думал.
Но он не отстает. Впившись в меня взглядом, упорно требует:
— И все же. Отвечайте на вопрос.
Эх, была не была… Все равно я балансирую на натянутой проволоке, а его жизнь стоит и того меньше, так пусть услышит.
— Думаю, нет. Знаете, мне даже трудно себе такое представить.
— В том-то и дело, что трудно. Будьте любезны, потрите мне мочалкой спину, не стесняйтесь. Тереть — не бить. На днях мне приснился страшный сон, будто я на поле боя и в меня кто-то целится, — и кто, как вы думаете? Мой собственный сын! Трите крепче. Кажется, вы хотите спросить меня о чем-то.
— Да, но…
— Не бойтесь, спрашивайте.
— Собственно говоря, я не спросить хочу, а просто сказать: такое с каждым из вас ведь действительно может случиться.
— Само собой разумеется. Нечто подобное недавно случилось с одним из наших солдат. Подайте, пожалуйста, немного чистой воды. Мыло попало в глаз. А что, главный врач у вас человек строгий?
Слова его можно понимать по-всякому, но я полагаю, он мне просто зубы заговаривает. Если в каком-нибудь уголке сердца у него еще тлеет искра человечности, он сам должен понимать, что для таких, как Крамец, единственное место — свалка. Шакалы и те погнушались бы этой падалью.
Человечность? Почему? А сам-то он кто? Вежлив со мной? Но, может быть, только потому, что ему самому страшно. Вот ведь рассказывают, что предатели боялись своего коменданта, тоже майора, больше смерти. А совсем недавно гестапо его арестовало.
Стою, склонившись над эмалированной ванной, и мою ее. А господин майор лежит на узкой скамейке, как пустой мешок. Распаренные руки устало свисают. Живут только глаза, но и те затянуты мутной пленкой безнадежности. Кажется, он решил, что торопиться ему некуда…
— Федор Тарасович, извините за беспокойство, вам ведь, наверное, известно, что слышно на фронте.
— Немцы, — отвечает он мне, — заняли Ростов, Ворошиловград. Бои идут на Воронежском фронте. Сегодня я читал, что во время налетов на Кенигсберг, Данциг и другие города Восточной Пруссии советская авиация только за десять дней потеряла сто тридцать шесть самолетов.
Одна лишь эмалированная ванна да остатки мыльной воды, которая забурлила, зашипела и превратилась на мгновение в воронку литого стекла, были свидетелями моей радости: значит, наши летчики часто бомбят немецкие города! У него я спрашиваю:
— Сколько же самолетов было, если сбито сто тридцать шесть?
— О числе советских самолетов, принимавших участие в налетах, не сообщается. Мне только известно, что, как и раньше, немцы сохраняют значительный перевес в людях и технике. И, может быть, не так быстро, как иным хотелось бы, но — от фактов никуда не денешься — солнце Советов закатилось.
— У вас, Федор Тарасович, дети и те, должно быть, старше меня. Скажите же мне, вы уверены, что так оно и есть? А может, диагноз страшнее болезни?
— Наверняка я знаю только одно: пока солнце взойдет, роса очи выест.
Теперь все ясно. Раз он не верит, что военное счастье изменит немцам, а от самого себя не убежишь, значит, не столь опасно, сколь бесполезно повторить ему слова Забары:
«Ничего не скажешь. Конечно, мы полагали, что погоним немцев от самой государственной границы. Так ведь всякая вещь цела, пока не порвется. Граница может пройти и пройдет у каждой высоты и каждого леса, у каждой реки и каждой долины, у любого клочка нашей земли, пока фашисты не запнутся и не покатятся вспять».
И Мальцев не отрицал, что у немцев пока перевес в людях и технике. Но еще он знал, что ради этого они приостановили наступление армии Роммеля в Египте, ослабили свои гарнизоны во Франции, Голландии, Бельгии, мобилизовали десятки дивизий и бригад в странах-сателлитах, пытались силой заставить воевать поляков, чехов и даже советских военнопленных.
Сняв цепочку, я распахнул дверь. От сердца немного отлегло. Я-то верю в нашу победу, и жажда мести не гаснет, а разгорается в душе. Значит, не я здесь самый несчастный человек.
ОТРАВЛЕННЫЕ ЯДОМ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
На тополях собралась шумная, веселая стайка воробьев. Внимательный наблюдатель заметит, что они вовсе не сплошь серенькие. На крылышках у них зеленоватая каемка, а на шейке белое пятно и темная косынка. Они трещат без умолку:
«Тепло. Скажите, пожалуйста, до чего тепло…»
Перелетая с ветки на ветку все выше и выше и достигнув вершины, они бросаются вниз, как пловец в воду, а затем, не коснувшись земли, начинают игру с самого начала.
Спору нет, зеленый островок в городе — это не лесная чаща, но им и здесь хорошо.
Что же их вдруг вспугнуло? Почему они сорвались с места?
Игру им испортил Аверов. Он спешит, но его походка уже больше не напоминает легкий, неслышный шаг горца. Кованые сапоги гремят по мостовой. Руки раскачиваются, как маятники, вот-вот оторвутся. Глаз не видно под низко надвинутым козырьком. Он возвращается из города и, заметив меня, мимоходом сообщает:
— У меня для тебя привет имеется.
— От кого, Казимир Владимирович?
Уже повернувшись ко мне спиной, он бросает через плечо:
— Видишь же, человек спешит. Потерпи малость. Завтра, возможно, сам с ним увидишься.
Наш короткий, отрывистый разговор слышал и Саша Мурашов. Вот почему мы сейчас сидим вдвоем, думаем, гадаем и никак не можем понять, где Аверов был и кто мне просил передать привет. В городе я не знаю никого, кроме Томы и Стефы. Но она, в этом я уверен, через Аверова привет передавать не станет. К тому же Казимир Владимирович сказал: «с ним». Так кто же он и где мы с ним увидимся? Будь эта новость связана с опасностью для меня, даже сдержанный Аверов не смог бы скрыть волнения. А впрочем, черт его знает. Все это гадание на кофейной гуще, вроде страха, что разбился сосуд, который может разбиться, но еще пока цел.
— Жених, к главврачу!
Вот еще напасть. Уже второй раз за день Шумов жует одну и ту же надоевшую жвачку. Что поделаешь, доброму и слово помогает, злому и побои не впрок. Саша берет меня за руку.
— Ну что ты покраснел, как вишня? Гори они все ярким пламенем, а еще лучше пусть друг друга съедят и друг другом подавятся. Всех бы их на одной веревке повесить. Небось Пипин заметил пыль на койке или мусор в углу. Не обращай внимания. Собака лает — ветер носит. Не дразни его и вали все на меня.
Крамец приказал мне ждать, вот я и жду. Но что за длинное послание он строчит с таким усердием? Все, кончил. Очки сдвинул на лоб и, как человек, который занимается нужным и полезным делом, но еще не разделался с ним, достает из кармана зажигалку, сигареты и с наслаждением закуривает. Зубы у него длинные и узкие, как у крысы. Для меня его физиономия обладает двумя несомненными достоинствами: во-первых, долго на нее смотреть невозможно, во-вторых, своей омерзительностью она гасит страх, который Крамец хотел бы внушить. На столе лежат несколько медицинских пособий. Удивительно, как еще Карл не приказал их вышвырнуть. Он не переносит печатного слова, тем более русского. Пипин медленно поднимается со стула. Для пущей важности ему хотелось бы говорить со мной, расхаживая по комнате. Ноги не слушаются. Его так качает из стороны в сторону, что он вынужден снова сесть. Теперь все его внимание сосредоточено на невероятно длинных ногтях, украшающих мизинцы. Начинает он издалека:
— Как ты овладел своей новой профессией?
Ему нравится, да и мне легче называть его «господин гауптман», а не «доктор». Этот последний, почетный титул он носит с таким же правом, как фальшивая монета герб.
— Какой профессией, господин гауптман? — спрашиваю я, и глаза мои, чувствую, выражают крайнюю степень недоумения.
— Совсем забыл, как с тобой, болваном, надо изъясняться. Профессор… слышал ты такое слово? Так это не то. Даже я еще не профессор. Чем ты сегодня занимался, спрашиваю.
— Я? — тычу я себе указательным пальцем в грудь.
— Нет, Александр Сергеевич Пушкин! — рычит он и тут же расплывается в улыбке, довольный собственным остроумием. — Скажи, почему у тебя такая память, будто вместо головы у тебя решето? В детстве тебя, случаем, не уронили? Попытайся вспомнить, кто сегодня был банщиком — ты или я? Кто сегодня до крови растер господину майору спину? Кто?
— Он сам просил.
— Дубина ты стоеросовая, как раз господин майор твоей работой доволен. Он из тех аристократишек, которые не понимают, что глупая голова ногам, да и рукам покоя не дает.
— Кто же недоволен?
— Ну-ну! — грозит он мне кулаком. — Ты вопросов не задавай. С демократией покончено. Раз и навсегда! Спрашивать буду я, а ты попробуй соври. Тогда узнаешь, почем фунт лиха. Понятно? Вот так. А теперь отвечай, когда и где ты познакомился с Хромовым?
Сердце ёкнуло. Стало быть, когда Аверов передавал мне привет, он имел в виду Хромова. Выходит, что к партизанам он не перешел. А я-то думал… А может, он попал к Миронову в лапы? Не приведи господь. В случае чего я буду отнекиваться: мол, знать ничего не знаю, ведать не ведаю…
— Хромов? Был, кажется, такой больной у вас в лазарете.
— Послушай-ка, ты! Я, правда, сегодня добрый, но сейчас разукрашу твою рожу, долго помнить будешь. Если тебе только кажется, откуда же он тебя так хорошо знает?
— Господин гауптман, а я почем знаю? Здесь было столько больных. Разве я их всех упомнить могу?
— Не «их», а добровольцев. Если бы не они, тебя бы уже давно разнесло горой или ты бы и вовсе подох с голода. Вон отсюда! Посмотрите-ка, как он поворачивается. Ну прямо корова на льду. Погоди. Закрой дверь и подойди поближе. Как вы меня называете? Пипин, да? Что глаза вылупил? Говори, не стесняйся. Не то вызову Шумова, и он мне доложит.
— Виноват, господин гауптман! Все это чистая правда. Но Пипин, говорят, был в стародавние времена великий король. А Шумов и сам любит давать прозвища.
Крамец, поёрзав на месте, уселся в величественной позе, скрестив на груди руки, будто ощущая под собой не старый, скрипучий канцелярский стул, а позолоченный королевский трон. При этом он незаметно скосил глаза на висящее на стене зеркало, желая, по-видимому, убедиться, что он выглядит достаточно импозантно для тезки великого государя. И вдруг словно кончился завод, он перестал играть на несуществующую аудиторию и, подморгнув мне правым глазом, спросил с откровенным любопытством:
— Какое же прозвище Шумов придумал для тебя? Интересно, попал ли он в точку. Как он тебя называет? Если у тебя язык не поворачивается сказать, могу налить немного спирта. Много нельзя, «сучок» из опилок, и ты можешь ко всем прочим прелестям еще оказаться слепым на оба глаза.
— Спасибо, я и так скажу. Иногда он называет меня женихом.
Его уже душит смех.
— Почему?
— Потому, что я улыбнулся пятилетней девочке.
— Ты, стало быть, любишь детей. Очень мило. Но запомни: маленькие вырастают и становятся большими. Все девушки — невесты. А еще как он тебя называет?
— А еще я боюсь сказать, потому что чаще всего он меня называет князем.
Возможно, я просто отвык от звуков смеха и от вида смеющегося человека, но мне показалось, что Пипин вот-вот отдаст концы. Лысина, сморщенное, дряблое лицо налились кровью. Из глаз градом посыпались слезы, коротенькие ножки он обеими руками прижал к животу.
Наконец он успокоился, но тут же ткнул пальцем в мою сторону, с трудом выдавил «князь» и снова рассмеялся и смеялся до тех пор, пока не стал икать. Хотел я налить ему немного воды, но он, сопя и икая, махнул рукой: нет, мол, не надо, он медик и лучше знает, как избавиться от такой напасти. Пипин глубоко вздохнул, сжал губы и перестал дышать. Когда же он начал синеть от удушья, у него из горла вырвался такой высокий, такой невыносимо визгливый звук, что захотелось немедленно затолкать его обратно в черную дыру открытого рта. Что-то он все же выпил. Затем, вытирая полотенцем потный лоб, жирную, всю в складках, шею и красный, апоплексический затылок, он приступил к разговору, ради которого меня вызвал:
— В борьбе против лесных бандитов немало добровольцев показало себя истинными героями, и среди них унтер-офицер Иван Хромов. Он ранен партизанами, а посему лежит в немецком госпитале и просит отпустить тебя на несколько часов с тем, чтобы ты за ним ухаживал. Ты меня понял?
— Да, господин гауптман.
— Отведет тебя туда Аверов. Но запомни: если сунешь свой курносый нос за пределы послеоперационной палаты, где лежат добровольцы, будешь бит. Соседу Хромова завтра ампутируют обе ноги, так что, если понадобится, ты и его обслужишь. Покажи-ка руки.
От бесконечного мытья полов руки у меня растрескались до крови, но чесотки не было, остальное же Крамеца не волновало. А вот шевелюра моя ему не понравилась.
— Скажи правду, ты когда-нибудь в жизни причесывался? А одежда? В чем ходишь, в том и спишь. Такая дикость возможна только у нас, в России. Одежду тебе Аверов выдаст другую, Шумов тебя подстрижет. Так как он тебя называет? Князь, ха-ха-ха… Умереть можно со смеху. Но почему ты боялся назвать свой высокий сан? Не полагаешь ли ты, что это ругательство?
— Нет, господин гауптман, я не хотел принизить титул, которым кто-то увенчал вас.
Если Пипин понял издевку, он меня сейчас сотрет в порошок. Да нет, к моему счастью, его не прошибешь. Он наливает себе стопочку «сучка» и велит мне закрыть дверь с той стороны.
На лестнице меня ждет Мурашов. В руках у него два котелка — обед на нас двоих. «Ну как?» — спрашивает он меня взглядом.
— Пошли, Саша, поедим, и я тебе расскажу все по порядку.
— Значит, пронесло. Я уж давно заметил, стоит человеку успокоиться, как к нему тотчас же возвращается аппетит.
Если он и прав, то только наполовину. Вот уж почти год, как мы, отнюдь не страдая отсутствием аппетита, ни днем, ни ночью не знаем покоя.
Аверов был прав, взяв у Крамеца удостоверение, что ему поручено сопровождать меня в немецкий лазарет. Гитлеровцев в городе — хоть пруд пруди. Не успели мы выйти за ворота, как тут же словно из-под земли вырос патруль — эсэсовцы со свастикой на рукавах.
— Документы!
Обер-ефрейтор изучает не столько документ, сколько меня. Один, с его точки зрения, подозрительный жест — и конец. Аверову, вижу я, эти строгости тоже не по нутру, но с обер-ефрейтором, который стоит в наглой, вызывающей позе, он обращается более чем вежливо.
Мы углубляемся в лабиринт тихих, заброшенных улочек и переулков. Но и в этой безлюдной, пустынной части города, где во многих домах окна крест-накрест забиты досками, мы нарываемся на полицая, который резиновой палкой колотит по запертой калитке. Аверов говорит:
— Вечно они кого-то ищут, легавые. Даже у детей карманы обыскивают.
Плохо, очень плохо. Бежать из центра города, где расположен лазарет, почти невозможно.
К вокзалу тянутся машины, груженные молодым картофелем, старинной мебелью, сработанной, быть может, еще искусными руками крепостного умельца, печальными коровами с запавшими от голодухи боками. Второй год пошел, как гитлеровцы здесь хозяйничают, и они все еще вывозят наше добро.
К глухой стене разрушенного кирпичного дома, где даже лестницы заросли сорняками, приколочен плакат. На нем изображен крестьянин с длинными усами, одетый в белорусскую вышитую рубашку. Судя по надписи на плакате, этот крестьянин благодаря немецкому новому порядку еще при жизни попал в рай.
От Казимира Владимировича я узнаю, что Гитлер специальным приказом отменил колхозы и обещал крестьянам раздать землю. Но случилось то, что фашисты не могли ни предусмотреть, ни понять: в деревнях отказываются от подарка фюрера. Крамец, говорит Казимир Владимирович, утверждает, что мужики просто-напросто боятся партизан.
— А вы как думаете? — спрашиваю я у Аверова.
— Вот видишь того конягу? У него большая голова, пусть он и думает.
— Казимир Владимирович, да перестаньте вы дурачком прикидываться. Вам говоришь: «Рыба», вы отвечаете: «Укроп». Вы-то знаете, что Пипин врет без зазрения совести.
— Ты так думаешь? А знаешь, ежели, к примеру, покрошить мелко-мелко укроп и посыпать им уху из свежей рыбы, пальчики оближешь. Не забудь, что партизаны вооружены.
— Ну, а сами-то партизаны, кто они?
— У меня в комнате лежат немецкие листовки. Раз тебе это так интересно, можешь прочитать. Там черным по белому написано, что лесные бандиты — сплошь евреи и коммунисты. Но лучше всего, полагаю, это знает Иван Хромов. Ему-то доподлинно известно, кто в него стрелял. Вот в том доме немецкий лазарет.
Мы спускаемся вниз по нескольким каменным ступенькам. Темно, хоть глаз выколи.
В нос ударяет тошнотворный, сладковатый запах гниющего мяса и гноя, масляной краски и эфира. В коридоре слышно все, что происходит за тонкими перегородками в палатах. Некоторые больные болтают, некоторые храпят, а некоторые кашляют. Наверное, есть и такие, что лежат в забытьи. Аверов подвел меня к двери одной из палат, а сам ушел куда-то. Я переступил порог, но и здесь было так темно, что я ничего не увидел и потому спросил:
— Хромов, где ты?
Потом я услышал чьи-то стоны, хрип, ругательства. Голос нетвердый и сиплый, как у пьяного. Наконец разобрал слова:
— Пальцы, пальцы! Пальцы на ногах болят.
Оказывается, и в давящую темноту палаты все-таки попадает немного света. Как это ему удается? Солнце простирает горячую ладонь, с нее соскакивает тонкий луч и, отразившись в тротуаре, пробивается сюда через два маленьких узких оконца под самым потолком. Тоненький, прозрачный столбик, в котором пляшут пылинки, немного скрашивает унылую серость. Временами благословенный лучик короток, как мгновение, и успевает только припудрить золотом клочок противоположной стены. Ну, а если лучам приходит на помощь ветер, убирая с их пути ветки деревьев, растущих у самого края тротуара, тогда они успевают осветить несколько крашеных досок пола и лечь зайчиками на железных койках.
Теперь я вижу, что коек здесь три. Одна пуста, но подушка смята, словно кто-то совсем недавно поднял с нее тяжелую голову. Больной, что так неистово ругается и дергается, привязан к койке широкими ремнями. Тот, кто лежит в противоположном углу, уткнул голову под подушку, а сверху натянул одеяло. Направляюсь к нему и толкаю в плечо:
— Иван!
— А? Здорово! Уж больно громко воет этот бешеный пес.
— Молчи. Он не спит, только что жаловался, что у него болят пальцы на ногах.
— Его ноги уже на свалке. Их у него оттяпали. Он еще не скоро придет в себя. Но будь я проклят, если не постараюсь первым сообщить ему эту приятную новость.
Прикрываю дверь, присаживаюсь на койку Хромова и спрашиваю:
— За что ты на него взъелся?
— А ты присмотрись получше. Узнаешь Морозова из мироновской компании? Он убил Павла. Сначала пристал к нему, как банный лист: тот, мол, стреляет не в партизан, а в воздух. Через три дня, когда Павел в нескольких метрах от леса бросил свой велосипед и побежал, он выстрелил ему в спину и уложил на месте.
Немудрено, что я сразу не узнал Морозова в этом забинтованном туловище с головой, кажущейся огромной, очевидно от смещения пропорций, и страшным, отекшим лицом.
Поворачиваюсь снова к Хромову и, наклонившись, спрашиваю шепотом:
— Как твои дела, Ваня?
— Надо бы хуже, да некуда.
— Почему? Мне Крамец сказал, что скоро ты поднимешься.
— Не об этом речь.
— Так о чем же?
— Я так орал партизанам: «Братья, не стреляйте!» Должны же были они услышать, и вот на тебе…
— Они отступили?
— Понимаешь, не подходит им это слово. Они были в рощице между двумя большими селами. Оттуда, ну прямо за несколько минут, перешли в большой лес — и ищи-свищи.
— Кто-нибудь подозревает, что ты хотел к ним перебежать?
— Думаю, нет. Тот, кто приволок меня обратно в деревню, сам, кажется, искал дорогу в лес. Что ты все оглядываешься? Никому мы здесь не нужны. Немцам подавно. Но даже наши женщины, которые работают здесь уборщицами, не скрывают ненависти. Морозов вчера у одной спросил: «Мы же с тобой одной веры, что ты на меня зверем смотришь?» А она ему в ответ: «Бог далеко, а такие, как ты, на земле. У меня два брата на фронте, как же мне еще на тебя смотреть?»
— Ты бы предупредил ее, кто такой Морозов.
— Сегодня я это сделал. Знаешь, что она мне ответила? Жаловаться ему, говорит, придется разве что на том свете.
Я рассказал Хромову о моей вчерашней встрече с майором, описал его подробнейшим образом, но как Хромов ни старался, такого офицера не мог вспомнить. Зато я узнал, что Федор Тарасович имел в виду, когда сказал: «Нечто подобное недавно случилось с одним из наших солдат». А случилось вот что.
На деревенском кладбище предатели еще с ночи устроили засаду на партизан. Ждать им пришлось долго и попусту. Партизаны так и не появились. Рано утром по цепи стали передавать новость, пока она не дошла до крайнего, что лежал у самой дороги, во рву.
— Тябликов, здесь похоронен твой однофамилец. Может, хочешь посмотреть могилку?
Анисиму Тябликову было, по-видимому, не до шуток, и он зло огрызнулся. Когда засаду отменили и ротный приказал возвращаться в деревню, Тябликов, не испросив ни у кого разрешения, вышел из строя и быстро, почти бегом, вернулся на кладбище. Никто его не остановил, но командиру взвода было приказано наблюдать за ним. И вот что он увидел.
Анисим тем же спорым шагом, каким он шел сюда, ходил между могилами, пока не добрался до места, где валялся поваленный памятник со звездой, искусно вырезанной чьей-то заботливой рукой. Могила была осквернена, цветы вытоптаны. Долго он шарил по траве, пока не нашел квадратную дощечку с вырезанными на ней словами:
«Вечная слава народному мстителю, младшему лейтенанту Савве Тябликову. 1916—1942. Геройски погиб в бою против немецких оккупантов».
Анисим поднес дощечку к самым глазам раз и другой, словно человек, до крайности близорукий. Потом рывком расстегнул брезентовый чехол, вынул маленькую солдатскую лопату и лихорадочно стал раскапывать могилу.
— Не валяй дурака! — крикнул взводный, который стоял неподалеку под раскидистым деревом. — Мало, что ли, Тябликовых в России. Откуда ты, Евдокимыч, родом?
— Из Средней Азии.
— А этот Тябликов местный. В милиции служил.
— Откуда вы знаете?
— Знаю — и все тут. Пошли, опоздаем к завтраку.
Тябликов послушался и пошел за взводным.
— А ты подумал, что это твой брат? Он разве был командиром?
— Подумал было. Да нет, это точно не он. Уже на фронте я получил от матери письмо, что брат работает трактористом. К тому же он и в армии-то никогда не служил. Он у нас старший. Отец молодым помер, вот брата и освободили от военной службы.
Теперь уж Тябликов обманывал взводного. А что дальше делать, он уже про себя твердо решил. В деревне он потихоньку стал узнавать, не был ли кто знаком с погибшим партизаном. Да где там! Случайно застрявшие в деревне крестьяне верили предателям еще меньше, чем немцам. На все вопросы у них был один ответ: «Не ведаем».
К концу дня Анисим напал на след. Полицай из соседнего гарнизона показал ему полусгоревший дом, где немцы убили партизана Тябликова. В деревне тогда было три партизанских разведчика. Двоим удалось бежать. А он, их командир, был ранен в спину. Приказано было взять его живым. Да не тут-то было. Только кто-нибудь из немцев пытался поднять голову, как его пришивала к земле пуля младшего лейтенанта. Досталось им мертвое тело, изрешеченное пулеметными очередями. А пулемет стоял вон на том пригорке.
Тот же полицай рассказал Анисиму, что дом немцы потом подожгли. Хозяйку и ее дочь расстреляли во дворе. Из всей семьи уцелела глухая бабка, которая теперь живет у родственников, в доме на окраине села. У нее еще есть два сына, но те уже давно у партизан.
Анисим пошел к старухе. Говорил с ней сначала по-хорошему, потом стал угрожать. Но она твердила одно: никаких, мол, лесных бандитов она не знает и знать не хочет. Появляются ли они в деревне? Да, появляются. Но она тогда забирается на печку, дышать громко и то боится. Почему она их так боится? А кто же не боится бандитов?
Он уже совсем было собрался уходить, когда старуха вдруг окликнула его:
— Скажи-ка мне, соколик, что тебя чужая-то могила печалит?
— Моя фамилия тоже Тябликов, и сдается мне, что погибший был мой родной брат.
— Креста на тебе нет. Врешь и не заикаешься. Погибший, говорят, вон откуда родом, из-под самого Ташкента, а может, еще дальше.
— Он! — воскликнул Анисим.
А старуха ему:
— Смотри, нехристь, бог тебя накажет. Сам с пути сбился, да еще надо мной, старухой, изгаляешься? А ну-ка, скажи, какие глаза были у твоего брата?
— Таких больше ни у кого нет. Один глаз светло-голубой, а другой — карий, почти черный.
— Он, точно он. Коли ты меня, старую, не обманываешь и это в самом деле твой брат, тогда плачь. Мои-то слезы я уже все до единой выплакала. Поди еще раз на кладбище и увидишь рядом с могилой твоего брата еще одну могилку — там похоронена моя Галя, кровинушка моя, и ее доченька. Боже милостивый, и до чего же они друг друга любили, Галя и Савва! Дети, они и есть дети. Все думали, я, старая, не слышу, не догадываюсь, что они сговариваются после войны пожениться и поехать к его родителям погостить. А того они не знали, что глухая мать и пальцами слышит. Уж не знаю, почему, но с первого же дня чуяло мое сердце недоброе. Да язык не поворачивался их пугать. Случалось, Савва задерживался у нас, выходила я тогда во двор и глухими своими ушами прислушивалась. И хочешь — верь, хочешь — нет, чем дальше и тише чужой-то шум был, тем лучше я его слышала. Плачешь? Плачь, плачь! А что я все болтаю да болтаю, тому не удивляйся. Уж сколько времени не с кем слово перемолвить… Как узнала я, что вы идете, всех из дому выгнала в лес. Надо бы мне на тебя собак спустить, а я в дом пустила. Ведь вот как в жизни бывает. Савву небось грызла бы да пилила, злой бы тещей ему была, а тебя привечаю. Тебя опасаться надо, тебе слова против не скажи. Ты, как чужая ложка, рот дерешь. Горько мне, горько… Да твоей-то матери во сто крат горше — один сын, ясный сокол, убитый в могиле лежит, а другой убивец. Ну ладно, поплакал, и хватит. Твоим слезам веры нету. Уходи отсюда и помни: на могилах трава растет, цветики цветут, так ты их не топчи. Галя очень их любила. Как-то она Савве сказала: «Принеси мне ромашки. Они как солнышко. Когда тебя, моего большого солнца, со мной не будет, пусть они, маленькие, мне светят». Так не трогай, Христом-богом прошу, не трогай ромашек.
Потрясенный, разбитый, напуганный, словно бы он только сейчас узнал, что уже столько времени носит в крови смертельный яд, Тябликов целый день потом слонялся из угла в угол, места себе не находил. А тихим, ласковым вечером Анисим Тябликов пришел в дом, где жил взводный, поведал ему о своем горе и… застрелился.
— Знаешь, — сказал я Хромову, — где-то я читал, а может, слышал, что у японцев был обычай: захотел какой-нибудь самурай отомстить за нанесенную ему обиду, приходил к дому своего обидчика и делал себе харакири — вспарывал живот. Твой Тябликов поступил точно так же.
— Такой же мой, как и твой. Но была и у меня минута, когда так и тянуло сделать себе харакири. Правда, я-то уж обязательно кого-нибудь из них прихватил бы с собой. Но это дело прошлое. Скажи, ты видишь для меня другой выход?
— Конечно! Мы с тобой убежим вместе и отправимся в те самые деревни, где ты недавно был.
— Тогда-то уж они меня точно повесят.
— Неправда. Слушай, Ваня, есть у меня от тебя до поры до времени секрет. Не спрашивай меня ни о чем, но я надеюсь, что мне поверят, а я за тебя головой готов ручаться. Погоди, еще хочу сказать: лучше у своих петлю на шею, чем служить врагу.
В его глазах я прочел решимость и безмолвный вопрос: «Согласен, но что же делать?»
— С величайшей осторожностью выясни, не может ли нам помочь ваша уборщица. И еще тебе надо как можно быстрее распрощаться с костылями.
Дверь открылась, и на высокой каталке привезли третьего раненого. Вместе с Морозовым он ехал на грузовике, который подорвался на партизанской мине, и осколок попал ему в живот. Операция продолжалась свыше двух часов. Санитары, которые привезли его, толковали между собой, что наркоз его не брал — весь пропитан алкоголем. Никогда такого не слышал. Но кто знает, может, это правда.
— Пить, — молил он слабым голосом, — поимейте совесть, дайте каплю воды…
Вот когда, подумал я, он вспомнил, что у человека должна быть совесть.
Но пить ему нельзя. Надо бы пинцетом взять влажный кусок марли и осторожно протереть нёбо, язык, белые, пересохшие губы.
— Мамочка, милая, дайте воды, хоть каплю воды… — всхлипывает он.
В палате я сейчас единственный, кто может ему помочь. Два чувства борются во мне. Которое из них победит? Конечно, на фронте я бы такого, не задумываясь, пристрелил, что бы он там ни кричал. Ну, а здесь разве не фронт? Когда он восседал на вражеском грузовике, у него в руках была винтовка и стрелять он собирался в партизан. А он поднял бы мою голову и протер бы мои пересохшие губы? Нет, конечно нет. Почему же я не могу усидеть на койке Хромова и мечусь беспокойно из угла в угол? Как бы поступил на моем месте Федя Пименов, доктор Александр Иванович Зоринкин? Их нет. Подсказать они мне ничего не могут, а больной задыхается. Он сосет и жадно глотает сухость, заполнившую рот. Но я ведь только человек, и на рукаве у меня повязка с красным крестом. Хватаю мензурку, капаю на край полотенца немного воды и, не заглядывая в широко раскрытые глаза больного, протираю ею иссушенные губы.
Хромов, который все время следил за мной, поворачивается ко мне спиной, и я слышу:
— Не переживай. И я поступил бы точно так же.
Когда я опять беру полотенце, в палату входит Анатолий Леонидович. Он горбится. Голова опущена. С рук он стягивает тонкие резиновые перчатки. Оказывается, не немецкие хирурги, а он один оперировал «добровольцев». Он щупает пульс у больного и говорит:
— Правильно. Мы, русские, в горе должны помогать друг другу.
«Мы, русские»… А ведь было другое время. Он тогда, в расчете на свой удлиненный, как у «арийца», череп и русые волосы, надеялся, что его посадят за один стол с немецкими офицерами. Тогда он готов был забыть, что он русский. Но я-то не забыл, с какой гордостью он носил их фуражку. Правда, однако, и то, что, в отличие от выродка Крамеца, его заместитель с каждым днем менялся. Я это заметил еще до того, как он в присутствии Карла попытался помочь Забаре. Если вместе с разумом к нему вернется совесть, может, он еще станет человеком.
Раньше Анатолий Леонидович никогда не отвечал на мое приветствие, а сегодня разговаривал со мной, словно я на самом деле его коллега.
— Этот, — говорит он, размахивая руками и покачивая уныло головой, как запряженная в похоронные дроги кляча, — этот, может, еще и выкарабкается, но у Морозова дела плохи. У него заражение крови. Я просил разрешения оперировать, как только его сюда привезли. Мне ответили, что операционная занята. А сегодня я узнал, что уже три дня никого не оперировали.
У койки Хромова доктор задержался несколько дольше, выражая свое восхищение «русской выдержкой»: Иван во время операции ни разу даже не застонал.
Честное слово, ведь вот какие чудеса творятся. Человек с гордостью подчеркивает, что он русский, а сам служит злейшему врагу своего народа.
В ГОСТЯХ У ДРУЗЕЙ
Не я один заметил — Аверов из кожи вон лезет, старается, чтобы Крамец его как можно чаще посылал в город. К кому его тянет, как коня в конюшню, я, естественно, не знал. Но вот однажды, когда Аверов снова сопровождал меня в немецкий лазарет, он откровенно признался, что готов на все, только чтобы вырваться в город. Расспрашивать я так и не решился, зная его скрытность и крутой нрав.
Соседи Хромова уже переселились в мир иной, и их койки заняты другими больными. Секретничать было рискованно, и все же Иван успел мне шепнуть, что уборщица обещала познакомить его со своей приятельницей, бывшей пионервожатой, работающей сейчас в немецком «золдатенхайм». Приятельница эта родом из той деревни, около которой был ранен Хромов.
Ваня накормил меня почти досыта. В ящике его тумбочки лежало около десятка часиков, бинокль и инструменты, как у настоящего часовых дел мастера. Денег за работу он не брал, но от хлеба и сахарина не отказывался.
И снова я шагаю, стараясь не отстать от Аверова. На углу, где стоит нищий, протягивая к редким прохожим изуродованную руку, он замедляет шаг. Когда же мы заворачиваем в переулок, где тротуар у проезжей части окаймляет начинающая желтеть трава, он останавливается и тоном человека, заранее все обдумавшего, говорит:
— Понимаешь, если Крамец тебя увидит, он может позвать меня, а мне еще надо зайти в одно местечко. Подождешь меня у своей тещи, кажется, она живет в этом доме. Хочешь?
Хочу ли я? Но Стефа, быть может, будет тем человеком, что свяжет меня с партизанами. Значит, никто не должен знать, что я переступил порог ее дома.
— Нет, Казимир Владимирович, не хочу.
— Ты что, рехнулся? Сам знаешь, в случае чего я за тебя в ответе. Да и тебе еще не раз ко мне придется обращаться. Так что давай не фордыбачь. Через полтора часа я постучу в калитку. Что стоишь, как парализованный? Иди, а я подожду, посмотрю, впустят ли тебя.
Тома уже столько раз рассказывала о своем доме, что даже с завязанными глазами могу найти дверь. Но калитка заперта изнутри, и мне пришлось попыхтеть. Наконец задвижка открыта. Калитка распахнулась. У самого забора, за живой изгородью из подсолнечников, прячутся грядки картофеля, лука, чеснока и три низкорослые яблони. Их довольно кислыми плодами мне уже довелось лакомиться.
В соседнем дворе, у редкого штакетника, стоит мальчонка лет семи. Из грязной, рваной рубашки торчат худые, посиневшие руки. Ему бы сейчас гонять мяч, лазить по деревьям, но для этого его раньше надо подкормить. Хорошо бы его и подстричь, и помыть, и приодеть. Взгляд его испуганных глаз не по-детски грустен. И вдруг он, забыв обо всех печалях, задирает голову к небу и, зажмурившись, начинает напевать:
— Аист, аист! Твой дом горит.
Когда я сам был маленький, петлюровцы сожгли дом моего отца, но моему детскому пониманию, как сейчас ему, был, к счастью, недоступен весь ужас происходящего, и, наверное, я вот так же стоял, задрав голову к небу, и кричал вслед перелетным птицам:
— Аист, аист! Твой дом горит.
По чисто подметенной узкой дорожке я направляюсь к деревянному крылечку и, постучав в дверь, спрашиваю:
— Можно?
Никто не отвечает. Нажимаю ручку, дверь открывается, и я попадаю в кухню, где стоит большая русская печь, оттуда сворачиваю в темный коридорчик, задеваю плечом за что-то, что падает на пол с таким грохотом, что мне кажется, будто во всех церквах разом зазвонили колокола.
Распахнулась дверь, и я увидел комнату немногим шире коридора. Из всех уголков на меня пахнуло таким домашним уютом, что от радости захотелось плакать. Ведь я давно уже перестал даже надеяться, что когда-нибудь переступлю порог такого дома. С мотком шерсти на растопыренных руках, сгорбившись, на кованом сундуке сидит Тома, а ее мать мотает пряжу. Томины серо-зеленые глаза блестят перламутровым блеском. Она так стучит пятками босых ног по сундуку, что косички задорно подпрыгивают. Завидев меня, она вскакивает, румяные губы расплываются в довольной улыбке, и она гордо восклицает:
— Это мой дядя пришел! Мой дядя пришел!
Ее младший братишка Жора не знает, радоваться или нет. Узкие, длинные глаза смотрят на мать застенчиво и вопросительно. Заправляя в короткие штанишки выбившуюся рубашонку, он повторяет со смешной гримаской:
— Пришел, пришел!
Больше всех удивлена Стефа. Клубок ниток она кладет на край стола, покрытого старенькой, но чистой и тщательно выглаженной скатертью, и спрашивает у меня:
— Вы бежали?
— Еще нет. Я вас напугал?
— Откровенно говоря, да. Но не думайте, ради бога, что мы бы вас прогнали. Сейчас Тома позовет маму, и тогда вы будете знакомы почти со всей нашей семьей.
Согнутой чуть ли не под прямым углом бабушке с близорукими глазами, залитыми старческой желтизной, и красными веками уже, по-видимому, далеко за семьдесят. Морщины у нее глубокие, как шрамы. Но вся она не по-стариковски подвижная и быстрая. Набухшие жилы на ее руках цвета земли, в которой она копается, напоминают корни старого дерева. Она здоровается со мной, как с давнишним знакомым, и в течение нескольких минут успевает перечислить всех членов своей семьи и ближайших родственников, которых война разметала кого куда, и тут же заводит разговор об украденных козах:
— Дай бог счастья тому доброму человеку, что отвел от нас беду. Только в несчастье и узнаешь, кто тебе друг, кто — враг. А теперь ей снова пришла охота судьбу пытать. Снова в деревню собирается. Я ей говорю, что в этакое-то время человек только у себя дома еще какой-то вес имеет.
— Мама, хватит. Что вы на меня жалуетесь чужому человеку?
— Видите. Слова не даст сказать. Ты лучше на свою Тому ори, чтобы не лезла на руки к чужому человеку. Вон Жора, ведь на что совсем малявка, а свое место знает, стоит в сторонке. Любо-дорого на него смотреть.
Что самый младший в семье, Жора, бабушкин любимец, я уже тоже знал. Он отчаянно картавит и, когда его дразнят, бежит жаловаться не к матери, не к старшему брату, а к бабушке. А она, прав ли он, виноват ли, всегда за него заступается.
Тома требует, чтобы я слушал только ее и больше никого. Она говорит быстро-быстро, взахлёб, и мне иногда трудно отличить, где кончается выдумка, которую она принимает за правду, и начинается горькая правда, которую она не в состоянии понять.
— Дяденька, а дяденька! Какой-то немец принял нашего Жору за еврея. Да, да, я правду говорю. Если бы не бабушка, он бы уже давно был в Еловиках. Бабушка так кричала, так кричала, что сбежался весь переулок. Видите, только я напомнила, а он уже в рев.
Жора громко посапывает и обиженно надувает губы, вот-вот заплачет. Но вдруг улыбается и Говорит:
— Сама сейчас заревешь. Я не умею выговорить «р-р», а ты зато не умеешь так, — он высовывает кончик языка и сворачивает его лодочкой. — Не умеешь, ага? И дядя не только твой. Бабушка, скажи ей, пусть не лезет ко мне.
— Мама, скажи Жоре, пусть не показывает мне язык.
Старуху как пружина с места подбросила. Она встает и начинает кричать громче обоих детей:
— Стефа, можешь ты, наконец, нашлепать Тому? Пусть не пугает дитя Еловиками.
Стефа, чем-то занятая на кухне, по-видимому, не на шутку рассердилась. Она вбегает в комнату, в руках длинное полотенце, сложенное вдвое. У нее такое выражение лица, что все понимают — сейчас ей перечить опасно. Как мне хочется ее удержать! Но больше всех испугалась сама бабка. Жору она затолкала в угол, как клуша, защищающая своих цыплят, бросилась к дочери.
— Ну-ну! Ишь рассвирепела. Сейчас же положи полотенце! Уж я тебя знаю. Посмотрите, люди милые, как у нее глаза загорелись. Ну прямо отец, вылитый отец. Допусти ее только, она их до полусмерти изобьет.
Мне плохо. Плохо, как тогда, когда мать, бывало, ссорилась с отцом. Но совершенно неожиданно на губах у Стефы расцветает добрая улыбка, и все в комнате облегченно вздыхают: Тома потому, что миновала опасность боли и унижения; Жора потому, что он знает — угол не очень безопасное убежище, полотенце бы его нашло и там; я потому, что мне очень не хотелось присутствовать при семейной баталии и до слез было жалко мою маленькую подружку. Но больше всех довольна бабушка. Старая, по-видимому, уверена, что именно она одержала сейчас верх.
— Честное слово, с ума сойти можно. Будь у меня не одна, а пять пар глаз, и то за ними не уследишь, — жалуется Стефа. — Как сойдутся вместе, ссорятся. Велю Томе идти гулять — не хочет. А его боюсь выпускать, так он дома не хочет сидеть. — Она снова угрожающе поднимает усталые руки. — Бесенята, замолчите вы, наконец, не то я вас…
На сей раз ребята знают, что поднятого полотенца бояться нечего. Тем более, что мать им только что лукаво подмигнула: давайте, мол, мириться. Одна бабушка все еще не сдается. Быть может, по привычке, а быть может, ей просто нравится ворчать.
— Тоже взяла себе моду — как что, так за полотенце. У меня было больше детей, и никого из них я полотенцем не лупцевала.
— Это-то я знаю. Ты бы лучше рассказала, почему. У нас в доме полотенца сроду не было. Батраки мы были.
— Тоже скажешь. Я вас, бывало, вот этими самыми руками так отлуплю, за милую душу. Правда, не так часто, как ты. Но тут уж не моя заслуга, а твоего отца. Такой был богатырь. Был бы у нас в доме деревянный пол, он бы под ним скрипел. Вот я всегда и опасалась: не приведи господь, осерчает он, нам всем несдобровать.
Слово «Еловики» было упомянуто еще раз. Около этого поселка, рассказывала мне Стефа, был глубокий овраг. Там фашисты уничтожили двадцать тысяч евреев. Привозили их туда на грузовиках. Когда овраг был полон, его засыпали, и тяжелый танк гусеницами долго утюжил землю.
Стефина мать кончиками косынки вытирает слезящиеся глаза и говорит:
— Разве только здесь так было? На Старобинской бойне они облили бензином и сожгли живьем семьсот евреев. В Шклове, говорят, погубили шесть тысяч человек. Детей закапывали заживо.
— Вы знаете, — вмешивается Стефа, — у некоторых людей сердца до того зачерствели, что они думали: евреев убьют — и бог с ними, а нас не тронут. А теперь они спрашивают: чем же нам лучше? Вот мама все пристает ко мне: зачем, мол, я рискую и хожу с мешком по деревням? Святым-то духом не проживешь. Что же мне теперь делать — смотреть, как мои дети будут умирать, с голоду? Даже те, что работают у немцев, получают сто пятьдесят граммов хлеба в день. У меня вот одна знакомая больна, кончается уже, а в больницу никак попасть не может. За каждые сутки плати десятку. Да еще доктору за операцию, аптекарю за лекарство.
— А в деревне, — спрашиваю я, — лучше?
— Там если бы не стреляли день и ночь, можно по грибы сходить, землянику собрать. Но по дороге такого наслушаешься… А налоги? Никто не знает, что еще немцы придумают. В одной деревне местный комендант издал такой приказ: у кого больше одного окна в доме, тот плати сто рублей. В другом месте установили специальный налог на собак, на кошек.
Воспользовавшись паузой, вмешивается старуха:
— Э, о чем тут говорить? Не жизнь, горе горькое. У каждого свой крест. Войне конца не видно. Одна соседка, лет на десять старше меня, по секрету рассказала, что есть два фронта — около Сталинграда и под Царицыном. Так вот, на одном наши бьют немцев, а на другом наоборот. Чего усмехаешься? Не то говорю? Вот и объяснила бы мне. — Она бросает сердитый взгляд на дочь, а потом снова поворачивает голову ко мне: — Не поверите, когда она была хозяйкой волости, еще выкраивала время, чтобы со мной поговорить, а с тех пор, как война началась, никогда от нее ничего не услышишь.
— Ох, мама, мама, до чего же с вами надо быть осторожной. Не оправдывайтесь, а помолчите лучше. Вам, как своему человеку, — улыбнулась она мне, — я сама расскажу. В нашем краю, — начала она, и дрогнувший голос выдал всю муку и горечь, накопившиеся в сердце, — я была, кажется, первой женщиной — председателем сельсовета. Потом меня послали учиться в минский комвуз. Тогда-то и родился мой старший сын, Эдик… Не смотрите на ходики, они пошаливают. А ты, Жора, отпусти бабушкин фартук. Палец болит? Ничего, до свадьбы заживет.
— Вы не боитесь? А вдруг кто-нибудь донесет?
— А что делать? Здесь, в городе, мало кто об этом знает. На соседней улице живет бывший кулак из нашей деревни. Он сейчас у немцев как сыр в масле катается. Но его-то как раз я не боюсь. Его единственный сын, шофер, с первых же дней ушел в партизаны. Есть здесь еще знакомая учительница, но ей я верю, как самой себе. Вот когда отправляюсь в деревню, мне каждый раз не по себе, в ближайшем гарнизоне появилось несколько выродков, поступивших в полицию. Только, думается мне, они меня не помнят.
Говорят: хороший брат — сущий клад. Ну, а сестра хуже? Стефе я доверяю так, как можно доверять только самому близкому, родному человеку. Но если мне удастся бежать без ее помощи, буду очень рад. Так ей будет спокойнее. И все-таки я спрашиваю у нее:
— Стефания Антоновна, что делать?
Мой вопрос ее не удивляет. Она понимает, что меня волнует.
— Единственное, что я могу вам пока посоветовать, — будьте осторожны. При входе вы задели медный таз, в котором я в доброе старое время варила варенье. Вы слышали, какой шум подняла эта глупая посудина. Окна у меня закрыты и занавешены, и все же я слышу все, что творится на улице. В данный момент, например, кто-то стучит в калитку. Наверное, за вами пришли.
Она снимает со стены нитку сухих грибов. Они сохранили вкус и удивительный лесной аромат. Грибы уже у меня в кармане. Сколько теплых слов искренней благодарности просится на язык! Но я молчу. Возможно, присутствие Аверова за стеной сковывает меня. Наконец я выдавливаю из себя слова, которые мне самому кажутся глупыми и неуместными:
— У вашего Жоры еще больше веснушек, чем у Томы. У него они светлые, почти желтые, а у нее темно-коричневые.
Ее ответ я услышал уже на крыльце:
— В других странах их, наверное, покупают поштучно в магазинах, а у нас весна раздает их совершенно бесплатно. Говорят, они больше всего липнут к молодым и счастливым. Будем надеяться, что так будет.
До калитки меня провожает Тома, а оттуда уже хозяин мне — Аверов. Он интересуется, хорошо ли меня приняли и как живется семье моей тещи. Отвечаю ему словами Стефиной матери:
— Не жизнь, горе горькое.
В ПАЛАТЕ «АНГЕЛОВ»
Лазарет опять битком набит. Снова все койки заняты. На сей раз это легко раненные во время операции против партизан, больные, страдающие фурункулезом, желтухой, чесоткой.
Две палаты заняты желудочными больными. Всех их, почти без исключения, подозревают в симуляции. Со дня на день ждут прибытия известного немецкого специалиста, который, можно сказать, с порога безошибочно определяет, кто действительно болеет желудком. А тогда уж не позавидуешь тем, что пришли сюда отлежаться. Пока суд да дело, больные, мнимые и настоящие, не получают никакой медицинской помощи, только одному из них, Селиванов его фамилия, разрешается пользоваться грелкой, и хоть изредка, но ему все же дают сероватый порошок белладонны. Однажды ему даже принесли немного разведенного спирта.
Последние три палаты предназначены для «ангелов» — больных венерическими болезнями, которые занесло в город доблестное немецкое воинство. Эти здесь не залеживаются. Их подлечивают и выписывают. Многие из них, смущенно улыбаясь, в ближайшем будущем опять явятся к Крамецу на прием.
Этих Пипин принимал с величайшим почетом. Они могли являться в любое время дня и ночи. И все-таки некоторые скрывали болезнь. Был издан специальный приказ: выявлять ослушников и отправлять на лечение к Крамецу. Степан Шумов бахвалился, что он сам обнаружил дюжину таких «героев».
Каким образом бывший дантист Крамец вдруг стал специалистом по трипперу? Злые языки рассказывают, что Пипин сам лечился у частного врача и тогда же овладел наукой врачевания этого недуга. Теперь Пипин, уверенный в своей безопасности, опять завел интрижку в городе и каждую субботу, принарядившись, отправлялся туда. Возвращался он только в воскресенье вечером. Во время его отсутствия все дела в лазарете вершил Аверов.
Константина Мальцева что-то давно не видно. Но в палате для желудочных больных лежит его друг Юрий Ганичев. Густая бородка, окаймляющая черной траурной полосой бледное лицо, изменила его почти до неузнаваемости. Он уже здесь несколько дней, и я все жду не дождусь, когда он меня, незаметно для других, назовет земляком. Тогда я спросил бы, на какой улице он жил. Однако, по-видимому, я для него только уборщик, и если уж он обращается ко мне, то с обыденными, ничего не значащими словами.
На Ганичева я злюсь еще и потому, что он больше других не дает мне покоя по ночам. Только я задремлю, как он начинает стонать и канючить: «Грелку, дайте мне грелку!»
Петуха, который бы своим пением оповещал о наступлении утра, здесь нет, но я и так знаю, что скоро забрезжит рассвет. Скорчившись от холода, я лежу на полу, в надежде на то, что Юре, который лежит в соседней палате, надоест стонать и жаловаться. Но он кричит все громче и громче. Пожалуй, еще разбудит фельдшера или Крамеца. Придется встать и подойти к нему. Света я не включаю, но и в потемках вижу, что он стоит на четвереньках, зарывшись головой в подушку. Я толкаю его:
— Чего кричишь? Ведь знаешь, что я тебе ничем не могу помочь. Ты-то завтра будешь храпеть, а я мой за вами, убирай, выноси. Прошу тебя, дай мне возможность еще немного полежать.
— Очень живот болит. Сделай мне клизму.
— Без разрешения фельдшера не имею права.
— Эх ты, — говорит он с досадой, — а еще земляк.
От удивления я выпрямляюсь. Сомнения одолевают меня: могу ли эти такие естественные и к месту сказанные слова считать паролем? И все же спрашиваю:
— Откуда ты?
— Погоди, вот немного отпустит. Ой, ой, проклятье! Кажется, я тебе уже раз говорил, из Москвы я.
— Москва не малая деревенька. На какой улице ты там жил?
— На Пироговской. Тебе там никогда не приходилось бывать?
— Приходилось.
— Вот видишь. А ты жалеешь немного теплой воды на клизму.
— Ну ладно, пошли в процедурную. Но если кто-нибудь из твоих соседей продаст, меня могут прогнать в лагерь.
Как полагается больному, он ложится на кушетку, до половины покрытую клеенкой. Я ищу теплую воду. Если раздадутся шаги в коридоре, придется ему пострадать. Чего же он еще ждет?
— Чего стоишь? — спрашивает он зло. — Слепой, что ли? Не видишь, что мне невмоготу?
— Ганичев, — говорю я, — хватит дурака валять. Есть у тебя что мне сказать, говори.
— Хорошо, я тебе скажу. Ты осел, каких свет не видал. Уходи прочь. Я сам справлюсь, без твоей помощи.
— С меня одного такого, как ты, за глаза хватит. Только доложу я тебе: как только ты сюда явился, я сразу заметил, что ты симулянт.
— Заметил? Будь человеком, достань несколько порошков белладонны.
— Для кого?
— Для Екатерины Второй. Неужели у тебя в жизни ничего не болело?
Почему он играет со мной в кошки-мышки? Ну что же. Спать мне уже все равно не придется. Ночные тени исчезают, и где-то далеко уже рождается новый день. Сейчас сделаю, что он просит. Доставлю ему это удовольствие. Подмету коридор, а потом отведу его в палату. Но теперь, когда стало немного светлее, я вижу, что он бледен, как мертвец, и у него нет сил двинуться с места.
— Извини меня, Юра… Ты серьезно болен?
— Да. Но никто об этом не должен знать.
— Почему?
— Помнишь Алексея Николаевича Забару?
— Конечно. Но лечиться-то тебе надо.
— Чем? Не полагаешь ли ты, что фрицы посадят меня на диетпитание?
— Ты-то хоть сам знаешь, какие лекарства тебе нужны? Может, я сумею достать.
— Если надо красть, рисковать не стоит. Женя Селиванов отдает мне все свои порошки.
— Селиванов? — удивляюсь я. — Ведь он сам тяжело болен.
— То-то и оно. Ты такой же специалист, как Крамец. По его рецепту мне три раза в день дают ложку дистиллированной воды, и он уверен, что обманывает меня. Правда, его заместитель, кажется, умнее его. Селиванов с сегодняшнего дня начнет себя лучше чувствовать. Пошли, у меня зуб на зуб не попадает.
В лазарете было три грелки. Я налил их все горячей водой и положил Юре под одеяло. Пора браться за работу, а я не могу. Господи боже мой, жизнь уже столько раз и так сурово меня учила, а я все еще так часто ошибаюсь. В этой куче человеческих отбросов перестаешь распознавать людей. Какую же труднейшую роль, сопряженную с ежеминутным риском, приходится играть таким, как Ганичев! В той комнате, в процедурной, он, словно сойдя со сцены, на мгновение сбросил с себя опостылевшую одежду. Таким он, наверное, бывал только наедине с самим собой, накрываясь с головой одеялом. Но вот пришли врачи. Начался обход, и, наблюдая за каждым его движением, я вижу, как он снова натягивает маску. Воистину, даже самый талантливый актер мог бы позавидовать такому мастерству.
— Ну, Ганичев, как самочувствие?
— Благодарю вас, доктор, лучше.
— Может, мне вас тогда выписать дней так через пяток?
— Хорошо, доктор, но без микстуры, которую я здесь получаю, я пропаду.
— Вот видите? — обращается Крамец к Леониду Анатольевичу. — Только Селиванову не помогают никакие лекарства. Этот нас ничем не обрадует. Даже нос у него заострился, как у типичного язвенника.
— Доктор, — подает голос Селиванов, — а сегодня и я чувствую себя значительно лучше.
Крамец перестает жевать свою сигарету, таращит глаза, часто-часто моргая реденькими ресницами. Затем с гордо поднятой головой подходит к койке Селиванова.
— Что я слышу! Покажите живот. Дышите, глубже. Согните колени. Здесь болит? Нет! А здесь? Что? Значительно меньше, чем раньше? Отлично! Молодец! Вы видите, коллега, как хорошо у него прощупывается живот, а неделей раньше он не позволял прикоснуться к нему. Не знаю, как вам, — резюмирует Крамец, — а мне все ясно. Желудочных больных надо лечить спиртом. Хорошо бы еще с перцем. Вы, — обращается он к Аверову, — сегодня напишите подробнейший рапорт. Их дело — дать мне лекарство, а я уж вылечу всех до единого. Ну, пошли.
Немного погодя Ганичев мне передал: из казармы, где помещаются предатели, сейчас никого не выпускают в город, а Мальцеву позарез необходимо с кем-то встретиться. Надо ему помочь на два дня попасть в лазарет. Что делать? Не обратиться ли в субботу после обеда, когда Крамец уходит в город, к Казимиру Владимировичу? Возможно, Аверов все устроит, но он, безусловно, захочет узнать, какое я имею отношение к Мальцеву. Нет. Так не пойдет. Нужная мысль пришла мне в голову буквально в полусне. Как это я раньше не додумался? Шумову надо только, как собаке кость, подбросить одно словечко, все остальное он сам сделает.
Когда Степа с двумя санитарами отправился в казармы за едой для больных, Мальцев отозвал его в сторону и шепнул на ухо, что он, конечно, мог бы обратиться к самому Крамецу, но пока еще нет ничего определенного и незачем зря панику поднимать. Ну, а если даже да, ему бы очень не хотелось, чтобы еще кто-нибудь знал о его болезни. А посему он просит Степу принести нужное лекарство.
Пьяный от радости, Шумов немедленно бросился к главному врачу. Только напрасно он рассчитывал, что тот его пожалеет и пошлет за Мальцевым кого-нибудь другого.
— Чего ты боишься? — успокаивал его Пипин. — У него на плечах голова, а не кочан капусты, как у других. Он тебя и пальцем не тронет.
Заметно осунувшегося Мальцева Крамец встретил как старого приятеля. Так он ему и сказал:
— До сих пор я был у тебя в долгу, а сейчас мы квиты. Одно меня удивляет: как это ты, донжуан, так поздно попал ко мне в руки? Хочешь, можешь пока вернуться к своим трубачам, в казарму, хочешь, поселяйся в своей прежней палате. Сегодня я оттуда выписал обоих больных. Если тебе будет скучно одному, попроси Шумова, он тебе живо подыщет соседа. Договорились?
— Да. — Мальцев с аппетитом зевнул, потянулся до хруста в костях, со смехом сплюнул сквозь зубы. — Ваш Шумов из тех, что растут там, где их не сеют. Скорее гвоздь зацветет, чем я у него попрошу об одолжении. Вот ребра я ему, трепачу, с удовольствием пересчитал бы. Но только пусть не беспокоится. Кто с ним, с этакой гнидой, связываться станет? Плохо только, что вы уходите, а у другого врача, если только выяснится, что я действительно болен, я лечиться не стану.
— Не тужи. Болезнь не теща, есть не просит. В понедельник ты мой первый пациент, а через несколько дней будешь чист, как новорожденный, и пой себе свое «тра-ля-ля» — сколько влезет. А пока плюй на все и береги здоровье.
Перед ужином Мальцев куда-то исчез и вернулся только поздно вечером. Долго мы сидели, не зажигая света, на его койке и тихо беседовали. От него я узнал: да, немцы прорвали фронт на Дону и наступают на Сталинград. Еще одна попытка отправить людей в лес провалилась. А дальше что будет? Завтра Мальцев сам должен встретиться со связным от партизан. К обеду он постарается вернуться. Но если он не придет ночевать, мне нечего его больше ждать. Тогда уж придется мне самому, и чем скорее, тем лучше, пробиваться к партизанам.
— Константин, как мне тебя понимать?
— Русский язык знаешь? Понимай, стало быть, так, как я сказал. Ты просил меня помочь тебе бежать отсюда, так вот, если у меня такая возможность будет, завтра узнаешь. А если нет? Я помню твои слова: «А ежели я больше не могу оставаться?» — и, как самому себе, желаю тебе успеха.
— Спасибо. Но почему ты так взволнован?
— Сказать, что тебе кажется, ты мне не поверишь, хотя я могу тебе, не отходя от кассы, спеть свое «тра-ля-ля».
— Костя, прошу тебя, не надо.
— В чем дело?
— Не знаю.
— Не знаешь, не говори. За время войны мы с тобой не плохо научились отличать, что такое хорошо, что такое плохо. Ты когда-нибудь наблюдал полет ястреба? Красотой с ним может сравниться разве что полет чайки. Видел ты, как он складывает крылья и камнем падает с неба вниз, к земле? А я бы его отдал червям на съедение. Ведь это он, паразит, высмотрел жертву. Кстати, о птицах. Давным-давно, в детстве, я думал, что птицы не удирают от зимы, а уносят с собой лето. Теперь я знаю: можно убежать от зимы, но лето взять с собой нельзя. Мне сейчас нужно одно — талисман такой волшебный заиметь, чтобы я мог заглянуть человеку в душу, мог узнать, о чем он думает, когда остается один на один со своей совестью. Тогда меня не сумеет обмануть подлец, похожий как две капли воды на святого. А впрочем, знаешь что, давай кончим разводить философию. Пора нам расставаться. Лучше будет, если нас вместе не увидят.
На следующий день Константин Мальцев ушел, и больше я его никогда не видел.
Я ходил как в воду опущенный. Какие только мысли не приходили мне в голову. Если он вернулся в казарму, он в опасности, хотя, надо думать, он и там уже посеял пламя, которое никому не погасить. Ну, а если… Страшно даже подумать. А если он провалился и палачи его терзают, пытают и мучают? Хочу верить, что он никого не выдаст… А вдруг Мальцев уже в лесу, у партизан, и скоро, скоро явится за мной человек от него?
ПОБЕГ
Больше всего я теперь рассчитываю на новую знакомую Хромова. Она уверяет, что партизаны уже знают о нас и в течение ближайшей недели сообщат, как нам бежать и куда держать путь. Ваня уже перевелся к Крамецу в лазарет, и врачи в восторге оттого, с каким упорством он тренирует больную ногу. Два раза в неделю ему разрешают прогулку по городу, и тогда он встречается со связной.
Вот и сейчас он возвращается из города и, хотя все время опирается на трость с искусно вырезанным набалдашником, я еще издали замечаю, что он идет словно подгоняемый ураганом. Саша Мурашов толкает меня локтем: гляди, мол, чудеса в решете. Еще нынче утром он потешался над тем, как Ваня ходит — ни два, мол, ни полтора, — а теперь от удивления таращит глаза:
— Во дает ногам прикурить. Поставил, пошел. Поставил, пошел. По городу шататься у них сил хватает, а подняться с койки и дойти до нужника лень. Подавай их благородиям утки к койке.
— Уж не трепался бы зря, — не могу я сдержаться, — ты ведь знаешь, Иван не из тех.
— У меня все они на одно лицо. Если он не из тех, почему он здесь?
— Не знаю. Но если на то пошло, скажи-ка мне тогда: а почему ты здесь?
— Сравнил. Он ведь уже был там, с двумя гранатами и заряженным карабином. Повернул бы за куст — и поминай как звали. Раньше здесь, — повернул он руку ладонью вверх, — волосы вырастут, чем он человеком станет. Что касается меня, так ведь из трех пальцев только кукиш можно сделать, не больше. И все же я решил: если кому-нибудь побег удастся, я буду вторым. Что гляделки на меня вылупил? Не веришь?
— Не верил бы, не стал бы с тобой так говорить. Но думаю — кто смел, тот и съел. На тарелочке с голубой каемкой свободу не поднесут.
У калитки Хромов остановился — то ли дыхание перевести, то ли проглотить слова, которые он не имел права произнести даже при Мурашове. Только часа через два, когда нам удалось остаться вдвоем, он шепотом сказал:
— Танцуй. Партизаны прислали нам письмо. В субботу вечером в деревне, у реки, нас будет ждать человек.
— Письмо при тебе?
— Нет. Мне все казалось, первый же немец догадается, что у меня в кармане.
— Не томи. Скажи, что там написано.
— Как мы и договорились, моя знакомая все им рассказала обо мне.
— Вот видишь!
— Пока это только на бумаге. Не злись. Я не из тех, что могут передумать. Как и тебя, меня сейчас пугает только одно: не попасть бы снова живым к немцам в руки. Партизаны требуют, чтобы я пришел с оружием. А винтовку свою я вынести не могу. Ну, а если бы и вынес? Как появиться с ней в городе? Сразу задержат.
— У Аверова в комнате лежат две гранаты.
— Чего ж ты молчишь? — Хромов взволнованно потер руки. — В последнюю минуту их надо обязательно заполучить. Вот бутылка самогона для Пипина. Мне еще необходимо как следует изучить переулки и дворы, которыми нам придется идти. Но ничего, мы еще успеем все обдумать.
Именно в ту, последнюю ночь никто не мешал мне спать. И впервые за все это время не кошмары, а хорошие, добрые сны посетили мой взбудораженный мозг. Но вскочил я так рано, что, прежде чем занялась заря дня, таящего такую страшную опасность и такие великие надежды, я успел до боли в сердце десятки раз обдумать все, что может нам помешать в пути, как здесь, так и там — в неясной дали, где начинается лес.
До того, как больные проснулись, я успел навести в своих палатах чистоту, буквально вылизал каждый уголок. Но так как это была самая длинная суббота в моей жизни и мне надо было все время чем-то заниматься, чтобы не думать без конца об одном и том же, я стал помогать Мурашову убирать его палаты. Потом я забрался на чердак и стал точить и без того острый, как бритва, нож. Я не знал, за что еще взяться, что еще делать. Так хочется, чтобы уже было завтра. А короткая, горбатая тень у ног Шумова, который так гордится своим гвардейским ростом, дразнит меня, как высунутый язык — еще полдень, только полдень. Право, эта суббота никогда не кончится.
Если нам повезет, надо будет в первую очередь помочь выбраться отсюда Мурашову и Ветлугину. Да и Казимир Владимирович, а может, и Анатолий Леонидович не совсем конченые люди. Крамец, мерзкое, обожравшееся животное, — вот на ком можно поставить крест. И Шумов со своей рабской улыбкой. Обида за все перенесенные унижения давит и жжет, а все же… может, и Степе надо протянуть руку помощи? Размечтался? Дай-ка плюну три раза через левое плечо. Пусть только удастся побег…
Что мне сказать Томе, если она придет сюда со своей козой? Если нужда заставит, обманешь кого угодно, только не ребенка. Уж лучше спрячусь от нее. Жалко, что у Стефы нет моего домашнего адреса. Если мне сегодня не удастся вырваться из оков, мои родные так и не узнают, где гниют мои кости.
Кто-то поднимается по лестнице. Условный свист — у Саши что-то не ладится, и он зовет меня на помощь.
Наконец наступили сумерки. Картежники начали собираться за столом. Я взял ведро горячей воды, тряпку и отправился к Аверову в комнату.
— Казимир Владимирович, я уберу у вас.
— Хватился тоже. — Он удивленно вздернул брови.
— Рано утром я не хотел вас будить. Днем у вас сидел Крамец. Перед уходом он предупредил меня, что, если завтра найдет у вас хоть пылинку, свернет мне шею.
Я-то знаю, что Аверову сегодня повезет. Будет азартная игра, и он положит в карман изрядный куш. Но он этого знать не может.
Хоть игра еще не началась, Казимир Владимирович уже весь в ее власти. А тут я почему-то пристаю к нему.
— Завтра уберешь, — старается он сохранить спокойствие, но в глазах уже появился зловещий огонек, — сейчас марш отдыхать.
Нет, мне не до отдыха. Не отстану от него, как бы он ни злился. А если бы он догадался, где собака зарыта?.. Иногда мне кажется, что я стою перед ним, как перед рентгеновским аппаратом, и он видит меня насквозь.
— Казимир Владимирович, вы, видать, забыли, что в воскресенье у нас нет теплой воды, а у вас в комнате не продохнешь от селедочного духа. Разрешите, — быстро хватаю мокрую тряпку, сжимаю ее что есть сил, и на полу мгновенно образуется лужа, — не беспокойтесь: я наведу чистоту по первому разряду. Дверь захлопну, ключ отнесу вам.
На благословение я и не рассчитывал, но что сжатые в узкую полоску губы Аверова разомкнутся и извергнут такой поток проклятий и грубых ругательств, я не предполагал. А мне, истерзанному беспокойными мыслями, так нужно было, чтобы именно сегодня Казимир Владимирович был поснисходительней.
Из-под кровати достаю покрытый густым слоем пыли фанерный ящик, смахиваю кучу грязных бинтов, какой-то рваный ватник. Открываю крышку. Сразу отлегло от сердца — гранаты на месте.
Несколько шагов до палаты Хромова кажутся мне километрами. Там никого нет. В потемках нащупываю у него под подушкой полевую сумку, осторожно опускаю туда гранаты. Мой нож уже там. Ну что ж, кое-что сделано.
Когда Аверову не идет карта, он внешне совершенно спокоен, лишнего слова не скажет. Сегодня же он так взволнован и рассеян, что мне приходится дважды повторить: «Казимир Владимирович, возьмите ключ», прежде чем он обращает внимание на мое присутствие. Вместе с толстой пачкой немецких марок, выигранных у Хромова, он сует в карман ключ. Иван, опираясь на палку, поднимается с табурета. Вслед за ним встает Аверов и спрашивает:
— Обещанного три года ждут? Так, что ли? Ты ведь обещал нам сегодня водку. Если у тебя не осталось денег, возьми, сколько надо, у меня.
— Зачем? За исправленные часики мне еще причитается столько и полстолько. Только вот больная нога что-то пошаливает, а идти надо в потемках, да еще по такому переулку, где сам черт ногу сломит. Разве что мой «денщик», — показывает он на меня, — пойдет провожатым. Но увольнительную господин гауптман дал только на меня одного. Может, допишете?
Все игроки с нетерпением ждут ответа Аверова, но он молчит, словно язык у него отсох. Потом он, пошатываясь, делает несколько шагов по выскобленному до яичной желтизны полу, ерошит и без того взлохмаченные волосы. У Аверова в душе явно борются два чувства. Выпитая вместе с Крамецем бутылка самогона только растравила аппетит. К тому же львиная доля досталась Пипину. Об этом уж сам Казимир Владимирович позаботился. С другой стороны, если нас задержат, неприятностей не оберешься.
— Говоришь, дописать? — Казимир Владимирович задумывается. — Исключается! Если обещаешь быстренько обернуться, отпущу и его, да еще за ворота выведу и немного провожу. Идет?
— А ну-ка, слетай в палату, — обращается ко мне Хромов, — возьми у меня под подушкой полевую сумку.
Желание поскорее выбраться из города подгоняет нас. Но Хромов осторожен. Он знает повадки немцев и уже не раз убеждался, что с наступлением темноты они держатся подальше от заборов с узкими калитками. Даже усиленные патрули в это время ходят не по тротуару, а посреди мостовой. Поэтому мы жмемся поближе к домам. Иван, не полагаясь на свое великолепное зрение, каждые несколько минут дает сигнал остановиться и чутко прислушивается к тишине по-вечернему безмолвного переулка, где домики стоят, так тесно сгрудившись, что кажется — стоит взобраться на один, и сможешь, переходя с крыши на крышу, прошагать весь переулок, из конца в конец.
Не доходя до угла широкой и днем довольно оживленной улицы, я притаился между деревьями. Жду. В настороженной тишине ясно слышу тихое покашливание. Значит, можно двигаться дальше. И вот мы снова в узком, кривом переулке, где царит кромешная тьма. Наглухо закрытые ставни не пропускают ни единого луча света.
Был бы я один, мне бы пришлось двигаться на ощупь, и все равно без посторонней помощи я бы ни за что не нашел место, где нас должен ждать партизанский связной.
Но Хромов заранее изучил маршрут, и мы идем быстро. Ненужную теперь палку он бросил. Передо мной маячит его чуть сутулая спина. Я слышу его прерывистое дыхание. Прикидываю в уме: километра два мы уже наверняка прошли. Кажется, позади остался лесокомбинат с высоким забором. Сам я здесь никогда не бывал, а спрашивать у Ивана не стану: без особой нужды нам незачем переговариваться. Комбинат для нас опасен. Он тоже находится недалеко от реки, к которой мы спешим, и его охраняют вооруженные стражники.
Я не ошибся — вот мы уже пересекли узкоколейку и миновали кладбище.
Даже если это наш последний путь, мы все равно уже перешагнули заветную черту, за которой — свобода. Живыми мы им в руки не дадимся. Если кто-нибудь из волчьей стаи попытается нас остановить, пойдут в ход гранаты, и настанет час расплаты, о котором я мечтал во сне и наяву.
Откуда-то доносятся приглушенные звуки, лай собак. Ночь прохладна. Эх, туман бы сейчас, да погуще. Вдруг тьма исчезает, будто покрывало, сдернутое чьей-то мощной рукой, небо раскалывается и превращается в пламенеющий шатер. Мы в чистом поле, и слепящие лучи прожекторов могут зацепиться только за нас — беглецов. Земля, к которой мы припали, не хочет расступиться, спрятать нас.
Похоже, кто-то ведет с нами нечистую игру. Широко открываю глаза и убеждаюсь, что все вокруг опять купается в глубокой синеве ночи. Мы поднимаемся, срываемся с места и бежим, бежим! И снова на нас наваливается чудовищно яркий сноп света, и где-то уже прочерчивают небо трассирующие пули. Одна, шальная, прожужжала совсем близко, как разозленная пчела. Ваня, по-видимому, нашел укрытие. До меня доносится его тихий свист. И хотя снова темно, я ползу к нему, прижимаясь к земле.
Долго здесь задерживаться нам никак нельзя. Пусть на четвереньках, но надо двигаться дальше. И, может, ветерок донесет до нас вскоре запах мокнущих в воде ив, что растут на том берегу, куда мы рвемся всей душой.
Человеком из леса, ожидающим нас на условленном месте, оказался Петя — двенадцатилетний парнишка с веслом в руках. Без лишних слов он ведет нас огородами, фруктовым садом, затем мы спускаемся к берегу. Несколько шагов по влажному песку, и мы у лодки, перевернутой днищем кверху. Даже в этой мертвой тишине едва слышен сонный плеск реки, и все же нос лодки, опущенный в воду, намылен белой пеной.
Осторожно, почти бесшумно, мы переворачиваем и сталкиваем на воду лодку. За несколько минут она наполняется водой, хоть вычерпывай ведром. На этой посудине широкую и глубокую реку не переплывешь. Придется послушаться нашего юного проводника и направиться в соседнюю деревню, расположенную тоже на правом берегу. Там, утешает нас Петя, всегда есть лодки. Правда, придется сбить замок с цепи. Но не беда. У Пети там живет родственник, и в случае нужды он нам поможет.
Мы стоим перед по-деревенски широкой дверью, которая, кажется, никогда перед нами не распахнется. Приложиться к ней поосновательней кулаком мы боимся — можно разбудить не только хозяина… А так, едва слышно скрести по оконному стеклу можно и до рассвета. К счастью, я не угадал. Хозяин, по-видимому, просто медлительный человек, и, поднявшись с теплой постели, ему перво-наперво хочется хорошо, до хруста в костях, потянуться, а потом в свое удовольствие изругать непрошеных гостей, тем более что он уверен: ни полицай, и уж наверняка ни немец не будут его будить так тихо и деликатно.
Трудно было его добудиться, но еще труднее с ним договориться. Он не без основания боится выйти из дому в такой неурочный час. Мы и сами понимаем, чем это может кончиться. Ведь часовые на мосту, который совсем не так уж далеко отсюда, вооружены не только ракетницами, но и пулеметом. Где его лодка стоит, Петя знает. Что ж, говорит он, придется с ней проститься, хоть досталась она ему не легко. Да ладно, черт с ней, с лодкой. Но ни ключа, ни весел он нам дать не может, потому что даже осел догадается, что такие вещи на берегу не валяются, а выкрасть их из дому не так-то просто.
Время, однако, не ждет. Мы торопимся, да и хозяину хочется поскорее от нас избавиться. Об этом ему, кстати, настойчиво напоминает жена, качая ритмично поскрипывающую колыбель. После минутного раздумья хозяин сам же дает нам совет, как поступить:
— Крайнее звено в цепи можно руками отогнуть. Вот берите клещи, но, Христом-богом прошу, не забудьте их выбросить в реку, да обязательно на самой середине.
Почти по колено в холодной воде, я из последних сил толкаю лодку, чуть не перевернув ее вместе с моими друзьями, наконец забираюсь внутрь и, с трудом переводя дыхание, усаживаюсь на корме.
Разбуженная река взволнованно плещется вокруг лодки. Если очень внимательно прислушиваться к звукам ночи, так внимательно, как мы, то можно, наверное, издалека услышать частые удары весла и глухое ворчание темной воды, которую я отгоняю руками. Как у всемогущего и капризного человека, чей покой мы вынуждены были нарушить, я готов слезно просить у Березины: «Не сердись, не помогай нашим врагам. Пойми, хоть ты широка и глубока, нам-то в случае опасности некуда будет спрятаться, и проститься нам придется не только с тобой, Березина, а со всем белым светом. Не будь же глухой к нашей беде, прошу тебя!..»
— Гребите быстрее! — шепнул Петя Хромову.
Я придвигаюсь поближе к Ване и берусь за гладкое, отполированное множеством рук весло. И как раз вовремя. Месяц, перевернувшись рогами кверху, собирается окунуться в Березину. Пока он запутался в двух тучках и не может вырваться. Но это ведь ненадолго, а нам еще надо одолеть добрую треть реки. Одна ракета, вторая рассыпаются веером. Хоть мы и знаем, что гитлеровцы могли затеять такой фейерверк вовсе не из-за нас, а просто так, без всякой видимой причины, мы с такой откуда ни возьмись появившейся силой налегаем на единственное весло, что оно не выдерживает и с легким треском раскалывается пополам.
К счастью, ноги уже нащупывают дно, плыть в одежде нам не придется. До берега мы все же добрались по пояс мокрые. Дальше Петя повел нас, как нам казалось, без пути, без дороги. Мы миновали луг, топкую долину, островок кустарника и, прошагав еще порядочный кусок поля, наконец попали в настоящий лес, в густой гостеприимной темноте которого наш провожатый уверенно нашел нужную тропинку. Кажется, если бы судьба предопределила кому-нибудь из нас обнаружить во вселенной новую планету, она не могла бы так обрадовать, как эта почти незаметная лесная тропа.
Позади остались двадцать километров извилистых лессканых дорог, а мы все еще идем и идем. Наконец Петя остановился и, облегченно вздохнув, зал:
— А теперь, пожалуй, можно и отдохнуть. Это уже наша, партизанская, земля!
До предела усталые, мы повалились на траву. Я вдохнул свежий, чистый предутренний воздух и чуть не захлебнулся. От неуемной радости захотелось ликующе закричать во весь голос. Да, закричать, и чтобы в этом крике было ощущение вновь обретенной свободы, гнев и ненависть к врагу. А может, лучше прикоснуться губами к каждому дереву, к каждой травинке, даже к первым опавшим листьям и шепотом им поведать: убежал! Перенес муки семи кругов ада и все-таки вырвался, убежал, чтобы снова взяться за оружие и, не гася чувства справедливой мести, расплатиться свинцом, огнем и динамитом с коричневой чумой, расплатиться за все.
Стояла ранняя осень 1942 года.
Кругом было так тихо, что можно было не только видеть, но и слышать, как отступает ночь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Родные белорусские леса. Годы прошли с тех пор, как я расстался с вами, но вновь и вновь вы выплываете, словно из тумана. Я вижу прямые и неподвижные стволы сосен, гибкие, покачивающиеся ветви берез, затянутые зеленью трясины; вдыхаю запах грибов и поздней лесной земляники, память уносит меня в знакомые деревни, поселки, хутора, где каждая хата, каждый холм и куст говорят о днях минувших, о жарких боях, о долгих зимних ночах у костра, о людях, которые до последней капли крови боролись за счастье народа, беспощадно мстили врагу…
Давно поросли травой наши дороги — узкие партизанские тропы, но я и сейчас вижу все здесь таким, каким оно было в те незабываемые годы. Чаще других встают перед моими глазами Хуновские хутора, место скрещения четырех боевых дорог. Недалеко отсюда есть невысокий, поросший травой холм с установленной на вершине дощечкой. На ней, быть может, еще видна вырезанная ножом надпись:
«Здесь похоронены народные мстители, павшие смертью храбрых в борьбе против немецких оккупантов».
Четыре дороги, и каждая из них мне одинаково хорошо знакома. Они ведут в ставшие родными деревни, к старым друзьям, делившим с нами последнее ведро картошки, ложку соли, горсть махорки, перемешанной с дубовым листом и корой.
Мне чудится — вновь сворачиваю влево, в Городецкий лес, к мостку, где я однажды впервые за три года войны не из страха перед вражеской пулей и не от усталости упал на землю. Я прижался горячей щекой к прохладной земле и тихо прошептал:
— Благословенна будь…
Это — место, где я после горьких лет разлуки, после жестоких лет борьбы встретил первых разведчиков Красной Армии.
Перевод И. Гуревича и Б. Котик.
Часть третья СНОВА В СТРОЮ
У ПАРТИЗАН
Мы снова двинулись в путь, шли не останавливаясь, шли все время густым лесом, в котором Петя чувствовал себя как дома. У края леса юный проводник оставил нас и куда-то исчез.
Ночь была холодная, сырая. Остро пахло хвоей, прелым мхом, опавшей листвой, будоражили и тревожили запахи осени, подбирающейся к глубинам леса. По смутным очертаниям едва различимых строений впереди угадывалась деревня. Это была Великая Старина. Здесь предстояла нам встреча с командиром партизанского отряда. Нам, усталым и голодным, минуты ожидания казались часами. Наконец в одной из хат засветился огонек, и мы облегченно вздохнули. Это был сигнал, он означал: в деревне спокойно.
В избе нас встретила Игнатьиха — высокая пожилая женщина с редкой проседью в гладко зачесанных волосах, не по летам стройная, с живыми и ласковыми глазами. Она обняла и расцеловала меня, как родного, а я стоял, растерянный и растроганный, не зная, как выразить свою благодарность — ведь это ее сынишка, рискуя жизнью, привел нас сюда.
Больше часа оставалось до рассвета, и мы прилегли отдохнуть. Петина сестра Таня, года на два старше его, вышла на улицу сторожить. Меня одолела дремота.
Резко открылась дверь, и по твердой поступи вошедшего я догадался, что это военный. Я быстро вскочил. Командир?
В тусклом свете пасмурного утра я разглядел русого, статного парня лет двадцати пяти. На нем была немецкая шинель и красноармейская фуражка с кумачовой полоской вместо звездочки, на его плечах переплеталось невероятное количество ремней, опоясан он был набитой патронами немецкой пулеметной лентой, на одном боку висела сабля, на другом — две гранаты. Он стоял у стола, в упор смотрел на нас, и взгляд его был холоден и строг. Я крепко пожал ему руку. Вот она, встреча, о которой я так мечтал…
Он нас долго и придирчиво расспрашивал, кто мы такие, как сюда добрались, почему пошли в этот, а не в другой район…
Вошла хозяйка и оборвала наш разговор:
— Успеете наговориться после. Вас ждет баня…
Баня находилась здесь же, во дворе, в нескольких шагах от дома.
Наш собеседник, уходя, пообещал:
— Приду после завтрака, продолжим разговор.
— Это и есть командир? — взволнованно спросил я, как только за ним закрылась дверь.
— Кто? Он? — Петя весело засмеялся. — Это же Вася, Вася Савицкий, разведчик. Вот погодите, придет наш командир, тогда увидите, что это за человек.
Мать убежденно подтвердила:
— Нашего командира повидаешь — с другим не спутаешь…
Глухими дорогами, сквозь леса и болота, по колени увязая в липкой грязи топей, с запада на восток двигалась группа командиров и красноармейцев. Их вел невысокого роста крепыш, лейтенант-артиллерист. Родом из этих мест, он прекрасно знал всю округу. Фамилия его была Силич, имя — Степан. Пробирались к линии фронта, стараясь избежать в пути встреч с врагом.
Шедшие доверились Силичу, видя, как легко он ориентируется в пути по солнцу и звездам, по сучьям деревьев, муравейникам, по густоте крон сосен, по слоям на пнях и даже по кустам брусники. Они не ошиблись в своем выборе — он показал себя решительным и смелым командиром.
Пять суток им везло, а на шестые наткнулись на немецкую колонну. Гитлеровский офицер приказал сложить оружие.
Силич скомандовал:
— Огонь!
Убитых немцев подсчитывать было некогда. Силич с товарищами — четверых они недосчитались — был вынужден отойти. Назавтра они опять пытались прорваться, уже в другом месте, но снова безуспешно.
— Что теперь делать? — Озабоченные взгляды обращены на командира.
— Остается одно: там, где не пройти взводу, проберутся трое, двое, один… Кто пойдет вправо, кто влево, но всем пробиваться к линии фронта.
В свою деревню Силич не зашел. Не такое было время, чтобы солдат чувствовал себя вправе переступить порог родного дома.
Белоруссия осталась далеко позади. Линия фронта совсем близка. Снова дрожит земля от взрывов, снова языки пламени по ночам тянутся к небу. Что с того, что иссякают силы, подкашиваются от усталости ноги, когда до наших вот-вот рукой подать.
Силич достиг бы своей цели, если бы не случайная встреча в лесу.
— Куда? — спросил сидевший у костра пожилой капитан, зябко кутаясь в шинель.
— Вперед. А вы?
— Остаюсь!
— Почему? — Степан пристально посмотрел на капитана.
— Есть такой приказ, глядите…
Силич долго держал в руке пожелтевший листок.
— Это еще от третьего июля? Да… А мы ничего и не знали…
К себе домой Степан пришел поздно ночью. Несколько минут он постоял у запертой двери, потом решительно направился к хате напротив, где еще светились окна, и тихо постучался.
К утру все в деревне знали, что Степан, сын Василия Силича, вернулся домой. Мужики, державшиеся днем подальше от хат и поближе к лесу, наведались к гостю вечером. Им хотелось не только посмотреть на Степана, но и послушать новости. Дома они его не застали…
Сидит Степан Силич у старого подреченского плотогона Тимофея Иванович Горбацевича. Хозяин, человек с непрерывно подергивающейся бровью, с седыми и редкими волосами, вместе со всеми за столом; перед ним бутылка самогона, он будто собирается разлить ее по стаканам; возле каждого по шесть карт: если зайдет невзначай посторонний, играют, значит, в карты — старик Горбацевич, не вынимающий трубки изо рта, с простуженным и покашливающим Александром Жилкиным, а Силич с Леонидом Петровичем Ковалем. Подвижность и горячность Силича подчеркивают невозмутимое спокойствие и степенность партнера. Силичу не сидится на месте, в глазах у него то и дело загорается задорный огонек; лукаво светятся внимательные серые глаза на широком лице Коваля.
Так проходит за вечером вечер. Круг «гостей» здесь все увеличивается — приходит Василий Боровский, подтянутый молодой лейтенант, Иван Завьялов, красивый светловолосый парень, которого война забросила сюда с Поволжья, Максим Синица, кадровый командир, Емельян Горбацевич, младший брат Тимофея.
И наступил вечер, когда дошла очередь и до бутылки водки — уже который раз ее приносят и уносят нетронутой, — сегодня можно наконец и распить. Леонид Петрович Коваль поднимает свой стакан:
— Значит, взялись, товарищи!
Командиром партизанского отряда стал Силич. Предстояло много дел — подобрать надежных людей, добыть оружие, связаться с партизанами соседних районов. Тимофей Иванович, старый партизан времен гражданской войны, уже успел исподволь собрать и надежно спрятать изрядное количество винтовок, пулеметов, он даже знает место на дне реки, где лежит затонувшее орудие.
Подготовительный период был завершен. Небольшой отряд, возглавляемый Степаном Силичем, укрылся в глубине леса и в апреле 1942 года вступил в открытую борьбу с немецкими оккупантами.
В течение дня в хате Игнатьихи перебывало человек двадцать — молодые и старые, хмурые и веселые, с русскими винтовками, немецкими, французскими и такими, каких я никогда и не видывал. На многих была немецкая форма, был один и в новеньком мундире обер-лейтенанта. Командиры не носили знаков различия, и потому мы все не могли догадаться, — говорит ли с нами, наконец, тот, кого мы с нетерпением ждали?
Вошел широкоплечий, невысокого роста парень с озорным взглядом веселых глаз и, дружески поздоровавшись, лихо представился:
— Костя Данилов. Если вам скажут, что я артист, не верьте. Все это враки, у меня диплом — могу предъявить — об окончании индустриального техникума в Курске…
О Данилове я уже сегодня слышал — это любимец отряда. Он посоветовал нам не придавать особого значения тому, о чем все нас расспрашивают:
— Спрашивать могут все, отвечать надо знать кому…
По его тону, полусерьезному, полушутливому, я догадался: до прихода Силича лучше быть поскупей на разговоры.
Поужинали мы вареной картошкой, запили топленым молоком и легли спать. После стольких месяцев скитаний, после ночевок на мокрой земле, на жестких досках, на холодном цементе мне казалось теперь, что нет на свете большего наслаждения, чем спать на мягкой, свежей соломе. Пережитое за день так взбудоражило меня, что я долго не мог уснуть. Да и подумать было о чем… С улицы доносились звуки гармони. Девушки затянули песню.
— Сегодня у нас будет весело, — шептал Петя, улегшись рядом со мной, — Костя ночует в деревне. Послушайте, дяденька, как он играет на гармони. Эх, и играет! Голос у него как у настоящего артиста. А как пляшет! Паша, дочка соседки, глаз с него не сводит. В него все влюблены, и он лучший разведчик в отряде. Вот вы его видите в первый раз, а ведь вам он тоже нравится больше всех, правда?
Мне было хорошо. Радовала мысль, что далеко за линией фронта, в двадцати пяти километрах от окружного центра Бобруйска, который кишмя кишит немецкими войсками, всего в трех километрах от вражеского гарнизона — молодой веселый партизан играет на гармони, а девичьи голоса подхватывают:
Этих дней не смолкнет слава, Не померкнет никогда, — Партизанские отряды Занимали города.Наступила глубокая ночь. Догорели и погасли лучины на загнетке. По одному и группами разошлись партизаны в разных направлениях — каждый имел задание.
Во дворе то и дело раздается приглушенный окрик:
— Пароль!
До нас, находящихся в хате, ответ не доносится, его произносят так, чтобы слышал только спрашивающий.
Раздался стук копыт — во двор въехали всадники. Через минуту распахнулась дверь и в комнату вошли трое. Неожиданно вспыхнувший свет карманного фонаря ослепил меня, и я зажмурил глаза.
— Вы не спите?
— Нет.
— Будем знакомы. Степан Васильевич. Я-то вас вижу, а вы меня, конечно нет. Не так ли? Ну, так я себя сам изображу: невысокого роста, обросший, и, вероятно, выгляжу чертом с болота…
Тускло светит зажженная лучина. Мои глаза понемногу привыкают к свету. Вглядываюсь — он действительно невелик ростом и сильно оброс, из-под густых бровей глядят пронизывающие глаза. На нем летний дождевой плащ и трофейные сапоги с короткими и широкими голенищами.
— Вы Силич?
— Я.
Вскакиваю и по-военному вытягиваюсь. Он кладет мне на плечо руку и говорит:
— Не надо… Перед теми, кто сумеет насолить врагу, я сам готов стоять навытяжку, как перед генералом.
— Буду стараться, — не совсем по-военному ответил я, и голос мой дрогнул.
Еще не начало светать, когда Силич собрался в расположение отряда. Прощаясь с нами, он приказал:
— Савицкий! Вам с Завьяловым перебраться в Березовое Болото. Этого мастерового, — указал он на Хромова, — направить в оружейную мастерскую, а этот, — ткнул он пальцем в мою сторону, — пойдет с вами.
Мы в этой деревне провели несколько дней, часто меняя квартиры.
Вася Савицкий, Иван Завьялов и я на этот раз ночевали в просторной, еще недостроенной хате молодого крестьянина Копыловского. Мы знали — немцев поблизости нет. Была суббота, и хозяин при первых проблесках рассвета занялся в сарае колкой дров для бани. На стол подали дымящуюся рассыпчатую картошку, и мы втроем уселись завтракать.
Вдруг, взглянув в окно, выходящее во двор, хозяйка отпрянула, лицо ее мертвенно побелело. Мы вскочили с места и посмотрели. Во дворе были немцы.
У нас две винтовки и три гранаты, взорвать себя, во всяком случае, успеем. Все мы одеты в немецкую одежду, — быть может, это нас спасет? Я переложил гранату из правого кармана в левый, тронь ее пальцем — и все кончено.
Без единого слова мы поняли друг друга и двинулись к выходу. Первым шел Ваня, последним — я. В сенях еще никого нет. Две руки одновременно взялись за ручку двери — Ванина изнутри и чья-то снаружи. Дверь распахнулась. Перед нами стояли два полицая. Мы с Васей приветствовали их. Они посмотрели удивленно, но ответили.
Быстрым шагом, не оглядываясь, пересекаем двор. Деревня со всех сторон окружена лесом, добраться бы до его опушки — и мы спасены. Впереди забор, идти в обход долго и опасно, двигаемся прямо к нему.
Кто пережил подобное, знает, что в такие мгновения появляется часто и необычайная сила, и небывалая ловкость. Бросок — и забор позади. Мы идем огородом, где недавно убирали картофель, мешает множество бугорков и ямок. Я оглядываюсь — погони за нами нет. Еще немного — и мы у кустов. Поравнявшись с Ваней, я выдохнул:
— Спасены!
— Возможно, — ответил он, — если деревня не окружена и на опушке леса, куда мы идем, никого нет.
Миновав кусты, мы бросились бежать, бежали из последних сил, и только в лесу перевели дыхание. У старой березы остановились и прислушались. Тихо в деревне, ни единого выстрела. Почему бы это?
— На днях был такой случай, — рассказал Вася, — в одно село прибыла, понимаешь, группа партизан из другого отряда, и почти все в немецкой форме. Один из наших разведчиков, не разобравшись толком, сообщил в штаб, что в селе немцы. Наши двинулись туда, и тогда, понимаешь, выяснилось, что это были партизаны. Уж и не спрашивай, как попало разведчику… Если и с нами случилась такая история, тогда хоть вон беги из лагеря.
— Что же делать?
Савицкий уже направился было назад к опушке леса, когда послышалось гудение автомашин, поднялась стрельба из немецких винтовок, автоматов, застрочил пулемет.
— Стало быть, это не партизаны, — сказал Завьялов. — Прибыли, видимо, немцы и полицейские из разных гарнизонов, не знающие друг друга, они не разобрались, кто мы, и это нас спасло.
Мы поспешили в лагерь. В пути нам встретилась группа партизан вместе с командиром разведки Василием Боровским, впереди шагал Костя Данилов.
— Глядите, — закричал он, — вот они! А мы уже вас похоронили… Ну, сейчас мы сыграем немцам плясовую, знатное будет угощение…
По мягкому мху между кустами и деревьями быстро пробирается один связной к другому, осторожно и бесшумно переступая обутыми в лапти ногами, — малейший шорох может нарушить царящую кругом тишину, — и передает:
— Из деревни вышли и идут сюда пять солдат.
— Наблюдать за деревней, — следует приказ.
И снова шепот:
— Двигается взвод, человек двадцать пять, с ними пулеметчик и, кажется, два автоматчика. В середине две подводы.
Костя пробует заручиться согласием командира:
— Одна лошадь — моя.
— Тише! — сердится Боровский. — Сумеешь взять — будет твоя.
Пятеро немцев проходят мимо, никто их не трогает. Они насторожены и внимательны. Тут не поле, опасность скрывается за каждым деревом, за каждым кустом. Вдруг они остановились и прислушались. Шорох? Нет, тихо, спокойно кругом…
Началом действий партизанской засады служит не команда «огонь!» и не вспышка ракеты в воздухе, выстрел командира — сигнал к атаке. Так было и на этот раз.
Как только завязался бой с приблизившимся вражеским взводом, гитлеровцы, находившиеся в деревне, открыли в нашем направлении огонь из миномета, но бил миномет наугад, и потому у нас потерь не было.
От взвода немцев в живых остались немногие. Костя захватил не одну, а двух лошадей, вместе с подводами, груженными крестьянским добром. К его огорчению, это были высокие, холеные артиллерийские кони и для верховой езды, в особенности разведчику, не годились. Награбленные вещи Боровский приказал вернуть крестьянам, а коней отвели в партизанский отряд, имевший пушку.
Спустя два часа мы снова были в той самой деревне, откуда бежали утром. Как нам рассказали, немцы арестовали членов семей партизан — больше тридцати крестьян сидело под охраной на двух грузовиках. Копыловского, хозяина дома, где мы ночевали, комендант приказал расстрелять тут же, в деревне, перед всем народом.
Стоял Копыловский с опущенной головой возле грузовиков. Комендант торопил полицейских с расправой:
— Шнеллер! Шнеллер!
Но вдруг неожиданно началась перестрелка, охрана, окружавшая грузовики с арестованными, разбежалась. Не теряя времени, крестьяне спрыгнули с машин и скрылись кто куда.
С ними бежал и Копыловский.
РАЗВЕДЧИКИ
На исходе дня мы отправились в лагерь. Я был полон нетерпения: хотелось как можно скорее увидеть вновь обретенный родной дом, увидеть его обитателей.
Если верить Косте, я, кажется, выдержал сегодня первый экзамен. По дороге он мне, между прочим, заявил:
— Видимо, немцы обошлись с тобой не очень ласково, ты их, оно заметно, не слишком любишь. При таких чувствах самое верное — иди в разведчики. Трудная, но веселая работенка, а парни у нас один к одному.
В лагере было пятнадцать шалашей. Изнутри их устилали еловые ветки, чтобы теплее было спать, в середине — огороженное место для костра, который поддерживался всю ночь, а возле него всегда стояло ведро воды — как только послышится гудение самолета, можно сразу же залить огонь. Оружие было составлено в пирамиду у выхода и охранялось часовым.
В центре лагеря находился штаб, вблизи от него располагались разведчики и комендантский взвод, в обязанности которого входило следить за порядком в лагере, нести днем и ночью караульную службу.
Мы были надежно скрыты в глубине густого лесного массива, место было сухое, недалеко протекал лесной ручей. До больших дорог далеко, до ближайшей деревни не меньше трех километров.
Из населения никто не имел доступа в лагерь, и хотя многие крестьяне догадывались о его местонахождении, на моей памяти не было ни одного случая, чтобы местный житель нас предал.
Жизнь в лагере требовала многих предосторожностей. Ранним утром и вечером, когда звуки разносятся далеко, было запрещено заготовлять топливо, рубить мясо. Зазвучит ли где-нибудь песня, затеется ли громкий разговор, раздастся ли смех — мгновенно на месте происшествия появляется комендант лагеря Иосиф Ломако. Обычно скромный и сдержанный человек, он приходит в ярость и поднимает страшный шум, гораздо больший, чем тот, что привлек его сюда. Разведчики, конечно, чаще, чем все другие, вызывают его недовольство. В их шалашах по вечерам собираются друзья, которые зачастую по нескольку дней не видятся друг с другом. Возбужденные и веселые, они с увлечением рассказывают обо всем, что произошло с ними в дни разлуки. А рассказать есть о чем.
В этот вечер среди разведчиков не прекращались разговоры о засаде. Настроение было приподнятое. Женщины, не принимавшие участия в операции, приготовили превосходный ужин — мясо с картошкой. Только ощущалась нехватка соли да мало было хлеба.
Вскоре стали собираться «гости».
Часовой у входа сообщил:
— Внимание! Сюда идет Кирик. Странно — он почему-то не свистит… Видать, получил головомойку от Ломако.
Я повернул голову, чтобы посмотреть на Кирика, о приходе которого так торжественно возвестил часовой.
В шалаш вошел мальчик лет десяти. Нос у него с горбинкой, брови густые, сейчас они хмуро сдвинуты; руки засунуты в карманы поношенных галифе, на ногах новенькие сапожки, густо смазанные жиром.
— Что же ты, Кирик, — заметил Костя, — где твой «добрый вечер»?
Мальчик что-то буркнул под нос и по-мужски крепко пожал каждому руку. Не поздоровался он только с Даниловым.
— Не грязные ли руки у Кирика? — Костя явно ехидничал. — Он что-то боится показать их мне… Глянь-ка сюда, Кирик! Видишь, какой компас? Только сегодня раздобыл у фрица, возьми, я тебе давно уже обещал…
Кирик взял компас, но злиться не перестал: он не мог простить Косте, что тот не взял его сегодня в разведку.
Видя, что все попытки помириться с Кириком ни к чему не приводят, Костя перешел в наступление:
— У тебя тут отец без малого комендант да три брата. Можешь идти к ним ночевать… И вообще, знаешь, комиссар приказал не пускать к нам в шалаш посторонних. Мало ли что нам, разведчикам, известно, мало ли о чем мы разговариваем…
Кирик надул губы — вот-вот расплачется. И тогда Костя схватил его за руку и привлек к себе.
— Ну-ну, шкет, даю тебе слово — завтра ты идешь со мной. Ладно?
Мальчик, в глазах которого уже блестели слезы, широко заулыбался, на щеках его появились две ямочки, лицо осветилось радостью.
— Ладно! Ладно! Посмотрим… — И Кирик от удовольствия покраснел. Только сейчас он толком разглядел подарок — новенький немецкий компас с вмонтированным в крышку зеркальцем.
Впоследствии с этим компасом Кирик выкинул такую шутку, что прославился не только в нашем отряде, а и во всех соседних.
В Дубняках жила женщина, такая скупая, что отказывала партизанам даже в стакане молока. И мальчик решил ее проучить.
Дознавшись от ребят, где она хранит съестные припасы, Кирик пришел к ней и попросил как мог жалобнее дать ему чего-нибудь поесть. Когда женщина стала клясться, что у нее ничего нет, Кирик извлек из кармана принесенный им тайком от Кости компас и, подражая старой, искушенной гадалке, заявил, что «машинка показывает» следующее: в шкафчике, на третьей полке, лежит хлеб, а в бочке, что в сенях, имеется молоко, творог и даже масло. Он вертел в руках компас и пояснял, что обо всем этом дает ему знать стрелка. Это может показаться невероятным, но женщина приняла все, что говорил Кирик, за чистую монету. Ну и смеялись же мы тогда!
…Раздался хруст ветвей. У входа показался чернявый паренек с густой копной курчавых волос, загорелый и рослый. На вид лет четырнадцати, не по летам серьезный и задумчивый, он застенчиво улыбнулся и негромко поздоровался.
— Еще одна оскорбленная душа, — произнес Савицкий, — его тоже забыли взять в разведку. Командир приказал ему подрасти малость, а он волынит, не выполняет приказания. Тянуть его, что ли, за уши?
— По-моему, его надо кормить почаще картошкой с мясом — ростом, может, выше и не станет, но потолстеет…
К этим шуткам паренек, очевидно, привык и не обижался. Он уселся рядом с Кириком, и они вместе стали любоваться компасом. Костя и его не обошел подарком — нож в футляре доставил немалую радость мальчику.
— Этот паренек, — рассказал мне Костя шепотом, — как бы с того света к нам прибыл. Адиком звать его. Когда немцы поубивали у них в городке всех евреев, он один чудом уцелел — отец и мать прикрыли его собой. Сначала он скрывался у соседей, потом крестьяне переправили его к нам. Хороший парень, только больно молчалив. Его бы вооружить и давать такие же поручения, как всем, — месть, брат, великое дело, она и раны лечит…
Мы засиделись до позднего вечера. Когда все узнали, что я москвич, меня наперебой стали расспрашивать о столице, о главных улицах, о вновь застроенных местах, красивых зданиях. Разговор захватил всех: как стрелка компаса неизменно поворачивается к северу, так мысленные взоры партизан были всегда обращены к Большой земле, к Москве.
Ночь была холодная, и меня тянуло все ближе и ближе к костру. Я задремал, ко мне в шинель залетела искра и добралась до нижней сорочки — я вскочил, как ужаленный.
Часовой выразил мне сочувствие, сказав, что с новичками это случается нередко и у партизан это называется «поймать лису». Мне пришлось попросить у него иголку с ниткой, и я еще долго сидел, старательно заметая следы своей ночной «охоты за лисой».
Понемногу привыкал я к жизни в партизанском лагере. Работал пока на кухне, помогал кухарке чистить картофель, таскать воду, колоть дрова, а по вечерам, сидя у костра, с увлечением слушал рассказы разведчиков.
В один из таких вечеров мне наконец сообщили радостную весть: я зачислен в разведчики.
Чист и по-осеннему свеж воздух в лесу. Тишину нарушает шуршание лапчатого листа клена да гулкие удары шишек о твердую землю. Короток день, а впереди долгая холодная ночь.
Пламя освещает небольшое пространство возле костра, делая совершенно непроницаемой темноту вокруг и вверху, между вершинами деревьев. Гул леса протяжен и однообразен.
Сегодня я впервые в разведке. Мы кого-то ждем, и я никак не могу понять, как он нас найдет. Правда, теперь-то я знаю, каким обостренным становится в лесу слух, зорким — глаз, тонким — обоняние.
Неразлучный друг Кости Данилова, рослый украинец, певун и балагур, свертывает козью ножку, закуривает и, ковыряя длинной жердью в горящих угольях, словно надеясь обнаружить там печеную картошку, благодушно говорит:
— Костя, може, й бреше, тильки у него це дуже гарно выходыть, нехай новенький чуе да на ус мотае.
Разговор сейчас идет о смелости, рассказывает Костя.
— Было это без малого год назад. Как-то вечером, после боя, выстраивает нас старшина — командир взвода накануне погиб, а старшина его замещал — и приказывает: «Савчик, выйди из строя!» А старшина, надо вам сказать, такой был человек, что по его лицу никак не разобрать — то ли он тебе благодарность, то ли наряд вне очереди объявит. Кроме того, любил он за душу тянуть: слово скажет, а следующего час дожидайся. На фронте, знаете, построение — событие редкое. Мы с Савчиком в эту часть пришли недавно, а до того в окружении были. Савчика, не иначе, думаю, на проверку вызывают. Как же так, мы с «земляком» (так мы друг друга называли) воюем вместе с первого дня, уже после окружения в стольких боях участвовали, и теперь его проверять будут, а я в стороне… Нет, думаю, не по-солдатски это.
А Савчик уже положил правую руку на плечо впереди стоящего бойца, тот — шаг вперед и в сторону, Савчик сделал три шага и повернулся лицом к строю. Стоит он и ждет, а старшина то на него, то на нас смотрит и не спешит… Я не выдержал:
«Товарищ старшина, разрешите обратиться».
«Обращайтесь», — ответил он вроде снисходительно.
Набираюсь духу и говорю:
«Мы с Савчиком с первого дня войны вместе, до войны в одной части служили…»
Как раскричится на меня старшина:
«Разговорчики! Пререкания! Я еще не успел Савчику благодарность за отвагу объявить, а тут уже ораторствуют…»
Выясняется, в самый напряженный момент боя Савчик стрелял и зевал, во весь рот зевал, а кто-то из старших командиров заметил…
С того дня слава Савчика росла, как на дрожжах. Заговорили в роте, в батальоне, вскоре рассказывали о нем по всему укрепрайону, и неизменно вызывало восторг то, что он во время боя зевал. «Ему, говорят, все нипочем, вокруг свистят пули, снаряды рвутся, а он — хоть бы что, во всю пасть зевает…»
…Однажды давали мы ходу — отходили, значит. А пуля из немецкого автомата возьми и попади в пятку нашему прославленному Савчику. И услышал я жалобные стоны:
«Земляк, спасай!»
«Хватай меня за шею», — говорю.
Если бы я знал, что мне его до медицины столько тащить, ей-богу, не стал бы. С меня седьмой пот льет, а он то ли от свежего воздуха, то ли от удовольствия, что я, дурак, тащу его, становится все тяжелее и тяжелее. Я его, можно сказать, спасаю, а он, как утопленник, меня ко дну тащит.
«За шею-то держи, да насмерть не дави! — кричу я со злостью. — Я тебя, скотина, знаю, у тебя наглости хватит».
Савчик мой молчит. Не истек ли он кровью, пугаюсь, не умер ли? Можно было, конечно, кого-нибудь и на помощь позвать, но я решил, что самое трудное позади, один дотяну… И дотянул.
«Доктор, — говорю, вытирая пот, — принес я тяжелораненого».
Санитар осторожно с него снял сапог, укол ему сделал, вижу — портянка в крови, а сам Савчик сидит и зевает.
Уж сколько я смертей нагляделся, а к виду крови так и не привык. Глаз не отвожу от окровавленной портянки, и мысли одна страшнее другой так и вертятся в голове: а что, если земляку сейчас отрежут ногу, а что, если у него началось заражение крови?.. А Савчику, видно, на все наплевать — сидит, двигает челюстями.
В это самое время налетели немецкие самолеты и давай нас клевать — бомбили, из пулеметов обстреливали, опять бомбили, снова из пулеметов, — казалось, конца не будет. С доктора пот градом льет — стоит в белом халате и, засучив рукава, продолжает оперировать. Был момент, когда один из санитаров хотел совершить спасительный бросок, но доктор исподлобья так посмотрел на него, что тот попятился.
В перерыве между заходами самолетов говорю Савчику:
«Ты чего форсишь? Видишь, тут каждый делом занят, а ты людям на нервы действуешь. Закрой свое поддувало!»
«Хоть ты и притащил меня сюда, — отвечает Савчик, — хоть ты и земляк мне, а, извиняюсь, дурак. Ведь я к этому доктору еще когда приходил, вылечить просил — в самый ответственный момент жизни на меня зевота нападает, — а доктор ответил, что не описана в мировой литературе такая болезнь…»
Тут услышал я пронзительный вой и только успел подумать: «Бомба идет на нас», как она взорвалась в сарае за домом. Схватил Савчик свой сапог и побежал от страха и дурости вдоль улицы…
Костя замолчал.
— А доктор? — спросили сразу двое.
— Доктора тогда здорово стукнуло. Подали к дому полуторку, наскребли мы сена, устлали им кузов, положили раненых, а с ними и врача — он был без сознания. Когда машина ушла, я спросил пожилого санитара:
«Скажи, это что, не от страха ли у твоего доктора такая бледность кожи?»
Санитар как разозлился:
«Сам ты, молокосос, бледный и такой же трус, как и дружок твой. Доктор наш болезнью болеет, альбинизм называется, каких-то пигментов, что ли, не хватает. Этого вам, неучам, не понять…»
Подал я санитару руку на прощание, а он меня глазами спрашивает, куда собираюсь.
«Пойду искать свой взвод, говорю, на краю деревни, наверно, оборону занимает».
«А сбежать ты все-таки хотел», — говорит он мне, хитро улыбаясь.
«Вот въедливый старый хрыч», — подумал я и вырвал руку.
Конечно, испугался, а ведь не сбежал — факт! По правде сказать, ребята, сбежал бы, спрятался бы во время бомбежки. Я не только имел право, но даже обязан был это сделать. Но когда я смотрел на эту бледную женщину, для которой в ту минуту ничего на свете не существовало, кроме раненого, я чувствовал, что до конца жизни буду презирать себя, если не останусь рядом с ней, пока не минет опасность. А что до страха, — продолжал Костя, — то, по-моему, одни глупые ничего не боятся. Кто побеждает страх, тот и смелый… Теперь я скажу вам, братцы, есть у меня мечта: жив останусь — пойду в медицинский. Коли понадобится, все начну сначала, а доктором буду. Потому и требую — в моем присутствии медицину не обижать, слышали?
— А что сталось с доктором?
— А как Савчик?
— Доктора доставили в госпиталь, а Савчик… Зачем он вам?
— Я ж вам казав, що Костя гарно бреше. — С земли поднялся парень огромного роста. — Факт бреше. Бо я не Савчик, а Савченко, а в ту ликаршу вин нияк влюбився. И що вин в ней побачив таке? Я вид ней втикав, а вин ее чуть не в святые…
— Был у нас такой уговор, — сказал Костя, — что он, как тень, должен следовать за мной, чтобы при случае таскать меня, как я его таскал, иначе история с пяткой станет известной… Ну что ж, теперь мы с тобой квиты. Осталась у меня одна надежда — авось меня пуля не возьмет.
Мое первое задание выполнено. Сегодня я вернулся в лагерь.
Было около полудня, когда со стороны Дубняков послышалась стрельба. Мы выскочили из шалашей и стали прислушиваться — строчил немецкий пулемет, на мгновение словно захлебывался, затем начинал снова. Кто-то пустил в ход две гранаты, одну за другой. По звуку, разнесшемуся далеко и гулко, мы легко узнали русские гранаты.
На дороге показался Ваня Чижик, разведчик из группы Кости, весь в крови. Оказалось, что на Дубняки нагрянул городецкий гарнизон.
— Немцы окружили село, куда мы ни пытались бежать, всюду на них натыкались, — рассказывал раненый.
Услышав выстрелы — сигнал тревоги, — Костя сразу выскочил из избы, Кирику, которого здесь хорошо знали, приказал остаться, а сам бросился в конец села, что ближе к лесу. Справа, через поле, в том же направлении, бежал его друг Яша Савченко, на которого немцы и направили огонь.
С десяток шагов Яша бежал, потом бросался на землю, отстреливался, поднимался и снова бежал. Но вот он упал и уже больше не стрелял. Вдруг, поднявшись во весь свой богатырский рост, Савченко, покачиваясь, медленно зашагал к лесу.
Данилов уже был у опушки, когда застрочил немецкий пулемет. В эту минуту с ним поравнялся Чижик.
— Ваня, — крикнул Костя, — помоги Яше, он ранен…
Сам Данилов, занеся гранату, бросился назад к немецкому пулеметчику, готовый ценой собственной жизни спасти товарища…
— Не спас Костя друга, да и самого его я уже мертвого в лес затащил, — закончил Чижик свой горестный рассказ.
Немцы и полицаи вошли в село, рассыпались по домам и согнали всех в бывший колхозный двор. Кирика босого стащили с печи, где он сидел с ребятишками.
Немецкий офицер через переводчика грозно обратился к притихшей толпе:
— Нет ли среди вас неместных?
Все стояли понурив головы и молчали. Вопрос был задан во второй раз, но уже с угрозой:
— Если не выдадите чужаков, расстреляем каждого десятого.
Раздался звонкий голосок Кирика:
— Дяденька, я тут всех знаю, здесь, во дворе, чужих нету.
К воротам подъехала подвода, на ней лежал мертвый Савченко.
— Ну, а этого ты знаешь? — вкрадчиво обратился сухопарый полицай к Кирику. — Скажи, малец, этот из вашего села?
— Нет, — едва выговорил мальчик, узнав Яшу.
В Дубняки наш отряд прибыл слишком поздно — немцы были далеко. Нас встретил Кирик, который умудрился все же точно подсчитать, сколько было немцев, как они вооружены. Мертвого Савченко фашисты захватили с собой, чтобы возить по деревням для устрашения жителей. Тело Кости мы привезли в лагерь.
Над нами плыли тяжелые осенние облака, сильный ветер пригибал к земле ветви деревьев. Силич опустился на колени и, подняв голову Кости, трижды крепко поцеловал его в светлый высокий лоб.
У свежей могилы дали суровую клятву:
— Мстить, беспощадно мстить!
Возле шалаша, где находился штаб, у костра, ссутулившись и охватив руками колени, сидел Коваль, наш комиссар.
— Эх, Костя, Костя… — шептал он.
Рядом, уткнувшись лицом в солому, лежала его жена, старший фельдшер нашего лазарета, и навзрыд плакала.
БУДЕТЕ УЧИТЬ ДРУГ ДРУГА
Моим первым командиром в отряде был Василий Савицкий. К партизанам, рассказывают, он явился вооруженный с ног до головы, восседая на облучке новенького фаэтона, запряженного парой горячих коней. Вместе с ним прибыл его друг, фельдшер, слегка прихрамывавший на правую ногу. Савицкий заявил, что этот недостаток товарища он берется возместить — будет драться за двоих, только бы того приняли вместе с ним в отряд.
Фаэтон был приспособлен под пулеметную тачанку, а Савицкий стал разведчиком. Он всегда первым вызывался на самые опасные задания, в бою вел себя так, словно верил, что заговорен от смерти. Слово «невозможно» для него, казалось, не существовало.
Везде, где требовалась отчаянная смелость, его неизменным и верным сподвижником был Ваня Чижик, самый молодой разведчик, славившийся в отряде силой, смекалкой, беззаветной удалью. В родной деревне еще в детстве за Ваней укрепилось прозвище «Лысенко» — у него и сейчас была заметная плешинка над виском. Сверстники, рисковавшие дразнить Ваню, ходили исцарапанные им до крови. Он своего добился, его стали величать по имени-отчеству — Иваном Иванычем.
Вначале Савицкий думал сделать из меня что-то вроде заведующего хозяйством отделения, но, к моему счастью, я в этой роли сразу провалился.
Прежде всего выяснилось, что я понятия не имею, как запрячь коня. Савицкий и Чижик лежали, растянувшись, на подводе и снисходительно улыбались, глядя, как я, претерпевая всяческие мучения, пытаюсь одержать верх над нашим упрямым Воронком.
— Иван Иваныч, может, вздремнем, пока он кончит?
— Пожалуй, поспим, а за это время, глядишь, и война кончится…
Я сердито оттолкнул от себя оглобли, взобрался на подводу и улегся на свежем сене рядом с ними. Новенький позволил себе такую дерзость, — это оказалось для них неожиданностью. Они переглянулись, и на лице Чижика я прочел: пусть только командир позволит, и ты мигом слетишь с телеги.
Савицкий соскочил на землю, затянул широкий ремень со звездочкой на пряжке, расправил гимнастерку, затем тихо и зло отчеканил:
— Встать!
Я учился в военной школе и знаю, как надо стоять перед командиром. Быстро спрыгнув, я остановился в нескольких шагах от Савицкого, вытянулся, опустил руки и поднял голову.
— Что я вам приказал?
— Запрячь коня.
— Почему не выполняете приказания?
— Не умею, прошу показать…
Чижик лежал на траве и корчился от смеха. Если Савицкий настоящий командир, мелькнула у меня мысль, он Ване этого не спустит — дисциплина одинаково обязательна для всех.
В ту же минуту сержант повернул к нему голову и крикнул так, что многоголосое эхо раскатилось по лесу:
— Встать!
У Чижика улыбка застыла на губах. Не совсем еще уверенный, что приказание относится к нему, он не спеша встал и начал медленно отряхивать травинки, приставшие к одежде, подтягивать голенища до блеска начищенных сапог, приспущенные гармошкой.
Показав на меня, сержант строго произнес:
— Учись, как надо стоять перед командиром.
— Меня никто не учил, — обиженно оправдывался Чижик.
— Так и нечего смеяться над товарищем. Вместе запрягите, будете учить друг друга.
У Ивана Иваныча сердце отходчивое — не прошло и полчаса, как он снова покатывался со смеху. Чижик вообще любитель посмеяться. Если верить Савицкому, он только за веселый нрав и взял Чижика к себе в отделение.
Было около полуночи, когда наше отделение прибыло в деревню, где находился небольшой вражеский гарнизон, с заданием заготовить продовольствие. Благополучно управившись с заданием, мы к утру достигли одного из наших партизанских сел, откуда меня с Завьяловым отправили в разведку километров за десять.
Когда мы вернулись, солнце уже садилось. В комнате, где нас дожидался Савицкий с товарищами, стояло сизое облако табачного дыма, сержант залихватски плясал, ребята казались веселее обычного. Чижик отозвал нас в сторону и таинственным шепотом сообщил:
— Вашу долю самогона я припрятал…
Мы пить отказались.
— К десяти часам вечера мы должны вернуться в лагерь, — напомнил Завьялов Савицкому.
Последний прикинулся, будто не слышит. Мы вышли, запрягли коней, устлали повозки свежим сеном, затем вернулись в хату, и Завьялов громко, чтобы все слышали, обратился к Савицкому:
— Товарищ сержант, разрешите доложить.
— Докладывай.
— Все готово, можно ехать.
— Позднее, побудем еще немного…
— Товарищ командир, не имеем права, одевайтесь, — поддержал я Завьялова.
И снова сердился на меня Чижик, клялся, что еще раньше знал — с этим новичком не оберешься хлопот…
— Он уже не новичок, — откликнулся Савицкий, и смущенная улыбка приоткрыла его крупные белые зубы.
Лошади бегут быстрой рысью, под копытами сухо шуршит листва, густо устилающая дорогу. По небу несутся пунцовые облака. Поднимается пронизывающий ветер.
Прибыв в лагерь, мы выстроились, и Савицкий рапортовал Боровскому о выполнении операции.
Наш старшина, уже успев тем временем порыться в наших повозках, спешил сюда.
— Товарищ командир, сколько Савицкий, по его словам, взял свиней? — обратился он к Боровскому.
— Одну.
— Так вот, я вам докладываю — двух!
Боровский один из самых строгих и взыскательных командиров в отряде. От своих разведчиков он требовал, чтобы и в лагере, и в особенности за его пределами их поведение было безупречным. Проступок он иногда мог простить, но ложь — никогда. Это знают все.
— Сержант, сколько вы взяли свиней?
— Одну.
Командир разведки пригласил Савицкого и старшину к себе в шалаш. Мы остались ждать — команды разойтись не было.
— Чижик, — шепнул я, — сколько было свиней?
— Ты же слышал, что одна. — Ваня в сильнейшем раздражении махнул рукой.
Савицкий вышел из палатки, при свете костра были видны красные пятна на его лице.
— Товарищ командир, можно разойтись? — раздался чей-то голос.
— Я уже не командир, — ответил он не останавливаясь.
Боровский вызвал к себе поодиночке каждого из нас, и всем был задан один и тот же вопрос:
— Сколько взяли свиней?
Все отвечали:
— Одну.
Нам было не до ужина — мы лежали у костра, слушали, как потрескивают ветки в огне. Появился Кирик. Он переходил от одного к другому на цыпочках, как если бы тут лежали тяжелобольные, и, чтобы показать свою солидарность с нами, всячески ругал старшину, обвиняя его во всех смертных грехах.
Савицкого вызвали в штаб, а меня потребовал к себе комиссар. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошел, — на полу на охапке сена лежали две свиные головы. Он велел мне сесть.
— Как вы себя чувствуете среди разведчиков? — спросил комиссар.
— Хорошо.
— Вы окончили военную школу?
— Нет. Перед выпуском нас отправили на фронт.
— Партизан должен быть кристально чистым человеком, не должен лгать. Так? — Он пытливо смотрел на меня.
— Так.
— Сколько вы взяли свиней?
— Я знал об одной.
— А это? — В его голосе прозвучала жесткая нотка.
— Не знаю.
— Боровский решил перевести вас в другую роту.
У меня сдавило в горле. Знаю, что комиссар не даст без вины наказать партизана. Смотрю на его суровое, мужественное лицо, высокий лоб, редеющие над висками волосы и хочу снова повторить, что нет ни в чем моей вины, но язык не ворочается.
— Вы сегодня выпивали? — снова заговорил Леонид Петрович.
— Нет.
— Вы свободны.
Я вышел из палатки, недолго постоял, затем неуверенным шагом вернулся.
— Товарищ комиссар, разрешите обратиться.
— Обращайтесь.
— Если уже есть приказ о моем переводе из разведчиков, прошу вас, пошлите меня к подрывникам.
Комиссар внимательно посмотрел на меня и ответил:
— Идите отдыхать!
— Ну, что? — встретили меня товарищи.
— Я уже больше не разведчик…
— Послушай, — заговорил Савицкий, — свиней было две, одну решили оставить в селе, где мы собирались пробыть бог весть сколько. Наша вина в том, что правды не рассказали, никто бы нас не наказывал…
— Факт, — подтвердил взволнованно Кирик. Вскоре он сонно и мягко шептал что-то невнятное, а еще через минуту, свернувшись в клубок, спал крепким сном.
— Пошли к комиссару, — позвал Чижик Савицкого. — Это была моя затея, значит, мы с тобой виноваты, а он должен остаться разведчиком.
С этой минуты они оба неизмеримо выросли в моих глазах.
Савицкий был на месяц отстранен от обязанностей командира, я его заменял. За это время он подорвал вражеский эшелон. Когда наказание было с сержанта снято, мне дали другое отделение разведчиков, и с тех пор до последнего дня партизанской войны со мной неразлучно был Чижик.
ХЛЕБ
Тревожно стало в районе наших лагерей — гитлеровцы предприняли карательную экспедицию.
Немецкий комендант района, где действовал наш отряд, издал приказ, предлагавший крестьянам сдать хлеб. В противном случае, грозил приказ, будут приняты соответствующие меры. Всем было ясно, что это означало жечь дома и убивать людей.
Потянулись подводы с хлебом к элеватору. Их сопровождала усиленная охрана. Недалеко от элеватора все обозы слились в один, и немцы разошлись по своим гарнизонам, оставив хлеб под охраной полицаев.
Наш отряд залег и замаскировался близ главной дороги. Вот подводы с зерном поравнялись с нами. Прозвучала команда Силича, и мы, встав во весь рост, рванулись к обозу. Полицаи не успели сделать и одного выстрела. Крестьяне были откровенно обрадованы встречей — хлеб достался не врагу, а их же братьям, сыновьям — народным мстителям. Когда они разошлись по домам, мы повернули обоз в лагерь.
Специально выделенная группа партизан немедленно занялась укрытием хлеба — ямы для этой цели были в разных местах приготовлены еще до нашего прибытия.
Сомнений не могло быть — гитлеровцы попытаются отбить хлеб. И действительно, к концу следующего дня в гарнизон на автомашинах прибыли немцы. Ехать дальше на ночь глядя они не решались и заночевали в Городце.
В то время силы наши были еще малочисленны, мы были слабо вооружены, и принимать открытый бой не имело смысла, тем более что к фашистам могли прийти на помощь соседние гарнизоны. Другое дело — засада. На врага нападаешь неожиданно, поднимаешь такой шум, что ему не разобраться — имеет ли он дело с ротой, с батальоном или с более крупным подразделением; если же дело складывается неудачно, можешь отступить, исчезнуть, а при новом удобном случае опять неожиданно обрушиться на него. Засады были в те дни одним из главных методов нашей борьбы.
На рассвете, разделившись на две группы — одну из них возглавил Силич, другую повел Коваль, — мы отправились в ранее намеченные места. В лагере остались раненые, старики и дети. Адика на этот раз назначили вторым номером у ручного пулемета, установленного в лесу близ дороги в лагерь. Винтовки у него не было, но заряжать и подавать пулеметчику диски он сможет.
Коменданту Ломако Силич приказал: в случае, если враг не отступит и сражение затянется, увести людей в расположение нового лагеря километрах в пяти от старого.
Командир и его группа замаскировались неподалеку от кладбища на окраине Пересопни, комиссар со своими людьми отправился дальше — помешать другим гарнизонам прийти на помощь городецкому.
Гитлеровцы выступили почти одновременно с нами. Ни грузовиков, ни другого транспорта они не имели, полагая, видимо, что зерно еще находится в мешках и лежит на тех же подводах. Но, вопреки нашим предположениям, они, не дойдя до Пересопни, свернули на дорогу, которая вела прямиком в наш лагерь, и оказались от него в двух километрах.
Наша застава из пяти человек располагала пулеметом и тремя винтовками. Никому и в голову не приходило, что им первым придется встретиться с врагом. Скрытые густым орешником, они лежали и жадно прислушивались — не завязался ли бой?
Приближающихся немцев заметили наблюдавшие за дорогой двое партизан. Затрещали винтовочные выстрелы — условный сигнал тревоги. Немцы не ответили, а рассыпались цепью и продолжали двигаться вперед.
Один из партизан-наблюдателей побежал в лагерь, второй — к командиру отряда.
— Пока лагерь не будет переброшен на другую сторону реки, нужно задержать немцев, — приказал своим товарищам старший на заставе, он же первый номер при пулемете, — нам придется продержаться некоторое время. Не сомневайтесь, Силич уже спешит сюда.
Немцы продолжали приближаться.
Еще минута — и старший на заставе, рванув к себе рукоятку пулемета, нажал на спусковой крючок.
Раздались стоны, кто-то впереди упал. Немцы остановились. Вообще в лесу, среди деревьев и кустов, гитлеровцы утрачивали свой пыл.
Как бы то ни было, но партизанское «добро пожаловать» прижало их к земле. Они ответили огнем, разумеется, более частым, — стреляли из винтовок, автоматов, пулеметов, даже из минометов.
Еще дважды пытались они подняться, но пятеро партизан своим огнем каждый раз останавливали их. Один уже ранен в руку, его винтовка перешла к Адику, зарядившему два последних диска. Вдруг старший на заставе застонал, изо рта его хлынула кровь. Пулемет замолчал, и враги ринулись вперед, еще несколько шагов — и они достигнут окопа…
Молодой партизан Михаил Полещук отбросил в сторону винтовку и занял место товарища. Бешено застрочил партизанский пулемет.
Силич сидел со своими людьми в укрытии возле кладбища.
— Савицкий, — обратился он к сержанту, — как вы расставили бы людей, если бы руководили засадой?
Так уж у нас было заведено — вплоть до той минуты, когда показывался противник, все в засаде шло так, как если бы это были занятия по партизанской тактике.
Савицкий не успел ответить. Вдали прозвучали три выстрела — тревога.
— А что вы предприняли бы сейчас? — невозмутимо продолжал Силич.
— Выяснил бы обстановку.
— Скорее же! Отправляйтесь со своим отделением!
Партизаны заняли свои места. В эту минуту прибыл гонец с вестью, что немцы у заставы. Силич, бросив на ходу несколько слов командиру разведки Боровскому, отдал команду:
— Кратчайшей дорогой — к лагерю!
В лесу грохотала стрельба — застава вела неравный бой с врагом. Силич уверен в своих партизанах, но как долго смогут пятеро людей удерживать роту вооруженных до зубов гитлеровцев?..
Навстречу нам мчался второй связной. Еще издали он крикнул:
— Лагерь полностью перебрался!
Силич отер со лба крупные капли пота, разгладились тонкие морщины, только что покрывавшие его выдубленное ветром и солнцем лицо, — опасность, нависшая над лагерем, миновала.
С криком «ура» мы бросились на врага. Немцы, боясь отстать один от другого, собирались, словно овцы, в кучу, наши же, наоборот, рассыпались по лесу, и каждый, как притаившийся охотник, выжидал минуту, чтобы без промаха сразить показавшегося фашиста.
До вечера длился бой. Когда совсем стемнело, мы отошли в лагерь, а оставшиеся в живых немцы все еще блуждали по лесу, охотились друг за другом, принимая своих за партизан, вели беспорядочную стрельбу.
Начальник штаба допрашивал пленных.
— Вы знали, где находится наш лагерь, или случайно повернули сюда? — Вопрос задан низкорослому костлявому ефрейтору.
— Мы заметили на дороге просыпанное зерно и предположили, что оно нас прямиком приведет к хлебу. Когда вы на нас напали, мы поняли, что нас, словно кур, зерном заманили в ловушку, но уже было поздно…
Кругом рассмеялись. Никто не стал доказывать, что на самом деле это не так. И в деревнях все были убеждены, что мы нарочно рассыпали зерно, чтобы заманить немцев в лес.
С неделю мы жили в новом лагере. Стояла осень. В один из вечеров завыли холодные ветры, ночью ледок затянул лужи. Зима пришла неожиданно ранняя. Выпал снег, и наступили холода. Среди нас не многие имели теплую одежду, в шалашах жить стало невозможно, и мы перебрались в зимний лагерь, который хозяйственный взвод готовил для нас уже долгое время.
В УСАКИНСКИХ ЛЕСАХ
Леса… Леса…
Дремучие, густые Усакинские леса сливаются где-то там, за горизонтом, с другими лесными массивами Белоруссии.
До войны даже в самом Кличевском районе не все, вероятно, знали о существовании села Усакина. Зато, когда фашисты оккупировали Белоруссию, село Усакино и Усакинские леса стали знамениты не только в Могилевской области, но и далеко за ее пределами.
Вспоминается разговор с пленным немецким солдатом. Среди других ему был задан такой вопрос:
— Скажите, какие вы знаете города в Советском Союзе?
Он назвал:
— Москва, Ленинград, Сталинград, Севастополь и… Усакино.
Однажды мы подбили немецкий самолет. У летчика была обнаружена карта, на которой черными крестиками были помечены партизанские села. Усакино же было, кроме того, еще обведено красным кружком. И действительно, село бомбардировали большее число раз, чем насчитывалось в нем хат. Но после каждой бомбежки там вырастали новые землянки, и Усакино продолжало существовать.
Наш зимний лагерь находился в лесу, километрах в двенадцати от Усакина. Пусть свирепствуют жестокие морозы, лютые вьюги — им в землянки не забраться, у нас тепло, докрасна накалены железные печки.
Немцы неожиданно нагрянули на деревню недалеко от Усакинского леса. Нужно было немедленно установить их численность, вооружение, а главное — выяснить намерения. Наши кони запряжены в санки.
Натянув на себя белые маскировочные халаты, мы отправились в путь.
Последние несколько дней не прекращалась метель, даже в лесу занесло все дороги. Сухой снег бил и колол лицо. Заденешь невзначай головой или автоматом ветку, пушистый покров сорвется с дерева и осыплет тебя с головы до ног ледяной серебристой пылью.
Наш путь лежал через Мачиск. Мы с трудом туда добрались. Двигаться дальше без проводника было невозможно, а найти его оказалось не так-то легко — кроме стариков и женщин с детьми никого в хатах не было. Еще днем здесь узнали, что близок враг, и все, у кого только хватило сил, ушли в лес. Как ни жаль было, пришлось в одной из хат попросить старика одеться и ехать с нами. Он не заставил себя упрашивать. Польщенный тем, что мы ему доверяем такое серьезное дело, он словно помолодел. В пути у старика — звали его Митрич — обнаружился досадный недостаток: он был необычайно словоохотлив и обижался, когда его останавливали.
Выехав из леса и убедившись, что теперь уже сами доберемся до деревни, мы поблагодарили деда и отпустили домой. Велико же было наше удивление, когда он отказался уйти. Выяснилось, что ему страшно идти одному. Взять его с собой мы не могли — это могло быть опасным для него и обременительным для нас, тем более что в дальнейшем нам мог понадобиться другой проводник.
Когда все же удалось убедить его покинуть нас, он прошел несколько шагов и остановился.
— Товарищ командир, скажите мне ваш пароль.
— Какой?
— Тот, что вы говорите друг другу при встрече…
Выполнить его просьбу было невозможно. Наш пароль был действителен для всех партизан и менялся не чаще одного раза в пять дней, за исключением тех случаев, когда он становился известен врагу. Но Митрич упрямо твердил свое:
— Не хочу, чтобы партизан, родной человек, меня загубил.
— Хорошо, — нашелся вдруг Чижик, — я тебе доверю наш пароль.
Мы в замешательстве смотрели на Ваню. Лицо его было серьезно, невинно глядели голубые глаза.
— Запомни, дед, — произнес он громким шепотом. — «Бум-бум».
— «Бум-бум», — повторил старик. — А что тот должен мне ответить?
«Ну, — подумал я, — счастье, что в лесу его сейчас никто не встретит».
— «Пятнадцать на тридцать», — ответил ему не моргнув Чижик.
Митрич пустился в путь, и ветер донес его бормотание:
— «Бум-бум». — «Пятнадцать на тридцать». — «Бум-бум»…
Полтора года спустя, уже после соединения с частями Красной Армии, мы снова оказались в Мачиске. У развалин дома я увидел в кругу бойцов деда.
— Не думайте, — говорил он, — что мы тут сидели сложа руки. Уж на что я, старый человек, и то однажды ночью ходил с партизанами в разведку.
Солдаты переглянулись.
— Что, не верите? Могу вам даже сказать ихний пароль.
— А ну-ка! — подзадорил его боец.
Старик поглядел по сторонам и, убедившись, что никого посторонних нет, гордо поднял голову и громко проговорил:
— «Бум-бум». — «Пятнадцать на тридцать»!
В ответ на этот «пароль» раздался оглушительный хохот. Дед стоял удивленный и глубоко оскорбленный. Мне от души стало жаль его. Быстро соскочив с коня, я подошел к собравшимся и заявил:
— Не смейтесь, товарищи. Была такая ночь, и был у нас такой пароль. Все, что он вам тут рассказывал, истинная правда.
Стоило посмотреть, как мгновенно изменилось выражение его лица. В изумлении раскрыв глаза, он глядел на меня как на чудо, растроганный и взволнованный.
Митрич узнал меня.
ДЯДЬКОВЫ ХЛОПЦЫ
Враги постоянно пытаются сбить нас с толку. То они движутся в одном направлении и вдруг неожиданно резко сворачивают в сторону, то пугают блокадой, когда силы их малочисленны и боятся нос высунуть из своих дотов, то у них замирает всякое движение, когда в действительности стоят наготове крупные специальные части, чтобы в течение часа двинуться в наступление против партизан.
С непостижимой быстротой из уст в уста, из села в село передаются различные новости: немец в гарнизоне справлялся о пути в какую-то деревню, немец напился и спьяну выболтал что-либо — все это сразу же становится нам известно. Множество таких сведений приходится тщательно сортировать, отделять ложь от правды, преувеличенное от подлинного и безошибочно устанавливать, где в этой правде то, что представляет для нас интерес. Нам стало известно, что крупная немецкая часть направилась к Галинке. Место здесь топкое, не везде и зимой проедешь. Когда гитлеровцы подошли к первым домам деревни, а их артиллерия переправлялась через мостик над небольшой речушкой, партизаны, засевшие на огородах, в хлевах, на чердаках, открыли огонь по фашистской пехоте. Немцы заметались под огнем. На мосту опрокинулась подбитая нашим минометом машина, возле нее упали две лошади, и отступать через мост нельзя было, осталось одно — перебраться через незамерзшую трясину.
Потерпев серьезную неудачу, фашисты стали готовить новую, более крупную операцию. На этот раз они задумали нагрянуть на нас одновременно со всех четырех сторон.
Поздно вечером нас, троих разведчиков, вызвали в штаб. Здесь мы узнали, что все отряды покидают Усакинские леса. Нам приказали отправиться в расположение нескольких партизанских групп, находившихся километрах в ста отсюда, и предупредить их о создавшемся положении.
Предстоял трудный путь. Одеты мы были легко, и жестокий холод пробирал до костей, но он имел для нас и свои достоинства: ни один немец сегодня не усидит в засаде.
В полночь мы достигли опушки леса. Прислушались — тихо, деревья потрескивают от мороза, словно кто-то тяжелым и острым топором врубается в стволы. От коня идет пар, он опускает голову, пытаясь лизнуть снег, осевший плотным ровным слоем. Резкий скрип полозьев разрывает тишину — сани трогаются с места. Ухватив коня за поводья, Савицкий нашим тулупом — у нас один на троих — укрывает его.
— Ух, и злой ветер!..
Мы так промерзли, что хочется хоть на полчаса забраться куда-нибудь в тепло. Ноги окоченели. Мороз все крепчает, а мы вот уже двое суток не переступали порога человеческого жилья, ни разу не разожгли костра…
О том, что немцы вчера были в Малиновке, мы знали, но остались ли они ночевать в этой маленькой деревушке, никто нам здесь, в ледяной пустыне, не скажет.
Пока мы топтались возле саней, чтобы хоть сколько-нибудь отогреть ноги, Иван Завьялов натянул на голову капюшон белого маскировочного халата и исчез среди снежных сугробов. Я двинулся по его следу, — если что-нибудь случится, приду ему на помощь своим ручным пулеметом.
Нам повезло — в деревне немцев не было. Хозяйка хаты, в которую мы зашли, возилась в углу. То ли от холода, то ли с перепугу, но, мы явственно это слышали, у нее стучат зубы. На все вопросы она отвечала одним: «Не ведаю».
Савицкий напомнил ей:
— Не думал я, хозяюшка, что ты такая беспамятливая, а ведь ты меня однажды летом березовым соком потчевала…
Она с минуту молчала, потом ответила:
— Много всяких людей за это время здесь перебывало, разве всех упомнишь? Да и как попить не дать? Грех…
Хозяйка разгребла уголья в печке и зажгла смолистую лучину. По комнате распространился острый запах скипидара.
— Лапоть куда-то запропастился, — бормотала она, — никак не найду.
Нагнувшись, она горящей лучиной осветила пол, и я увидел — оба лаптя рядышком стоят. Она же успела в этот миг осветить наши лица.
Хозяйка узнала Васю, широко ему улыбнулась, тепло засветились ее большие темные глаза. Она снова нагнулась к полу и кулаками застучала по доскам.
— Михась, выходи — дядьковы хлопцы…
Так называли нас, партизан, местные крестьяне. Две доски пола поднялись, и Михась, высокий худощавый человек лет сорока, вылез к нам.
— Плохое укрытие, — заметил Завьялов.
— Три дня просидел в лесу, в шалаше, еле живой дотащился до дому, — рассказывал Михась. — Думал, переночую, а наутро назад в лес… Тут вдруг слышим — стучат. Ну, решил я, попался. А она толкает меня в спину: «Полезай, говорит, в подпол, в картошку заройся…» Я даже не успел рубаху на себя натянуть…
Хозяйка поставила перед нами полную миску горячей картошки. При виде густого пара, клубившегося над ней, мы зажмурили глаза от удовольствия.
— Ешьте, — приглашала она, — ешьте…
Странное дело: пулемет я держу крепко, а горячую картофелину ко рту поднести не могу — руки от холода опухли. Когда мы кончили есть, я попросил Михася помочь мне стащить сапоги. Он принес таз с холодной водой, и я опустил туда ноги.
— Ну как, здорово колет? — спросил он и стал растирать их гусиным салом.
— Есть немного.
— Это хорошо. В таких сапожках недолго и без ног остаться…
От Михася мы узнали, что прошлой ночью в Барках убили партизана. Сейчас там немцев нет и дорога туда свободна, но утром они могут туда снова явиться, так что надо спешить… Он вышел во двор, дал нашему Воронку корму, подложил сена в сани и прислушался, тихо ли в деревне.
По совету хозяйки мы прилегли отдохнуть.
— Поспите хоть часок, — уговаривала она нас.
Сквозь дрему я слышал, как она препиралась с мужем.
— Еще хоть немножко… Такой холод… Жалко…
— А если они до утра не доберутся в Барки, будет лучше?
— Вставайте! — поднял нас Савицкий.
Мы вскочили, затянули ремни. Михась нам весело подмигнул: он успел наполнить наши фляги самогоном, в сани под сено насыпал овса, положил буханку хлеба и изрядный кусок сала.
На столе снова появилась еда — горячая картошка, маринованные грибы, соленые огурцы. Мы взялись за наши фляги, но Михась восстал:
— Нет уж, это вам на дорогу. У меня есть еще немного про запас, вот мы с вами и выпьем.
Теперь наша очередь рассказать, что на свете нового. То, что на Большой земле известно уже с добрый месяц, здесь, в заброшенной деревушке, где безудержно лютуют гитлеровцы, оказывается долгожданной радостью, зажигает сердце надеждой, и люди жадно глотают каждое наше слово.
Мы оставили здесь несколько экземпляров нашей подпольной газеты, десяток листовок — утром Михась в лесу раздаст их крестьянам других деревень.
Дружески попрощались мы с нашими гостеприимными хозяевами — и дальше в путь.
Долго длится зимняя ночь. Кажется, едем уже целую вечность, а рассвет еще не скоро. Время от времени бежим за санями. Ваня, втиснув широкое, скуластое лицо в сложенные пригоршней ладони, закуривает, потом взмахивает кнутом в воздухе, кнут свистит, и лошадь, взметнув снежную пыль, рывком ускоряет бег. Сани скрипят, и мы прибегаем к уловке — спрыгиваем, отстаем метров на двести: если немцы поблизости, они непременно услышат этот скрип и в лучшем случае спросят у нашего четвероногого друга пароль, скорее же всего они его обстреляют.
Тихо.
Чем дальше мы от Усакина, тем спокойнее вокруг. Здесь нам рассказывают, что полицаи уверяют, будто в районе Усакина все партизаны уничтожены. Крестьяне не впервые слышат эти сказки и знают им цену. И действительно, как только начинается блокада, вся деревенская молодежь уходит в лес, и многие остаются в партизанах.
На Хуновских хуторах, разбросанных на несколько километров в округе, мы нашли наш взвод. Собственно, это уже был не взвод, а целый отряд, объединивший вокруг себя несколько партизанских групп. Пользуясь тем, что в гарнизонах осталось мало немцев, он не перестает их тревожить — не проходит и трех-четырех дней без того, чтобы взвод не «навестил» какой-нибудь гарнизон. Вооружены партизаны отменно, кони у них отборные.
Минуя деревни, двигаемся вместе с ними в Рогачевский район. В пути, близ Забуднянских хуторов, слышим выстрелы. С неделю назад здесь немцы убили двух партизан. Втроем отправляемся выяснять, что происходит.
Кто-то идет навстречу. В лесу, если хочешь услышать и увидеть, стань сам невидим и неслышим. Прячемся за деревья. Оказывается, это группа местных жителей.
Окликаем идущего впереди.
Тот поворачивает назад и бросается бежать, за ним остальные.
— Стой, бестолочь ты этакая!
Мы называем его по фамилии, — это хорошо знакомый нам человек, его сын у нас в отряде.
Выяснилось, что сюда прибыло небольшое немецкое подразделение, оно занято сейчас разборкой школы на строительный материал для дотов.
Наш план прост. Группа партизан отправляется в тот конец деревни, где находится школа, а мы с другой группой — в противоположный. Те будут гнать гитлеровцев к нам, а мы должны успеть добраться до первых хат и встретить их.
Немцы были так уверены в своей безопасности, что даже не выставили часовых. Когда наш легкий миномет дал три выстрела, они кинулись к саням и через минуту мчались по направлению к нам — другого пути у них не было, кругом лежал глубокий снег. При виде нас они бросили сани и побежали огородами по снегу, мы — за ними.
За одним из них гнался Савицкий. Оба спотыкались, часто падали на снег и целились друг в друга. Прежде чем мы успели добежать, сержант всадил пулю в спину врага. Тот упал.
— Стойте, — предупредил нас Вася, — это мой давнишний знакомый, и я с ним самолично рассчитаюсь. Какая жалость, что наши сани далеко, его бы живым прихватить с собой…
Немец оказался комендантом Жилицкого имения. До войны тут был один из лучших фруктовых совхозов Белоруссии. Родом из этих мест, Савицкий не мог без дрожи видеть, как фашисты губят чудесные сады. К тому же до своего прихода к нам Савицкий побывал в лапах этого коменданта. Таким образом, счеты у них оказались давние.
— Вася, — торопили мы его, — пора нам убираться отсюда.
— Вот свинья комендант! — Савицкий никак не мог успокоиться. — Пустился в такое путешествие и оставил дома свой автомат, когда он мне до зарезу нужен…
— Ладно, — утешали мы его, — нам еще попадутся фашисты и с автоматами.
В деревне, куда мы пришли через пару дней, полицаи обычно бывали днем, ночевать они уходили в соседний гарнизон. Мы поздно ночью вошли в большую пустую хату. Молодая женщина смотрела на нас, подняв над головой горящую щепку. Сумраком, холодом, нуждой веяло из каждого уголка, печь была без трубы, окна забиты досками. Здесь жила жена красноармейца, и полицаи дочиста ее обобрали.
В колыбели расплакался ребенок, и хозяйка, взяв его на руки, принялась укачивать. Не знаю, почему, но я глядел не на нее, а на согнутую тень на стене. Бедная женщина! Чем мы можем тебе помочь?
— У меня есть сушеные ягоды, — заговорила она, — может, возьмете немного? Вашим больным пригодятся.
— Хорошо, — ответил я. — Много нам не нужно, а вы возьмите у нас соли…
Она стала отказываться. Малыш, уложенный в колыбель, снова расплакался. Завьялов стал успокаивать его, снял с головы фуражку.
— Глянь, какая игрушка, — показал он на звездочку.
Мальчик несколько раз всхлипнул и замолчал, он старался сорвать звездочку.
— В каком доме живет ваш бывший кооператор? — спросил Савицкий.
— Вы тоже знаете о нем?
Распрощавшись с ней, мы направились к хате, темневшей на противоположной стороне улицы, и постучали в окно.
— Откройте! Ответа не было.
— Господин начальник, — громко проговорил Савицкий, — разрешите проучить за повадку не открывать полицаю…
— Открываю, открываю! — закричал кто-то в доме и стал возиться с запорами. — Пожалуйте, дорогие господа, пожалуйте… Вы, видно, не из этого гарнизона, все наши меня знают. Не сердитесь, что сразу не открыл, время позднее, я и подумал: а вдруг это лешие?..
— Все вы кричите, что боитесь партизан!
— Как так все? Кто с ними заодно, те их не боятся. А в нашем селе кому их и остерегаться, как не мне… Да и что тут долго толковать, сейчас огонь засвечу, сами убедитесь.
Завьялов снял фуражку, чтобы тот не заметил звездочку на ней.
— Видели вы где-нибудь такую хату? — показал он на угол, где стоял стол.
Нет, такой хаты мы и в самом деле еще нигде не видели. На стене висел портрет Гитлера, на столе аккуратными стопками лежали фашистские книги, брошюры, газеты, листовки.
Странно, но я не закричал. Слишком велика была закипевшая во мне ненависть, чтобы она прорвалась криком.
— Подойди-ка сюда, — подозвал я его и изо всей силы отпустил ему затрещину. — На, получай, собачья шкура!
Этот удар все ему объяснил. Он поднялся, держась за подоконник, и прошептал:
— Товарищи! Я же не знал, кто вы такие… Ведь это все не мое…
— А чье же? — спросил Савицкий.
Негодяй с минуту глядел растерянно.
— Портного. У меня здесь до вчерашнего дня портной работал…
Вася шагнул к нему — второй удар был не слабее первого.
— Это для твоего портного, можешь ему передать.
Мы в этом доме взяли все, что только могло понадобиться партизанам.
— Заруби себе на носу, подлюга, — предупредил Завьялов, уходя, — мы еще придем и не раз придем. Не одумаешься — судить будем.
ПРИ СВЕТЕ ЛУЧИНЫ
По всем дорогам, везде, где проходили фашисты, оставались зловещие следы — сожженные села, свежие могилы…
Усакино они — уже в который раз! — уничтожили. Но с тем большей гордостью смотрели мы, проезжая мимо этого села на обратном пути в лагерь, как крестьяне, вернувшиеся сюда из леса, упорно строили на старом месте новые землянки.
Опять знакомые чащобы, в одеждах сказочной белизны тихо дремлют деревья, ни одна ветка не шелохнется. Тут, бывало, стоял наш часовой, а теперь никто нас не окликает. Тоскливо стало в лесу. Чей-то еле заметный след на снегу — это беляк бегает сюда лакомиться корой молодых осин. Совсем недавно мы, возвращаясь сюда, чувствовали себя как дома, а сейчас мы настороженны, то и дело озираемся. Кругом валяется множество полузасыпанных снегом листовок. Савицкий поднимает одну и читает вслух. Это, оказывается, фашисты обращаются к нам, называют нас бандитами и грозят уничтожить. На другом лоскутке бумаги черным по белому написано: «Товарищи партизаны!» Вася бледнеет от негодования.
— Ишь ты, а я и не знал, какие они мне товарищи. — Вася продолжает читать: — «Вы не знаете отдыха ни днем, ни ночью, вам холодно, у вас нет хлеба, соли, табака. Приходите к нам, мы встретим вас, как братья…».
На следующей листовке крупный черный заголовок гласит: «Вы все еще партизаните? Ведь мы вас всех еще летом уничтожили».
Справа от дороги, на снегу, нарисована гигантская фигура человека, каждая рука длиною в несколько метров. В него воткнут крест, на котором написано по-немецки: «Партизан капут».
— Ну, — замечает Завьялов, — то великанами рисуют нас, то пишут, будто мы от голода и холода гибнем…
Рядом стрела, и крупными буквами выведено по-русски: «Смотри туда!» Мы взглянули. На толстой жерди, закрепленной концами на ветвях двух деревьев, растущих по обе стороны дороги, висят два гитлеровца. На снегу под ними надпись: «Добро пожаловать!»
— Вот так ладно, — говорил Савицкий. — Работа свежая. Это место мы назовем «Триумфальными воротами».
Свое задание мы выполнили, но сидеть в лагере без дела не в правилах разведчиков, и мы приняли предложение Савицкого побывать в его родной деревне.
Деревня, где жила мать Васи, находилась далеко от леса, близ железной дороги, и потому в нее до той поры партизаны почти не заглядывали.
Мы ехали вьюжной ночью на двух санях. Слабый свет луны, едва видимый за тучами, смутно озарял дорогу. В деревне встретили нас громким лаем собаки. Звуки гармони к нам донеслись еще издали. Мы остановились у хаты, в которой светились окна. Разглядеть, что делается внутри, было невозможно — стекла затянуло толстым слоем льда.
Мы распахнули дверь и очутились в большой комнате, полной народу. Было жарко и накурено. При виде нас гармонист перестал играть и забился куда-то в дальний угол, танцующие еще мгновение вертелись, потом остановились и стали отступать к противоположной стене.
Не привыкшие к таким встречам, особенно со стороны молодежи, мы застыли, изумленные и возмущенные. На наше приветствие ответили немногие, и то тихонько, боязливо.
— Играйте, — обратился я к музыканту, — мы вам не помешаем.
— Гармонь испортилась… К тому же поздно, пора по домам, — ответил тот.
— Дай-ка мне эту испорченную гармошку, я вам покажу, как она веселую сыграет, — произнес Завьялов.
Музыкант протянул ему гармонь с таким видом, словно навеки прощался с ней.
Завьялов перед войной окончил музыкальную школу и прекрасно играл. Танцы, однако, не возобновились, никто не трогался с места. Я видел — Ваня вот-вот взорвется от негодования. Меня, признаться, тоже разбирала досада. «Как же это так, в самом деле, — думал я, — эти парни и девушки всего полтора года назад были комсомольцами, пионерами, учились в советских школах, работали в колхозах, почему же они сейчас так отчужденно смотрят на нас?»
В эту минуту Савицкий, стоявший до сих пор в тени, шагнул вперед.
— Вася! — К нему подбежала двоюродная сестра, девушка лет восемнадцати.
— Вася! Вася! — раздалось со всех сторон.
— Стойте! — остановил он всех. — Вы же с моими друзьями не захотели поздороваться, почему же вы так радуетесь мне?
Вася на минуту замолчал, сверлящим взглядом заглянул каждому в глаза и продолжал:
— Мне стыдно, честное слово! Вы думаете, не понимаю, почему вы нас так встретили? Одного или двух полицаи могли убедить, что мы бандиты, грабим и убиваем собственных отцов и матерей, но всех вас, я знаю, обмануть нельзя. Есть, может быть, тут и такой, что завтра, а то и сегодня, как только мы уедем, даст знать в комендатуру, донесет на тех, кто радовался нашему приходу, танцевал с нами… Как думаешь? — обратился он к рослому парню с тонкой ниточкой усов над пухлыми губами, одетому в новенький военный костюм. — Что же ты молчишь? Скажи что-нибудь… Может, и ты из тех, что первыми бегут с доносом?..
— Вася, не говори глупостей, — перебил тот неуверенным голосом, — мы же с тобой старые друзья…
— Молчи лучше… Бывшие друзья — вот как! Что из того, что мы с тобой восемнадцать лет жили рядом, сидели на одной парте, вместе ходили на гулянки, куролесили, потом четыре года переписывались… Представь себе, вхожу, вижу, как ты дерешься с одним из этих двух, — Савицкий показал на меня и на Ваню. — Я их обоих знаю меньше двух лет… Как по-твоему, стал бы я разбираться, кто из вас прав? Как бы не так! Говорю тебе твердо: ты кончил бы плохо… Сбился ты, парень, с дороги, не туда свернул…
— Хватит, — попытался Ваня утихомирить его, — оставь его в покое.
— Не могу. Обида меня грызет. Я был шахтером, а он лейтенантом. Почти в одно время мы оба вернулись домой. Те считанные дни, что я провел в деревне, места не мог себе найти, не из страха перед немцами, а стыдно было людям в глаза глядеть. Когда встречал, бывало, нашего старого учителя, мне казалось — он краснеет, что воспитал такого… И вот скоро уже год, как я ушел из дома, а он, лейтенант, все еще пляшет на гулянках… Чего же ты ждешь? Хочешь убедиться, чья пересилит, и к тому податься?.. Смотри не опоздай…
Парень слушал, смущенно и растерянно молчал, потом резко повернулся и вышел из хаты.
— Извините, — попробовал кое-кто оправдаться, — мы сомневались, партизаны ли вы…
Посыпались десятки вопросов: что слышно на фронтах, что в Сталинграде, как поживают знакомые партизаны из соседних деревень? Девушки спрашивали, когда мы снова сюда придем, они приготовят теплые варежки, носки, носовые платки…
Завьялов вынул из кармана несколько листков с переписанной карандашом статьей о сталинградской эпопее — у нас приняли ее по радио. Листки долго лежали у него в кармане, часто бывали в руках и имели вид затрепанного архивного документа.
На загнетке разожгли свежие, смолистые лучины, Иван пододвинулся поближе к свету, все столпились вокруг него. Никто не мог бы прочесть написанного там, но после многократного чтения Завьялов знал эту статью наизусть.
Затаив дыхание слушали все рассказ о Сталинграде, о разгроме немцев. Фашисты, естественно, молчали о нашей победе, и потому это было для всех здесь новостью.
Старики, хозяева хаты, слезли с печи и протиснулись к нам.
— Вы это как, сами слышали по радио или вам рассказывали? — взволнованно допытывался старик.
— Присаживайтесь. — Хозяйка придвинула Ване табурет. — Вы мне будто весточку от детей принесли. Может, Петрусь, сын мой, тоже в Сталинграде был…
— Оставьте нам листки, — попросила двоюродная сестра Васи, — мы перепишем и другим передадим.
— Ничего вы в них не разберете, — ответил Завьялов.
— Запишем то, что запомнили, а ваши листки будем показывать, чтобы нам больше веры было.
Мы стали прощаться, пора было ехать.
— Вы ведь хотели нам что-то сыграть, — обратился гармонист к Ване.
— А что, уже успели отремонтировать? — рассмеялся Завьялов и взял гармонь. Он вытер потное лицо, форсисто растянул мехи, зажмурился и заиграл. Пальцы его быстро бегали по клавишам.
Савицкий сбросил тулуп, подхватил самую красивую девушку и закружил в танце.
ФЕВРАЛЬСКИЕ БОИ
К Усоху приближалась немецкая колонна. Немцы шли в полный рост — кто-то, видимо, успел сообщить, им, что в селе всего несколько разведчиков. Но мы своевременно дали знать об этом в штаб, и их план окружить и захватить нас окончился тем, что сами они попали в окружение и были основательно потрепаны.
На следующий день мы узнали, что три гарнизона договорились между собой о совместном наступлении против нас. При этом нам стала известна их численность, маршрут и время выступления.
Ночью я со своим отделением отправился к хутору Стража, чтобы вовремя предупредить о появлении врага. Была морозная, ясная ночь. В далекой чистой вышине ярко сверкали звезды. Мы с Чижиком забились в сани, ноги зарыли в сене и прижались друг к другу. Наш Воронок бежал быстрой и ровной рысью.
Я немало читал и слышал о достоинствах и доблести боевых коней. Воронок был обыкновенной крестьянской лошадкой, и тем не менее я убежден, что любой кавалерист был бы рад такому коню. Мы могли оставить его одного на целый день, и он бы сам с места не тронулся. Если мы ложились на землю, Воронок делал то же самое. Он прекрасно запоминал дороги, повороты, уклоны. Когда он настораживал уши, это означало — неподалеку появился человек или зверь — и часто, таким образом, предупреждал нас об опасности. Случалось, Воронок на бегу вдруг останавливался, мы немедленно соскакивали с саней и выясняли причину остановки. При общем передвижении он иногда отставал от остальных лошадей, но зато никогда не выбивался из сил. Чижик разговаривал с ним, как с человеком, и готов был броситься в огонь, только бы добыть Воронку корму.
Стража представляла собой одинокий домишко в лесу, где жил лесничий, с которым мы поддерживали тесную связь. Он часто служил нам проводником и помогал в разведке.
Семен Бируля, хозяин Усошской Стражи, высокий крестьянин лет сорока, с продолговатым лицом и голубыми добрыми глазами, встретил нас радушно. Холод и пустота царили в его избе. Мы забрались в угол, расположились на голом полу и без помех проспали остаток ночи.
Стояла морозная рань. Выпавший за ночь снег выбелил всю округу, запорошил все следы. Я проверил посты, всех предупредил, что с минуты на минуту может показаться враг. Недалеко от нашей хаты, на тропинке, ведущей в Бацевичи, стоял на посту молодой партизан Терентий.
— Немцы!
Терентий стукнул в окно и мгновенно исчез. Мы все вскочили. Чижик, не спеша, потянулся за ручным пулеметом.
— Терентий, вероятно, заснул на посту и во сне увидел немецкую колонну.
Никто ему не возразил — с Терентием действительно недавно такое случилось. Но, выйдя на крыльцо, мы увидели: из Усоха по направлению к нам мчались сани, в них сидели три человека, мы узнали их издали — это были наши партизаны. «Неужели, — подумал я, — Терентий принял их за немцев? Но ведь я же приказал ему следить за противоположной стороной, за тем, что делается позади хаты…»
Позади хаты, метрах в пятидесяти, стоял большой сарай. Бируля зачем-то пошел туда и сразу же прибежал обратно.
— Бегите! — прошептал он.
Мы вскочили в сани, стоявшие наготове, — и айда в лес.
Из слов хозяина, успевшего забраться к нам в сани, мы узнали: гитлеровцы залегли у самого сарая и, видимо, надеются захватить тех трех, что едут сюда из Усоха, о том же, что мы находились в доме, они и не подозревали… Воронок, словно чуя опасность, рвался вперед. Я с трудом его остановил.
— Стреляй! — крикнул я Чижику. — А то наших захватят…
Ваня развернул пулемет и выпустил в направлении сарая несколько длинных очередей. Тотчас же послышалась немецкая команда и поднялась стрельба. Сани, подстерегаемые гитлеровцами, остановились, партизаны соскочили и исчезли в лесу.
Наших мы нагнали на тракте, ведущем в Рудню. Около двухсот запряженных саней растянулось по дороге.
— Иди сюда! — закричал мне Савицкий. — Какого я себе приобрел «ординарца»! Посмотри, сидит у меня на санях.
Это был немец средних лет. Первый испуг его прошел, он взял себя в руки и не переставал лопотать.
— О, сколько вас! — удивлялся он. — А нам говорили, что сюда прибыло всего тридцать бандитов. — Он тут же сконфуженно поправился: — Простите, я хотел сказать — партизан…
Силич вызвал к себе командиров. Возле его саней стояли пулеметы, возвышалась груда винтовок — трофеи, захваченные у врага.
— Вася, — обратился я к Савицкому, — не томи, расскажи-ка лучше, что тут произошло.
А произошло, оказывается, вот что.
Сегодня утром наши вошли в деревню Сергеевичи. Любоничский комендант объявил своим солдатам, что вечером их ждет славная попойка, но для этого нужно предварительно уничтожить небольшую группу партизан. В Сергеевичи гитлеровцы въехали, словно возвращающиеся с ярмарки крестьяне, — безмятежно, не спеша: мол, то, что нам принадлежит, никуда от нас не убежит. Кто лежал, завернувшись в одеяло, только нос торчал наружу, кто, оставив винтовку на санях, бежал рядом, чтобы согреться. Многие разбрелись по хатам и приставали к хозяйкам:
— Матка, шнапс! Матка, яйки!
Партизаны напали на них так неожиданно, что только немногие оказали сопротивление — ни одному немцу не удалось спастись, убежал один полицай, некий Чикало, но и он не избежал возмездия.
Последние столкновения с врагом показали, что нам под силу навязывать ему серьезные бои и выигрывать их, и наши люди стали уверенней в себе. В хорошо подготовленном ночном налете мы уничтожили щегринский гарнизон. Не давая немцам опомниться, партизаны прямо из Щегринки предприняли наступление на Подселы. Здесь стоял один из сильнейших гарнизонов района. Мы его атаковали, когда уже совсем рассвело, а люди были утомлены ночным боем в Щегринке. В Подселы партизаны ворвались, но полностью уничтожить гарнизон не удалось.
Мы возвращались в лес. Густой туман, опустившийся с утра и окутавший всю округу, рассеялся. В прояснившейся вышине появились три самолета и сделали круг над Подселами.
— Остановиться и замаскироваться! — передавали друг другу приказ Силича.
Раненых, лежавших на носилках, накрыли белыми маскировочными халатами, а захваченных у немцев лошадей отвели подальше от дороги и расставили под ветвистыми деревьями.
Самолеты резко пошли вниз, и на укрепления гарнизона посыпались бомбы. Вторым заходом они обстреляли деревню из пулеметов. Один самолет еще кружил над Подселами, а два других поливали огнем Щегринку. Как завороженные, мы стояли и смотрели, не в состоянии понять происходящее.
— Наши! — закричали несколько человек и бросились бежать к дороге.
— Назад! — раздался голос Силича.
Он стоял и смотрел ввысь, не отрывая глаз от бинокля. На крыльях самолета, летевшего теперь над лесом, ясно обозначились две черные свастики.
— Комиссар! — громко расхохотался Силич. — В приказе придется особо отметить «помощь авиации».
То чего мы не могли сделать, совершили на этот раз сами немцы. Очевидно, кто-то из фашистских комендантов раньше времени сообщил своему командованию в городе, что мы захватили оба села…
Этими, февральскими, боями завершался известный этап истории наших отрядов. Мы стали организационно крепким, дисциплинированным партизанским соединением, с командирами, испытанными в боях, с опытными руководителями, отлично освоившими сущность партизанской тактики. Поняли и гитлеровцы, что они имеют дело с силой, от которой запросто не отмахнуться. Последние поражения заставили их стать осторожней — они перестали мелкими группами рыскать по деревням.
— Погоди! — яростно кричал старик полицаю, отбиравшему у него последний скарб. — Вам опять захотелось февраля, вы его получите!..
Наши отряды направились в лагерь. Каждого неудержимо тянуло в Усакинские леса, будто там мы родились. Наш отряд к этому времени уже стал партизанской бригадой. Комбригом — Силич, комиссаром — Коваль, начальником штаба — Иваненко. Бригада состояла из пяти отрядов. Командир разведки Боровский стал помощником комбрига. Максим Синица стал командиром разведки, а я — его помощником.
МАТЬ
Трудна и опасна работа разведчика в глубоком тылу врага. Утром и вечером, днем и ночью, в жару и в холод, в дождь и в метель — всегда он должен быть настороже, всегда обязан помнить, что от его бдительности зависит судьба отряда, полка, бригады.
В город по нашему заданию часто отправлялся наш маленький связной Петя Гусев, тот самый, который привел меня в отряд. В коротких штанишках, в лаптях, он выглядел еще моложе, чем был на самом деле.
Накануне Нового года, когда затвердел торный зимняк — санный путь, Петя собрался в очередную поездку. Сани нагрузили сеном, картошкой, и мальчик уехал.
Над городом нависло низкое, серое небо, в воздухе кружились редкие снежинки. Еще не начинало темнеть, когда Петя подъехал к дому, где жила наша разведчица — его сестра Феня. Бывшая пионервожатая, она по нашему заданию поступила на работу в немецкий «солдатский дом» (что-то вроде солдатского клуба), добывала интересовавшие нас сведения и при содействии двух подруг-комсомолок распространяла листовки.
Еще издали мальчик заметил у ворот нескольких полицаев. Почувствовав недоброе, он свернул в ближайший переулок и погнал лошадку в другой конец города, к старшей сестре. Ворота были настежь открыты. Петя, не слезая с саней, въехал во двор. И тут оказались гитлеровцы.
С сестрами что-то стряслось, — мелькнула у мальчика страшная догадка. Может быть, полицаи его и дожидаются, а у него — листовки… Бежать!
Петя соскочил с саней и помчался вдоль улицы.
— Держи! Держи! — гнались за ним.
Петя, маленький и ловкий, быстро перебегал из одного двора в другой. Внезапный удар сбил его с ног — верзила жандарм схватил мальчика за шиворот. Сбежались полицаи и Петю поволокли назад, во двор, где стояли сани. Его обыскали, но ничего не нашли. Он стоял окровавленный, в изодранной одежде. Вокруг стали собираться люди.
— Рассказывай! — требовал жандарм. — Кто тебя сюда прислал?
— Никто! — ответил мальчик. — Я приехал выменять картошку на соль.
Во дворе стояла высокая железная бочка, полная воды, — его бросили туда, пробив при этом плотную ледяную корку.
— Мама! — Голубоглазая девочка закричала и прижалась к своей матери.
— Боже мой! — Человек на костылях со стоном закрыл глаза.
— Пан, — старушка молила жандарма, хватала его за руки, — вы же, наверное, отец, как вы можете так мучить ребенка!
На нее глядели холодные, пустые глаза.
— Молчать! — Жандарм ударил старушку.
Петю, посиневшего, вытащили из бочки.
— Кто тебя послал?
— Мама.
— За чем?
— За солью, — еле выговорил мальчик.
Из дома вывели его сестру, женщину на сносях. Она платьем вытерла Петино лицо и прижала его, насквозь промокшего, к себе.
— Вперед! — приказал жандарм.
Брат с сестрой взялись за руки — так они шагали до здания гестапо. Прохожие останавливались и провожали их взглядом, полным сочувствия и боли.
Одновременно с ними в гестапо были доставлены обнаруженные в санях листовки. Здесь уже и кроме этого имелось немало сведений о комсомолке Фене и ее братишке, партизанском связном Пете. Гестаповцы в те же дни арестовали группу работниц госпиталя, помогавших нашей разведчице, передававшей им для партизан медикаменты, хирургический инструмент, перевязочный материал. Арестованные, как их ни избивали, все отрицали:
— Никогда Феня с нами о партизанах не говорила и за помощью не обращалась.
Только одна санитарка, не выдержав пыток, призналась, что однажды продала Фене медикаменты. Эту девушку вместе с другими в тот же день расстреляли.
Сообщить это страшное известие Игнатьихе, матери Фени и Пети Гусевых, довелось мне. Она обеими руками схватилась за голову и словно окаменела. Я стоял и молчал, да и что я мог ей сказать? Не нашел я в эту минуту ни слова утешения. Игнатьиха стала безмолвно покачиваться, как маятник, влево и вправо. Когда в хату вошла улыбающаяся и раскрасневшаяся на морозе Таня, Игнатьиха стремительно поднялась с места, кинулась ей навстречу, издав страшный вопль. Она протянула вперед обе руки и, точно перед ней стояла толпа народа, закричала:
— Люди! Скажите, люди, почему я послала своих детей на смерть, а сама осталась жить? Дети мои! Такие хорошие, что они сделали плохого, за что им такая смерть?
Ни в эту минуту, ни позднее Игнатьиха ни словом не упрекнула партизан в том, что Феню и Петю вовлекли в подпольную работу.
— Таню я в город не пущу, — сказала она мне через несколько дней. — Меня посылайте, а то я здесь с ума сойду.
Но не прошло и двух месяцев, как Таня стала ходить по нашему заданию в город к женщине, выполнявшей теперь всю работу по распространению листовок вместо Фени.
— Вот они, мои дети… Все глаза проглядишь, покуда дождешься Таню из города, но ничего не могу сказать ей, она такая, как Феня, как Петя.
В ту же зиму в Великую Старину прибыл карательный отряд. Фашисты стали допытываться, кто здесь такая Игнатьиха, по фамилии Гусева. Офицер грозил расстрелять каждого пятого, но никто ее не выдал.
— С той поры как расстреляли ее детей, она у нас не живет. Появляется редко и исчезает куда-то, — ответила соседка.
А Гусевы — мать и дочь — в это время по рыхлому снегу бежали к лесу. В десяти метрах от опушки Игнатьиху настигла немецкая пуля.
Таня подхватила мать и помогла ей добраться до леса. Когда гитлеровцы убрались из деревни, крестьяне принесли ее домой. В ту же ночь мы пришли проведать раненую.
— Вылечите меня, — молила Игнатьиха, — не хочу умереть, пока не рассчитаюсь за моих детей..
Оставлять ее в деревне было опасно. По чужим документам она была доставлена в городскую больницу. Таня часто навещала ее и заодно доставляла в город и приносила оттуда нашу почту. Когда Игнатьиха вернулась домой, она заметно хромала.
— Доченька, — сказала она Тане, — придется тебе чаще ходить в город — и за себя, и за меня.
Девушка утвердительно кивнула головой.
Через несколько месяцев она была выслежена гестапо и арестована.
МАЕВКА
На празднование Первого мая, как нам ни хотелось этого, в лагерь попасть не удалось — ни на час нельзя было отлучиться из нашего района.
В этот день мы все проснулись на рассвете. Обычно наши разведчики охраняли деревню, в которой находились. В честь праздника крестьяне предложили нам отдохнуть — сегодня охрану они будут нести сами. Начальник сельской самообороны, густо обросший мужик средних лет, рапортовал мне по-военному:
— Товарищ командир, у нас и в соседних деревнях спокойно!
Мы вышли на улицу. По всем приметам предстоял жаркий, солнечный день.
Наш сосед, сгорбленный и больной, шел, опираясь на палку.
— Куда так рано?
— На лесную лужайку. Праздновать — так праздновать.
К лесу потянулись стар и млад. В деревне остались немощные старики и несколько молодых парней, несших караул.
Было еще раннее утро. На востоке вспыхнули две алые полосы, затем показался краешек солнца и залил лиловым пламенем верхушки елей. На траве, на листьях и стебельках зажглось бесчисленное множество капелек росы. Пронесся ветерок и легко всколыхнул листву, послышались звуки падающих капель. Издалека донесся девичий голос:
— Ау!
Кто-то совсем близко отозвался:
— Ау! Ау! Я тут!
Чижик, размашисто шагающий рядом со мной, прислушался:
— Играют на гармошке… Это Ахремка из Кострич…
В утреннем воздухе далеко по лесу разносится мелодия, в ушах звучат и слова этой песни:
Май течет рекой нарядной По широкой мостовой, Льется песней необъятной Над красавицей Москвой. Кипучая, Могучая, Никем не победимая, Страна моя, Москва моя, Ты самая любимая!Тропинка, ведущая к лужайке, очень узка. Останавливаю своих разведчиков и командую:
— В две шеренги стройся! На-а плечо! Тимохин, — я обратился к застенчивому парню с девичьим румянцем во всю щеку, — затяни песню, остальные подтягивать! Праздновать — так праздновать.
— Какую песню? — спрашивает Тимохин.
— «Москву майскую», эту самую, слышишь, что играют…
У Павла Тимохина улыбающиеся глаза и сильный, красивый голос. Лес наполняется звуками песни, все громче и громче слышна гармоника. Чижик угадал — это Ахремка из Кострич, а с ним девушки и парни. На гармонисте вышитая полотняная рубаха, перехваченная витым розовым поясом с большими кистями. Ему лет под пятьдесят.
Нас догоняет Семен Бируля с друзьями из Усоха, дядя Миша с компанией из Старого Спора, Алексей Копыловский с семьей из Березового болота.
— Играй, Ахремка, играй!
Ахремка старается — впервые за два года войны его слушает столько людей, — он до отказу растягивает мехи гармони, склоняет к ней седую голову, вслушивается в ее чистые, нежные звуки.
Лужайка — зеленый остров, окруженный деревьями. Немало народу собралось сегодня здесь — около двухсот человек. Кажется, что на поляне остановился цыганский табор, еще не успевший разбить шатры. Полуголые дети бегают вперегонки, над лужайкой стелется дым — хозяйки готовят завтрак.
Вдруг в вышине появляются самолеты, и, совсем так, как у нас в лагере, люди начинают передавать один другому:
— Гасить костры!
Дым становится еще гуще. Самолеты летят очень высоко, и молодая крестьянка убежденно произносит:
— Это наши. Может быть, они сбросили праздничные «подарки» на Берлин и домой летят…
Мы сдвинулись в тесный круг. Я рассказал о положении на фронтах, о блокаде, которую немцы готовят против партизан и местных жителей. Потом прочли обращение подпольного обкома партии к населению, праздничный выпуск партизанской газеты и свежие листовки, привезенные сегодня связным.
Когда мы возвращались, над деревней уже опустились сумерки.
Мы получили известие, что немцы готовят наступление против нас и начнется оно десятого — пятнадцатого мая. Кроме того, Маруся, знакомая нам девушка, работавшая в городе официанткой, сообщила, что туда прибыла группа предателей, перед началом блокады их разошлют по партизанским районам.
Из всех гарнизонов потянулись немецкие колонны — пешком и на машинах, с артиллерией и танками. Лязг гусениц, гул моторов не стихали ни днем ни ночью. Едкой пылью дымилась дорога под ногами двигавшихся воинских частей. Целые дни в воздухе кружили вражеские самолеты.
Я расставил своих разведчиков на всех главных дорогах, проверял и сравнивал приходившие от них сообщения. Вывод был один — главные силы врага стягивались к Усакинским лесам.
От Силича и Коваля прибыло сообщение — бригада пока не собирается покидать эти места, а будет маневрировать в Кировском и Кличевском районах. Большую надежду, писали они, штаб возлагает на четкую работу разведчиков. Что ж, мы никогда не забывали о нашей ответственности.
Утром седьмого мая фашистский самолет сделал несколько кругов над Великой Стариной. Через минуту из облаков вынырнули три самолета, ринулись вниз и, проносясь почти над крышами домов, стали поливать деревню пулеметным огнем. Я припал к земле и что есть сил закричал заметавшимся людям:
— Не бегите!.. Ложитесь, скорее ложитесь!..
После каждого захода самолетов мы поднимались и бежали, от нас не отставали женщины и дети. Так повторялось до тех пор, пока мы не добрались до леса. Теперь они осыпали пулями лес, а село — бомбами.
Когда все стихло, мы с Чижиком и Тимохиным, захватив перевязочный материал, отправились назад в село. Всюду были выбиты стекла, множество домов полностью уничтожено.
На дороге среди села мне предстала страшная картина — девочка лет пяти, обливаясь кровью, несла на руках маленького братишку, а следом, держась за ее плечо, шла мать этих детей, Катя Бурунова, раненная в глаза.
— Катя! — закричал я. — Чижик отведет тебя с детьми в лес и сделает вам перевязки.
В избу, где жила Катя, попала бомба. У самого окна зияла глубокая воронка, полстены было напрочь вырвано, в середине избы на полу лежала мать Кати, Карпиха, разорванная пополам, как если бы ее перепилили. Меня охватил ужас.
— Идемте, — тянул меня за руку Тимохин, — ей мы уже ничем не поможем.
В соседней избе вокруг раненной в голову Степанихи собрались все семеро детей. Мужа ее, Степана Орлова, немцы повесили год назад. Дрожащими руками стал я перевязывать ей рану, как мне казалось, не очень опасную.
— Что будет с моими детьми, — стонала она, — кто их пожалеет, если я помру или останусь калекой?
— Ты будешь жить, — успокаивал я ее.
В третьей хате был ранен осколками в живот десятимесячный ребенок, он умер на руках у матери.
К исходу дня мы подъехали к деревне, где с небольшим партизанским подразделением расположился Боровский. Из-за кустов неожиданно прозвучал возглас:
— Стой! Ни с места!
Нерусский акцент удивил нас, и мы потребовали, чтобы часовой первым назвал пароль.
— Один ко мне, остальным остаться на месте! — раздалось в ответ.
Вслед за тем послышался лязг затвора — часовой приготовился стрелять. Я направился к нему. На посту стоял новоприбывший партизан, грузин. Он объяснил свою чрезвычайную строгость:
— Сколько на свете водится чертей, все они таскаются по этой дороге… Одного шпиона я уже задержал, он немец, правда в гражданском, но немец: мой напарник прочитал в его документах, что он фон… забыл фамилию, черт…
— Где же твой напарник? — строго перебил я его.
— Я же вам рассказываю, что шпиона задержал, вот он и повел его к командиру.
Боровского я на месте не застал. Он на рассвете уехал проводить собрания крестьян по деревням. В хате его дожидался задержанный — высокий, широкоплечий мужчина, богатырь с виду. При виде меня он поднялся.
— Добрый вечер, фон Ренцель.
— Добрый вечер, добрый вечер.
Мы крепко пожали друг другу руки.
Сидевшие за столом партизаны изумленно переглянулись.
Советский военный инженер Ренцель, раненный, попал в плен, где ему благодаря прекрасному знанию немецкого языка удалось выдать себя за некоего фон Ренцеля. В городе он работал главным инженером завода и, сколько мог, вредил оккупантам. В последнее время за ним начали следить, и он был вынужден уйти из города. О предстоящем его приходе мы были предупреждены.
Вернулся Боровский.
Ренцель сообщил много интересных новостей, подтвердил также наши сведения о готовящейся немцами блокаде.
— В лагере вас ждет много работы, — сказал Боровский инженеру.
По пути в лагерь Боровский, узнав, что немцы из городецкого гарнизона отправились в Киров за продуктами, устроил засаду. Три десятка гитлеровцев были убиты, а бургомистр взят в плен. Наши захватили винтовки, два пулемета и несколько автоматов.
Партизаны уже углубились в лес, когда их нагнал вооруженный немецкий солдат, Заметивший его подрывник Березко выстрелил в воздух. Все остановились. Немца мгновенно окружили партизаны. Он и не собирался сопротивляться.
— Зачем пришел сюда? — обратился к нему Боровский.
Немец ни слова по-русски не понимал, пришлось вмешаться Ренцелю.
— Он немец, — перевел Ренцель, — но не фашист. Его имя Август, до войны был крестьянином. Во время последней стычки он спрятался в яме возле дороги, после боя вылез и пошел не в Городец, а в лес, к партизанам. Он просит, — продолжал переводчик, — поверить ему, что он готов вместе с нами бороться против фашистов.
Боровский на минуту задумался.
— Хорошо, — сказал он наконец, — мы берем тебя с собой, и никто тебя не тронет. Дам тебе возможность доказать на деле, что ты фашистам враг… Тогда мы тебя зачислим в красные партизаны. Понял? Но предупреждаю: в деревне выясню, как ты относился к нашим крестьянам, и если ты был таким же бандитом, как все фашисты, не жди милости. Понял?
Август был очень рад и назвал несколько фамилий жен красноармейцев, которым он помог продуктами, крестьянина, которого освободил из тюрьмы. Кроме того, он сообщил много интересных данных о готовившейся блокаде.
Через несколько дней все рассказанное им подтвердилось. Август остался в отряде.
ПРЕДАТЕЛИ
На этот раз мы заночевали в кустах близ Старого Спора. Мучили комары, тучи маленьких кровопийц ни на миг не оставляли в покое. Над долиной еще стлались белесоватые полотна ночного тумана, когда меня разбудил часовой:
— Командир, вставайте, кто-то идет…
— Пароль?
По голосу узнал я нашего партизана Николая Корбуша. С ним было еще двое партизан и кто-то чужой, одетый в черное пальто. Нетрудно было догадаться, что это городской житель.
Я отозвал Корбуша в сторону и тихо спросил:
— Что это за человек?
— Мы его застали в Сергеевичах у кузнеца, он просил хозяина никому о нем не рассказывать. Мне он сказал, что бежал из эшелона молодежи, отправляемой в Германию. Мы решили прихватить его с собой.
У меня мелькнула мысль: не из той ли он группы предателей, о которой я был предупрежден?
Корбуш отправился дальше, а гостя я задержал у себя.
— Садитесь, — пригласил я его, — сейчас разведем костер побольше, теплее станет. Откуда вы родом?
— Из Днепропетровска.
В юности я жил в Днепропетровской области и неплохо знаю город.
— Ваша фамилия, имя?
— Харкевич, Володя Харкевич. Почему это вас так интересует?
— Я тоже днепропетровский.
— Ну? — Он даже привскочил с места. — Вот здорово! Значит, мы с вами земляки. Где вы там жили?
— Нет уж, о себе потом расскажу, сначала вас выслушаю — ведь вы гость у меня.
Он назвал мне улицу, номер дома, я ему тоже. Потом он рассказал, что в Днепропетровске остались его родители. До войны он учился в десятом классе, на работу к немцам не хотел идти и долго скрывался. Но с месяц назад его поймали и вместе с другими стали перебрасывать из лагеря в лагерь, потом усадили в товарные вагоны, чтобы отправить в Германию. В Бобруйске на станции ему удалось бежать, несколько дней прожил он у незнакомой женщины, которая ему и посоветовала направиться в эти места, к партизанам.
— Странно получается — из Днепропетровска в Германию через Бобруйск… Очень странно…
Он не задумываясь стал пространно рассказывать о положении в немецких лагерях, в особенности в вагонах, в которых они увозят нашу молодежь, он рассказывал такое, что было нам известно из десятков других источников. И все же я слушал его внимательно, но еще внимательней приглядывался. Лицо у него было малоприметное, такого если увидишь, то через час и не вспомнишь. Он был худощав, но крепок, на его щеках играл здоровый румянец.
— Однако вы-то неплохо выглядите…
Он стал снова рассказывать длинную историю о том, как ему повезло с питанием в дороге.
— Интересно, как вы попали в Сергеевичи, какими дорогами вы шли?
Он назвал боковые дорожки, деревни, лежавшие правее, левее, несколько мостков…
— Вы заметили возле одного мостка большое старое дерево? Это мы его толом взорвали, всего триста граммов тола, а какая сила! — сказал я.
— Да, я заметил. — Он на секунду задумался и потом продолжал: — Правда, я очень спешил, но все-таки заметил.
Этим своим ответом он усилил мои подозрения — никакого дерева в том месте не было.
Больше я его на этот раз не расспрашивал. Он сам много рассказывал о положении на Украине, назвал знакомые районы, деревни.
Завтракали мы все вместе. Потом я попросил моих разведчиков удалиться, чтобы остаться с ним с глазу на глаз.
— Что же, Володя, будем молчать?
— Скажите, что вас интересует, я с удовольствием расскажу.
— Так?
— Так.
— Рассказывайте, только правду…
— Я вам и до сих пор не лгал…
— А если я вам докажу, что лгали?
— Это невозможно! Почему такое недоверие?
— Не прикидывайтесь простачком. Слушайте. Сегодня среда, неделю назад вы уже были в Бобруйске, как вы сами сказали, не так ли? Так вот, вы помните, что вы ели на завтрак в прошлую среду?
— Нет.
— А я вам напомню.
— Вы смеетесь надо мной.
— Нисколько. Вам должны были дать тридцать граммов масла, а дали маргарин, вы собирались пить кофе с конфетами, а получили черный цикорий с сахарином. Хозяину вы ничего не сказали, но с официанткой, кажется ее звать Марусей, вы обошлись грубо. Видите, даже это мне известно, что же вы дурака валяете?
— Не знаю, чего вы от меня хотите…
Я успел заметить, что при упоминании имени официантки в его лице что-то дрогнуло.
— Что немцы сейчас собираются блокировать партизан, вам известно?
— Да.
— Почему же вы рискнули пойти к нам в такое время?
— Так мне хозяйка посоветовала.
— А может быть, хозяин? Предупреждаю: если вы сейчас не расскажете все, вам останется один путь — на тот свет. Вы молчите? Володя, вы молоды, и, может быть, вам дадут возможность смыть с себя позорное пятно предателя.
— Не так обходятся с земляком.
— Чижик! — крикнул я. — Обыщи его как следует, не спеша, его надо хорошенько осмотреть…
Ни в кепке, ни в пальто, ни в пиджаке, ни в нижней рубахе, ни в верхней сорочке, ни в сапогах ничего не было обнаружено. Только под подкладкой пояса брюк Ваня что-то нащупал.
— Есть.
— Покажи.
На тонкой бумажке было напечатано, что Володя Харкевич находится на службе у немецких властей. Военным и гражданским органам власти предлагается оказать ему помощь в выполнении специального задания. Справка была выдана пятого мая и действительна только по двенадцатое мая. Почему?
— Собака! — кинулся к нему Чижик.
Я его удержал.
— Вы меня расстреляете?
Лицо Харкевича резко изменилось. Он стал как будто ниже ростом и производил отталкивающее впечатление.
— Мы разведчики. Наше дело — задерживать таких, как ты, и узнавать все, что нас интересует. Наполовину мы нашу задачу выполнили. Теперь, я надеюсь, ты сам нам поможешь.
Он рассказал о себе. Единственный сын у родителей, баловень семьи, он до самой войны жил в довольстве, на всем готовом, без забот. Но вот началась война, в город пришли немцы, и родители стали ломать голову над тем, как уберечь сына. А его вызывали на биржу. За большие деньги отец раздобыл документ, что у Володи туберкулез.
— Видишь, — говорил отец обрадованно, — не так уж трудно немцев обмануть.
Радость его, однако, была преждевременной. Вскоре к ним пришел полицай и приказал Володе явиться в комендатуру. Гитлеровцу отдали мамин золотой браслет, часики, и Володя остался дома. Через пару дней этот же полицай снова явился и сообщил, что комендант биржи требует Володю на медицинскую комиссию. Пришлось опять откупиться подарком, и так повторялось много раз. Все же однажды утром молодого Харкевича увели из дома и отправили в лагерь, откуда вместе с другими ежедневно гоняли на тяжелые работы. Родители каждый день приносили еду, но она редко доставалась ему, зато надзиратель частенько похлопывал его по плечу:
— Хороший у тебя старик. Он мне каждый день приносит вкусные завтраки.
Случайно Володя встретил в лагере своего старого знакомого — Костю Цыганка. Они вместе учились в средней школе. Володя с Костей тогда не были близкими друзьями. Костю исключили за дурное поведение, да и учился он плохо.
Сейчас Цыганок не был похож на остальных заключенных, а выглядел свежим и здоровым. В тот же вечер он принес Володе котелок горячего супу и кусок хлеба.
— Хочешь на свободу? — спросил Костя у Володи.
— Еще бы!
— Через несколько дней меня освободят из лагеря. Захочешь — сможешь добиться того же. Но запомни: гитлеровцы даром услуг не оказывают.
— У моих родителей ничего нет, нечем заплатить.
— Ты что думаешь, отец меня, что ли, выкупил? Он сам в лагере. На этот раз нам придется самим расплачиваться — надо поступить на службу к немцам.
На следующий день после этого разговора Костю выпустили на свободу. Он часто навещал Харкевича. Не прошло и недели, как Володя уступил уговорам Кости.
Со слезами радости встретили родители сына. Старый друг его отца как-то пообещал похлопотать о его освобождении, и старики решили, что ему они и обязаны возвращением сына. Несколько дней Володя сидел дома. Однажды за ним пришел Костя.
— Куда? — всполошился отец. — Вас же снова поймают.
Теперь Володя каждый день подолгу пропадал где-то, он даже стал возвращаться позднее восьми часов вечера, когда гражданским запрещено было показываться на улице.
— Послушай, — обратился к нему отец, — если ты поступил на службу к немцам, сегодня же уходи из моего дома. А то я сам дам о тебе знать куда следует…
— Что же мне делать?
— То, что тысячи делают, что народ делает. Завтра же ночью отправишься в Павлоград. Оттуда найдешь дорогу к партизанам. Не вздумай только их обманывать, как своего старого отца…
— Поздно. Если я сегодня уйду, тебя завтра же арестуют.
— Молчи! Почему ты обо мне не задумывался, когда, спасая свою шкуру, продался немцам? Лучше бы мне висеть на веревке, чем видеть тебя предателем…
Володя к партизанам не бежал.
В конце апреля он вместе с другими завербованными был отправлен в Бобруйск. Каждый получил свой участок и свое задание.
От Харкевича я узнал фамилии большей части этой группы предателей и в какие места они направлены. Кроме него еще четверо находились сейчас в Кировском и Кличевском районах.
— Твое задание?
— Узнать настроение местных жителей и сообщить о тех, кто недоволен немецкой властью.
— Каким образом?
— Связных нам не указали, потому что мы обязаны не позднее двенадцатого мая явиться в Кличев.
— Почему так скоро?
— Я вам не все рассказал. Мы должны были разведать местонахождение ваших лагерей и потом двигаться с немецкими частями в качестве проводников.
— Когда должны прийти немцы?
— Точно не знаю, но думаю, что не позднее, чем через два дня после нашего возвращения. Нам строжайше было приказано не запаздывать.
— Что ты успел сделать?
— Пока я был только в Сергеевичах. Народ, как я заметил, с чужаками не пускается в разговоры. Только две девушки посоветовали не уходить из деревни днем, чтобы не попасть к немцам в руки.
— Ты узнал их фамилии?
— Да.
— И ты бы сообщил о них твоему начальнику? Молчишь?
— Для этого меня послали.
Я посмотрел на него так, что он, испугавшись, решил рассказать еще кое-что.
— Недалеко отсюда находится мой товарищ Костя Цыганок, но он скорее всего в Кличев не вернется…
— Почему?
— Немцы обещали большую награду тем, кому удастся пробраться в партизанский отряд, чтобы оттуда посылать нужные сведения, а еще лучше — убить командира или комиссара. Костя мне сказал, что он, возможно, возьмет на себя эту работу.
— Ты знаешь его участок?
— Бацевичи.
С этого часа я ни себе, ни своим разведчикам не давал ни минуты покоя — необходимо было во что бы то ни стало поймать Костю.
Ночь была необычайно темна, а от Харкевича можно было всего ожидать. Чижик крепко связал его, а конец веревки прикрепил к себе.
— Пташка милая, — проговорил он угрожающе, — если ты вздумаешь выкинуть какой-нибудь фокус, от тебя одни перья останутся.
Недалеко от леса мы встретили группу партизан соседней кличевской бригады.
— Понапрасну спешите, — сказал мне их командир, — ваши ушли из леса, как только стемнело. Положение изменилось.
— Куда ушли?
— Кто об этом станет нам докладывать?
Трудно было сразу решить, какое взять направление. Мы остановились и закурили. Встреченный командир угостил меня самосадом.
— Ну и табачок, хорош! — похвалил я.
— К нам вчера новенький прибыл… Он бежал из эшелона, где-то по дороге раздобыл этот табак.
— Где этот парень вам попался? — встрепенулся я.
— В Червяках, около Бацевич.
— Фамилии его ты не запомнил?
— Нет.
— Каков он из себя?
— Черный, как цыган.
— В чьем он отряде?
— У Талерки. Комиссар там родом из Днепропетровска, а новичок оттуда же, вот комиссар и обрадовался земляку.
— Где теперь находится отряд Талерки?
— Точно пока не известно, завтра к полудню сообщат.
— Хватит отдыхать, Чижик! Вставай быстрее, нам нельзя терять ни минуты!
Меня неотступно преследовала мысль: комбриг кличевцев не особенно остерегался, и Цыганок мог без труда выполнить свой злодейский замысел. Идя пешком, того и гляди опоздаешь. Надо в ближайшем селе взять коней… Но как быть с Харкевичем? Поймаю ли я Цыганка, еще не известно, а этого, чего доброго, где-нибудь упущу. А ведь все, что можно было, я узнал, акт допроса готов, его подписали два свидетеля и сам Харкевич.
Часов в одиннадцать утра мы нагнали кличевцев. У костра расположились командир отряда и комиссар, они завтракали.
— Садитесь с нами, — пригласил меня Талерка.
— Что и говорить, я голоден, но жаль, времени нет. Оставьте для меня, потом поем. Товарищ комиссар, к вам новенький прибыл?
— Да.
— Могу его видеть?
— Вон он сидит. Веселый парень, мы с ним земляки.
— Знаю. Этот веселый парень мог бы вам дорого обойтись. Он пришел к вам со специальным заданием контрразведки.
— Ты шутишь?
— Конечно. Я затем и гнался за вами целую ночь, чтобы к утру пошутить. Пойдемте побеседуем с ним.
Я надел на себя пиджак Харкевича и прихватил с собой прекрасный ножик, подаренный ему Константином Цыганком. Все, что могло быть полезным из допроса Харкевича, я постарался основательно запомнить.
— Не узнаешь?
— Нет.
— Ты Костя Цыганок. Отца твоего звать Данилой, жили вы в таком и в таком-то доме, на такой-то и такой-то улице, а я почти напротив.
— Моя фамилия Цыганков, а не Цыганок, на такой улице я никогда не жил, и отца моего звать не Данилой.
— Допустим, — согласился я, — а пиджак, что на мне, тебе знаком? Нет? А этот ножик, на котором ты сам выгравировал: «В. Х. от К. Ц.», тебе тоже не знаком? Нет? Ну, а Харкевича ты знаешь? Нет?
— Товарищ комиссар, чего он хочет? — спросил Цыганок оскорбленным тоном.
— Пошли к комбригу, — сказал Талерка, — а его, — он указал на новичка, — приведете туда.
Вырвать признание у Цыганка оказалось куда труднее, чем у Харкевича. Никаких немецких документов при нем не было обнаружено. Все он заранее тщательно продумал. Терять ему было нечего, и если мне не удастся доказать, что он немецкий шпион, Цыганок, во всяком случае, сумеет выиграть время.
Комбригу надоел затянувшийся допрос.
— Послушай, ты, — обратился он к Цыганку. — То, что ты предатель, мне ясно, и смерть ты заслужил. Но я сейчас вызову твоего приятеля Харкевича, и если он тебя уличит, если он подтвердит все, что я здесь слышал, не жди пощады. А вы, — обратился он ко мне, — немедленно пошлите за Харкевичем.
Комбриг сгоряча забыл, видимо, о судьбе Харкевича, а может быть, он сказал это нарочно, чтобы напугать Цыганка.
В продолжение всего допроса Чижик лежал под деревом недалеко от нас.
— Беги в деревню, — крикнул я ему, — и приведи немедленно сюда шпиона! На дорогу туда и обратно даю час. Что ты пялишь на меня глаза? Получил приказ — и шагом марш!
Минут через пятнадцать я пошел искать Чижика. Он сидел возле кухни у костра и с невозмутимым видом уплетал картошку с мясом.
— Командир, — вскочил он, увидев меня, — что это сегодня с вами? Или, может быть, это я спятил? Куда вы меня послали? Заниматься воскрешением мертвых, что ли?
— Погоди, Ванюша, ты, я вижу, очень увлекся едой и забыл, что не один ты голоден. Слышал приказ комбрига? Что мне оставалось делать? Заявить, что очная ставка не может состояться?
— Как же теперь быть?
— Первым делом перекусим. Потом я вернусь туда, а еще через десять минут ты явишься и отрапортуешь, что Харкевич тут, но постовые его не пропускают в лагерь. Возможно, этого одного будет достаточно, понял?
— Ясно… Присаживайтесь. У меня завелись сухари, возьмите…
С моими разведчиками я жил душа в душу, но с Ваней дружил больше, чем с другими. Правда, он любил выпить, нередко разрешал себе лишнее, но своей преданностью делу и бесстрашием все искупал.
Как только Чижик доложил, что Харкевич здесь, Цыганок стал неузнаваем, словно кто-то с него резко и неожиданно сдернул маску.
— Подождите, подождите, — он сполз с пенька на землю, — я сам все расскажу, а если вы мне не поверите, спросите потом у Харкевича…
— Давно пора, — прогудел комбриг.
Он сообщил нам то же самое, что и Харкевич, только немного больше знал и о большем догадывался.
— Сколько ты получал за свою службу? — спросил комбриг.
— Семьдесят пять марок. Они грозили убить моих родителей…
— А за мою голову тебе хоть крупную сумму посулили? Комиссар, говори с ним сам, я на него живого смотреть не могу. А тебе, товарищ, — он повернулся ко мне, — спасибо. Я бы предложил отдохнуть у нас, да сейчас не время. Спокойнее станет — приходи в гости, и мои разведчики найдут, чем похвалиться. Передавай привет Силичу.
Комбриг, как всегда, серьезный, немного даже сумрачный, дружески пожал мне руку.
ДЯДЯ МИША
Партизанские отряды покидали лес.
— Очень важно, чтобы ты со своей группой остался здесь, — сказал мне Силич.
Мы договорились о том, как будут встречаться наши связные, если во всех окружающих деревнях расположатся немцы. Поздно ночью мы расстались.
— Счастливо оставаться, — прощался с нами Леонид Петрович, комиссар.
— Счастливого пути, товарищи…
На рассвете я отправился к дяде Мише.
Стар и мал звали его дядей Мишей. Это был среднего роста, широкоплечий крестьянин лет около шестидесяти с большой красновато-рыжей бородой. Много было у нас друзей во всех деревнях, но вряд ли можно найти еще такого, как Михаил Орлов из Старого Спора, наш лучший агентурный разведчик и мой учитель, посвятивший меня в тайны лесной жизни.
Округу свою знал он так, что с завязанными глазами мог отыскать любую тропинку в лесу. Новое ли место для лагеря найти, опытного ли проводника подобрать — дядя Миша был нашим неизменным советчиком.
До войны Орлов был самым зажиточным колхозником в деревне. В колхозе он работал со своими четырьмя старшими детьми.
Лес близко, плотник он хороший, и выстроил себе дядя Миша не хату, а, прямо сказать, дворец, горделиво глядящий большими светлыми окнами на широкую деревенскую улицу. Был у него и большой фруктовый сад, обнесенный изгородью. Весной ветки цветущих яблонь усыпали двор белыми лепестками.
Когда немцы вошли в деревню, в его доме разместились штабные офицеры.
Во дворе в погребе скрывался в ту пору раненый советский лейтенант, и хозяин ни в чем не отказывал непрошеным гостям, только бы они сами никуда не лезли, никуда носа не совали.
— Ты хороший хозяин, — похвалил его штабной офицер, — назначаю тебя на должность старосты.
Как только немцы отбыли, дядя Миша принялся хозяйничать. Колхозный хлеб, который немцы приказали отвезти в город, он сразу же роздал крестьянам. Так же поступил он и с колхозным скотом. Лучшую часть сельскохозяйственных машин спрятал в надежных местах.
— Наши вернутся — все понадобится…
В соседнем селе гитлеровцы поставили часового для охраны амбара с зерном. Дядя Миша вместе с соседями ночью разоружил часового и широко распахнул ворота амбара — к утру в нем не осталось ни зернышка.
…Глубокой осенью, как только выпал первый снег, Орлов отправился на охоту. Ничто не ускользнет от внимания дяди Миши — ни звонкое пение желтогрудых синиц, ни резкое карканье ворон, ни то, что на снежном покрове, чуть розовом под бледным зимним солнцем, появились крошки коры — это белки здесь прыгали по деревьям.
В глубине леса он вдруг заметил следы человека. Больше часу шел он по этому следу. Бросить бы надо это дело, да вот что заинтересовало его: дорогу из Рудни в Костричи этот человек пересек пятясь, — по-видимому, кого-то остерегался. В двух местах, где неизвестный останавливался, было по следам видно, что он имел при себе какой-то ящик или чемодан.
В лицо ударил горький запах дыма, и вскоре охотник увидел человека среднего роста, одетого в комбинезон. Пришелец сидел на коряге и грелся у огня. Треск ветки под ногой выдал дядю Мишу. Неизвестный быстро вскочил, осмотрелся во все стороны и стал спиною к дереву, готовый отбить нападение.
— Что вы здесь делаете? — спросил он.
— Я местный житель, так что этот вопрос нужно задать вам.
— Поставьте у дерева ружье и подойдите сюда.
Дядя Миша по голосу догадался — перед ним женщина.
— Я же вам не приказываю бросить пистолет, к чему же меня, старого охотника, разоружать?
Держа оружие наготове, они двигались друг другу навстречу.
Девушка не спускала с охотника глаз, и дядя Миша медленно опустил ружье. Тогда она спрятала в карман пистолет, и оба сели к костру.
— Я вас ни о чем не буду спрашивать, — сказал дядя Миша. — Чем я могу вам помочь?
— Расскажите, что слышно вокруг.
Они долго сидели и беседовали.
— Идемте к нам, у меня заночуете. У нас немцев нет, к себе проведу вас так, что соседи не заметят.
— Спасибо за приглашение, мне идти дальше, я и без того задержалась, долго искала дорогу…
На обветренном лице дяди Миши мелькнула едва уловимая улыбка.
— Знаю… И беляк, идя на лежку, делает петлю, пересекает свой след… Не так-то просто обмануть меня, дочка…
Пришел девушке черед улыбнуться. И все же идти с ним она твердо отказалась. Тогда он предложил построить ей шалаш, наколоть дров, хотел оставить свой топор, который всегда носил при себе. Она заявила — ей ничего не нужно. Они договорились встретиться завтра.
Придя в назначенный час на условленное место, дядя Миша ее не застал. Видимо, подумал он, не поверила она мне.
Под тем самым деревом, где они вчера сидели, дядя Миша оставил бутылку кипяченого молока, буханку хлеба, кусок масла — все это было аккуратно завернуто. Не успел он отойти и двух десятков шагов, как девушка его догнала.
— Простите меня, я…
— Ничего, ничего, осторожность не мешает. Давайте вернемся, вы подкрепитесь.
Она поела, закурила и предложила папиросу дяде Мише.
— Не курю. Но с удовольствием приму ваш подарок.
Он перекладывал папиросу из одной руки в другую, смотрел на нее так, словно ничего дороже на свете не было.
— «Звездочка»… — прочитал он протяжно и тихо. — Да-а-а, звездочка… Скажите, вы эти папиросы с собой принесли или где-то здесь раздобыли? Ведь много тут нашего добра осталось…
— Вы обещали ни о чем не спрашивать…
Дядя Миша внимательно посмотрел на нее и произнес:
— С собой вы ее принесли, это я привет с Большой земли получил. Ни о чем не буду спрашивать, но так оно и есть. Эх, давай прикурю — душу родным дымом согрею… Послушай, в деревне бы тебе жить у нас, за чью-нибудь родственницу выдать, что ли… К тому же, — дядя Миша на минуту задумался, — родственников я тебе порекомендую надежных. У меня в Смоленске есть сестра — бог знает, жива ли еще, — так вот у нее дочь в твоих летах. А тут у меня и сестры, и братья, и друзей много — сможешь часто квартиру менять. Хочу одного, чтобы ты мне доверяла. Орловы народ верный, да и не только в моей семье, во всей нашей деревне предателя не найдется.
Через несколько дней, в сумерки, девушка следом за дядей Мишей вошла к нему в дом.
— Зиной звать ее, — предупредил он детей, — она ваша двоюродная сестра из Смоленска, пока никому о ней ни слова, в комнату к ней никого не пускать.
Прошли недели, прежде чем соседи узнали, что к Орловым приехала родственница из Смоленска, что жить она осталась у сестры дяди Миши. Здесь, в низенькой хатке на краю деревни, Зина в узком пространстве между двумя стенками установила свою радиоаппаратуру. Поздно ночью она связывалась с Большой землей и сообщала о прибывших немецких частях, о разбитых дивизиях, тянущихся с фронта, о секретных документах, циркулярах, приказах, о том, как оккупанты грабят край, убивают невинных людей, о том, что в воздух взлетают мосты, сгорают немецкие комендатуры, казармы, что всюду растет сопротивление врагу.
Свою «двоюродную сестру» Орловы полюбили, как родную.
Наш отряд расположился лагерем недалеко от деревни, где жил дядя Миша. Партизаны диву давались: то Силич, то Коваль уезжают из лагеря на каких-нибудь полтора-два часа и возвращаются с самыми последними новостями с фронтов. Казалось, нигде поблизости не было партизан, располагавших радиоприемником. А вот сегодня утром Леонид Петрович читал нам вчерашнюю сводку Совинформбюро. Через несколько часов она, размноженная в десятках экземпляров, была распространена в окружающих деревнях.
Тайна вскоре открылась. В наш отряд вступила «двоюродная сестра» Орловых Зина — рослая, краснощекая девушка. Теперь мы каждый вечер собирались возле штаба, Зина надевала наушники и громко, слово в слово, повторяла сообщение диктора из Москвы. Она пробыла у нас около месяца, потом отправилась в другой район.
За несколько дней до того, как мы соединились с Красной Армией, мне привелось быть в деревне близ Шклова. Здесь мне рассказали о героически погибшей недавно девушке-десантнице. Застигнутая фашистами в укрытии, у радиопередатчика, она связкой гранат взорвала себя вместе с врагами.
— Как ее звали?
— Зина.
Мне ее обрисовали. Это была, несомненно, она, «двоюродная сестра» Орловых.
…Вот к нему-то, к дяде Мише, я и пришел, чтобы предупредить о приближающейся опасности и посоветоваться, где бы на время укрыться.
— На маленьком островке возле Заречья я приготовил шалаш. Это недалеко от гарнизона, немцам и в голову не придет, что мы там скрываемся. Собираюсь туда перебраться вместе с дочерьми.
Я переночевал там всего одну ночь. Тучи мошкары вились кругом и забивались в глаза, в нос, в уши… Мне тут не понравилось — кругом топи, если нас заметят, бежать некуда. Мы ушли в другое место.
В воскресенье пятнадцатого мая к исходу дня в Костричи и Дуброву пришли гитлеровцы.
Я снова прибежал к дяде Мише и посоветовал немедленно покинуть деревню.
— Вы идите, — успокаивал он меня, — а нам спешить нечего, раньше завтрашнего утра они сюда не явятся.
Мы ушли.
На следующий день, едва рассвело, мы услышали далекую стрельбу, гудение машин.
«Раненько, — подумал я, — они нагрянули. Успел ли дядя Миша скрыться?»
— Товарищ командир, — обратился ко мне Андрей Рощин, парень родом из Старого Спора, — разрешите, пойду поразведаю, что кругом делается…
Неизвестность нас угнетала — разведчики привыкли все узнавать первыми. Андрей с товарищем скрылись в зеленых зарослях. Не прошло и получаса, как в лесу началась стрельба. Наши разведчики вернулись, запыхавшись.
— Лес кишит фашистами!
Метрах в десяти от нас, правее, лежал Тимохин.
— Тише, — подал он нам знак, — идут!
Нас было двенадцать человек. Мы замаскировались позади старого, упавшего дерева. Приближалось десятка два гитлеровцев. Метрах в двадцати за ними шла еще одна группа — прочесывали лес. Мы затаили дыхание.
— Если они нас заметят, — прошептал я ребятам, — мы их обстреляем первыми, прижмем к земле, а потом побежим.
Немцы все ближе, вот нас уже разделяет не больше десяти — пятнадцати метров. Как легко было бы в другое время уничтожить их… Но на этот раз наша цель не выдать себя.
— Вперед! — шепотом приказал я. — Перебежим туда, где они только что прошли.
Враги прошли мимо. Но стоит им сейчас повернуть назад, и они наткнутся на нас.
Мы забрались в густой кустарник около дороги. Как долго тянется время! Тишина…
Кто-то идет. На дороге три женщины.
— Не спрашивайте их ни о чем, не останавливайте, — предупредил я товарищей.
И действительно, это оказалось уловкой немцев. Они захватили этих женщин в лесу и заставили двигаться впереди себя. Цель ясна: при виде гитлеровцев все прячутся, а женщинам кто-нибудь, может, и выйдет навстречу.
Мы уже три дня лежим в укрытии, легко одетые, без еды, разложить костер опасно. Кругом, во всех деревнях, немцы.
«Довольно, — решили мы, — в штаб мы все равно никаких сведений не посылаем, надо отсюда выбираться».
— Как только стемнеет, — заявил я своим ребятам, — мы отправимся в путь. Пойдем по направлению к городу, там, надеюсь, спокойнее.
За лесной полосой в туманной утренней дымке показались первые дома деревни Гуты. Мы осторожно прокрались к кладбищу. Долго я вслушивался, глядел в бинокль — на деревенской улице несколько вооруженных людей, во всем остальном обычная картина — пастух гонит стадо, из всех труб тянется дым, дети бегают по улице…
— Чижик, двинь к деревне огородами, в случае чего мы откроем огонь, дадим тебе возможность добраться назад к лесу.
Вернулся он не один. Мы бросились навстречу.
— Сеня, Петренко! — воскликнул я, узнав издали спутника Чижика. Это был наш партизан, командир взвода, оказавшийся здесь со своими бойцами.
— С тех пор как началась блокада, — рассказал он, — мы тут так живем: они отсюда, а мы сюда. Боже мой, какие вы обросшие, грязные! На Тимохине лица не видать, один нос торчит. Пошли скорее, успеть бы вместе позавтракать, а то нам уже пора убираться отсюда.
— Семен, — спросил я его, — ты видел ночью зарево пожара? Какие, по-твоему, деревни горели?
— Это где-то в районе Кострич, Старого Спора, Великой Старины… Вы же идете оттуда, вам лучше знать…
— Мы идем оттуда, но знаем не больше твоего. Если это так, значит, фашисты оттуда убрались. Поджогами они обычно завершают дела. День отдохнем, а вечером дашь мне коней, пошлю туда двух разведчиков.
На следующее утро мои разведчики вернулись. Вот о чем они рассказали.
Фашисты одновременно окружили деревни Старый Спор, Великую Старину и Березовое Болото. Дядю Мишу с сыном они захватили в поле. После страшных пыток расстреляли его, жену, сына и двух младших дочерей. Старшие две дочери, скрывшиеся в соседнем селе, спаслись. В деревне расстреляли еще многих, сожгли хаты. Когда немцы ушли и крестьяне хоронили убитых, тело дяди Миши нигде не было обнаружено, хотя соседка уверяла, что сама видела его труп.
Застигли врасплох и расстреляли ту, что стала мне второй матерью, Игнатьиху, избу ее сожгли. Одну женщину убили только за то, что в растерянности и страхе назвала офицера не господином, а товарищем. Десять человек расстреляли в Березовом Болоте, нескольких угнали с собой. Двадцать человек были вывезены из Усоха и убиты в Бацевичах. Среди них был и наш стражский друг Семен Бируля.
Я не мог совладать с собой, сходил с ума от горя — сколько потеряли мы дорогих людей, преданных друзей… В этот день прибыло еще одно ужасное известие: в городе арестовали многих наших агентурных разведчиков, среди них и Таню Гусеву — младшую дочь Игнатьихи. Сколько бед сразу обрушилось на нас!
— Друзья! — обратился я к своим разведчикам. — Мы собирались пробыть здесь несколько дней. Но теперь считаю, что нам следует сегодня же вернуться в свой район — в такое время мы обязаны быть вместе с нашими близкими.
Разведчики со мной согласились.
Мы постучались к сестре Андрея Рощина.
— Кто там? — спросила она в испуге.
— Это мы, открой, — ответил ей брат.
— Обогрейтесь и уходите отсюда…
Среди расстрелянных фашистами был и ее муж.
В Великой Старине мы над свежей могилой Игнатьихи дали три залпа — с такими почестями хоронили партизан, героически погибших в борьбе против оккупантов.
Рано утром встретили мы в лесу старшую дочь дяди Миши.
— Лена, куда ты идешь?
— К отцу.
«Она, — подумал я, — сошла с ума…»
— Где же ты его будешь искать?
— Мне его искать не надо, я знаю, где он…
— Где?
— В том самом шалаше, куда он предлагал вам перебраться.
— Лена дорогая!.. Что ты говоришь? Твоего отца фашисты расстреляли. Слышишь? Расстреляли…
— Нет. Они в него стреляли, но не убили. Пять пуль в него попало, но он жив. До леса он сам дополз, а там помог ему наш пастух… А это для него завтрак. Может, у вас есть чистая марля? Нечем раны перевязать.
Я остолбенел. То ли она правду говорит, то ли… Девушка продолжала путь, мы за ней. Возле шалаша стояла Галя, сестра Лены.
— Как отец?
— Лучше.
— Правда?! — крикнул я и бросился бежать к шалашу.
На земле была постлана свежая солома. Дядя Миша лежал весь забинтованный, только борода была видна, но и она из красновато-рыжей стала седой. Он тяжело и прерывисто дышал.
— Дядя Миша, ты жив? Вымолви хоть слово…
— Садись возле меня, сынок, но не прикасайся ко мне — каждая жилка болит. Я жив, видишь ведь, жив. Это сам бог мне жизнь подарил, чтобы я мог за все расплатиться. Скажи, ты возьмешь меня к себе? Меня и дочерей, а? Плохо, видно, враги знают Орловых. Берегитесь же! Вместе по одной земле нам не ходить. Так говорю я, Михайло, так говорят мои дети, так будет…
Он попытался подняться, но я его удержал.
— Ваня, — обратился я к Чижику, — садись на коня и разыщи наших. Писать ничего не буду, сам все расскажешь, но без врача не возвращайся. Езжай!
Я осмотрел и перебинтовал раны на голове, на плече дяди Миши. Три зуба у него полицай кулаком вышиб.
— Стреляли в нас из пистолетов. Первая пуля попала в дочурку и сразу ее уложила. Потом они попали в Митю, сынка моего. Он только успел крикнуть: «Папа!» — и ухватился за меня. Мы оба упали. Если бы не ночной холод, я, может быть, еще долго не пришел бы в себя. Они нас из хаты в одних рубахах вывели… Не рубахи, шкуры я с них сдирать буду. Об одном молю — скорее бы на ноги встать… Я знаю, что мне делать…
Спустя три месяца он уже был здоров. Со старшей дочерью, Леной, они остались в моей группе… Вторую дочь, Галю, взяли в отряд. Лена часто отправлялась в город, носила туда взрывчатку, а оттуда доставляла нужные сведения.
СТАР И МЛАД
Из города нам сообщили, что освободили Таню Гусеву.
«Тут что-то неладно», — подумал я.
Послать к ней кого-нибудь я не мог, потому что теперь, вероятно, за каждым ее шагом следят.
В один из этих дней подошел ко мне Тимохин и сообщил, что час тому назад к своей тете в Усох пришла Таня. В первую минуту мне захотелось вскочить на коня и поскакать туда, но нет, этого делать нельзя.
— Кто-нибудь из наших говорил с ней?
— Нет.
— Пусть никто не попадается ей на глаза. Она сюда сама придет.
Долго ждать нам не пришлось. Таня — худая, бледная, но та же Таня с ласковым взглядом потемневших глаз — пришла.
— Садись возле меня.
— Не могу… Здесь быть мне тяжело… Пойдем в лес…
Мы забрались на лужайку поодаль от деревни и уселись на траве. Далеко разносился влажный и нежный аромат спелых ягод.
Она принесла с собой узелок, развязала его и вынула колбасу, конфеты, консервы, концентраты.
Я смотрел на все это и молчал.
— Почему ты не спрашиваешь, где я это взяла?
— Сама расскажешь.
— Я это получила как аванс за твою голову.
— А остальное когда?
— Никогда.
— Почему?
Сказанного слова назад не вернешь. Я сразу понял: последнего вопроса я не должен был задавать. Она не могла больше сдерживаться и разрыдалась.
— Даже в гестапо знают, что моя мать тебя сыном считала… что же мне? Убить брата?
— А сестра твоя Наталья знает, куда тебя послали?
— Да. И она была арестована. Когда я дала согласие отправиться сюда, ее освободили, предупредив, что, если не вернусь, ее убьют.
— Что же теперь будешь делать?
— То, что ты скажешь.
— Да. Все это надо обдумать, сам я ничего не могу решить. Вероятно, дело придется изобразить так, будто мы тебя разоблачили и убили. Сделаем так, что не только гестапо, но и Наталья не узнает правды. Отдохни здесь, скоро вернусь.
— Подожди, я еще не все рассказала.
— Потом. С тобой Коваль будет беседовать, тогда ты все по порядку расскажешь.
— Нет. Потом может быть поздно. Сюда еще одна женщина прислана, и, мне кажется, с таким же заданием. Ей обещали освободить арестованного сына. Ее после меня ввели в кабинет начальника немецкой разведки.
— Ты не знаешь его фамилии?
— Нет.
— Он высокий, толстый, в очках?
— Да.
«Ну, — подумал я, — этим делом занимаются не мелкие сошки». Это был один из крупнейших гитлеровских шпионов в Белоруссии, начальник пятого отдела Шмитлайн.
— Сколько раз ты его видела?
— Два раза. Когда меня к нему привели в первый раз, он был раздражен и зол. Зато во второй раз угощал конфетами, кофе, говорил по-русски, сам инструктировал, как мне себя дальше вести.
— Что именно они тебе предложили?
— Они велели мне самой придумать, каким способом тебя к ним заманить. Я сказала, что сообщу тебе об оружии для партизан, которое имеется у одного человека. Чтобы получить его, ты должен с ним встретиться в условленное время где-нибудь недалеко от города. Когда я пойду к этому человеку, дам им знать. А все остальное пусть сами придумают. Начальнику этот план понравился, и он пообещал осыпать меня подарками, если все это удастся.
Через несколько дней Таня заболела сыпным тифом, и я отправил ее к знакомому крестьянину километрах в шестидесяти отсюда. Из города дошли до меня сведения, что женщина, о которой Таня меня предупредила, получила задание приготовить самогон и всыпать в него яд, полученный ею в гестапо. Этим зельем она должна была угостить моих разведчиков.
Почти все сведения, нужные штабу, уже есть. Не доставлены они только из одного гарнизона. Сидим у леса на холме и всматриваемся в даль, где клубятся и тают редкие облака, то взвиваются, то застывают в воздухе резвые стрижи. Ждем — не покажется ли наш посланец? Андрей Рощин первый заметил движущуюся фигуру.
— Кто-то идет! Может быть, он…
Но прошло полчаса, а человек все еще находился на большом расстоянии от нас.
— Черепаха, — проворчал Чижик, — придется поспешить ему навстречу.
Пришелец оказался не тем, кого мы с нетерпением ждали. Это был какой-то одноногий старик. Он еще издали приветствовал нас. Вытерев рукавом потный лоб, он сделал несколько шагов, на большее у него уже не было сил, и медленно, осторожно опустился на землю. Его обветренное лицо обрамляла окладистая седая борода, из-под мохнатых, словно изморозью припорошенных бровей смотрели выцветшие, усталые глаза.
— Дедушка, откуда?
— Из города.
— Сколько же дней ты сюда добирался?
— Когда-то на это у меня уходило четыре часа, а теперь четверо суток.
— Куда же ты идешь?
— К людям… Голод меня гонит, я и ползу. Пятьдесят лет работал, а видимо, ничего лучшего не заработал…
Слезы, как крупные горошины, катились по морщинистым щекам и прятались в седой бороде.
— Кто же в этом виноват? — спросил я.
— Кто? Кто бы вы ни были, а сами должны знать, кто виноватый. Антихрист виноват! Не смотрите так на меня, мне бояться нечего. Худшей казни мне никто не придумает: родной сын поступил в полицию. Я ему говорю: «Ты тоже антихрист подлый». А вы кто будете — не полицаи, часом?
— Да-а-а…
— Что же, могу я дальше идти или вы меня за крамолу, может быть, заарестуете, а? «За выдачу властям партизана, — говорю я сыну, — дают целую пачку махорки и поллитра водки. Можешь пожаловаться, тебе авось дадут за меня окурок докурить и у пьяного немца изо рта винного духу носом потянуть…»
Андрей отозвал меня в сторону.
— Я знаю его, это родственник дяди Миши, звать его дед Ефим. Работал на деревообделочном комбинате, в последнее время перешел на пенсию. К нам в деревню несколько раз на комбинатской машине приезжал. Меня, конечно, не узнает, но родителей моих и старших братьев должен хорошо помнить. Сейчас потолкую с ним.
Упавшая слеза никогда не расскажет вам, радость ли родила ее или горе. Старик плакал, а я читал на его лице все движения усталого сердца, всю боль его. Дед Ефим плакал, целовал и крестил нас.
— Раз я теперь знаю, что вы партизаны, — говорил он, — могу открыть, куда иду, — ищу Михайлу Орлова… Потолковать с ним хочу, как сына из болота вытащить…
Дядя Миша должен был к ночи прибыть в деревню. Чижик с Андреем усадили старика на коня и повезли с собой.
Через несколько дней дед Ефим возвращался в город, унося к своему сыну письмо партизан. Прошло некоторое время, и тот принял наше предложение. Ему удалось устроиться на пост возле парома, где у каждого переправляющегося через реку проверяли документы. Мы, таким образом, заимели своего контролера, который дежурил у переправы три дня в неделю, — в эти дни мы могли посылать в город своих людей.
Жена деда Ефима работала уборщицей в городской типографии. Она добывала шрифт и другие необходимые типографские материалы, а муж ее доставлял их нам. Мы выделили для деда Ефима коня, телегу, и он регулярно курсировал в город и обратно. Нашу почту прятал он в своем деревянном протезе, и не только бумаги, но и взрывчатку перевозил таким образом — он сам до этого додумался.
Случалось, что и дети уходили из родного дома, бежали к нам. Мы обычно по-хорошему убеждали их возвратиться, иногда и просто отправляли назад. Но такого упрямца, как тринадцатилетний Володя Малец, я не встречал. Он, словно тень, следовал за нами по пятам. Стоило перебраться на новое место, как его «квартира» оказывалась в ближайшей к нам деревне. Позднее я узнал, что Чижик, отправляясь на задание, частенько берет его с собой. Я запретил разведчику делать это.
В один прекрасный день Малец явился ко мне.
— Может, все-таки примете?
— Нет.
— Тогда я сегодня уйду домой. Не нужно ли что-нибудь передать в город?
— А уйдешь?
— Честное пионерское!
Я поручил ему работу, которую счел подходящей для его возраста и опыта, научил, чем объяснить дома его долгое отсутствие, дал еды на дорогу. Володя ушел.
Прошло не больше недели, и он снова стоял передо мной.
— Володя, ты ведь дал слово?
— Я своему слову верен. Получу, что нужно, и уйду.
— Что же тебе нужно?
— Тол, взрывчатка…
Его, оказывается, прислал человек, о котором я знал. Малец получил тол и ушел. Через некоторое время он явился сообщить о результатах операции. Я уже все и без того знал.
— Ты, Володя, большое дело сделал, можешь со спокойной совестью вернуться в город.
— Согласен. Но вы как-то сказали, что неплохо бы взорвать котел электростанции. Позвольте мне принять участие в этом деле — больше вас беспокоить не буду…
Когда и эта операция была удачно завершена, он стал участником новой. Вскоре нам уже было трудно обходиться без него. Володя остался у нас.
Однажды он привез мне из города записку. Вручая ее, мальчик хитро ухмылялся.
— Чему ты так рад?
— Интересно, как вы ее поймете, очень интересно…
Передо мной был скомканный клочок бумаги, исписанный карандашом. Я прочитал:
«Дорогой брат с семьей, будьте все здоровы. Очень благодарен, что вы про меня не забываете, большое спасибо за сено, что ты мне прислал, потому что тут достать почти невозможно. Не обижайся, что я к тебе пристаю, но моя корова такая обжора, что она уже все сено поела. Сам понимаешь, раз она много ест, значит, и молочка прибавилось, кусок масла появился, мне и легче на свете жить. Немало таких, у которых вовсе нечем кормить худобу, вот и голодают. Передай всем привет. Желаю удачи. Особый поклон дяде с тетей. Твой брат Трифон. Привет от всей моей семьи».
— Ну что, догадались, о каком сене речь?
— Тол?
— Коли вам все ясно, вы, верно, знаете, кто писал?
— Знаю.
— А кто это дядя с тетей?
— Командир и комиссар.
Однажды Чижик и Малец напоролись на вражескую засаду и, спасаясь от погони, бросились в реку. Немцы обстреливали пловцов. Уже у самого берега Володю тяжело ранило.
— Чижик, — молил он со слезами, — застрели меня… Боюсь живым попасть к ним в руки…
До смерти измучился Чижик, но мальчика вытащил и на руках принес в лагерь. Редко выживают после такого ранения, но Малец выздоровел и вскоре снова взялся за прежнюю работу.
КОМСОМОЛЬЦЫ СЕЛА КОСТРИЧИ
В это время вблизи деревни Чатково оккупантам понадобилось построить мост через Березину, и полиция стала сгонять сюда молодежь на земляные работы. Группа партизан-подрывников Александра Жилкина дважды нападала на охрану строительных участков: в первый раз им удалось захватить лошадей, во второй — взорвать трактор и уничтожить несколько солдат. Немцы, однако, усилили охрану и продолжали строительство моста.
Молодежь деревень, что поближе к лесу, пряталась, уклонялась от выхода на работы.
— Ты ведь хороший плотник, — обратился я однажды к костричскому парню, бывшему трактористу Матвею Гильдинцу, не раз помогавшему нам в работе. — А что, если мы тебя попросим помочь фашистам строить мост?
— Как бы они, дьяволы, в один прекрасный день не загнали всех нас в лагерь или ненароком не увезли в Германию… Но если надо, ладно, пойду…
Когда полицаи в следующий раз пришли на облаву в Костричи, Матвей так «спрятался», что его сразу же обнаружили.
— Этот парень силен, как слон, он у нас будет деревья валить. Послушай, — сказал ему один из полицаев, — будешь хорошо работать, домой ночевать пустим, а вздумаешь отлынивать, познакомишься с нашим комендантом, и уж тогда моли бога, чтобы только поркой отделаться, у него недолго и головой поплатиться.
Матвей распространял среди молодежи на строительстве нашу партизанскую газету, листовки. Каждый день по десять — пятнадцать человек стали убегать с работы. Немцы, понимая, что это дело рук партизан, несколько раз устраивали засады. Комендант издал приказ, чтобы каждый нашедший листовку не смел читать ее, а немедля сдавал охране. Тогда Гильдинец стал «находить» и сдавать листовки, специально обращенные к полицаям.
— Я думаю, — сказал он мне однажды, — в Костричах нужно организовать подпольную комсомольскую организацию. Сами видите, какая у нас молодежь.
Через несколько дней нашему комиссару был отослан протокол собрания первой подпольной комсомольской организации в нашем районе. Комсоргом был избран Матвей Гильдинец. С этих пор в Костричах фашистам не удалось захватить и угнать в свои лагеря ни одного парня, ни одной девушки. Здесь была создана сильная самооборона со своей разведкой. Каждые сутки дежурил один из членов комсомольского бюро. Руководил ими местный житель, коммунист Семен Веденеев, назначенный нами комендантом. Вокруг костричской комсомольской организации объединилась лучшая часть молодежи ближайших деревень.
Земля в Костричах лучше, чем в соседних деревнях, и некоторые из полицаев ближайшего гарнизона облюбовали себе здесь участки.
— Отсюда, — сказал Матвей, — не дадим им вывезти ни одного колоса, этот вопрос обсужден и решен на бюро, уничтожать их посевы не будем, прикажут полицаи выйти на уборку — выйдем. Но в самую жатву вы пособите нам — хоть на несколько дней лишить их возможности вывезти снопы, а уж мы так упрячем этот хлеб, что они его вовек не разыщут.
Настало время уборки. Полицаи явились и привели с собой крестьян с подводами. Гильдинец встретил их выстрелом из ракетницы, и этого оказалось достаточно — полицаи в испуге сбежали.
— Завтра, — сказал я Матвею, — ракетница не понадобится, мои ребята нагонят на них страху.
Людей у меня было мало, вступить в бой или устроить засаду не имело смысла, и мы задумали другое. У нашего разведчика Тимохина заболела нога, и он остался в шалаше недалеко от опушки леса. Мы с ним условились, чтобы он, заслышав стрельбу, выпустил пару ракет и дважды взорвал по сто граммов тола; первый взрыв должен произвести впечатление выстрела, второй — взрыва мины, пусть полицаи подумают, что у нас есть миномет. Тол мы извлекали из неразорвавшихся немецких бомб, и его тогда у нас было достаточно.
Мы укрылись на кладбище. Лежим под старой березой и прислушиваемся — звенит в листве легкий ветерок, шумит крыльями вспугнутая нами стайка желтоперых чижей. Стало светать.
— Едут! — донес Гильдинец.
Как только полицаи приблизились, мы открыли стрельбу. Пригнанные ими крестьяне с телегами хлестнули лошадей и в несколько минут исчезли из глаз. Полицаи же на этот раз не ушли, а открыли ответный огонь из пулемета.
В это самое время раздались один за другим два гулких удара — в бой вступил «миномет» Тимохина. Судя по силе взрывов, он не поскупился — взорвал не по сто, а по двести граммов тола. Любо было видеть, как удирали полицаи.
— Ну, братцы, спасибо! — благодарил нас Семен Веденеев. — Сегодня они больше не придут, а завтра им отсюда нечего будет вывозить.
Мы возвращались в лес. Завьялов вдруг остановился.
— Стойте, у меня появилась мысль… А ну, становитесь все в ряд, так… Всего у нас тут десять винтовок. Как только первый выстрелит, второй произносит «раз» и стреляет следом, потом третий — и так далее, до последнего… Начинаем! Приготовились, огонь!
— Как ручной пулемет! — обрадовались мы все выдумке Завьялова.
— Теперь повторим… Но на этот раз стрелять без отсчета, один за другим.
Выстрелы затрещали частой дробью.
— Настоящий пулемет Дегтярева!
— Вот что значит стрелять по нотам, — довольно произнес Завьялов.
— Ура музыканту! — крикнул Чижик.
Итак, мы обладаем «пулеметами», есть у нас и «миномет» — кто же может с нами равняться?
Мы подошли к шалашу. Как же мы удивились, когда никого в нем не застали! На охапке свежескошенного сена лежала выцветшая гимнастерка, в ведрах над огнем варился завтрак… После первых минут недоумения пришла догадка: Тимохин, напуганный нашей «пулеметной» стрельбой, сбежал. Мы разразились дружным хохотом.
Полицаи так и не вывезли отсюда ни одного килограмма зерна.
Старостой в деревне по соседству с Костричами фашисты назначили Чикало, того самого полицая, которому удалось спасти свою шкуру после сергеевичского боя. До войны он сидел в тюрьме, осужденный за уголовные преступления. Боясь, как бы партизаны или крестьяне с ним не расправились, Чикало перебрался в Любоничи, поближе к немцам. В изуверстве он превзошел своих хозяев и, сопровождая карательные экспедиции, доносил фашистам: «Этот был бригадиром в колхозе», «У той сын ушел к партизанам», «Этот старик недоволен немецкими порядками», «Эту девушку необходимо заключить в лагерь — ее брат видный советский офицер…»
— Не ползать по земле этой гадине! — твердо решили костричские комсомольцы.
Но Чикало знает, как в селе его «любят», и без оружия не выходит из дому. Из Любонич он всегда идет вместе с немцами или полицаями — как же его захватить?
Матвей Гильдинец ночью перебрался в Любоничи и двое суток скрывался в погребе дома, где жил его друг, согласившийся помочь в задуманном деле. Наконец последний дал ему знать:
— Сейчас должен здесь пройти Чикало. Еще рано, люди не спят, действовать надо быстро и тихо.
Матвей вылез из подвала и прислонился к дереву у забора. В одном кармане он нащупал пистолет, в другом пару гранат — это он получил у партизан на крайний случай, но без нужды стрелять нельзя — поднимется тревога. Какую же смерть придумать для палача? Матвею тут все знакомо, каждый дом, каждый куст. И вдруг молнией сверкнуло в мозгу — где-то здесь близко должен быть глубокий заброшенный колодец…
Идут!
Матвей услышал голос товарища:
— Господин Чикало, вы мне нужны на одну минуту, хочу вам сказать нечто очень важное.
Гильдинец перебежал в соседний двор, вот они — стоят и беседуют. Словно кошка, подкрался комсомолец, и когда Чикало повернул голову, его глаза встретились с парой горящих глаз и сверкающим дулом пистолета, а парень, только что беседовавший с ним так дружески, стал вмиг неузнаваем. Точно клещами зажал он обе руки старосты.
— Тихо! Ни звука!
Обезоружив Чикало, друзья потащили его к колодцу — тело плюхнулось вниз.
Гильдинец с товарищем бежали в лес, к партизанам.
Трудно поверить, но Чикало остался жив. Хозяин двора услышал крики из колодца и поднял шумиху. Сбежались люди. Увидев спасенного, они долго не могли прийти в себя от огорчения — столько времени ждать гибели этого выродка и собственными руками его спасти!
Чикало пролежал в городской больнице больше полугода. Потом вернулся, кривой, искалеченный, но еще более жестокий, чем прежде.
В штаб пришел Гильдинец и стал просить:
— Разрешите мне еще одно свидание с Чикало, воскресение из мертвых не повторится.
— Действуйте! — разрешил Боровский.
Во Власовичи прибыли немцы и стали гнать молодежь на строительство укреплений. С ними явился и Чикало. Среди бела дня он прошел по улице один. Да и кого, собственно, бояться? Здесь, в деревне, уже долгое время не показывались партизаны. Старосту остановила высокая, статная девушка:
— Ты меня узнаешь?
Девушка два раза подряд выстрелила — обе пули попали в цель. Матвей Гильдинец сбросил платье, платок.
— Можете всем рассказать, чья это работа! — громко крикнул партизан и бросился бежать к лесу.
Вечером он рапортовал комбригу:
— Свидание состоялось, Чикало мертв!
МАКСИМ СИНИЦА И МАЛЕНЬКАЯ КСЮША
С начальником разведки Максимом Синицей мы были ровесники и большие друзья. Родом белорус, он походил на узбека: смуглое лицо, широкая белозубая улыбка, черный чуб, зачесанный набок. Его сестру фашисты расстреляли, отца до смерти запороли. Оставшиеся в живых мать и братишки не имели пристанища — что ни день, то другая изба, что ни ночь, то другой ночлег. И ничего нет удивительного, что в моем друге кипела неутолимая ненависть к врагу. До войны Максим служил командиром в горнокавалерийской части.
— Этих дружков, — говаривал про нас с ним Силич полусерьезно, полушутя, — трудненько проверить: помощник вряд ли подведет своего командира, но если и подведет, начальник его не выдаст.
В действительности же Синица был очень строгим командиром. Он прекрасно знал свое дело и был способен семь потов согнать с разведчика, неудачно выполнившего задание, но зато перед командирами стоял горой за своих ребят.
— Тому, с кого много требуют и от кого немало получают, кое-что и простить не грех, — говорил он в таких случаях.
Не любил Максим засиживаться в лагере, все тянуло его к разведчикам, туда, где опасность больше. Его приход на мой участок бывал для меня бедствием.
— Отдохни, брат, денек, тебе хватит работы, когда я уеду, — уверял он, отстраняя меня от дела.
Иногда мне все же удавалось пойти с ним на задание вдвоем. Зато в гости к своей матери он без меня не ходил. Сидели мы с ним однажды днем в одной из хат в его родной деревне. Был с нами и сапожник отряда Ефим Маргалик.
Вдруг соседский паренек постучал в окно и крикнул:
— Максим, полицаи!
Меня поразили спокойствие и невозмутимость Максима.
— Где? — спросил он.
— В деревне… С винтовками…
— Да ну? А у нас, по-твоему, что, побрякушки? — он показал на наше оружие. — Подождите, сейчас выясню, сколько их.
Я его не пустил. Это, кажется, был единственный раз, когда я восстал против своего командира. Какая-то женщина вбежала во двор и стала умолять поскорее уйти из деревни. Мы сели на коней.
— Их много, много! — кричали нам.
— А сколько нас, вам известно?
Ефим Маргалик не переставал торопить:
— Бежим скорее!
— Сразу видать, что Ефим не разведчик, — проговорил Синица, обращаясь ко мне, — привык сидеть в лагере и латать сапоги. Маргалик! — крикнул он громовым голосом. — Галопом к командиру первой роты, передай приказ: обойти деревню справа, к командиру третьей роты — слева! Марш!
Тот хлестнул коня, повернулся лицом к нам и пожал плечами, как бы говоря: «Какие роты? Какие командиры?»
— Глядите, вроде бы и не дурак, а как до дела дошло, и разум потерял. Кончено! Не придется ему больше байки рассказывать и песни распевать — чаще, чаще в огонь посылать его буду.
Максим дал из своего автомата несколько длинных очередей. Гитлеровцы — их было человек пятнадцать — поверили, что нас много, струхнули и быстро убрались. Мы с командиром вернулись в избу заканчивать обед.
С этого дня Максим Синица стал часто посылать Маргалика на операции. Способ лечения оказался действенным — прошло немного времени, и Ефим Маргалик стал адъютантом комбрига Боровского, человека необычайной храбрости.
Случилось так, что я лежал один под мохнатой, тенистой елью, недалеко от деревни. Солнце опустилось за лесом, края облаков еще мгновение сверкали нежной позолотой, потом все погасло. Надвинулась тихая, темная ночь. Из деревни доносился лай собак.
Вдруг вблизи меня послышались мужские голоса. Своих разведчиков я в эту пору не ждал и насторожился. Отойдя подальше от тропинки, прижался к дереву.
— Он где-то здесь должен быть… Совсем недавно, вечером, его видели недалеко отсюда, — услышал я.
Бывает так — кругом пули свистят, снаряды рвутся, а ты безмятежно спокоен и будто не замечаешь опасности, а бывает и наоборот — без особой причины на тебя вдруг нападает неодолимый страх. Слышу — обо мне говорят, убежден, что это полицаи. Кто-то выдал меня, и вот они ищут. Мне и в голову не пришла простая мысль: как они ночью в лесу рассчитывают найти меня? Видимо, сказывалось еще не ослабевшее напряжение недавно окончившейся блокады, а может быть, я в состоянии дремоты не отдавал себе ясного отчета в происходящем. Уйти тихонько глубже в лес? Нет, так поступает трус. Когда они уже прошли, я вдруг крикнул:
— Пароль!
— Не стоило его искать, раз он не принимает гостей без пароля, — узнал я голос Синицы. — Мы что, напугали тебя?
— Да.
— Бывает. — Мы дружески обнялись. — Меня, знаешь, однажды ночью сова насмерть перепугала. Почему ты один?
Я объяснил.
— Не будь ты мне другом, ты бы за это дело отсидел несколько суток под арестом. Ну что ж, зато отсидим вместе в ресторане, когда соединимся с Красной Армией.
Ксюша Малеева, или маленькая Ксюша, как мы ее называли, разведчица с солидным стажем. Всего ей восемнадцать лет, но сколько горя она успела хлебнуть! Фашисты живьем сожгли все население ее родной деревни. Погибли ее родители, сестры, братья, друзья, товарищи. Случайно спасшаяся, одна-одинешенька шла она из деревни в деревню, живой свидетель страшного злодеяния. Потом винтовку в бою добыла. Когда Ксюша скакала на коне, один только Чижик мог ее догнать. Часто пропадала она целыми неделями — выполняла специальные задания. Худенькая и быстрая, с тонко заплетенными косичками, в коротеньком платьице, она казалась школьницей. Целыми часами могла Ксюша лежать в шалаше или возле костра, запрокинув к небу голову, и молчать. Но смеялась она звонко и заразительно.
Синица ее любил. Я это заметил. Недавно он и сам по секрету мне сказал:
— Вот кончится война, поступлю в военную академию, а Ксюша будет учиться в средней школе… Ты придешь на нашу свадьбу?
— А ты соперников не боишься?
— Нет.
— Что ж, поздравляю!
— Пока молчи.
— Есть молчать!
В один из жарких летних дней гитлеровцы барчицкого гарнизона пригнали на пастбище большие стада скота.
— Надо отбить этот скот, — приказал Силич.
— Только предварительно выясните все точно, чтобы, чего доброго, не захватить крестьянской скотины, — добавил комиссар.
Мы — Малеева, Тимохин и я — лежим на опушке леса. То всколыхнется трава и запахнет медом, то застрекочет лесной конек. Впереди место ровное, открытое глазу, в бинокль все видно как на ладони. Следим за Барчицей. Напротив нас ветряная мельница, под самой ее крышей какое-то подобие балкона, на балконе немец. Оттуда он просматривает всю местность.
— Командир, этот фриц на вышке нам может помешать, не правда ли?
— Надо вести себя так, чтобы не помешал.
— А не лучше ли, чтобы он вовсе не торчал там? — спрашивает Ксюша.
Этот вопрос вызывает у меня улыбку.
— Разумеется, лучше.
— Разрешите взять у Корбуша оптический прицел и снять фрица.
— А если не снимешь?
— Что ж, Корбуш, конечно, снайпер, но и я не промахнусь. — Она сощурила левый глаз, прижала винтовку к плечу и потянулась пальцем к курку.
— Стой! — схватил я ее за руку. — Ты еще и вправду выстрелишь.
— Разрешите мне…
— Не сейчас. Когда стада будут в лесу, в наших руках, тогда попытайся, только смени свою винтовку на снайперскую.
Это ей понравилось.
— Знаете, что я теперь думаю? Пусть Тимохин возьмет винтовку, а я проберусь в деревню, все выясню, высмотрю, точней сможете вести стрельбу.
— Мысль, пожалуй, стоящая…
В это время подошел к нам Синица:
— Максим, Ксюша хочет идти в деревню.
— А ты как думаешь?
— Послать.
— Посылай.
Максим ложится рядом со мной, берет мой бинокль, — он ему нравится больше, чем его собственный, — и не отрываясь смотрит вслед удаляющейся Ксюше.
— Почему она идет так медленно? — волнуется он.
Успокаиваю его:
— Она собирает цветы. Видишь, вон еще одна женщина недалеко от нее… Обе идут в деревню — это лучше.
Когда Синица нервничает, он жует все, что попадает под руку, — спичку, клочок бумаги, в крайнем случае ногти. Сейчас лето, и пахучая, нежная трава сама просится в рот — он жемчужно-белыми зубами грызет хрустящий стебелек.
Перед нами широкий луг, который тянется до самых деревенских огородов, над нами глубокое безоблачное небо. Время уже после девяти, становится жарко. Вдалеке на лугу пасутся стада, головы коров обращены к лесу, — значит, скотина двигается сюда. Два паренька пасут стадо гусей, оно кажется колышущейся на ветру белой простынкой, а клювы их среди зелени — цветками мака.
Тимохин взобрался на высокое дерево, его вершина имеет вид зонта — очень удобно для наблюдения.
— Она возвращается, — сообщает он.
— Скажи, — говорю я тихо Максиму, — если бы с ней что-нибудь случилось, ты бы меня, наверно, возненавидел?
Он не спускает глаз с приближающейся Ксюши и так же тихо произносит:
— Нет.
Знаю, Синица не соврет.
Ксюша идет дорогой, ведущей к нам. Тимохин с дерева рапортует:
— Немец на ветряке, кажется, следит за ней.
— Сейчас это ей не опасно. Пусть глядит, покуда его гляделки еще открыты, а ты смотри, чтобы он тебя, ку-ку, не заметил, это опаснее: обедню нам испортишь. — Повернувшись ко мне, Максим, растягивая слова, продолжает: — Нелегкая штука ждать, куда легче шагать рядом…
Ксюша Малеева подошла, отставила левую ногу, прищелкнула правой и по всем воинским правилам обратилась к Синице. Я заметил, как заблестели у девушки глаза, когда она подняла их на своего начальника.
— Товарищ командир, разрешите обратиться к вашему помощнику.
Синица всегда требовал, чтобы к нему обращались, подходили и уходили так, как полагается по воинскому уставу.
— Обращайтесь, — ответил он с едва заметной улыбкой.
Малеева рапортовала:
— Немцы большей частью разбрелись по хатам и напились до белых чертиков. Крестьянское стадо — то, что поближе к лесу.
— Молодчина, Ксюша!
Начальник штаба капитан Иваненко зачитывает приказ: гнать стада — хозяйственникам, охранять их — второй роте, первой роте укрыться у опушки и не подпускать немцев до тех пор, пока мы со стадами не доберемся до большого леса.
Коровы уже совсем близко. Хуже обстоит дело со свиньями: больше сотни их находится еще далековато. Двинуться туда с винтовкой нельзя, часовой на ветряке непременно заметит.
Иваненко обращается к девушкам:
— Кто из вас берется «попросить» пастухов быстрей подогнать свиней к лесу?
— Я!
— Я!
— Мы втроем!
— Столько не нужно…
— Товарищ начальник, — говорит Николай Корбуш, — я надену женское платье и платок, пусть идет со мной одна из девушек, и не беспокойтесь, все будет в лучшем виде…
— Хорошо, с тобой пойдет Галя Орлова, она первая вызвалась.
— Ну вот, раз-два — и готово… Дайте, пожалуй, пару гранат на случай, если вдруг придется снова стать мужчиной…
Оба прячут пистолеты.
Коля с Галей держатся за руки, лузгают семечки, смеются и спокойным, неторопливым шагом идут к деревне. Галя светло-русая полная девушка, две толстые косы с заплетенными яркими лентами лежат на спине. Коля в пестром платье со множеством оборок, голова его повязана цветастым платком — ни на миг не усомнишься, что перед тобой деревенская молодуха.
— Они великолепны! — восклицает Иваненко в восторге.
Остальные девушки ждут: как только стада приблизятся, они выбегут и станут загонять скотину в лес.
Тимохина на дереве сменяет Малеева. В ее руках снайперская винтовка Корбуша.
Ксюша доносит:
— Наши беседуют с пастухами… Внимание! Гонят…
Синица смеется:
— Выполнили свою дипломатическую миссию…
Когда до леса остается меньше ста метров, немец на мельнице дает несколько выстрелов. Вверх взлетает красная ракета и рассыпается снопом искр.
Силич командует:
— Хозяйственники, вперед! Скорее, скорее гоните скотину!
Ксюша со своего поста справляется:
— Теперь его можно снять? А то он уйдет…
— Нет!
В деревне суматоха, беготня. К лесу бегут десятки гитлеровцев. Несколько велосипедистов их обгоняет. Вторая рота открывает пулеметный огонь — велосипедисты валятся в одну сторону, велосипеды — в другую, пешие поворачивают назад.
Когда на мгновение затихает стрельба, раздается одиночный выстрел — Ксюша Малеева дождалась своего…
— Слезай! — кричит ей Максим.
Немцы обстреливают лес — рвутся мины, свистят пули.
— В путь! — раздается команда.
Первая рота движется медленней других, она — боевая охрана тыла.
Вот кончается сосновый бор и перед нами открывается светлая поляна. Дорога змейкой вьется вверх и, затянутая золотистой пылью, теряется у горизонта.
ПАРТИЗАНСКИЕ БУДНИ
Знаете ли вы, как разложить костер в лесу, когда нет спичек? Вы, вероятно, вспомните, что читали о первобытных людях, и скажете: нужно тереть дерево о дерево до тех пор, пока оно не загорится. Друзья мои, если вам случится ночью после сильного ливня заблудиться в лесу, когда от холода не попадает зуб на зуб, а где-то неподалеку волк завывает так, что в ужасе сжимается сердце, — если с вами такое случится, как это однажды было со мной, не возлагайте надежд на этот древний способ — день наступит прежде, чем вы таким образом добудете огонь и тепло.
В селе ждали меня разведчики, и я торопился туда. С завязанными глазами, кажется, нашел бы я дорогу. И мне и коню моему была знакома здесь каждая тропка. И все-таки вот уже больше часа мечусь я по лесу. Что случилось?
Дай я волю коню, мы, без сомнения, давно были бы уже в деревне. Но я имел глупость рассердиться, когда он, испугавшись ночной птицы, неожиданно рванулся так, что чуть не выбросил меня из седла, и стал хлестать его плетью, забирая то левее, то правее.
Когда же я потом спохватился, конь безнадежно сбился с пути.
Все гуще лес и все темнее, на каждом шагу больно ударяюсь то плечом, то головой о ветви, и меня обдает ледяная капель.
Останавливаю коня; все равно в темноте дороги не найти, а так недолго угодить и к черту на рога…
Сижу в седле, припав головой к его гриве, ноет поясница, мне все холоднее и холоднее…
Слезаю, делаю несколько шагов, обувь промокает, возвращаюсь, прижимаюсь к коню — отогревается плечо, но озноба во всем теле не унять.
Срезаю ножом куски березовой коры, ощупью собираю валежник в кучу. Теперь недостает одного — огня.
Уже который раз шарю в карманах — спичек нет. Что делать?
Вдруг конь поднимает голову, настораживается, затем испуганно храпит и начинает бить копытами. Привязываю его к дереву. Два зеленых огонька мелькнули в темноте ночи, потом они слились в один и исчезли. Это волк. Даю выстрел, огоньки больше не показываются. Волк начинает где-то завывать жалобно и протяжно, словно заодно и просит и грозит: «Ну, дай, я сожру тебя, я голоден и все равно не отступлю». И вспомнилось мне, как однажды в зимнюю ночь волки, окружили наш лагерь в Усакинском лесу; сколько мы ни стреляли, они до самого рассвета не переставали выть…
Но как же все-таки разжечь костер?
В кармане у меня зажигалка, но камешек истерся и ватный фитилек сух, без капли бензина. Как быть? Вытаскиваю из зажигалки вату, подкладываю к ней отломленную от старого пенька гнилушку. Она светится и указывает местонахождение моего холодного костра. Выдираю из нескольких патронов пули и высыпаю порох на вату. Одной рукой держу за уздечку коня, чтобы не рванулся, другой сжимаю пистолет и целюсь туда, где светится гнилушка.
Огонь, вырвавшийся из дула пистолета, вынудил меня на мгновение зажмурить глаза. И в ту же секунду я услышал звуки, напоминающие потрескивание жарящихся семечек. Воспламенилось зернышко пороха, за ним второе, совсем с неожиданной стороны — третье, потом вспыхнули все сразу, и наконец загорелась вата и задымилась кора. Она свертывается, судорожно корчится, огонь охватывает веточку, которая тут же гаснет. Но партизана не учить костер раскладывать: искра есть — будет и пламя.
Стало светло и тепло. Мой конь косится глазом на огонь, от его бока, обращенного к костру, идет густой пар. Волк отступил. Он еще выл, но уже совсем далеко. Вскоре он и вовсе умолк.
Вот когда и познаешь истинную цену огню.
Чем ближе утро, тем холоднее. Светает.
Встаю, собираю ветки, бросаю в костер: «На́ тебе последнюю порцию пищи». Теперь мне бы только добраться до первого колышка линейки, и я узнаю, на каком квадрате нахожусь. Для меня это то же, что найти дорогу.
Мой конь проголодался, ему холодно, и он рвется вперед.
Я прибыл вовремя — мои товарищи собирались завтракать.
— Больше никуда одного не пущу вас, — проворчал недовольно Чижик. — Вы спокойно спали, а я вас всю ночь разыскивал…
Наутро к нам со своим взводом подошел Семен Петренко. Его заместитель Саша Барташевич — родом из деревни, лежащей на нашем пути к городу, и в которую мне предстоит зайти узнать, что нового в гарнизоне.
— Пойду с тобой, — попросился Саша, — давно мать не видал.
Пошел с нами и Петренко.
Отчим Саши служит в соседнем гарнизоне. Правда, при встрече они с оружием друг на друга не кинутся, нет, они уже не раз встречались и добрыми друзьями расставались — такой уж «полицай» его отчим. На службе у немцев он по нашему заданию, — знают об этом, конечно, считанные люди.
Семен постучал в окно. Мать Саши открыла дверь, и мы втроем вошли в хату. Она, несомненно, нас узнала сразу, но почему-то не поздоровалась, а начала искать спички, раздувать уголья в печке.
Несколько горящих лучин на шестке осветили хату. Вдоль стены тянется ряд кадушек с пышной геранью и фикусами, почти упирающимися в потолок.
Петренко строго спросил:
— У вас тут чужих нет?
— Ночуют две женщины, сама-то я их не знаю, дом ведь на тракте, попросились переночевать, я их на одну ночь и пустила.
Семен стал кричать:
— Муженька ты своего тут запрятала…
— Боже мой! — запричитала она. — Как немцы приходят в деревню, так начинают меня мучить. «Твой сын, кричат, партизан!» Вы приходите — и кричите на меня за то, что муж полицай. Что же могу я, бедная женщина, с малыми детьми делать? Они нешто слушают меня? Спрашивают, что ли, кому какой дорогой идти?
Я серьезно задумался над тем, как тяжело этой женщине. Заговорил ее сын, которого я локтем подтолкнул к выходу:
— Только не плачь. Что муж у тебя полицай, знают все, а что сын твой партизан, того мы не знаем, что-то не слыхали о таком партизане. Захвати-ка огонь, посмотрим в сенях, нам известно, что муж твой ночует здесь.
Саша, его мать и Петренко вышли из хаты.
«Что-то долго они там задерживаются, — подумал я, — видимо, много новостей доставил на этот раз «полицай».
В эту минуту послышался шум, стук, треск. Я распахнул дверь и закричал:
— Довольно, хватит, оставьте ее в покое. Попадется нам ее муж — мы с ним рассчитаемся…
Петренко со своей группой надолго задержался на моем участке, и у меня было время внимательно присмотреться к его людям, среди них — к малорослому, худенькому и молчаливому Борису Соловейчику.
Его фамилия была Соловей, но в отряде все его называли Соловейчиком. Этот молодой спокойный чернявый парень мог часами молча сидеть, поджав ноги, и без устали чистить винтовку.
— Наш Борис в ближайшем будущем протрет дырку в винтовке — и главное, где? В казенной части, где металл потолще… С каким азартом трет! Загляденье просто! — подтрунивали над ним товарищи.
Но вывести Соловейчика из терпения не так просто. Командиры были им довольны. Правда, сам он никогда ничего не предпримет, но что ему ни прикажешь, он безоговорочно выполнит. Не было случая, чтобы Соловейчик отказался от какой-нибудь работы, задания. Его дело — выслушать, повторить, выполнить.
Он был непривередлив в еде, неприхотлив в одежде. На нем были черные крашеные брюки, серая рубашка, расползавшаяся в десятках мест.
— У нас не найти еще такого оборванца, как ты, — сказал ему как-то Петренко. — Не можешь, что ли, раздобыть рубашку или немецкую куртку?
— У гражданских брать не хочется, а с фрица не надену.
— Глупости!
— Знаю, но не надену.
Переспорить его было невозможно. Тогда Семен настоял, чтобы он починил свою одежду, и Соловейчик занялся этим с той же готовностью, с какой выполнял любое приказание командира.
Родом Соловейчик из Крыма, родители его жили неподалеку от татарской деревни. У товарищей он в детстве научился говорить по-татарски. Мог ли он тогда подозревать, что спустя много лет это спасет ему жизнь!
Он показал мне фотокарточку. На меня смотрел молодой красноармеец со стриженой головой, на нем были наушники.
— Я в армии был радистом, это фото собирался отослать родителям, но не успел — война началась.
Служил Соловей в части, расположенной близ границы. Не по радио узнал он о начавшейся войне — первые вражеские бомбы принесли эту новость. Дальнейший его путь — путь многих в первую пору войны: из одного окружения выбрался — в другое попал. В пути Борис был ранен и отстал от своей части, все его попытки догнать своих оказались безуспешными.
От центральных дорог он держался подальше, шел тропинками, проселками от деревни к деревне, от хутора к хутору. Улетают журавли, на вязах показались золотые пряди, все напоминает ему о том, что близится осень…
— Кто ты? — спросила его однажды крестьянка.
— Красноармеец.
— Но нация твоя какая?
— Советский гражданин, раненый боец.
— Я понимаю, — говорила она сердито, — мне-то все равно… Ты мог бы у меня остаться, по хозяйству помог бы и сам бы поправился. Но сосед мой из тюрьмы вернулся, он тебя немцам выдаст, если ты еврей…
— Да, еврей, — ответил он и продолжал свой путь.
Одно место осталось, куда немцы боялись сунуть нос, — лесные чащи, одна дорога осталась — в глубь леса. Но сколько он может выдержать в лесу один, раненный? Хорошо, что сотни людей сочувствуют, жалеют, помогают. Но окажись среди них один негодяй, и ты пропал. Так оно и вышло.
В одной деревне староста привел фашистов и показал на Бориса:
— Этот чужак говорит, что он татарин, не знаю, так ли это, у нас отродясь татар не бывало.
Гитлеровцы увели его с собой. Десятки таких, как он, пешком и на машинах гнали в комендатуру. Женщины из города и деревень тянулись туда же в надежде разыскать сына, мужа или хоть знакомого, который рассказал бы о близких. Были тут и такие, что никого не ждали, а пришли с одной целью — не удастся ли кого-нибудь спасти.
Фашисты отгоняют женщин от оград, но палок в ход не пускают. Они сегодня от посетителей немалую мзду получили.
— Откуда ты? — спросила молодая деревенская женщина у Соловья.
— Из тюрьмы.
Ему казалось, что из-за шума не слышно его, и он скрестил два пальца правой руки с двумя пальцами левой, что означало — из-за решетки, и добавил:
— Из Барановичской тюрьмы. Татарин я.
— Ври побольше! Ты мне голову не морочь этими сказками. Есть у тебя какие-нибудь документы, только чужие, не свои? Попробую вытащить тебя отсюда.
Немецкого офицера нетрудно соблазнить взяткой, — свининой, яйцами, водкой… Женщина выправила Борису удостоверение немецкой комендатуры. Он жил у нее до тех пор, пока не нашел пути в отряд. Произошло это не без ее помощи. Соловей стал партизаном.
Недавно с Соловейчиком произошел такой случай. Наш отряд напал ночью на немецкую часть. Бой был выигран, но положение оказалось тяжелым — немцы окружающих гарнизонов отрезали все пути к отступлению. Партизанам пришлось разбиться на группы. Соловейчик с другими был уже далеко от места боя, когда старший группы послал его в разведку. По берегу узкой речушки, протекающей между Рудней и Захватовкой, лежали готовые к вывозке несколько тысяч кубометров дров. Там между штабелями замаскировалась группа немцев.
— Хальт! — закричали они.
Соловейчик бросился бежать. В него не стреляли — его, очевидно, решили захватить живьем. За ним мчалась огромная, как волк, собака. Граната, которую он в нее бросил, не разорвалась. Собака вцепилась в него, Борис схватил ее за горло, но она, изорвав в клочья его одежду, повалила и прижала к земле. В это время подоспели немцы.
— Партизан! Партизан! — кричали они, нещадно избивая его.
Унтер-офицер удержал их:
— Это, вероятно, разведчик. Его надо доставить в штаб. Сначала пусть его допросят, а потом мы с ним расправимся…
Соловейчик не подал виду, что понимает, о чем они между собой говорят.
Его вели двое фашистов. В лесу у перекрестка они остановились — заглянули в одну карту, в другую, видимо, искали на них дорогу, по которой шли. Им было невдомек, что партизаны проложили столько новых дорог, хоть новые карты составляй. Пока они замешкались, их заметили партизаны и обстреляли. Немцы бросились на землю. «Теперь или никогда!» — молнией пронеслось в голове Бориса, и он побежал. Вслед ему засвистели пули, одна из них ранила его в руку.
В лесу его встретила Ксюша Малеева и привела в свой шалаш. Савицкий раздобыл ему кое-какую одежонку.
Рана зажила, и Соловейчик вернулся в строй народных мстителей.
МАДЬЯРЫ
Ясные дни чередуются с туманными и дождливыми. Все чаще небо сплошь затягивают хмурые тучи, все холодней и резче порывы ветра. На картофельных полях полегла потемневшая ботва.
Мне определенно не везет. Каждый раз, когда наступает революционный праздник и так хочется быть вместе со всеми в лагере, создается положение, что либо не могу покинуть свой район, либо невозможно добраться до лагеря.
В первых числах ноября — было это в воскресенье — мы отдыхали в крестьянской хате. Сон у меня легкий, сплю и слышу: похоже — моторы гудят. Вдруг кто-то ударил по окну так, что стекло вылетело.
— Танки и бронемашины идут!
Мы выскочили во двор. Все население деревни устремилось к нам, как если бы мы были в силах остановить танки, не пустить их в деревню. Мы пытались успокоить растерявшихся людей:
— Не собирайтесь группами! Бегите в лес!
Немцы заметили нас, когда мы уже были возле речки, и стали обстреливать из крупнокалиберных пулеметов. Пули взрывались, и эти звуки вводили в заблуждение: казалось, будто по нас вели огонь не со стороны деревни, а со стороны леса, куда мы бежали. Это вызвало задержку на одно мгновение. Кое-кто из крестьян остановился, потом повернул и побежал назад. Место кругом топкое, болотистое, мостки такие, что подчас и пешему не перебраться. Чижик преградил им дорогу, свистя длинным кнутом в воздухе.
— Куда, дурни?! По смерти скучаете?
Упала лошадь. Две пули попали в Павла Тимохина, бежавшего рядом со мной. Перевязать его здесь невозможно, мы подхватили раненого и понесли на руках. Раны сильно кровоточили, в лесу он потерял сознание.
К вечеру выяснилось, что немцы расположились во всех окружающих деревнях. Лесной массив был невелик, и мы решили немедленно покинуть его.
Двух связных послали в штаб, а сами с раненым пошли к островку, где находился Александр Жилкин со своей группой подрывников.
Плащ-палатку превратили в носилки, Тимохина несем вчетвером посменно. Предстояло пройти километров двадцать, но дорога оказалась еще длиннее — приходилось обходить деревни, главные магистрали.
Как только мы останавливались передохнуть, мои товарищи, считая, что я смыслю в медицине, сразу же звали меня:
— Командир, гляньте, Павел жив?
Темным-темно, влажный ветер хлещет в лицо, ничего не разберу, и мне кажется, что он мертв. Но ведь все равно его не оставим, к чему же омрачать настроение товарищам?
— Жив!
Отерли пот со лба, передохнули — дальше в путь.
Перед нами речушка, впадающая в Березину, — не так чтобы очень широкая, но не перепрыгнуть. Из бревен и ветвей с большим трудом связали плот, и вскоре мы уже шагали на той стороне речки.
Раненый застонал…
На небольшом островке в окружении деревьев три хаты. Первыми заметили нас гуси, — вытянув длинные шеи вровень с землей, они тревожными криками возвестили о нашем приходе.
Хозяин крайней избы, куда мы зашли, поспешил позвать Жилкина, а жена его взяла на себя заботу о раненом.
Приведя из ближайшей деревни старика, она заявила:
— Хоть он и ветеринар, но в ранениях, надо полагать, разбирается.
Старик осмотрел раненого.
— Матушка, ставь воду греть. Пулю из бедра извлечь не могу, но эти два пальца правой руки во избежание заражения необходимо ампутировать.
Павел терпеливо перенес операцию и только под конец пожаловался:
— Неужто нельзя было достать более острого ножа?
В комнату вошел хозяин в сопровождении Жилкина и группы партизан.
— Сколько раз я звал тебя к себе в гости! — заговорил, улыбаясь, командир диверсионной группы. — Сам не приходил, вот немцы тебя сюда загнали.
Жилкин, в прошлом учитель, представил мне своего бывшего ученика Михаила Макаревича.
— Миша, — попросил он, — доложи товарищам, почему ты бежал из дому.
Миша отказался, и Жилкин, неплохой рассказчик, начал сам:
— Два полицая были в деревне — два бандита, один другого хлеще. Стон стоял от них в округе. Миша решил убрать их.
Сообщил он им, что знает место в лесу, где кое-кто из жителей гонит самогон, там без промашки удастся недурно выпить. Винтовки, посоветовал он, нужно взять с собой — мало ли, дескать, что может случиться. Сам он прихватил топор. Шли они долго, а водкой все не пахло. Старший полицай заругался. «Извините, — оправдывался Миша, — я только час назад здесь был, и немыслимо, чтобы забыл дорогу. Вы присядьте, отдохните, а мы с ним вдвоем поблизости поищем, это где-то тут, недалеко…» Макаревич с полицаем отошли метров на двести. «Посмотри, — показал он ему на высокое дерево, — солнце садится». Яркий луч, пробившийся сквозь густую листву, отразился в лезвии топора. Глухой удар — и полицай, судорожно ловя пальцами воздух, упал. Больше он уже не встанет. Его винтовку, патроны, документы Миша спрятал в надежное место. Теперь очередь второго.
«Почему ты один?»
«Ваш друг так присосался, что не оторвешь. Да и диво ли? Ведь это первач. Не обижайтесь, и для вас там хватит».
Второго полицая он завел в другое место…
На четвертый день их трупы были обнаружены. В деревне вздохнули с облегчением. А Макаревичу пришлось бежать из дому.
В эти же дни мы были свидетелями любопытного зрелища: двое партизан вели десять пленных мадьяр, причем мадьяры сами несли свое оружие. Замыкающий шествие Жилкин все же предусмотрительно вынул затворы из их винтовок.
Их увели в лагерь.
Старший из мадьяр Людвиг, в прошлом доцент, говорил по-немецки, Жилкина он почему-то называл комендантом, Боровского, когда их привели в штаб, стал величать большим комендантом, Силич был им наречен обер-комендантом. Бог знает, какое еще звание он сочинил бы, встреться ему кто-нибудь из старших командиров!
В дни, когда мадьяры были в лагере, произошел бой, довольно необычный в условиях партизанской войны. Наши среди бела дня напали на отряд эсэсовцев, а тем в помощь подоспел танк.
— Не отступать! — приказал Боровский.
Лейтенант Владимир Марков, взяв с собой двух товарищей, продвинулся немного вперед с противотанковым ружьем. Он слегка приподнялся на локтях, прицелился и выстрелил. Каждый снайпер пожелал бы себе так метко выстрелить — танк беспомощно завертелся на месте. В то же мгновение Марков вздрогнул, упал и застыл навсегда.
— Вперед! — скомандовал Боровский.
Он сам первым вскочил на вражеский танк. Ни один из гитлеровцев в этом бою не спасся, пленных танкистов доставили в лагерь. Мадьяры видели подбитый танк и убитых немцев.
— Вы часто ведете подобные бои? — спросил Людвиг у Ренцеля.
— Как только фашисты оказываются в нашей зоне, — ответил тот, не моргнув глазом.
Мадьяры, пользовавшиеся свободой передвижения по лагерю, зашли к пленным эсэсовцам, и между ними началась ссора, дело чуть не дошло до драки — партизанам пришлось вмешаться.
Спустя неделю Жилкин с мадьярами прибыли к нам и расположились в шалашах вместе с моими разведчиками.
Людвиг встретился со мной как со старым знакомым и откровенно обрадовался. У меня было впечатление, что он искренен.
— Что вам у нас, партизан, больше всего нравится?
— Люди. Я, правда, и раньше не верил фашистской пропаганде, объявившей партизан бандитами без цели, без идеи. Но не мог себе представить, что среди вас столько интеллигентов. Я встречал здесь учителей, врачей, инженеров, агрономов, прекрасно знающих, во имя чего они взялись за оружие! Именно поэтому, я думаю, ум партизана неистощим на хитрости, на уловки, только бы сильнее ранить врага. Я видел, какими глазами смотрели партизаны на пленных эсэсовцев, — народ, умеющий так ненавидеть, непобедим.
— Знаешь, чего мне хочется, — сказал как-то Жилкин, — напоить Людвига. Интересно, он и тогда будет говорить то же, что теперь, когда трезв?
Вечером мы с Жилкиным и Людвигом отправились в деревню и зашли к знакомому крестьянину. Дети забились в угол, а хозяйка, хоть мы ей объяснили, кто этот чужой, боялась все-таки слово вымолвить.
Людвигу, возможно, вспомнился родной дом, семья, и захотелось ему взять на руки и приласкать трехлетнюю девочку. В доме начался переполох — хоть беги вон из хаты.
— Это оттого, что они принимают вас за немца, — неловко объяснил я ему.
Его, расстроенного и растерянного, выручил Жилкин.
— Ты слышал, как Людвиг русские песни поет? У него замечательный голос.
— Спойте, — стали мы его просить.
Он спел «Из-за острова на стрежень…», потом «Катюшу». Пел он мягко, с большим чувством.
— Нравится вам наша «Катюша»?
— Нравится. У нас говорят, что «Катюша»-девушка очень хороша, но «Катюша» — бум-бум — очень страшна.
Все дружно расхохотались.
На следующий день привели мадьяр к поляне недалеко от гарнизона и распрощались. Кроме оружия, у них ничего не отобрали.
Вскоре после этого мы получили письмо. Оно занимало два больших листа бумаги, исписанных кривыми русскими буквами. Командир мадьярского полка сердечно благодарил «господина партизанского коменданта за его рыцарский поступок», за его гуманное отношение к пленным венгерским солдатам. Он писал:
«Одно большое несчастье постигло наши народы. Вы нашли в себе мужество восстать. О нас, мадьярах, этого, к сожалению, сказать нельзя…»
Староста, доставивший письмо, наш человек, рассказывал:
— Как я ни просил оставить меня в покое, как ни доказывал, что не могу найти партизан, что, если и найду их, они меня, несомненно, убьют, никакие доводы и мольбы не помогли. «Я пишу в письме, что заставил тебя быть моим парламентером, и прошу, чтобы они тебя на этот раз не тронули, какие бы счеты у них с тобой ни были. «Я гарантирую», — убеждал меня полковник.
Немцы, по-видимому, об этой истории пронюхали. Мадьярская часть была вскоре отозвана из нашего края.
«ЯЗЫКИ»
В наши районы стали прибывать части новой немецкой армии. Было очень важно достать «языка».
Не простое это дело. К тому же мало радости захватить рядового солдата, нужен офицер, да повыше рангом. И партизаны — бывший преподаватель немецкого языка Емельян Горбацевич, Завьялов, Корбуш — специализировались на захвате «языков».
Однажды Горбацевич решил захватить одного из немцев, которые часто стали появляться в деревне недалеко от гарнизона. Подстерег он как-то солдата, ведшего пару коней. Одетый в немецкую форму, Емельян вышел ему навстречу, и состоялась беседа двух немцев: кто? откуда? куда? Оказывается, солдат едет в гарнизон за офицером.
— А ты офицера этого знаешь? — спросил Горбацевич.
— Нет.
— Что же, у него ординарца нет, что тебя посылают за ним?
— Его ординарец остался у нас.
— И он один поедет?
— Видишь, для него коня веду, со мной приедет…
Выяснив все, что могло оказаться полезным, Емельян Горбацевич сам поехал за офицером.
Тот рассердился, что слишком долго заставили его ждать, сел на приведенного коня — и в путь. А Емельян в роли ординарца едет сзади. Удар свой он рассчитывал так, что офицер должен был потерять сознание не больше, чем минуты на три, но, видно, перестарался. Офицер разоружен, руки за спиной связаны, а все лежит, как колода, хоть на себе тащи…
— Стоило бы вам посмотреть на его физиономию, когда он открыл глаза, — рассказывал потом Емельян. — Ручаюсь, он был бы рад никогда больше не приходить в себя. Вначале он явно валял дурака — кричал, ругался, звал на помощь. Пришлось разъяснить ему, что к чему…
Теперь тройка получила приказ отправиться к линии фронта (всего в нескольких десятках километров от нас) и постараться захватить штабного офицера.
В назначенный день разведчики не вернулись. Прошло еще три дня, а ни один из них не дал о себе знать. Тогда объявились новые охотники отправиться на выполнение этого задания и заодно узнать что-нибудь о судьбе пропавших товарищей. Когда Силич был уже готов принять эти предложения, часовой у опушки леса через связного сообщил, что Горбацевич со своей группой прибыл.
У шалаша, где находился штаб, стоял Емельян, похудевший, усталый, обросший. Он шагнул комбригу навстречу, не дойдя нескольких шагов, остановился и отрапортовал:
— Товарищ командир бригады, ваше приказание выполнено! Доставлен капитан из немецкой армейской разведки.
За завтраком Горбацевич рассказывал:
— Мы захватили было другого фашиста, да тот слишком мало знал. Чтобы поймать эту птицу, пришлось потратить несколько дней. Взяли мы его, когда он навеселе гулял на хуторе недалеко от моей деревни.
В следующую ночь с Большой земли прибыл самолет и увез немецкого капитана.
Наши партизаны Полещук и Макаревич, два друга, два неразлучных Михаила, жители деревни, где стоял большой гарнизон, попросились на одну ночь домой. Им разрешили.
Отправились с ними также Василий Савицкий и Ксюша Малеева.
В деревне, в доме старосты, пьянствовали комендант с группой гитлеровцев. Пьяный разгул оккупантов шел и в нескольких других домах.
Савицкий — большой любитель рискованных операций, оба Миши и Ксюша недолго колебались. Они притаились во дворе старосты и стали терпеливо дожидаться. Наконец из дому вышел хозяин. Он был изрядно пьян, но при виде партизан, вышедших из укрытия ему навстречу, вмиг отрезвел и кинулся назад к дверям. На пороге стоял Полещук.
— Ни звука! Вся деревня занята партизанами. Ведите себя смирно, с вами будет говорить наш командир.
Савицкий отвел старосту в сарай, его решили не трогать: если операция удастся, немцы сами его повесят.
Было задано три вопроса: сколько здесь гитлеровцев? кто они? много ли выпили?
А теперь — в хату.
Савицкий и Макаревич, вооруженные немецкими автоматами, вошли и встали один у окна, второй у дверей. Команду «хенде хох» знали все партизаны. Пригодились эти слова и на этот раз. За столом, в центре, сидел комендант, тучный, здоровенный, краснорожий, китель расстегнут. От злости он еще больше побагровел и, решив почему-то, что перед ним полицаи, заорал во всю глотку:
— Вон! Я тут комендант!
Макаревич выпустил по гитлеровцам несколько очередей из автомата. Комендант схватился за пистолет. В эту минуту Савицкий прикладом автомата нанес ему удар по голове. Падая, комендант потащил за собой скатерть и лампу. Стало темно. Партизаны выволокли коменданта из хаты.
Многое мог бы рассказать такой «язык». Но он уж очень толст, тяжел, а кони далеко, к тому же, кажется, он никогда не придет в себя, завязнешь тут с ним…
— Чтоб его разорвало, — ругается Савицкий, — придется оставить его… Что ты будешь делать, не везет мне на комендантов…
Наши партизаны были уже далеко от деревни, когда в гарнизоне поднялась пальба. В лесу они отдышались, сели на коней — и назад в лагерь.
Позднее стало известно — первым шум поднял староста. И все-таки немцы его повесили.
ДЛЯ БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ
С Большой земли требуют все более разнообразную, все более точную информацию. Уже не удовлетворяют сведения, что в таком-то пункте столько-то вражеских солдат. Необходимо узнать, откуда они сюда прибыли, куда направляются, номера частей, армий. Нам подсказывают, как узнавать все это. Каждая немецкая воинская часть имеет эмблему — изображение какого-либо зверя. На немецких автомашинах, танках, даже на повозках нарисованы эти эмблемы — кошка, лев, собака, обезьяна. Достаточно раздобыть офицерскую записную книжку с указателем частей и их эмблем, и можно почти безошибочно установить, какое подразделение куда проследовало. Но нет уже у оккупантов прежней пунктуальности, той дотошной аккуратности, что была. Они сейчас часто забывают нарисовать на новой машине обезьяну, не меняют рисунков, когда машины попадают из одной части в другую.
Что в таких случаях делать? Мы и тут нашли ключ к военным тайнам врага. Есть два учреждения, без которых немцы не могут обойтись. В хлебе нуждаются не только местные части, но и проходящие и проезжающие. На железнодорожном узле они получают продукты — командиры частей заранее высылают заявку на необходимое количество хлеба. При этом они указывают номер своей части и подписываются. Хлебная норма для солдата и офицера нам известна, а надежный человек ежедневно присылает сведения из пекарни. На бойне тоже работает наш человек. Один из них не знает о другом, но их сведения почти всегда совпадают. Проверяем, уточняем и сравниваем со сведениями из других источников и, если каких-либо особых расхождений нет, отсылаем информацию в штаб.
Эта работа часто доставляет нам большое удовлетворение. Однажды, рискуя жизнью, наш товарищ добыл строго секретный циркуляр, подписанный комендантом города, в котором указывалось, что в определенный день и час будет объявлена воздушная тревога. Зенитной артиллерии не следует открывать огонь, говорилось в циркуляре, самолетам, охраняющим город, в воздух не подниматься, так как тревога эта — ложная.
Я немедленно послал донесение в штаб.
— Пять раз можешь менять коней в деревнях, — разрешил я связному, — но прибыть на место ты обязан вовремя!
Наступил наконец намеченный немецким генералом день. Остаются считанные минуты. Лежим в лесу километрах в пяти-шести от города. Что же это? Неужто наши не успели сообщить куда следует или это не такое уж важное дело, как нам кажется?..
Но вот приближается и нарастает грозный гул. Мы застываем в нетерпеливом ожидании. Самолеты делают над городом круг за кругом, не иначе, фотографируют военные объекты. А потом — бум-бум-бум!.. Земля дрожит. А когда зенитки открывают огонь, наших самолетов уже нет и в помине.
Мы радуемся, как дети, кувыркаемся в траве. Ай да здорово! Красота!
Красная Армия неуклонно движется на запад, линия фронта все ближе, ближе.
Немцы строят одну линию обороны за другой — в поле, в лесу, у реки и даже на центральных улицах города. Не хватает камней, железа, цемента — закапывают разбитые танки, недостаточно двенадцати часов — заставляют женщин и детей работать по четырнадцать, по шестнадцать часов в сутки.
Гитлеровцы обеспокоены еще одним: в ямах, в массовых могилах будут обнаружены скелеты, тела расстрелянных, повешенных, замученных советских людей. Фашистское правительство Германии уже в ту пору понимало, что близится, что неизбежен грозный суд над убийцами миллионов мирных людей, и встревожилось: трупы не менее опасные свидетели, чем живые… И вот фашистские «ученые», большие мастера по части истребления людей, изобретают способы уничтожения следов уничтожения. Прибывает эшелон с бочками горючей жидкости без запаха и цвета, трупы складывают в штабеля, как дрова, и обливают ею, происходит одно из фашистских «чудес» — от трупов не остается и следа.
Но есть для оккупантов и здесь неудобство — вся работа проделана людьми, а они опять-таки свидетели… Гитлеровцы находят простой выход — не оставлять в живых свидетелей, и целый день одни люди сжигают других, вечером их самих сожгут, а на следующее утро сожгут тех, кто сжигал вчера вечером.
Все это правда, но материалы для официального сообщения необходимо подкрепить показаниями человека, который все видел собственными глазами и может назвать даты, места, людей.
Вот тогда мы и решили попробовать получить эти сведения от предателя, который жил в городе и занимал у немцев довольно высокий пост. Продав шкуру врагу, он сейчас пытался спасти ее, снова выгодно продав. Он нам однажды уже помог.
К штабу бригады подъехал на повозке Филипп Русак. Его сопровождала невысокая, худенькая женщина, с большим портфелем под мышкой. Она соскочила с повозки, но не отошла от нее ни на шаг до тех пор, пока не выгрузили целую груду зашитых белых мешочков, лежавших под сеном.
Русак был одним из немногих партизан, которые не числились ни в каком подразделении. Он выполнял специальные задания штаба. Филипп местный житель, и не было в округе деревни, где бы у него не водились друзья, товарищи или просто знакомые. В лагере он бывал редко, но уж если появлялся, то неизменно с ценным грузом — то с оружием, то с медикаментами, то со шрифтом для нашей типографии. И в самые отдаленные деревушки и в город, кишевший немцами, он доставлял наши газеты и листовки.
Первое время у нас было мало врачей, и вместе с целой аптекой Филипп Русак доставил нам врача.
Тяжело раненный советский летчик, майор, скрывался в селе, где стоял вражеский гарнизон. Спасти его послали Русака. Не прошло и недели, как оба, он и майор, прибыли в лагерь.
На этот раз он отсутствовал целых две недели. Нелегкое провернул дело: вместе со старшей кассиршей городского банка Мариной Торба они вывезли всю наличность банка и доставили в лагерь. Сама Марина спаслась, но родителей и брата гестапо арестовало. Изо дня в день фашистская газета печатала объявление: «М. Т. Если вы не вернете своей задолженности, мы умертвим ваших родителей и брата, а вас все равно поймаем и повесим». Последняя угроза мало тревожила Марину, в ее руках партизанская винтовка, но что будет с семьей?
— Надо что-то предпринять, — сказал нам Леонид Петрович Коваль.
И мы написали вот этому предателю: «Предлагаем вам спасти семью Торбы». Он ответил: «Согласен. Но прошу, когда придет время, не забыть об этой моей заслуге».
И свое обещание сдержал.
Теперь он же прислал донесение о том, как немцы сжигают людей.
«Чтобы достать вам эти сведения, — писал он, — я рисковал жизнью — сам присутствовал при этом и не уверен, что немцы меня самого не сожгут, дабы не осталось свидетелей. Прошу вас помнить и об этом».
Мы эти сведения проверили и передали в штаб. Через несколько дней наш радист принял сводку Совинформбюро, содержавшую сообщение под заголовком: «Немцы заметают следы своих преступлений». Фашистам не удалось скрыть свои чудовищные злодеяния — о них заговорила Москва, а если Москва говорит, слышит и знает весь мир.
В МАЛЕНЬКИХ ИЗБУШКАХ
В большом селе, расположенном у самой дороги Бобруйск — Киров, жил старший брат Боровского. Его арестовали. «Полицай», отчим Саши Барташевича, дал знать, что опасность грозит и матери, и сынишке Василия Дементьевича, живущим на окраине этого же села. Я сообщил ему обо всем этом, и вскоре прибыл ответ Боровского:
«Сам выехать не могу, прошу: немедля вывезти их из села».
Еще ни одной такой несговорчивой старушки, как мать Боровского, я не встречал. Она мне поверила, что так велел ее Вася, но заявила, что все мои старания напрасны, никуда она из села не тронется.
— Что ж, — сказал я, — заберу внука, так приказал ваш сын.
— Он командир своим солдатам, пусть им и приказывает, не мне. Не дам никому ребенка — и все тут.
Ничто не помогло, ничего я от старушки не добился. Через несколько дней к нам прибыл Василий Дементьевич — мне ничего не сказал, но я чувствовал, что сердится.
— Когда я шагнул к ребенку, — рассказывал я ему, — она посулила поднять такой шум, что услышат в соседнем селе. Что было делать? Не драться же с ней…
— Да, не найти для них, конечно, безопасного места, но там, сомнения нет, они погибнут. Заберу Алика, а мать больше дня не выдержит, прибежит туда, где внук. Давайте сегодня же ночью проделаем это, а то как бы мы не опоздали.
Над лесом садилось солнце, сумерки быстро и незаметно укрыли все собою, лес шумел глухо и грозно. Часам к одиннадцати вечера мы прибыли в село. Было нас трое — Боровский, его адъютант Ефим Маргалик и я. Оставив коней в овражке, мы пошли пешком. Шедший впереди Маргалик вдруг остановился.
— Сюда, — сказал он, — тянется какой-то обоз.
Мы перешли через улицу и притаились за хатой. Вскоре послышалась немецкая речь.
— Тут бы где-нибудь спрятаться, — шепнул Василий Дементьевич.
— Рискованно, — возразил я. — Если они здесь вдруг остановятся, нам придется целый день, а то и больше, не вылезать из укрытия.
Пришлось уйти из села. Огородами добрались мы до наших коней, но далеко не отъехали. Около сарая, стоявшего среди поля, мы снова остановились, присели у бревенчатой стены и задумались. Как выяснить дальнейшие намерения немцев?
— Тише, кто-то идет…
— Держите коней наготове! — приказал Боровский.
Шло трое. Мы прижались к стене и направили оружие на приближавшихся.
— Кто идет?
Те остановились.
— Кто? — повторил Боровский.
Оказалось, это местные крестьяне, бежавшие от немцев в лес.
Прибывшие остались с лошадьми, а мы снова отправились в село. В том конце, где жила старушка, немцев не было.
— Мать, не время мне препираться с тобой, — говорил Боровский, держа на руках сына. — Не пойдешь со мной — заберу одного Алика.
Руки старушки дрожали, зажигая спичку. Отец вглядывался в своего ребенка.
— Малыш ты мой… — шептал он тихо.
Алик повернулся на другой бочок и что-то со сна пробормотал. Отец целовал своего сына, а мать — своего…
— Бог знает, увидимся ли еще, — всхлипывала старушка.
— Уж недолго осталось…
— Дай-то бог, чтобы это сбылось, да скорее. — Старушка перекрестила сына, внука, меня, а напоследок себя.
Мальчик прижался к отцу, улыбнулся.
Боровский, всегда сдержанный и строгий, сейчас не был похож на себя. Как он целовал и ласкал ребенка!
Кто смеет утверждать, что люди на войне ожесточаются, грубеют, что человеческие чувства притупляются? Пришлите его сюда, в эту маленькую хибарку, пусть посмотрит на эту мать, на ее сына, внука.
— Он меня узнал и завтра растрезвонит всем, что я здесь, — ты сама это говорила… Вот и одень его, другого выхода теперь уже нет.
— И зачем я дала его разбудить! Обманул меня, старую, — сердилась она, — как маленькую, обошел…
Но старушка уже больше не упрямилась.
— Скорее уходите из села.
Алик расплакался, звал с собой бабушку.
— Не плачь, ты едешь с отцом, завтра и я приду к тебе, — уговаривала она ребенка.
Мы покинули хату. Боровский сел на коня, я подал ему Алика. Малыш крепко спал. Василий Дементьевич тяжело вздохнул:
— Ну, времечко… Родное дитя из родного дома пришлось украсть…
Алик с бабушкой жили в лагере. Мальчишке сшили шинелишку, надели кубанку с кумачовой лентой, кто-то подарил ему детский пистолет и компас, и он был очень доволен тем, что имел вид заправского партизана.
Степан Васильевич Силич уже возглавляет крупное партизанское соединение, командир нашей бригады теперь Боровский, Максим Синица назначен начальником штаба, а я — начальником разведки бригады.
Связной привез мне приказание немедленно выехать в штаб.
Вокруг неспокойно. Немцы и полицаи рыщут по дорогам, устраивают засады.
Мы едем вдвоем — я и Чижик. Ваня сидит на высоком самодельном седле. Пригибаясь, он бьет шпорами коня и несется вперед. Моросит мелкий дождь, над лесом нависла густая тьма, глухо шумят кроны огромных сосен при порывах холодного ветра. Нас тревожит — не заблудиться бы. На кладбище у Пересопни, мы знаем, полицаи часто устраивают засады, но миновать это место невозможно — кругом болота, и увязнуть недолго. Слезаем с коней, двигаемся тихо, осторожно, из обоих автоматов открываем огонь и — застываем в ожидании. Нет, никто не отвечает. Только в деревне разражаются лаем собаки, а в двух домах, где еще недавно светились окна, теперь и они погасли.
Стучимся к Рае Котляр.
— Это мы, не пугайтесь.
— Это вы стреляли?
— Да.
— У меня ночевали двое партизан, услышав стрельбу, они поспешили уйти. У обоих нет теплой одежды, а на дворе холодно и сыро.
Раин сынишка просыпается, трет со сна глазенки, рассматривает нас, не переставая оглядываться.
— Ты уже не боишься дяди? — спрашивает она его.
— Нет, — качает он головой и улыбается нам.
Вспоминается наша первая встреча с ним. На обширном крестьянском дворе среди резвившихся детей привлек мое внимание смуглый кучерявый мальчуган с блестящими черными глазами, он ездил верхом на длинной палке.
— Ты, мальчик, чей?
— Мамин.
— А как звать твою маму?
Тонкие губы мальчика дрогнули, его глаза стали не по-детски серьезными, в них появился испуг. Он бросил свою палку и убежал.
— Понял? — спросил меня Синица.
— Что тут понимать? Ребенок. Испугался.
— Значит, ничего ты не понял. — И Максим мне рассказал: — Мать этого мальчика еврейка, до войны работала в этой деревне учительницей, муж ее, Спиридон Котляр, был председателем колхоза. Они оба помогают нам.
К Котлярам мне довелось зайти некоторое время спустя. Хозяина дома не было. Мальчик, едва увидел меня, забился в угол. У порога сидела высокая худая женщина в домотканой юбке, ситцевой кофте с короткими рукавами и чистила картошку. Ей было не больше тридцати пяти лет, хотя в волосах, выбивавшихся из-под платка, уже запуталась тонкая паутина седины. Она указала мне на скамью, а сама продолжала свое дело.
— Я к вам от Синицы.
Женщина подняла голову и с улыбкой ответила:
— Знаю, ваш командир рассказал мне о вас. Вы, наверное, голодны, потерпите малость, сейчас придет Спиридон — будем обедать. Иди сюда, — позвала она сынишку, — не пугайся, этот дядя — партизан. Что же ты вдруг застеснялся?
Тут я рассказал ей о нашем первом знакомстве.
— Так это вы его тогда напугали? Я долго никак не могла успокоить его. Он все понимает, и ничего от него скрыть невозможно. Однажды он меня спросил: «Мама, к чему вы эту картинку вывесили?» И показал на икону в углу. «Ни ты, ни папа ведь никогда не креститесь…» Поди расскажи ему, почему мы икон понавешивали…
Не знаю, где она шерсть доставала, но не менее двадцати партизан носили рукавицы ее работы. Мы часто оставляли у нее грязное белье и наутро находили его постиранным и починенным.
— Трудно стало оставаться в деревне, — часто жаловался Спиридон.
— Вступите в отряд, — советовал я ему.
— Рая считает, что, оставаясь здесь, мы больше пользы приносим. А без нее не пойду…
Позднее они оба все же вступили в отряд, их мальчика взяла к себе знакомая крестьянка.
Наш лазарет находился в нескольких километрах от лагеря, на глухой лесной поляне. В один из темных декабрьских вечеров — стоял мороз, по дорогам мела поземка — я отправился проведать раненых товарищей, разведчиков. Было поздно, и больные уже спали. У раскаленной докрасна печурки сидели три женщины, чинили белье и тихо шептались.
— Что вас принесло так поздно? — спросила фельдшерица.
— Я прибыл в лагерь на несколько часов. Если их нельзя будить, передайте эти пакеты с продуктами, табак… Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы сестры были к ним повнимательнее, — ведь это лучшие наши партизаны.
Фельдшерица заулыбалась.
— Каждому командиру его люди кажутся лучшими. Так что и насчет сестер не тревожьтесь. В этой землянке работают Галя Орлова и Рая Котляр, сестры одна лучше другой.
У раскаленной железной печурки сидели три женщины и тихо говорили о мужьях, ушедших на задание, о детях, оставленных у соседей, о родной земле, ограбленной ненавистным врагом… Шепчутся женщины и прислушиваются к больным: один со сна плачет, и надо его разбудить, другому низко изголовье, надо что-нибудь подложить, у третьего сползла повязка, надо перевязать…
Стою у печурки и думаю: дорогие матери и сестры, как трудно было бы нам без вас!..
АВТОМАТЫ РЕНЦЕЛЯ
Прибыли мы в лагерь к исходу дня. До поздней ночи засиделся я в штабе и заночевал в шалаше у Синицы.
Проснулся я на рассвете. Утро предвещало тихий безоблачный день. Впервые за много дней меня сейчас стало раздражать, что я оброс, грязен, верхняя сорочка изорвалась, сапоги износились. Установив на пеньке венгерское зеркальце, подаренное мне Людвигом, я принялся за бритье, тем временем сапожник подбивал мои сапоги, а повариха занялась починкой гимнастерки.
Явившийся связной передал, что командир соединения Силич вызывает меня к себе — шалаш его находится метрах в трехстах отсюда. Но как же в таком виде явиться? Связной догадался о причине моей растерянности.
— Идемте, Силич спешит… Я пойду первым и предупрежу, что вы не совсем одеты.
Напялил я чьи-то башмаки, накинул на плечи свою тужурку и, прихватив оружие, отправился.
В вышине послышался гул моторов. В этом лесу растут вековые сосны, глянешь вверх — шапка с головы валится. Все же я распознал, что летят не разведчики, не транспортные самолеты, а тяжело нагруженные бомбардировщики. Раненько они сегодня поднялись, а у нас возле каждого шалаша горит костер — готовят завтрак. Лес наполнился возгласами:
— Гасить костры!
Когда я вошел, Силич отдавал приказ дежурному командиру:
— Завтрак отставить! Бригаде и всем отрядам — покинуть лагерь. Вот маршрут движения.
Земля задрожала от взрывов — бомбили ближние деревни. Самолеты обстреляли из пулеметов лагерь; щепки, отлетавшие от деревьев, были не менее опасны, чем пули.
— Разговор придется отложить, — сказал Силич.
Я поспешил к шалашу, где остались мои сапоги и гимнастерка. Здесь, кроме хозяйственников, никого не оказалось. Бомба взорвалась возле самой нашей кухни — ранило пожилого партизана, молодой девушке в грудь попал осколок, и смерть пришла мгновенно. Шум обламывавшихся и падавших крон деревьев, треск расщепляемых стволов, стук раздробленных ветвей слился со стонами раненых.
Никогда еще на нас не налетало столько самолетов.
Чтобы перебраться из этого леса в другой, пришлось пройти не меньше километра открытым полем, и немецкие летчики охотились за каждой подводой, за каждым человеком, охотились весь день, до самого наступления ночи.
К утру мы успели завершить переход в другой район. Теперь нас нелегко найти.
Спустя некоторое время, когда вражеские самолеты снова появились на небе, мы зажгли в различных местах покинутого лагеря костры, — пожалуйста, мол, бомбите, да погуще, расходуйте впустую металл, взрывчатку… Вскоре они, видимо, догадались, что мы их провели, и на время прекратили налеты.
Надвигалась зима сорок четвертого года со снегами и морозами, покраснели стволы осин, лес стоит голый, только дуб еще не хочет расстаться со своим нарядом. Надо строить землянки, а их понадобится немало — на тысячу с лишним человек. Одеты мы далеко не по-зимнему, а с продовольствием что ни день все труднее — о хлебе, кроме как для раненых и больных, никто и не думает, было бы картошки досыта…
Свой зимний лагерь мы в этом году снова построили в Усакинских лесах, километрах в пятидесяти от того места, где стояли в прошлую зиму. Птиц здесь почти не слышно, они не любят глубин заглохших лесов, летом здесь мало цветов, мало травы — ей, как и птицам, нужен лес пореже, где больше света и тепла.
Первыми на новом месте обосновались хозяйственники — они строили землянки и заготовляли продукты, лазарет и Ренцель со своей оружейной мастерской.
Инженеру Вадиму Геннадьевичу Ренцелю отряд выделил несколько слесарей, столяра, кузнеца, в городе раздобыли инструмент, и наша первая оружейная мастерская начала свое существование. Из старых, заржавленных, ломаных, разбитых деталей в ней собирались пулеметы, винтовки, обрезы. У нас многие вооружены немецкими автоматами, но не всегда можно раздобыть к ним патроны, зато вдоволь русских патронов, но всего несколько русских автоматов. Ренцель нашел выход — приспособил немецкие автоматы к нашим патронам.
Лучшего оружия, чем автомат, для нас, партизан, не было. Обладатель автомата считал, что он непобедим, а тот, кто его не имел, и подавно был в этом убежден. Ренцель дал слово:
— Дайте сроку два-три месяца, и автоматы нашей мастерской будут не хуже тех, на которых имеется заводская марка.
По правде говоря, мы тогда не очень верили в успех его затеи. Вадим Геннадьевич со своими мастерами работал днем и ночью. Уже в июле один из наших разведчиков получил от Ренцеля первый автомат «Р-1» — так назвали его партизаны. Ствол был взят из старого русского обреза, замок был весь полностью изготовлен в мастерской, а делать ложи у нас давно научились.
Был этот автомат, естественно, хуже заводского: случалось, переведешь его на автоматический огонь, а он стреляет как винтовка, а то вдруг закапризничает и вовсе ни одной пули выпустить не хочет. Но Ренцель не падал духом. Второй автомат удался лучше, а пятый и шестой уже и в самом деле были не хуже заводских. На третьем автомате Маргалик выбил цифру «сто» и в каждой деревне, в каждой хате показывал его, хвастал:
— Наш Ренцель выпустил этих автоматов сто штук, можете всем рассказать об этом…
Вскоре немцам и полицаям пришлось на собственной шкуре испытать действие ренцелевских автоматов.
Стоит рассказать и о ренцелевском Деловом клубе. Пусть он никому не покажется легкомысленной затеей, не приличествующей пожилым партизанам, составлявшим большинство членов этого клуба, тем более в таких условиях и в такое время.
В долгие осенние и зимние вечера собирались тут люди, давно оторванные от семьи, уютного человеческого жилья, хлебнувшие немало горя… Нет, положительно нет ничего странного в том, что они были рады даже минуте веселья.
Еще в первые дни моего пребывания у партизан я услышал: «Сообщает ОБС». У меня тогда создалось впечатление, что речь идет о какой-то особой боевой, секретной, что ли, радиостанции. Но вскоре, став разведчиком, я уже сам передавал в штаб, что «ОБС сообщает».
ОБС означало: «Одна баба сказала». Это выражение так у нас укоренилось, что даже сводки в высшие штабы содержали отдельный пункт — ОБС.
Среди почты, принесенной мне однажды связным, оказалось письмо, написанное на клочке старых обоев. Мне предлагалось сотрудничать в секции ОБС Делового клуба.
«Учитывая, что Вы все время находитесь на периферии, — говорилось в нем, — материалы от Вас будут приниматься в письменном виде. Если Вы принимаете наше предложение и готовы стать активным сотрудником вышеуказанной секции клуба, то при наличии рекомендаций от всеми уважаемых и в достаточной степени заслуженных людей, Вы можете питать надежду, что будете приняты в члены клуба».
Мало свободного времени было у меня в ту пору, чтобы заниматься подобными делами. Но Синица однажды все-таки затащил меня туда. Собирались у Ренцеля в кузнице. На печи возле поддувала горна лежали две каски, между ними — железный прут. У стола на видном месте сидел президент клуба Ренцель, человек уже в летах, долговязый, широкий в плечах. Когда входил член клуба, он железным прутом ударял по каждой каске, все присутствующие поднимались и приветствовали вошедшего.
Именно так встретили и Синицу. Он что-то шепнул Ренцелю, и последний объявил мне, что я должен выйти и войти заново. Пришлось подчиниться, я вошел вторично. Ренцель на этот раз ударил только по одной каске — меня приветствовали, но с мест не встали. Ефим Маргалик попытался было подняться, но соседи с обеих сторон тут же насильно усадили его, а Ренцель сделал ему замечание и предупредил о недопустимости подобных нарушений правил. Из благодарности к Ефиму за то, что он меня встретил, вернее — попытался встретить теплее, чем остальные, я подсел к нему.
— Кого мы ждем? — спросил Синица.
— Доктора Ионыча. Сегодня его доклад на тему «Блоха и как она удобряет землю». По уважительным причинам докладчик сегодня задержался в лазарете, придется немного подождать.
Ренцель сидел и быстрыми, ловкими движениями тасовал колоду карт. Левый глаз он слегка щурил, на лице его было такое выражение, словно более важного дела на свете не существует. Губы непрерывно шевелились, бормотали какие-то слова, и только когда расслышал, что кого-то «ждет казенный дом», я понял, что он занят гаданием на картах.
— Вадим Геннадьевич, — не выдержал я, — вы, вы занимаетесь ворожбой?
Он и головы не повернул в мою сторону, и только легкая улыбка скользнула по губам.
— Чему удивляетесь — не узнаете меня?
— Нет.
— Бывает, мне это знакомо. Лет тридцать назад, когда я женился, мы с женой жили в большом доме ее родителей. Вы, молодой человек, еще не женаты и не знаете, что значит жить одной семьей с тещей, упаси вас господь и впредь… А вот я, фон Ренцель, жил вместе с тещей, с сестрой тещи и с тещиной матушкой…
Ренцель рассказывал, хитро жмурил глаза и не переставал энергично тасовать карты.
— Так вот, по документам этой старушке было лет восемьдесят, в действительности же, думаю, ей было гораздо больше. Глуха она была — ни звука не слышала — и к тому же плохо видела… Эта самая обер-теща, как я ее называл, ни за что не могла или не хотела меня узнавать. Каждое утро она поднимала шум. «Гертруда! — кричала она своей дочери, моей теще, значит. — Что это за лоботряс сидит в комнате у Матильды?»
Мой тесть, дядя моих примерно габаритов, хохотал так, что в буфере дрожала посуда. Зато я получил удовольствие, когда на серебряной свадьбе тестя с тещей обер-теща встретила его в дверях неожиданным вопросом: «Молодой человек, вы к кому?» Он так, бедняга, растерялся, что у него на минуту язык отнялся, а она захлопнула перед самым его носом дверь и громогласно сообщила всем домашним:
«Видимо, к Матильде пришел новый лоботряс. В такой день, в день нашего семейного торжества, можно обойтись без него».
Все слушавшие рассказ Ренцеля покатывались со смеху, его же лицо было невозмутимо. Он продолжал:
— Итак, удивляетесь, что гадаю на картах? Готов объяснить. Как вам известно, я начальник оружейной мастерской и, как руководитель, обязан предвидеть. Вот и стараюсь…
— Наш президент, — заметил Маргалик, — умеет не только предвидеть, но и прошлое, и настоящее разгадывать.
— Да ну? — Я даже привскочил в притворном изумлении. — И что же, вы только этим и занимаетесь?
— Вадим Геннадьевич, — стал умолять его Синица, — наставьте на путь истинный скептика.
— Ладно, ладно, — согласился снисходительно Ренцель, — не я, мои карты сейчас во всем убедят его.
Он вытаращил на меня свои большие серые глаза, мгновение бормотал что-то невнятное… Я заметил, что его губы слегка дрогнули в едва сдерживаемой улыбке, — как тут, черт побери, увильнуть, чтобы карты не стали и впрямь что-либо рассказывать обо мне…
— Нам известно, что у вас имеется лишняя зажигалка, водятся немецкие сигареты и даже сахарин. Если не возражаете, каждый из нас готов побаловаться сигаретой, у всех у нас давно кончилось курево.
Синица передо мной оправдывался:
— Ей-богу, не я!.. Ничего я не рассказывал Вадиму Геннадьевичу.
— На воре шапка горит, — отвечал я. — Но с удовольствием угощу сигаретами.
Я сунул руку в карман. Что за черт? Пусто… Сунул руку в другой, где я минуту назад, кажется, нащупывал сахарин, — тоже пусто. Больше не ищу — все ясно. Заявляю:
— Уважаемый президент, теперь я вполне уяснил себе, чем вы занимаетесь. Мне это Ефим блестяще объяснил. Спасибо!
— Пожалуйста, — Ренцель поклонился. — Все вещи у меня. Только такому гусю, как Маргалик, и место в таком почтенном клубе, как наш.
Ефим в недоумении пожал плечами, словно желая сказать: «Не понимаю, о чем речь».
Ренцель ему подмигнул.
— Ну-ну, не скромничай, ты в этом деле мастер. За такую чистую работу я тебе сейчас расскажу, что у тебя делается дома… Та-а-ак… Вот она, бубновая дама, а вот… Так, ясно… Как ни странно, но твоя Галочка еще верна тебе. Она переехала на новое место, работает, так, так, именно так. Галочка знает, что ты жив, но не может постичь, как такого растяпу, как ее Ефим, приняли в партизаны…
Ренцель замолчал. Стоило видеть, как Маргалик поднялся с места и с неподдельной болью стал умолять:
— Вадим Геннадьевич, ври, ври до конца. Скажи, я отец или нет?..
Ренцель почувствовал — на этот вопрос он обязан ответить — и не стал медлить. Но вместе с тем не мог отказаться от возможности и удовольствия подразнить Ефима.
— Вот, смотри сам, убедись, карты показывают: какой-то мужчина сладко спит в ее комнате… Кто бы это мог быть? На этот вопрос карты не отвечают. Но какой разговор они вели с Галей перед тем, как улечься спать, это я попытаюсь узнать. Ага! Вот оно! Мужчина спросил: «Плавда, мама, кололева спит одна на ласкладуське? И ест глецневую касу столько, сколько ей хоцется?»
Маргалик не выдержал. Счастливый, вскочил он с места, с размаху рванул дверь и выбежал в ночную тьму. В землянку ворвалась струя холодного, свежего воздуха.
Ренцель густым басом затянул любимую песню:
Что стоишь, качаясь, Тонкая рябина, Головой склоняясь До самого тына…Вадим Геннадьевич потребовал, чтобы каждый из нас рассказал, как он представляет себе эту рябину. На все ответы Ренцель одобрительно кивал головой, а под самый конец заявил:
— И ничего вы не понимаете! Просто жаль, что такая нежная, сердечная песня попала к таким созданиям, как вы…
Сам же он еще долго восхвалял скромную, нежную, тонкую рябину, после чего продолжал:
Но нельзя рябине К дубу перебраться…О чем только мы не говорили в этот вечер! И о том, что скамеечка, на которой восседает в трамвае вагоновожатый, напоминает гриб, и о том, что перед дождем птицы низко летают, и когда комары роем кружатся на одном месте, это к хорошей погоде, и что к поговорке, гласящей: «За свою жизнь каждый обязан посадить дерево и воспитать человека», война сделала существенное добавление: «и убить фашиста».
Синица напомнил:
— Нам вставать на рассвете.
Мы распрощались с гостеприимными членами клуба и отправились в штаб.
Лес спал. Не спали многие из лесного населения. Еще долго доносились оживленные голоса из шалаша Ренцеля, из лазарета слышались вздохи и стоны тяжелораненых, подальше где-то затаились наши часовые, глубоко уверенные, что, кроме них, все друзья в лесу спят крепко и спокойно.
В штабе, когда мы вошли, радист вел разговор с Большой землей.
БЛОКАДА
Разыгрался ветер, поземка замела пути и тропы, везде разрослись сугробы, наши землянки занесло снегом. Меня разбудил Синица:
— Я приказал вывести всех из лагеря — что-то больно активны сегодня немецкие самолеты.
Он показал мне только что полученное от разведчиков донесение — внушающие тревогу сведения. Обеспокоенные отсутствием комбрига и комиссара — они накануне уехали в расположение первого батальона, — мы послали им вдогонку связных, но успеют ли командиры прибыть сюда, сказать трудно.
В одиннадцать часов утра немецкие самолеты бомбардировали и обстреляли из пулеметов лес. По-видимому, их сведения о расположении наших лагерей весьма неточны — бомбы не попадали в цель.
Днем все стихло, и мы с Синицей отправились в соседнюю партизанскую бригаду — необходимо было договориться о координации наших действий, если немцы начнут наступление на лес.
Снова появились самолеты. Они кружили над лесом, носились вдоль железной дороги — держались, видимо, этого ориентира, не подозревая, что как раз здесь и расставлены наши пулеметы. Когда один из вражеских самолетов находился в вираже, готовясь сделать новый круг, его с земли настиг шквал огня. В воздухе возник клуб черного дыма, и самолет камнем полетел вниз. Спустя мгновение раздался глухой удар.
— Есть! — воскликнули мы с Максимом в один голос и подстегнули коней.
На поляне перед нами лежал обгоревший остов подбитого самолета. От экипажа остались черные головни, но оружие сохранилось, пулемет можно будет использовать.
Воздух снова наполнился гудением — теперь уже до ночи не дадут нам покоя. Мы быстро условились обо всем с соседями и поспешили назад. Где ползком, где короткой перебежкой мы добирались до леса.
В лагере не готовили ни обеда, ни ужина. Не принесла покоя и наступившая темнота — самолеты кружили над лесом, огонь развести не удалось, так что и завтра предстоял голодный день. Наш небольшой запас хлеба и копченого мяса мы распределили среди больных и раненых.
Фашисты с танками и орудиями двигались в направлении наших лагерей. В одном месте они построили мост, а ночью партизаны его взорвали. Мы дважды завязывали с ними схватки, последнюю вели у самой опушки леса. Собственно, это была засада. Гитлеровцы пересекли железную дорогу и уже находились метрах в ста от леса. Они, очевидно, решили, что мы отсюда убрались после бомбежки и обстрела, но их встретила такая плотная завеса огня, что они тотчас же повернули назад.
Мы получили указание покинуть этот лес. Лагерь был оставлен нами, когда немцы находились совсем близко. Вокруг хлопали разрывные пули. Недалеко разорвался снаряд и взметнул глыбы смерзшейся земли. Нас постигла беда — враг отрезал наш батальон, находившийся в заставах, и вместо того, чтобы объединиться с нами, батальон был вынужден отойти в противоположном направлении.
Все дороги запружены санями, верховыми, пешими — двигались роты, батальоны, отряды, бригады, готовые каждую минуту ринуться в бой с врагом. Может показаться непонятным: почему же мы так поспешно отступаем, если представляем собою такую силу? Очень просто: близок фронт, и оккупанты могут бросить против нас технически оснащенные фронтовые части, а перед авиацией, танками, тяжелой артиллерией мы почти бессильны. К тому же нам не так уж важно удержать этот лес. Определение условий, при которых нам выгоднее вести бой, полностью предоставлено нам.
В течение ночи нашей бригаде не удалось выбраться из леса. Пуститься с таким множеством людей утром через открытое поле было безумием: не столкнемся с врагом на земле — нас непременно заметят и ударят с воздуха. Остался один выход — маневрировать в течение дня в лесу, чтобы вырваться отсюда следующей ночью.
Никто ни о чем не спрашивал, но в глазах у всех застыло: «Что дальше?»
— Разъясните всем, в особенности новичкам, — приказал Синица командирам, — что мы уже не раз переживали и более опасные минуты. Лес велик, а вести бой в лесу мы умеем. У нас имеются крепкие штурмовые группы, которые в случае необходимости сумеют пробить дорогу или на время задержать врага. Успокойте больных и раненых, мы их не покинем, а нашего запаса продовольствия хватит для них на несколько дней.
Он приказал забить пару лошадей, мясо раздать.
Осень была мягкая, а зима, как говорится, сиротская. В начале второй половины февраля, когда началась блокада, погода вдруг резко ухудшилась. Белорусы недаром называют последний месяц зимы лютым. Ударили сретенские морозы. Трудно стало маневрировать в лесу, — хоть на денек забраться бы куда-нибудь, отдохнуть, обогреться…
Несколько дней мы метались по лесу, потом вернулись в наш лагерь. Множество землянок немцы уничтожили, но жилища разведчиков уцелели.
Больше часу нам отдыхать не пришлось — с заставы сообщили:
— Немцы в километре от лагеря.
Снова раздался приказ:
— В дорогу!
Едва мы успели отойти, враг начал обстрел нашей заставы. Стали рваться снаряды, самолеты снова начали бомбить лагерь, на дороге показалась вражеская колонна. Мы залезли в трясину, где потом пришлось оставить большую часть лошадей. Никогда, кажется, мы так страстно не мечтали о приходе ночи, как сейчас.
Мороз. На безоблачном небе ярко блестят звезды. Растянувшись длинной цепью, мы в полночь уходим из леса. Разведчики идут впереди.
К утру вокруг нас раскинулся другой лес, в другом районе, а спустя еще день мы прибыли в лагерь одного из отрядов нашего соединения. Командир отряда приказал всех нас накормить и освободить нам места в палатках. Мы с Синицей улеглись возле костра, прижались друг к другу и как убитые уснули.
…Зазвучала веселая песня жаворонка, прилетели стрижи и ласточки — самые верные вестники весны, кое-где на пригорках пробились нежные побеги молодой травы, на гибких ветвях берез набухли почки, и только в затененных местах еще прятались остатки почерневшего снега.
Войска Белорусского фронта вели упорные наступательные бои. В сообщениях Совинформбюро среди названий освобожденных населенных пунктов стали мелькать знакомые местечки, села, деревни, где совсем недавно действовали мы. Теперь фронт уже под Рогачевом, километрах в тридцати от нас. Кругом полно немцев. Такого скопления вражеских войск мы вблизи себя еще не наблюдали. Наше положение стало тяжелым. Указаний о соединении с Красной Армией мы не получали и продолжали свою борьбу, приспособив ее к новым условиям.
В конце марта, когда немцы гнали по шоссе колонну мирных жителей для отправки на каторжные работы в Германию, мы, незаметно следуя за ними, неожиданным налетом уничтожили охрану и освободили арестованных. Не проходило дня, чтобы мы не нападали на их колонны, двигавшиеся по магистрали Бобруйск — Могилев.
Если не считать разведчиков и подрывников, вся наша бригада сегодня в сборе — у нас праздник. Два года прошло с тех пор, как маленькая горсточка советских патриотов впервые открыто объявила немецким оккупантам войну не на жизнь, а на смерть. Отряд за это время разросся до размеров бригады. Из него отделились еще четыре отряда, которые выросли в самостоятельные, сильные боевые единицы.
На наше торжество прибыли представители Могилевского подпольного обкома партии, гости из других отрядов. На трибуне развевалось наше боевое знамя. Стройными рядами, четким шагом прошли перед трибуной народные мстители.
ДЕДЫ РАССКАЖУТ ВНУКАМ
Столпищи — большое село, расположенное вблизи города. Сто семьдесят вторая немецкая дивизия создала здесь продуктовую базу — маслодельный завод, колбасную фабрику. У крестьян отбирали последнюю скотину и тащили сюда. Продукцию этих производств доставляли в фронтовые части. На постое в селе находилось около двухсот немцев.
Мы решили уничтожить этот гарнизон. Бой предстоял тяжелый: кругом расположено много вражеских частей, в километре от Столпищей стоят и танки. Нападение нужно было произвести неожиданно, одновременно на гарнизон и на танки, не дать последним тронуться с места.
Опустилась темная ночь. Частил мелкий дождь. Для нас эта погода была как нельзя более желанной. Двигались сотни людей, но так осторожно, так тихо, что шороха не было слышно. Максим Синица возглавлял штурмовую группу.
В нижнем белье гитлеровцы выскакивали из хат, почти в каждом дворе завязывалась схватка. На Павла Тимохина наседало несколько фашистов, и ему на помощь подоспел дядя Миша. Из окна раздался выстрел, и из уст в уста полетела скорбная весть: убит Михайло Орлов.
С огороженного высоким забором двора застрочил вражеский пулемет. Синица отдал приказание:
— Уничтожить огневую точку!
Донесли:
— Немцы забаррикадировались в угловом доме.
Синица бросился туда.
Все вокруг ярко освещено — из города сюда направлены прожектора, в конце села бушующим пламенем охвачен маслозавод. Синица поспевал всюду, везде слышался его зычный голос. Вдруг он, покачнувшись, упал. Два партизана понесли его к санитарному пункту.
Наша победа над вражеским гарнизоном была полной. Центральный штаб партизанского движения горячо поздравил нас радиограммой.
Но большая радость партизан была омрачена гибелью дяди Миши и Максима Синицы.
И сейчас как живой стоит перед моими глазами коренастый, широкоплечий человек с густой красновато-рыжей бородой, и кажется, слышу его голос:
«Враги, видно, плохо знают Орловых. Не ступать нам с ними по одной земле, так говорю я, Михайло, так говорят мои дети. Так будет!»
Михайло, живы твои дети, мы — твоя семья, мы, народные мстители, говорим с тобой:
«Так будет!»
Дорогой мой друг Максим!.. Разве смогу забыть тебя? Помню твою мечту:
«Кончится война — поступлю в военную академию…»
Не слезы уймут наше горе, не плачем почтим вашу память, боевые товарищи, — не такое теперь время, не утих еще грохот боев. Пройдут годы, и внукам будут рассказывать деды:
«Здесь партизаны бились за освобождение родной земли, здесь могилы тех, кто отдал жизнь за счастье народа…»
Я назначен на место Синицы. Трудна для меня работа начальника штаба бригады. К тому же настали напряженные дни — кругом накапливались немецкие части, которые не сегодня-завтра перейдут в наступление против нас.
Мы собирали силы и готовились снова навязать врагу бой. Целую ночь сидели мы у костра с нашим топографом и чертили схемы гарнизонов, на которые собирались напасть. В моем планшете уже лежал черновой набросок боевого приказа, который будет зачитан перед строем.
Дни стояли теплые, солнечные, просохла земля, лес был по-весеннему прозрачен и наряден, только по вечерам еще было свежо и прохладно. Комбриг Боровский, его помощник и я выехали под вечер на рекогносцировку места будущего боя. С опушки леса мы хорошо видели, что делается в деревнях.
Ночью пошел дождь.
— Такая же погода была, когда мы напали на Столпищи. — Боровский улыбнулся. — Моросящий дождь — хорошая примета.
Первыми тронулись разведчики, за ними головная походная застава. Вскоре все благополучно достигли исходных позиций, вражеские часовые ничего не заметили. Мы затаились и с нетерпением ждали сигнала — взлета ракеты.
Младший командир Михаил Полещук, — когда он поступил в отряд, ему не было и шестнадцати лет, — получил задание пробраться с отделением в село, укрыться вблизи немецкого штаба и, как только мы откроем огонь, уничтожить гранатами штаб и лишить гарнизон командования. Шедшие на это дело люди знали, какая опасность им грозит: когда начнется наступление на гарнизон, они окажутся не только под вражеским, но и под нашим огнем.
Молодой командир перед уходом произнес только:
— Есть уничтожить вражеский штаб!
Полещук со своей группой исчез в ночной темноте.
Рядом со мной лежал отец Михаила, парторг роты Сергей Федорович Полещук. Уже третий год отец с сыном воюют рука об руку. Мне чудилось, я слышу, как бьется его сердце.
Часы показывали без пяти минут двенадцать. Боровский зарядил ракетницу. Как долго тянутся последние минуты!
Наконец раздался гулкий выстрел, зеленый клок огня со свистом взвился вверх и рассыпался снопом огненных брызг.
— Огонь!
Стреляли наши минометы, противотанковые ружья, пулеметы, русские, немецкие, французские, чешские винтовки, шла пальба из автоматов, обрезов, даже из пистолетов и наганов. Такой густоты огня мне с тех пор, как я в партизанах, не доводилось видеть. Со стороны села донеслось несколько сильных взрывов — это наши забросали немецкий штаб противотанковыми гранатами.
Снова в воздух взмыла ракета, на этот раз красная, — она обозначала:
— В наступление! В атаку!
Наше могучее «ура» неслось нестихающими раскатами все ближе и ближе к селу, а когда мы на мгновение затихали, его поддерживало и продолжало лесное эхо. Горе тому, кто теперь попытается встать на нашем пути! Все мчались вперед, один обгонял другого, — пока ошеломленный враг не пришел в себя, каждая секунда дорога.
Кто пустил в ход гранаты, кто пробивал себе дорогу винтовкой — все наши подразделения действовали слаженно и энергично. Фашисты словно обезумели — босиком, раздетые, они, дико крича, бежали, бросали оружие.
Привели пленного — он находился в охране штаба, когда его захватил молодой Полещук.
— Сколько тут вас? — начал я допрос.
Он дрожал.
— Живо!
— Больше тысячи…
— Сколько?
Он повторил.
— Врет, — решил Боровский.
Привели еще одного немца, на этот раз офицера. Я задал ему тот же вопрос и получил тот же ответ.
Что ж, мы громим крупную воинскую часть, — тем полнее наша радость!
Пленные недоумевали:
— Что это? Линия фронта придвинулась? Вы красноармейцы?
В большом доме засела группа гитлеровцев с пулеметом. Погибло уже три партизана, а их сопротивление еще не сломлено. Николай Корбуш мал ростом и проворен, словно кошка.
— Вы обстреливайте дверь и два окна, а я подберусь к третьему.
В окно полетели две гранаты — раздался взрыв, за ним другой. Наши бросились к дому, но немцы опомнились, и их огонь снова прижал партизан к земле.
То, что дальше произошло, было настолько невероятно, что мы не поверили собственным глазам: вслед за своими гранатами Корбуш вспрыгнул на подоконник, направил автомат на находившихся внутри фашистов и крикнул:
— Оружие сложить, а самим освободить помещение!
Те повиновались. Двух спрятавшихся в доме гитлеровцев настиг огонь его автомата.
Пора уходить из села, оставаться здесь дольше бессмысленно и опасно — с минуты на минуту к немцам может прийти подмога, и тогда силы станут слишком неравными. К тому же, чтобы вести такой интенсивный и продолжительный бой, нужны боеприпасы, а их у нас не так уж много.
Боровский снова подал сигнал — ракета, взлетая, рассыпалась в воздухе снопом разноцветных искр, ее у нас называют «метелочкой».
Уже в лесу мы догнали наших раненых, на подводах везли убитых. За одной из них шагал, опустив голову, Сергей Федорович Полещук — сегодня он потерял единственного сына.
Связные спешили в лагерь сообщить о результатах операции. Прибыв на место, мы застали поздравление секретаря подпольного обкома партии.
Наши летчики развязали нам руки. Каждую ночь они привозят взрывчатку, оружие, патроны, а увозят раненых, детей, стариков.
Взрывчатый материал у нас есть. Часто подумываю я: «Возобновить бы рельсовую войну…»
Немцы ничто так не охраняли, как железные дороги и мосты. Специальные бронепоезда, оберегая пути, курсировали туда и обратно; доты и посты, рвы и заграждения из колючей проволоки тянулись вдоль железных дорог. По ночам то вовсе прекращалось движение поездов, то составы двигались очень медленно, а впереди локомотивов прицеплялись пустые платформы. Вблизи путей вырубались деревья, устраивались засады, но ничто не спасало гитлеровцев от острого глаза и беспощадных рук партизана.
Были такого рода диверсионные операции, в которых принимали участие решительно все партизаны. Да, это была рельсовая война. Везде, где только находились партизаны, в одну и ту же ночь, в один и тот же час и минуту к линии железной дороги подползали люди. У каждого наготове взрывные шашки. Эти шашки подкладывались под рельсы, подпирались камнем потяжелее, и тогда подавался сигнал: «Поджигай!» Пока догорали шнуры, все успевали отбежать.
Земля содрогалась от взрывов.
Первая такая массовая операция была для фашистов настолько неожиданной, что даже в крупных городах вызвала невероятную панику. Немцы долго не могли прийти в себя, не могли понять, что же, собственно, произошло. Они были вынуждены снять параллельные железнодорожные линии в других странах и везти их к нам, в Белоруссию. Покуда они прокладывали новые рельсы, партизаны взорвали шпалопропиточный завод. Теперь уже немцы ощущали недостаток в шпалах.
Думается, начни мы нашу партизанскую деятельность с первых же дней такими операциями, рельсов не хватило бы и для самой Германии.
Железнодорожной линией Бобруйск — Могилев немцы вовсе не пользовались. Не помогли им ни специальные гарнизоны, ни мощные доты, ни карательные экспедиции — здесь мы были хозяевами.
Очень часто в наших руках находилось шоссе Бобруйск — Могилев, — не проходило дня, чтобы на нем не подрывались вражеские машины. А когда мы перебрались в зимние лагеря, километрах в пятидесяти от дороги, один наш батальон дежурил здесь постоянно, каждый раз на новом месте минировал дорогу, устраивал засады. И партизаны возобновили рельсовую войну.
В операции и на этот раз приняли участие все без исключения. Нам предстояло взорвать железную дорогу на участке недалеко от Шклова.
Стоял июнь, а холодней было, чем в апреле. Сутками непрерывно шли дожди, дули порывистые ветры, и все же мы проходили ежедневно не меньше пятидесяти километров, многие — из последних сил, но никто не отставал.
Серьезную тревогу внушало всем нам то, что много километров придется пройти полем: если даже останемся незамеченными по пути туда, вражеская авиация будет нас разыскивать здесь после операции, а замаскироваться в поле такому большому числу людей невозможно. С Большой земли нам по радио передали: «В случае необходимости вас будут сопровождать наши самолеты». Слова «в случае необходимости» несколько удивили. Как же иначе? Разве фашисты дадут нам безнаказанно уйти? Но мы успокоили себя: на Большой земле заботятся о нас не меньше, чем мы сами.
До железной дороги оставалось тринадцать километров. Здесь надо пробыть до наступления ночи. Костров не раскладывали, насколько возможно, замаскировались.
Небо прояснилось, и немного потеплело. Уже наступили сумерки, когда я перед бригадой зачитал приказ.
Наконец перед нами последняя деревня в маршруте. Отсюда до железной дороги не больше восьмисот метров. Донесся гудок локомотива, — этот поезд до места назначения не дойдет, он где-нибудь в пути будет взорван или пущен под откос. На нашем участке оказалось несколько дотов, и туда направились штурмовые группы.
Вот мы и у насыпи — лежим, ждем.
Время — одиннадцать тридцать. Огонь!
Первые взрывы раздались справа от нас, вслед за этим — на нашем участке, потом — слева, и понеслась, протянулась длинная, беспрерывная полоса огня. Кажется, конца ей нет.
Железнодорожная охрана знала: сопротивление бесполезно. Кто успел — бежал, остальные остались тут навсегда, умножив число вражеских могил на белорусской земле.
— Вперед!
Раздалось дружное «ура». Мы били врага по самому чувствительному месту — взрывали не только рельсы, но и телеграфные столбы. Земля дрожала, земля стонала.
Солнце еще не взошло, только на востоке обозначилась ярко-красная полоса. На небе — ни облачка, в воздухе — ни ветерка.
Возвращаемся, идем полем. Вот-вот появятся вражеские самолеты. Что за чудо? Кругом тишина, и только откуда-то издалека доносится отзвук глухих тяжелых ударов. Взрывы? Что случилось? Чем объяснить, что враг дает нам спокойно уйти?
К вечеру мы добрались до тракта, двигались осторожно: это место выгодно для немцев, если они вздумают напасть на нас. Но разведчики сообщили, что путь свободен. На протяжении нескольких километров справа и слева мы повалили телеграфные столбы. Встретился мост — израсходовали остаток тола, и он взорван.
Обратный путь длился гораздо меньше, чем полагали. Какое-то радостное предчувствие подгоняло каждого из нас. Скорее на место, в родной район… Кто знает, а вдруг там уже наши?..
МЕЧТА СТАЛА ЯВЬЮ
Стоим уже не в лесу, а в деревнях. Хозяева мирно дремлющего леса теперь вездесущие мальчишки, они шумными ватагами носятся по покинутым нами партизанским тропам.
Приказ пришел ночью. Наша задача — занять участок шоссе Бобруйск — Могилев и отрезать путь отступающим немецким частям, держаться до тех пор, пока не подойдут наши войска.
Можно ли уснуть в такую ночь? Штаб собрался у костра, командиры говорят тихо, не хотят будоражить людей — пусть поспят еще несколько часов, предстоит трудный день.
— О чем ты задумался, Вася? — Я легко коснулся плеча Савицкого, теперь уже командира роты разведчиков.
Он вздрогнул.
— Целых три года мечтал я об этой минуте, днем и ночью, наяву и во сне. Лучший из моих снов становится явью…
По тракту, который нам предстоит пересечь, тянулись толпы немцев. Наши разведчики, наткнувшиеся на них, дали несколько выстрелов. Странно — они не отвечали. Один из батальонов бросился вперед, к тракту, — гитлеровцы разбежались, не приняв боя. Те, кого настигли наши пули, остались лежать, и никто их не подбирал. К штабу подвели несколько пленных.
— Куда направлялись?
— В Бобруйск.
— Откуда?
— Из-под Рогачева, Жлобина. Танкисты, артиллеристы, пехотинцы…
Они бежали куда глаза глядят, — в районе Бобруйска, сказали им, красные будут остановлены.
На тракте мы оставили одну роту, чтобы не дать нанести нам удар с тыла, и вступили в Городецкий лес. Каждая тропка нам тут знакома — не мы ли сами их проторили?
Группа разведчиков уехала вперед. Но вот один из них прискакал назад и донес:
— Впереди стоит немецкая часть.
Мы рассыпались по лесу, готовые принять бой. Разведчики, ушедшие влево, донесли:
— У опушки леса остановились немецкие танки.
Сзади, со стороны тракта, где мы оставили роту, слышалась стрельба. Снова скачет разведчик.
— Справа, на лесной дороге, у мостика, появилась какая-то группа солдат в зеленых маскировочных комбинезонах.
— К шоссе придется прорываться с боем, — сказал мне Боровский, — в каком направлении атаковать — вот вопрос… Савицкого с остальными разведчиками направьте к мостику.
Еще не успел далеко отойти Савицкий, как впереди появились люди в зеленых маскировочных халатах. Мы лежали и с тревогой следили за происходившим впереди.
— Стой! — крикнул Савицкий, направив на неизвестных автомат.
Они остановились.
— Сдавайтесь, или мы вас уничтожим!
Даже до нас, находившихся от них гораздо дальше, чем Савицкий, донесся их громкий хохот.
— Кто кого уничтожит? Кому ты предлагаешь сдаться?
Я прошептал Боровскому:
— Что-то больно они в себе уверены, уж не разведчики ли это Красной Армии?
В ту же минуту Савицкий, дав знак своим людям остаться на месте, сам с автоматом наперевес пошел вперед.
Один из неизвестных двинулся ему навстречу. Мы задержали дыхание. И вдруг… Оба бросились друг другу в объятья. У нас у всех, как по команде, вырвалось оглушительное, радостное «ура».
Криками наполнился лес, вся окрестность. Люди кричали, люди плакали, люди теряли голову от счастья, — кто целовал землю, кто обнимал друга, кто стрелял в воздух. Когда мне удалось протиснуться к одному из красноармейцев, — мне не стыдно рассказать об этом, — я расплакался…
Молодой майор умолял Боровского:
— Прикажите вашим людям отпустить меня, мне необходимо связаться с моим командиром.
Бойцы тянули телефонный шнур. Майор кричал в трубку:
— Это я, «Голубь», «Голубь»… Товарищ генерал, возле мостика в одном километре от тракта (он назвал координаты) мы встретились с партизанской бригадой имени Кирова. Продвигаюсь дальше.
1948—1967
Перевод И. Гуревича.
ЮНОСТЬ ЖАКА АЛЬБРО Повесть
Должен заранее предупредить читателя: Жак Альбро — не подлинное имя моего героя. Но не я его придумал и даже не сам герой.
Время и обстоятельства наделили еврейского паренька Довидла Гольдфарба этим необычным именем — Жак Альбро.
О том, как это произошло, мне и хотелось здесь рассказать.
ХАИМ-БЕР БУДИТ ДЕНЬ
Хаим-Бер имел привычку подниматься чуть свет, когда ночь, казалось, уже отступила, а день еще не занялся и в непроглядной тьме, пронизанной сыростью и холодом, еле вырисовывается алеющая полоска зари. В этот ранний час, когда одни лишь птицы нарушают тишину, обычно раздается пронзительный скрип ржавых ворот, простуженное покашливание и басовитый незлобивый окрик:
— Но, кляча, сколько можно дрыхнуть!
Довидл нисколько не сомневается, что с этого понукающего окрика Хаим-Бера и начинается новый день не только у них во дворе, у мадам Олиновой, что в конце Дворянской улицы, и не только в Херсоне, но и во всех городах и селах, в полях и лесах, на широком Днепре, до которого рукой подать, и дальних морях, — одним словом, всюду, на всем белом свете.
Он готов поклясться, что лишь после того, как раздастся щелканье извозчичьего кнута, скроется перламутровый серпик луны и погаснут звезды, рассеется предрассветный туман, ветер стряхнет с высоких акаций прозрачные капли росы и пух с тополей, а по свежевыкрашенной соседской крыше, как бы невзначай, скользнет первый солнечный луч.
Даже Фуга — эта черная в рыжих подпалинах собачонка Довидла — и та, заслышав голос извозчика, его «кхе-кхе», тут же выползает из будки, отряхивается ото сна и после смачного зевка трусит к калитке. Тем временем на безлюдной улице уже показался случайный прохожий или запряженная в повозку лошадь. Сидит себе возница на облучке — Фуга только раза два негромко тявкнет. Если же он шагает вслед за повозкой, да еще с кнутом в руках, Фуга опрометью бросается к забору, выскакивает на тротуар и, ощетинившись, с яростным лаем провожает «недруга» аж до третьего переулка.
Одного не мог понять Довидл: «А как же по субботам? Ведь в субботу Хаим-Беру не приходится запрягать кобылу и, значит, незачем ему зычным голосом, как из иерихонской трубы, поднимать на ноги весь мир криком: «Сколько можно дрыхнуть!» Но спросить об этом у извозчика, взвалившего на свои плечи столь тяжкую вселенскую ношу, так что даже спина его порядком сгорбилась, Довидл не осмеливался.
Со временем загадка сама по себе разрешилась: оттого так необычен этот день субботний, что все встают, кто когда хочет, на работу не ходят — бьют баклуши. Даже его мама, вечно занятая по горло, в субботу не кипятит чай в чугунке, не чинит свой траченный молью плюшевый жакет, не латает наволочки, чтобы скрыть от людских глаз их убогий вид, а сидит с соседкой Рохеле на завалинке, и обе, как заведенные, лузгают жареные тыквенные семечки, сплевывая под ноги белую шелуху.
Когда Хаим-Бер на рассвете будил весь мир, Довидл и слышал и не слышал: утренний сон слаще меда. В это время он лежал, свернувшись калачиком, прижимая коленки к животу, втягивал голову в плечи и плотней закутывался в старую отцовскую шинель, у которой, помимо длинного разреза сзади, было еще с добрый десяток большущих дыр.
Все это происходило вовсе не потому, что Довидлу было жаль расставаться со сном. Он не хотел, чтобы власть Хаим-Бера, которому все беспрекословно повиновались, распространялась и на него. Не зря же Лейви, брат Довидла, когда, бывало, разозлится, дразнил его «строптивцем», «мальчиком-наоборот».
Лейви хочется, чтобы все в доме вставали в одно время с ним. Этой каланче (так его окрестила соседка Рохеле) невдомек, какая кутерьма поднимется, если в двух небольших комнатушках их подвала, где с непривычки шагу не сделать, не зацепившись обо что-то, одновременно встанут с постелей папа, мама и двенадцать детей… От этой мысли у Довидла, хотя он еще не совсем проснулся, пухлые губы невольно складываются в ухмылку: все пошло бы кувырком. Того и гляди — лампа под потолком начнет ходить ходуном.
Чтобы этого не произошло, было заведено раз и навсегда: «Сколько можно дрыхнуть!» касается одной только мамы. И лишь после того, как готов завтрак — пшенная каша сварилась, чай вскипел, — она подходит к кровати отца и шепотом, чтобы никто не услышал, будит его:
— Носн-Эля…
Произносится это так, будто она не совсем уверена, что на этой расшатанной, скрипучей деревянной кровати спит ее муж, а не какой-нибудь знатный гость, чье имя произносить вслух она еле решается.
Спит отец крепко, так что разбудить его непросто, но на голос матери сразу же отзывается. Приподнимаясь на перине, он слегка проводит ладонью по бородке и почтительно, словно он здесь в самом деле гость, произносит:
— Доброе утро, Басшева!
Мать в ответ кивает головой, идет на кухню и приносит большую медную кружку с водой для умывания. Затем берет два ломтя ржаного хлеба и кладет между ними кусок селедки, луковицу, иногда кусок вареного мяса, чтобы дать отцу с собой на работу. В пустой спичечный коробок она проворно, но без суеты, всыпает немного, с наперсток, соли и перевязывает его ниткой.
Мать силится вспомнить, что́ бы еще дать отцу с собой, но в это время он ее окликает:
— Басшева, куда подевался со стола острый нож?
— Вот он! — Мать поправляет клеенку и снова уходит на кухню за стаканом «кофе» — напитком из жареных желудей.
— Садись со мной завтракать.
— Я уже сыта, — улыбается она своими не потерявшими еще блеска черными глазами и при этом двумя пальцами вытирает уголки губ.
Отец с досадой замечает:
— Сколько я тебя помню, ты вечно сыта. Скажи, пожалуйста, ты случайно не манной небесной питаешься?
— Не говори, Носн-Эля, глупостей. Ем, а что же я делаю? — Она горестно вздыхает и качает головой. — Вас, слава богу, тринадцать, так что ж, садиться мне с каждым из вас за стол?
Сказала и сама не рада. Она ведь знает: стоит ей назвать число тринадцать, как у отца кусок застревает в горле. Хотя в чем, собственно, его вина? Руки у него золотые, сноровистые, трудится он с рассвета дотемна, все делает на совесть, ну, а что на жизнь не хватает? Ведь немало людей еще и не так бедствуют… Да, вспомнила, надо дать ему с собой несколько ложечек соды: его, беднягу, постоянно донимает изжога, а к фельдшеру Гинзбургу обращаться он не хочет. Это только так говорится: «не хочет». Нет трех пятиалтынных, чтобы заплатить за визит. Правда, Гинзбург из тех лекарей, что может прийти к больному и, если это бедняк, не только отказаться от платы, но и оставить свои деньги на лекарства. Но ее Носн-Эля ни за что на это не согласится, к чему тогда все эти разговоры?
Как только за отцом закрывается дверь и его шаги удаляются, мать идет будить Лейви. Работает он в пекарне, и, хотя это близко от дома, являться туда он должен на рассвете, чтобы растапливать печь. Мать сама бы охотно делала это вместо него, но опасается гнева мужа. Как-то она об этом заикнулась, но Носн-Эля стукнул кулаком по столу с такой силой, что стакан чая подпрыгнул. Она и не предполагала, что ее муж может так сердиться. Он ведь и не подозревает, сколько мороки с этим Лейви: легче растопить не одну, а несколько печей, чем один раз заставить его проснуться. Его приходится без конца тормошить, а иногда и дернуть за нос. Кажется, уже поднялся, почесал затылок и продрал глаза, даже оделся, но стоит ей отвернуться на минуту, как он снова оказывается на сундуке под лоскутным одеялом, лицом к стене.
Зато другой брат, Мотл, может, склонив голову чуть набок и накручивая на палец кудрявые пейсы, день и ночь просиживать над древней книгой и не думать о сне. Соседи, бывало, говорят:
— Надо же, у одной матери и такие разные дети. Этот у вас, Басшева, не сглазить бы, необыкновенный. Быть ему большим ученым.
Мать в таких случаях утирает передником набежавшую слезу. Часто она ставит перед Мотлом круглое зеркальце и тихо, с дрожью в голосе умоляет его:
— Посмотри, на кого ты, полуночник, похож. Впалые щеки, круги под глазами. Пожалей себя. Сколько можно корпеть над талмудом[1]? Мало тебе дня в ешиботе[2]? Послушай меня, ложись спать.
…У Довидла неожиданно возникла мысль: отчего же Хаим-Беру, которому ничего не стоит разбудить весь мир, не сделать ради мамы так, чтобы Мотл, как все люди, ложился спать вовремя?
Взъерошенный Довидл трусцой направляется в глубь двора. Там у забора громоздятся сложенные в штабель и перехваченные толстой проволокой хозяйские доски, бревна. Под ними растут грибы-поганки. Ползком, на четвереньках он забирается в свое царство — в заросли крапивы и репейников с розовато-фиолетовыми венчиками. От горькой полыни щекочет в носу. Сперва кажется, что здесь кромешная тьма, но стоит закрыть один глаз, а другой слегка прищурить, и видно, как сквозь щели пробиваются узенькие полоски света и яркие пылинки затейливо кружатся в них. Зрелище необыкновенное. Можно и вовсе не закрывать глаза, но тогда хорошо иметь при себе цветное стеклышко — зеленое или красное. Смотришь сквозь зеленое — и все вокруг кажется затянутым черной тучей так, что вот-вот разразится ливень, потоп, и тогда он, Довидл, примется поспешно сооружать из бревен плот (большие гвозди, молоток, обломок весла и даже две коробки спичек у него давно уже припасены). Прежде всего он будет спасать маму с ее большим чугуном: без него она и с места не сдвинется. После этого — отца с его инструментами, сестер, братьев (пусть Мотл читает свои псалмы и молитвы об их спасении, а Лейви он еще подразнит), затем уже Хаим-Бера, чтобы тот и дальше мог будить весь мир. Домовладелица, госпожа Олинова, захочет, чтобы лучшее место досталось ей, но нет уж, дудки! Самое лучшее место он уступит рыбаку Никифору. Тот часто приносит Довидлу несколько небольших плотвичек. Ему, Никифору, — рослому, сильному — и никому другому он и передаст весло в собственные руки. Никифор будет капитаном, а он, Довидл, его помощником.
Исера-заику, мужа Рохеле, он тоже возьмет с собой. Пусть себе поет, если ему охота, свои заунывные песни. Ни на что больше он и не способен. Тоже мне моряк! Этому ничего не стоит утонуть и на суше, а уж при потопе — подавно. Без согласия жены Исер даже ухватиться за соломинку не осмелится и, покорившись судьбе, пойдет ко дну. Что ж, Довидл подождет, покуда вода достигнет Рохеле до подбородка, и тогда, презрительно сплюнув сквозь зубы, крикнет ей:
— Ну, злюка, забирайся уж на плот и не вздумай никогда больше придираться ни ко мне, ни к Исеру!
Постой, постой, кто это там еще ползет сюда к бревнам? Должно быть, Фуга. Ну и пусть собачонка тоже получит свою долю удовольствия. Довидл великодушно прикладывает красное стеклышко к глазу своего бессловесного друга.
— На, посмотри и ты. Гляди, Фуга, горит! Айда тушить пожар!
Но что понимает жалкая собачонка, даже такая, как Фуга? Лизнула босую пыльную ногу Довидла, и видение исчезло: нет тебе ни потопа, ни пожара. До чего же есть охота! И не только Довидлу, но и Фуге. А в карманах пусто, хоть шаром покати. Иметь бы теперь ту самую общипанную корку хлеба с чесноком, которую он еще вчера съел!
Шмыгая носом, Довидл извлекает из кармана заветную металлическую коробку. Это тебе не что-нибудь, а чудо-коробка! Крышка на ней не просто закрывается, а задвигается. Там в плену несколько больших мух и две надраенные медные пуговицы. Их он и обменяет на кусок хлеба, посыпанного сахарным песком. Коробку даже не надо к уху прикладывать, и так, на расстоянии слышно, как мухи жужжат. Должно быть, мечутся в темноте, оттого и пуговицы подпрыгивают, трясутся как в лихорадке.
Из-под бревен Довидл достает полузасохший кустик с плоскими зелеными лепешечками наподобие калачиков. Калачики — готовые колесики. Под рукой у него и колючки, что лезут из земли без спроса. Растут они тут же, у плетня или по закоулкам. А кто не знает, что из колючки сделать ось или дышло — сущий пустяк. Два калачика, воткнутые в колючку, и перед тобой двуколка. Из четырех можно сделать повозку, а то и коляску и впрячь в нее мух. Но этого Довидлу мало, и он сооружает выезд на шестнадцати колесах. Он склоняет голову набок и внимательно разглядывает дело рук своих: хорошо получилось! Эту упряжку он и водрузит на окно у Рохеле. Ничего не случится, если даже Хаим-Бер ее увидит. Наоборот, пусть смотрит и завидует. У него, у Довидла, колеса не скрипят, а мухи несутся без его окрика: «Но, кляча, сколько можно дрыхнуть!»
…С тех пор много воды утекло. Госпожа Олинова успела приобрести еще один дом. У Рохеле понемногу стал округляться подбородок. Но по-прежнему она не расстается со своей привычкой, расширив от любопытства глаза, потихоньку, на цыпочках подкрадываться к чужой двери и, как назло, тогда, когда ей лучше быть в другом месте.
Хаим-Бер не перестает жаловаться на ломоту в пояснице. Фельдшер Гинзбург уверяет, что это ишиас — воспаление седалищного нерва. Бывают дни, когда извозчик не может подняться с постели. Но он так приучил весь свет, что тот пробуждается и без него.
Довидлу уже минуло семь лет, и, должно быть, ему невдомек, что лисьим хвостом промелькнуло его не богатое радостями детство. Теперь он не на шутку занятой человек, и мечты уносят мальчика в совершенно иной, неведомый мир. Даже Рохеле и та заметила, что Довидл, этот сорвиголова, как-то вдруг остепенился: перестал ловить мух, пускать мыльные пузыри, гонять чужих голубей. А мать — та с нескрываемой радостью подмечала: одежда на мальчике не горит так, как прежде. Кто бы мог поверить, что единственный штопаный-перештопанный костюмчик Довидл сможет носить неделями и чтобы на нем не появились новые дыры, а из сандалий, которые починили еще перед пасхой, не будут выглядывать пальцы.
Родители знали, что их младшенький водит дружбу с рыбаком Никифором. Но что тот принес Довидлу изрядно поношенные, с заплатами на коленях, не по росту длинные штаны, холщовую рубаху, и пока они рыбачили, Довидл свою одежду складывал и перевязывал подтяжками, — этого, конечно, они знать не могли.
…Днепр окутан густым туманом. Белые чайки грудью падают на зыбкую гладь прозрачной воды. Еще веет предрассветной свежестью, а Никифор и Довидл уже качаются в узкой лодчонке. Они надеются, что сегодня им удастся наловить полный кошель рыбы. Почему именно сегодня? Да потому, говорит Никифор, что еще очень рано, ночью небо было сплошь затянуто серыми облаками, моросил дождик, а ветер дует с юга. К тому же у них с собой уйма приманки: в металлических банках припасены черви, катышки из теста и хлеба и даже вареные пшеничные зерна. Остается только подыскать удачное местечко. Не только Никифор, но даже Довидл знает, что на такой привольной полноводной реке, как Днепр, лучше всего забраться в менее широкое место, поближе к омуту и водовороту, у затопленных кустов.
Они уже бог весть как далеко, а в кошеле плещутся всего-навсего несколько лещей и карасиков, две щуки и один карп. Никифор распрямляет плечи, достает кисет с махоркой, набивает и закуривает трубку, приглаживает свои пожелтевшие усы, в которых застревает табачный дым, и неторопливо, с крестьянской рассудительностью говорит:
— Давидко, сегодня, правда, воскресенье, но нам-то с тобой что до колокольного звона, если клев никудышный? Возьмись-ка, браток, за весла, и двинем к Алешковскому лесу.
Сам Никифор тем временем, как бы отрешившись от всех забот, берет в руки балалайку, и река и все вокруг оглашается звуками. Довидл перестает орудовать уключинами, чтобы всплеском весел не мешать песне. Никифор напевает без слов, а звуки то высоко взлетают, то замирают, и Довидлу кажется, что к этому чарующему напеву прислушиваются не только мотыльки и бабочки, но даже лесные травы.
В лесу у них свое облюбованное местечко — высохшее дерево, надвое расщепленное ударом молнии. От березняка рябит в глазах. Уха в котелке весело побулькивает. Одежда на Довидле мокрая, и он садится поближе к огню, следит за причудливой игрой пламени. Никифор улыбается:
— Не стесняйся. Сними с себя все и развесь на кусте.
Наевшись досыта, лежат они и прислушиваются к гомону птиц, шелесту деревьев, а над ними причудливые облака. Это только, когда смотришь издалека, кажется, что в лесу под деревьями сплошной зеленый ковер. Стоит вглядеться, и среди зеленых ростков видишь пожухлую траву, желтые иглы, увядшие листья, упавшие сухие ветки, сосновые шишки. Ветер занес сюда семена какого-то кустика с бурыми листочками, напоминающими ладонь старика. Еще не успели они как следует разрастись, а уже в нескольких местах проедены до дыр, и торчат на них оголенные жилки. Чуть поодаль, низко у земли растет густая подушечка мха. Довидл подходит поближе, нагибается и рвет целую горсть. В руке у него клубок переплетенных тонких нитей — зеленых и белых. Еще горсть — и мох напоминает длинные бородатые водоросли. Довидл ступает по нему босыми ногами и ощущает мягкую прохладу.
Смола, стекающая по стволам хвойных деревьев, пахнет скипидаром. На одной из еловых веток из паутины соткано подобие люльки. На другой висит крохотная белая шишечка, утыканная ярко-зелеными иглами. По травинке, напоминающей малюсенькую сосенку, ползет божья коровка. Довидл хочет вырвать травинку, но она, оказывается, легко вынимается, как сабля из ножен. А божья коровка почуяла, что ей грозит опасность, и стала по-стариковски ползать по травинке взад и вперед. Вот она переползла к Довидлу на руку. Сколько раз приходилось ему держать в руках эти странные крохотные существа, и только сейчас он впервые замечает, что на крылышках у божьей коровки по три круглых черных мушки. Часто-часто делает она остановки и передними лапками пригибает головку так, что, кажется, вот-вот оторвет ее. Быть может, таким образом божья коровка умывается. Но сколько можно? Хватит! Довидл переворачивает ее на спину. Она беспомощно шевелится и дрыгает всеми шестью лапками. Надо же! Живое существо с таким на редкость красивым панцирем — сверху блестяще красным, а снизу угольно-черным, да еще с двумя крылышками, — и не делает попытки спастись.
— Кольни ее сосновой иглой, — оказывается, Никифор с него глаз не сводит. — Как тебе нравится? С крылышками — и не летает. Вот трусиха! А ты, Давидко, думаешь, что среди людей таких нет? Был у нас в Порт-Артуре на корабле, где я служил, один офицер. Однажды я не удержался и сказал ему: «Господин офицер! С вашей осторожностью нам и лужи не переплыть». Если бы не мои друзья матросы, это для меня могло плохо кончиться.
Довидл придвигается поближе к Никифору. Тот сидит голый по пояс, без рубахи, и кажется, что тело у него состоит из одних мускулов, непрерывно перекатывающихся под глянцевой кожей. До чего же здорово, чуть ли не до горчичного отлива, потемнело его лицо, изрытое оспой. На правом плече виднеется шрам — след затянувшейся раны. Никифор ложится рядом с песчаным холмиком, усеянным муравьями. Довидлу хочется, чтобы Никифор рассказал ему еще что-нибудь о себе, о своих друзьях матросах, тот же почему-то загляделся на муравьев. Довидл с досады пытается наступить на них ногой, но Никифор не позволяет:
— Ты небось думаешь, что это они просто так шныряют взад и вперед? Нет, брат, это ползают грузчики, сторожа, строители, ткачи, охотники, пастухи. Не веришь? Присмотрись хорошенько. Муравьев этих тысячи, и все они разные. Один такой муравейник уничтожает массу вредителей. Так что, Давидко, трогать их ни в коем случае нельзя. Чего молчишь?
Довидл несказанно удивляется услышанному и смеется пришедшей ему вдруг в голову мысли: будь на самом деле такой человек на свете, который будит весь мир, то им был бы не извозчик Хаим-Бер, а скорее всего Никифор. Все умеет этот матрос, все на свете он знает. Так уж все? Ведь не знает, например, о том, как он, Довидл, его любит. Но уж об этом ему не скажешь, — засмеет.
ВНИЗ ГОЛОВОЙ
Обгоняя друг друга, так что пыль стоит столбом, ватага мальчишек изо всех сил мчится в гору. Далеко позади остался Александровский парк, и вот перед ними базарная площадь и пожарная каланча, а напротив — строящийся «Железный цирк».
Еле переводя дыхание, взмокшие от бега, ребята в изумлении разом останавливаются. Стоят как вкопанные и глазам своим не верят. Не соврал! Оказывается, все, что сказал им Элик-врунишка, сущая правда. Чудеса, да и только. Но где же он сам? Ребята ищут его глазами, но Элика почему-то не видно: то ли этот толстяк еще тащится где-то позади, то ли ему так часто твердили «врешь», что он самому себе перестал верить и решил вовсе не приходить.
Молодой белокурый человек, в соломенном канотье и диковинных клетчатых брюках, с бельмом на одном глазу, вручает каждому из них по большому ведру и велит таскать чернозем и опилки.
— Работы, — говорит он, — хватит всем на целых два дня.
Вначале Довидл просил: «Насыпь еще одну лопату», — и с полным до краев ведром не шел, а бежал рысью по крутому склону, от радости не чуя под собой ног. Теперь же ведро несут вдвоем, и все ребята до того вымотались, что не дождутся, когда «клетчатый» скажет: «Кончай, на сегодня хватит». Но что-то на то непохоже. Он пуще прежнего суетится, одного обругает, другому даст пинка. А словечками сыплет! Ограду он почему-то называет барьером. Площадку, напоминающую большую чашу, куда они ссыпают землю, именует «ареной» или же «манежем». В руках у него длинный хлыст, и он то и дело грозит: «Вот всыплю шамбарьером!»
Когда все было готово и брезент натянут на железный каркас, «клетчатый» вдруг исчез. Его искали, звали во весь голос, но он как в воду канул. Ребята не знали, что и думать. Пришлось им идти к владельцу цирка — Вяльшину. Одетый щегольски — во фраке, в манишке с бабочкой, — Вяльшин запустил пятерню в свои густые волосы, сделал удивленное лицо и, причмокнув языком, переспросил:
— Блондин, говорите? В клетчатых брюках? Так, так! Впервые слышу о таком комедианте.
Поднялся шум, гам, и тут Вяльшин не на шутку рассердился.
— Сорванцы! — закричал он. — Кто вас сюда звал? Мои орлы справляются со всей этой работой за считанные минуты, а тут какой-то шут собрал целую ватагу, а ты изволь плати им. А ну, вон отсюда!
Разговор становился похожим на игру в поддавки: кто скорее сдастся — останется ни с чем. В конце концов, когда мальчишки уже побрели к выходу, Вяльшин окликнул их, как бы идя на уступку:
— Вот что, ребята! Пусть ко мне заглянет ваш товарищ, Элик, кажется, его зовут, и я дам ему десять контрамарок. Ну что, довольны?
Теперь уже нетрудно было догадаться, что Элик преотлично знал: за работу им ломаного гроша не заплатят. Хитро придумано!
Долго ребята судили-рядили и решили: с паршивой овцы хоть шерсти клок. На худой конец хоть посмотрят, какие чудеса здесь показывают. Договорились также, что двое ребят, когда пойдут к Элику за контрамарками, хорошенько его вздуют. И мало-помалу, ворча, разошлись по домам.
Через несколько дней к Басшеве пришла мать Элика, Фейге-куролапница — маленькая женщина с темными усиками — и стала причитать, что ее единственный сыночек, бедняжка, не встает с постели, еле живой. Посреди бела дня на него напала банда мальчишек, и Довидл, их закоперщик, чуть не оставил его без глаза.
— Ой-ой-ой! — испуганно вскинула брови Басшева. — Побойтесь бога, Фейге, что вы такое говорите? Мой Довидл с бандой набросился на вашего сына?
— Что ж, по-вашему, я, упаси бог, дурочка и моим словам веры нет? Так, может быть, мне лучше сходить к раввину, а то и к городовому?
Городового Басшева боялась как огня. Этот злодей в мундире однажды уже приходил к ней. Искал какие-то запрещенные книжки, которые ее дети будто прятали, перерыл весь подвал. Тот день запомнился ей на всю жизнь. И все же она повела плечами и спокойно ответила:
— Дети есть дети: то играют, то ссорятся, то подерутся, то помирятся. Довидл младше и на голову ниже Элика, как же он мог его побить? Это, Фейге, как-то не укладывается у меня в голове.
— «Как он мог его побить?» — вскинулась Фейге, от возмущения всплеснув руками, и исступленно закричала: — Вы еще вздумаете клясться, что Довидл его пальцем не тронул? Так что, по-вашему, мой Элик сам себе поставил синяк под глазом?
— Мама, не надо клясться! — закричал Довидл прямо с порога. Он вбежал в дом и встал рядом с матерью. — Эля — лгун и обманщик, он всех нас обманул. За это я его и бил. И не в глаз, а по заду. И больше с ним дружить не буду. Никогда!
Как и следовало ожидать, Рохеле всю эту историю подслушала и, как только Фейге ушла, тут же сунула свой нос в спальню и по обыкновению поддала жару:
— Басшева, дорогая, не вздумайте давать спуску своему разбойнику. Нечего с ним нянчиться, иначе сидеть ему за решеткой. Я уже давно замечаю — в него вселился бес, это растет каторжник, за ним глаз да глаз нужен.
Басшева замахнулась было кулаком, но тут же его опустила.
— Сперва, — сказала она Рохеле, — попробуй своих детей заиметь, а для этого надо еще бога молить, чтобы отпустил все твои грехи, тогда уж приходи со своими советами… И нечего тут подливать масло в огонь. Скатертью дорога!
После этого мать положила руку Довидлу на плечо, притянула его к себе и умоляюще сказала:
— Дурачок, ты разве не знаешь, что никому нельзя причинять боль? И уж если надо кому-то дать сдачи, так на то у тебя есть голова на плечах и язык во рту. Руки не для этого даны. Обещай мне, Довидл, что никогда больше не будешь драться.
— Хорошо, мама. — И уже за порогом: — Если только не вздумают меня обманывать.
Скоро полночь. Все реже и реже сюда в подвал доносятся отзвуки торопливых шагов запоздалых прохожих. Даже в зале у мадам Олиновой уже погасили хрустальную люстру. Тихо на улице. Тихо во дворе. Слышно только, как тикают старые стенные часы.
Довидл лежит, закрыв глаза, но сна нет и в помине. Он до сих пор не может прийти в себя. Такого с ним еще никогда не бывало. Это же придумать надо, чтобы нарядные мальчики, в блестках и кружевцах, ходили на руках. И до чего же они гибкие — как пружины: то проносятся в воздухе, то взлетают вверх и вращаются одновременно бешеной каруселью, восклицая при этом: «Алле! Ап!» В этих выкриках, должно быть, и вся собака зарыта. Завтра, когда он снова попадет в цирк, он непременно постарается вслушаться в эти восклицания — и тогда…
Оказывается, отцовская старая шинель колючая. И солома в мешке, на котором лежит Довидл, торчит изо всех дыр и тоже колется. И не так уж тихо вокруг, как ему сперва показалось. В трубе таинственно завывает ветер. Сверчок застрекочет и умолкнет, будто собираясь с силами, и опять все сначала. Откуда-то доносятся звуки вращающейся дрели. Храпит отец. Мотл кричит во сне, а оттуда, где лежит мать, часто доносится глубокий вздох.
Если бы до этого у Довидла спросили, чем ночь лучше дня, он бы, не задумываясь, ответил: тем, что по ночам не хочется есть. Теперь же тьма кромешная, и до чего же есть охота!.. Тогда что в ней за прок, кому она, такая ночь, нужна?
Сквозь решетчатое окошко, упирающееся в глухую стенку, Довидл видит, как во дворе кто-то зажег спичку. Огонек затрепетал, как попавшая в силки птичка, потом замер. И опять темно. Но огонек от папиросы вспыхнул снова и снова. Может, это Никифор? Прошло уже четыре дня, как они не виделись, и тот может бог весть что подумать. Глупости. Отсюда до Никифоровой хаты не ближний свет. Так что тащиться сюда посреди ночи он вряд ли станет.
Довидл, решив, что так или иначе не мешает взбить постель, поднимается и потихоньку идет к окну. Встает на цыпочки и — вот тебе на! Целуются… Шушукаются, шушукаются и снова целуются. Кто это там — ему не видно, да и не все ли равно? Пожалуй, лучше ему постараться уснуть.
Он укрывается шинелью с головой и оставляет маленькую щелочку для дыхания. Когда Довидл был совсем маленьким, он любил играть в прятки. Однажды ему завязали глаза тугим узлом и велели считать десять раз по десять, а уж потом идти искать. И что же? Он так долго считал, что незаметно опустился у стенки на колени и уснул.
Так не попробовать ли и на этот раз считать? Вдруг это поможет? Но нет, сна ни в одном глазу. Маятник ходиков назойливо стучит: тик-так… тик-так… У Довидла из головы не выходит Вяльшин. До чего же молодецки держится в седле! То на полном скаку спрыгнет, то с разбега вновь в него влетает. Но что Вяльшин? Все дело в лошадях. В них-то он, Довидл, толк знает! Где это видано, чтобы лошади так танцевали, изгибали шеи, скакали галопом, опускались на колени и кланялись? Музыкантам небось кажется, что все дело в их музыке. Так ведь не они правят лошадьми, а лишь играют то, что лошадям нужно. В этом все и дело! Палочка-выручалочка ведь не у того, кто дирижирует оркестром, а опять-таки у того же Вяльшина. Теперь Довидл уже знает, что такое шамбарьер, которым пугал ребят «клетчатый».
На тарелке лежат несколько остывших картошин. Довидл круто посыпает их солью, проглатывает в один присест и тотчас же засыпает.
Стоял знойный июльский день — ни дуновения ветерка. От палящего солнца негде было укрыться. Лизнуть бы остужающую сладость мороженого, зажатого между двумя вафельными кругляшками… Но об этом можно только мечтать. Довидл раскраснелся и дышал с трудом. Руки ободрал о жесткую и колючую траву. На мгновение прислонился к стене. Взглядом измерил расстояние. Мало! Сегодня уже третий день, как Довидл учится ходить на руках. Сначала стал на руки и уперся ногами в стену, затем сделал первый робкий шаг. А сегодня — уже целых пятнадцать. Но этого мало. Он должен научиться делать на руках не менее тридцати шагов. Тридцать, потому что столько делают выступающие в цирке ребята и проходят по всей длине ковра. Он уже не единожды считал: тридцать раз они переставляют руки.
Из кувшина, который Довидл прихватил с собой, он набирает полную пригоршню воды и ополаскивает разгоряченное лицо, картуз с поломанным картонным козырьком надвигает на лоб пониже и, хотя уже изрядно устал, начинает все сначала. Он не из тех, кто отступает от задуманного.
— Ты что там, Довидл, делаешь?
Вот тебе на! Угораздило же маму ни с того ни с сего выглянуть в окошко.
— Я? — отвернул он покрытое испариной лицо. — Ничего.
— Смотри, чтоб не расшибся.
И в самом деле: спина уже изрядно ноет, голова закружилась, а в ушах стоит звон, будто в них мухи жужжат. Но маме зачем об этом знать? Может, не следовало Элика бить? Ведь только что и сам солгал. Правда, это не одно и то же. Как только его возьмут в цирк, он об этом первой скажет маме. А теперь будет лучше, если «манеж» он устроит подальше от окна.
Просторная базарная площадь до отказа набита людьми, повозками, товарами. Слепой нищий с сумой надрывным голосом просит подаяния. Мороженщик с грохотом катит свою тележку. Гончары выбивают дробь на кувшинах. Шум, гам, гудит, как в улье.
Довидлу к шуму не привыкать. Не раз бывало, когда голод очень уж донимал, он за кусок хлеба или несколько грошей танцевал здесь до упаду. Особенно он терпеть не может хлеботорговцев и барышников. Среди них даже Элик сошел бы за святого; привыкли торговаться за каждый грош и обманывать на сотню. Один другого грабит среди бела дня, а ты попробуй схватить у торговки червивое яблочко, такой поднимут гвалт!
От этих горластых торгашей, которым ничего не стоит не только облапошить, но и дочиста обобрать порядочного человека, лучше держаться подальше. Довидл окидывает их презрительным взглядом, сплевывает сквозь зубы и проходит мимо. Вот здесь, у дороги, ведущей к старинной военной крепости и к цирку, он покажет, на что способен.
В эти минуты для него ничего не существовало. Вдруг раздался свист. Стоя на руках, Довидл от неожиданности покачнулся, но равновесие не потерял. Восемнадцать шагов он проделал и, хоть болят разодранные в кровь руки, готов проделать еще столько же. Мышцы стали упругими. Кто это свистит? Ему видны только белые туфельки на высоких каблуках у края дороги. И пусть себе стоят. А он тем временем оторвет правую руку от земли и без труда вытянет ее вперед. Повернул голову в сторону — вот те на! Откуда ни возьмись — два здоровенных юфтевых сапога. Такому сапожищу размахнуться, и ты не только на руках, но и на ногах не устоишь. Но испугался он зря. Это вовсе не городовой. Иной раз глянешь человеку в лицо и сразу же скажешь, кто он. А тут, когда стоишь на голове, видишь одни лишь ноги… Оказывается, это свистел высокого роста курносый солдат в выцветшей гимнастерке.
— Э, да ты посмотри, — указывает солдат на пыльную землю со следами крови, — а ну-ка, дай сюда руки. — При этом так жалостливо смотрит своими теплыми серо-голубыми глазами, что кажется, вот-вот подует на раны и, как мама, бывало, скажет: «Все, Довидл, была вава — и нету». Дед же говорил, что раны надо присыпать прогретой на солнце пылью, и все заживет.
— Что, браток, больно? — участливо спросил солдат.
— Ничего!
— А звать-то тебя как?
— Довидл.
— Давидко, значит. А моего пацана звать Сашко. Он в деревне. Далеко отсюда.
— Отчего же, дядя, и вам туда не поехать?
— Отчего, говоришь? Наше дело такое, — вздохнул солдат, и глаза его погрустнели. — Видишь полоску на погоне? Это означает, что отбарабанил у царя-батюшки солдатом целых три года и дальше придется служить. Куда мне ехать? На клочке земли, попросту говоря, величиной с гулькин нос, так что тебе ничего не стоит пройтись по ней на руках, нас четверо братьев. Куда же, по-твоему, мне ехать?
— Мой отец тоже был солдатом. Я еще до сих пор укрываюсь его шинелью. Подвал у нас сырой, а шинель хоть немного, да греет.
— Выходит, Давидко, и тебе невесело живется. Должно быть, весь мир стоит на голове. А твой отец где работает?
— В мастерской. Он токарь. Видите эту коробочку? Это он сделал.
— Ишь ты! Хорошая вещица! Видно, мастер — дай бог каждому.
Солдат посмотрел в сторону заходящего солнца, окаймленного радужной полосой, развел руками, словно хотел его обнять, и широким шагом направился по дороге к казармам.
ВЕСЬ МИР — ТЕАТР
В цирке все знали: если билеты в кассе плохо расходятся, хозяину на глаза не попадайся.
Сегодня пришлось даже отменить вечернее представление: не сбор, а кошачьи слезы. Вяльшин забрался в конюшню, присел на край перевернутой пустой коробки и, подперев голову обеими руками, смотрел перед собой каким-то отрешенным взглядом. Вид у него был жалкий, удрученный. Когда примадонна Антуанетта Кис, заглянув, поздоровалась с ним, он даже не удостоил ее ответом. Тем не менее она с ним заговорила:
— Господин Вяльшин, вы посмотрите на этого мальчика. У него на редкость податливое, гибкое тело.
— Антуанетта, оставьте меня в покое, — отозвался с горечью Вяльшин. И, словно отгоняя назойливую муху, помахал рукой перед лицом: — Экая невидаль!
— Господин Вяльшин, пожалуйста…
— Зря стараетесь. Все мы знаем, что у вас мягкое, доброе сердце, но вы непрактичный человек, витаете в облаках. Я уже насмотрелся на этих вундеркиндов. Хватит. Сыт по горло. Редко когда из них что-либо путное получается. Пока, как видите, у меня нет работы для ваших троих.
Любой другой актер его труппы в таком случае смолчал бы. Но не Антуанетта. Не так уж легко дался Вяльшину контракт с Киселевыми. Общепринятый договор, с его знаменитыми пятнадцатью параграфами, дающими все права хозяину и никаких — актеру, они, как и все, подписали, но при этом Киселевы добились для себя одной оговорки: право покинуть арену этого цирка, когда им заблагорассудится. Вот почему Антуанетта могла себе позволить заявить Вяльшину:
— Если от моих детей вы внакладе, можем об этом подумать.
— Ни о чем думать я вас не прошу. Но к чему, позвольте вас спросить, вы привели сюда этого худого цыганенка?
У Довидла со стыда даже сердце защемило. Он рванулся было к дверям, но Антуанетта удержала его. Она взъерошила его курчавые волосы и кивком головы подала знак: мол, покажи, что умеешь.
Дважды пройти конюшню на руках, думает про себя Довидл, большого труда не составляет. Весь фокус — как развернуться в обратную сторону. Что ж, попытка не пытка. Все равно брать его сюда не хотят, он им хоть покажет, на что способен.
Не иначе, добрый ангел вызвался ему в заступники, и Довидл превзошел самого себя: с такой непринужденной легкостью и уверенностью, так ловко, как сейчас, он на руках еще не ходил. Остановился, развел ноги, снова сомкнул их, оттянув носки вверх, затем быстро оторвал руки от пола и, описав ногами полукруг в воздухе, остановился. Кажется, все вышло как надо.
— Ну-ка, мужичок с ноготок, подойди поближе, — подозвал его Вяльшин и посмотрел из-под насупленных бровей внимательным взглядом. — Ты что это руки прячешь? Разодрал их? М-да! Ты весь в ссадинах, синяках, кровоподтеках. А еще разок проделать так сможешь? За каждый такой шаг получишь по копейке.
— А чего ж? Вот только отдохну немного и обойду снаружи вокруг всего цирка. И сделаю это за так.
— Погоди, — Антуанетта куда-то выбежала на минутку и вернулась с флакончиком темно-бурой жидкости. Запахло водкой и свежими металлическими стружками. Она взяла спичку, навернула на кончик немного ваты, окунула во флакончик и смазала Довидлу исцарапанные руки. — Жжет?
У него лишь дрогнули веки, но когда она повторила вопрос, он тихо прошептал:
— Чуть-чуть.
— Несколько дней ты и не пытайся ходить на руках. Слышишь, что тебе говорят? А теперь пойдем со мной, познакомлю тебя с моими детьми. Пообедаем, тогда вернешься домой.
— Антуанетта, — позвал ее Вяльшин. — Вашего цыганенка придется заново обучать. Ходит он неважно. Нет отработанности, нет блеска.
— Сперва надо поговорить с его родителями.
— Он небось сам седьмой, и один другого догоняет.
— Нет, дяденька, двенадцатый, — поправил его Довидл и почувствовал, что его ладони стали вдруг влажными.
— Ну что ж, беру его в цирк, — сказал Вяльшин, не пытаясь даже скрыть довольную улыбку.
Довидл шагает по аллее Александровского парка и от радости — что ни говори, а ему неожиданно сказочно повезло — ног под собой не чует. С афиш, развешанных на всех перекрестках, на него глядят улыбающиеся лица Алекса и Антуанетты Кис — тех самых, что сейчас идут рядом с ним.
Жаль, что никто из знакомых ребят не видит его в эту минуту. Вот бы позавидовали! Кто на самом деле с него глаз не сводит, так это солнце. Оно уже совсем, совсем низко, но, видимо, скрыться не спешит, пока он не поделится с мамой своей большой радостью. Тоненький лучик скользит по его лицу, и Довидл заговорщически подмигивает ему: «Кто-кто, а уж мы друг друга хорошо понимаем». Но если они и дальше будут двигаться, как черепахи, солнце может и не дождаться. Одной половинкой оно уже «на том свете».
Почти у самых ворот они остановились. Алексу показалось вдруг, что их затея не сулит ничего хорошего, и он умоляюще обращается к жене:
— Аня, да разве можно так? Подумай, пока еще не поздно.
Антуанетта — Аня опустила голову и своей белой туфелькой на высоком каблуке в нерешительности чертит на песке какие-то узоры. Что же она хмурит брови и так долго думает? Вяльшина ведь она могла обрезать коротко и веско. Почему же теперь она не находит слов, будто язык проглотила? Раз так, то он, Довидл, сам за себя постоит. Он подходит к Антуанетте и, глядя в ее голубые глаза, говорит:
— Большое вам спасибо. Если мама меня не пустит, я все равно убегу из дома.
Сказал и решительно идет во двор. Когда калитка за ним уже закрылась, он услыхал, как Антуанетта произнесла:
— Идем, Саша.
Довидл направляется в дом и слышит, как позади него цокают Анины каблучки. Алекс, в чесучовой тройке, худой — кожа да кости — ходит так легко, что его шагов и не слышно.
Приход нежданных гостей крайне удивил Басшеву, но рук от лица она не отнимает. Сегодня канун субботы, и Басшева молится перед зажженными свечами. В доме пахнет теплым ржаным хлебом. Мотл заглянул в «залу» и указал гостям на лавку. Те сделали несколько шагов на цыпочках и тихо присели.
— С праздником вас, с наступающим субботним днем! — повернула хозяйка голову и приветствовала гостей тем же молитвенным шепотом. — Вы, должно быть, к моему мужу? Так он с минуты на минуту явится.
— Добрый вечер! — ответили они ей по-русски.
— Мама, — вмешался Довидл, — это артисты, они по-еврейски не говорят.
— Артисты? — переспросила мама в недоумении и заговорила на каком-то странном языке — смеси русских, украинских и еврейских слов. — Вам, очевидно, хотелось бы снять комнату, но у нас во дворе не найдете. Может быть, соседка знает, кто поблизости сдает.
Алекс, который обычно на залитой светом арене держится свободно, раскованно, на этот раз, в чужом доме, лишился дара речи. Слегка смутилась и Антуанетта. Она даже немного привстала со скамьи и поклонилась.
— Спасибо, комната нам не нужна, а пришли мы, чтобы сказать: ваш сын исключительно одаренный мальчик.
— Приятно слышать, но с чего вы это взяли?
— Мы не преувеличиваем. Это так и есть. Сегодня он у нас в цирке выдержал настоящий экзамен. Директор наш, Вяльшин, понимает толк в таких делах, и, если он согласился взять вашего сына к себе в цирк, значит, он того стоит.
На лице Басшевы появилось выражение тревоги. Она как-то вся съежилась. То, что она услышала, плохо укладывалось в голове, но одно ей было ясно — над младшим из ее сыновей, Довидлом, нависла опасность. И, как назло, мужа нет дома. На месте один лишь Мотл, но, кроме своих священных книг, он ничего не знает и знать не хочет. Красавица артистка, видимо, женщина вполне порядочная. Грудь у нее, правда, плоская, но улыбается она по-матерински. Что же этой циркачке надо от Басшевы, с ее горькой долей? Мало ей несчастий, так на тебе — еще одна напасть. Может быть, думает Басшева, даже лучше, что Носн-Эли не оказалось дома. При его вспыльчивости ничего хорошего не жди. Прежде всего надо куда-то выпроводить Довидла, но куда?
— Довидл, — блеснули тревожно материнские глаза, — сходи-ка, сынок, в синагогу и скажи отцу, чтоб, как только кончит молитву, шел домой.
— Еще рано, чуть попозже пойду. Мы, мама, пришли тебе сказать, что меня берут в цирк.
— Слушай, что тебе говорят. А пустые ребячьи забавы выкинь из головы. Ты, Довидл, уже не маленький, а тому, кому пришла пора учить священное писание — тору, в цирке делать нечего. Кое-кто, — глянула она из-под бровей в сторону незваных гостей, — не прочь посмеяться над бедняками, так пусть грех ляжет на их душу. Иди, Довидл, иди и передай отцу то, что я тебе велела.
— Мама, я так и знал, что ты мне не поверишь. Но это же правда. Можешь у них спросить. А хочешь, я покажу тебе, как я умею на руках ходить? Там меня будут учить, и я стану настоящим цирковым артистом.
Дитя и есть дитя, — что с него взять? Но как же быть: поднять крик и указать гостям на дверь? Нет. Этого она не сделает. Она накроет на стол, а они — они пусть как знают…
Носн-Эля пришел в хорошем расположении духа и первым делом поздравил с субботним днем гостей и домашних. Не зная еще, что за люди в его доме, он пригласил их к праздничному столу, где каждый садится на свое, раз и навсегда отведенное место, и, словно в чем-то провинился, извинился перед гостями за то, что рыба не фаршированная, а булки могли бы быть побелее.
— Зато, — сказал он, — хозяйка нам сейчас подаст жареную картошку с простоквашей и домашнюю икру из баклажанов. Мы выпьем «лехаим», — и тут же пояснил гостям, что «лехаим» по-еврейски это заздравный тост, чтобы всем жилось хорошо.
С Носн-Элей Алекс сразу же почувствовал себя непринужденно, облегченно вздохнул и представился:
— Александр Александрович Киселев. А это моя супруга, Аня, Анна Ивановна, — и как бы по секрету, предназначенному одному лишь хозяину дома, тихо добавил: — У нас трое детей, и им, наверно, в эту минуту кажется, что папа и мама их бросили. Наш самый младший, Жора, определенно уже скачет верхом, оседлав хворостину, чтобы нагнать нас и строго наказать.
То ли оттого, что Носн-Эля пришел из синагоги в хорошем настроении, то ли гости пришлись ему по душе, но он, улыбаясь, заметил:
— Тремя не удивишь. Вот если бы вам пришлось, как нам, кормить целых двенадцать ртов.
— У нас все они сами зарабатывают на хлеб и даже больше, — вмешалась в разговор Анна Ивановна. Ей, должно быть, стало зябко или же ее смутил пристальный взгляд Мотла, и она прикрыла голые плечи тонкой газовой косынкой.
— Так, значит, верхом на хворостине? — произнес шутя Носн-Эля.
— Мы — цирковые артисты. — Видимо, Александру Александровичу самому хотелось продолжать беседу.
Самым сдержанным из всех сидящих за столом оказался Носн-Эля. Зато Мотл — тот горячился, как кипящий самовар. Как всегда, когда бывал взволнован, он не мог усидеть на месте, и, заложив за жилетку пальцы, ходил из угла в угол, шаркая шлепанцами, будто мог таким образом вернуть утраченное спокойствие. Поучительным, не терпящим возражения тоном он заявил:
— По-моему, все так просто и понятно. Нам, евреям, запрещено не только быть балагурами, шутами, чревовещателями, но по обычаю, переходящему из поколения в поколение, даже посещать театр и цирк.
— Но почему? — Киселев сел поближе к Мотлу. — Отказываюсь понимать. Должен вам сказать, что еще мой прадед был странствующим актером, и мне знакомы ваши театральные представления в день весеннего праздника пурим, еврейские капеллы и актерские труппы. Я знаю, что даже ваши древние мудрецы не считали все эти маскарады зазорными. Правда, они, кажется, запрещали мужчинам наряжаться в женские одежды. Я так же читал о знаменитом цирковом актере Симоне Лакише, ставшем впоследствии видным ученым. Вы, должно быть, слышали и о великолепном цирке и колоссальном ипподроме, сооруженном царем Соломоном рядом со своим дворцом в Иерусалиме… Человек должен стремиться к радостям, идти им навстречу.
Мотл поправил ермолку на голове, пригладил свои длинные курчавые пейсы и, жестикулируя, захлебываясь в безудержном потоке слов, стал пояснять свою мысль:
— Уже по одному тому, что в цирке выставляли напоказ идолов…
Киселев попытался было его перебить, но не тут-то было, Мотл хотя и слыл человеком молчаливым, но стоило ему войти в раж — его не остановишь: он заранее отвергает все возражения.
— Вы хотите сказать, что этих идолов выставляли в качестве трофеев? Но это не меняет сути дела. И если вам это покажется неубедительным, то как вы расцениваете массовые убийства, которые Веспасиан и Тит устраивали в цирке? Вы ведь должны знать, что нас, евреев, насильно волокли в цирк и бросали в клетки. Дикие, хищные звери рвали нас на части, а не менее дикие создания, именуемые людьми, получали удовольствие от этого зрелища, ржали от восторга. Теперь вам ясно, что только безбожники, беспутные люди могут пренебречь запретом и переступить порог цирка?
Александр Александрович слушал запальчивую речь Мотла с интересом. Но похоже было, что сдаваться он не намерен.
— Скажите, пожалуйста, кто и когда наложил этот запрет? Цирк — одно из самых древних искусств, любимое зрелище всех народов. В одном из лучших цирков, в «Гиппо-паласе» у Крутикова, я недавно смотрел выступление на ринге борца Моисея Слуцкого, молодого еврея-атлета. Знатоки утверждают, что со временем он станет знаменитостью, артистом с мировым именем. О Слуцком не скажешь, что это беспутный парень, и непохоже, что его волнует чей-то запрет.
— Чей-то, говорите? Наших духовных вождей, мудрецов. — Мотл сбегал в соседнюю комнату и вскоре вернулся с толстой книгой в руках. — Я покажу вам молитву, в которой законоучитель талмуда Танай благодарит бога за то, что он уготовил ему место среди тех, кто изучает тору — священное писание, а не тех, кто развлекается в театрах и цирках, ибо одни за свои добродетели будут вознаграждены в раю, а любителям зрелищ не миновать ада.
— Выходит, — возразил ему Киселев, — что уже в те времена было немало евреев, которые жили в свое удовольствие, не страшась ада. Но коль уж вы такой знающий человек, вам должно быть известно, что в клетки зверям бросали не только евреев, но и христиан и что из-за идолов когда-то и христиане не жаловали цирк. Но к чему разговоры о том, что было бог весть когда? Разве английские пуритане времен Шекспира относились к нам, актерам, лучше? Тем не менее ни им, ни попам, ни раввинам не удалось задушить цирковое искусство. В то время, когда пуритане бросали в нас камни, на фасаде шекспировского театра «Глобус» в Лондоне была установлена скульптура Геркулеса, несущего на своих могучих плечах земной шар, на котором виднелась надпись: «Весь мир — театр».
Мотл порывисто схватил принесенную им книгу и, страдальчески прищурив глаза, отскочил от актера.
— Так что ж, по-вашему, мы должны забыть о массовых убийствах? Наших братьев туда водили на казнь, а мы пойдем развлекаться? — Он потер рукою лоб, как бы пытаясь отогнать тяжелую, гнетущую мысль. Преодолеть груз старых предубеждений всегда трудно.
Горячность Мотла решил остудить Носн-Эля. Откинувшись на спинку стула, он недовольно произнес:
— Ты, сын мой, не очень-то, не очень кипятись. Не знаю, насколько это удачно, но вот тебе такой пример. Ты помнишь, два года назад, после провозглашения манифеста[3], у нас в городе вспыхнул погром? Что ж, по-твоему, все мы, семнадцать с половиной тысяч евреев, проживающие в Херсоне, должны предать город проклятию и бежать отсюда за тридевять земель? Ты не хочешь, чтоб наш Довидл стал артистом, а скажи, пожалуйста, разве мои предки были токарями? Довидлу, — сказал он в заключение, — хватит бить баклуши.
Мотл мог спорить до хрипоты с кем угодно, только не с отцом. И он стал оправдываться:
— Я разве против? Не об этом же речь.
Переговоры длились весь вечер. Басшева проливала слезы и причитала: «За что мне такое наказание? Слыханное ли дело, чтобы еврейский мальчик пошел в циркачи?» А у Довидла в горле застрял ком. Почти шепотом, чтоб никто не расслышал, он, насупившись, сказал отцу: «Не пустите — все равно убегу». Киселевы несколько раз повторяли: «Ваш мальчик будет сыт, одет, учить его будут бесплатно, а через годик он, возможно, и вам кое-чем сможет помочь».
Кончилось тем, что Носн-Эля дал свое согласие. Правда, с оговоркой: пока, на время гастролей цирка в Херсоне. Никакого Вяльшина он знать не знает, а всецело полагается на Киселевых, которые кажутся ему вполне порядочными людьми.
Все круто изменилось. Наступила новая жизнь.
Отец не ошибся. Киселевы отнеслись к Довидлу, как к собственным детям: вместе ели, вместе отдыхали. Когда выдавалась свободная минута, Анна Ивановна собирала все семейство и вслух читала детям дюссельдорфский журнал «Актер». Довидл слушал затаив дыхание, ловя каждое слово.
Уроки начинались еще перед завтраком. С Довидлом (его сразу же нарекли Тодей) занимался Алекс. Начинали с разминки, прыжков и приседаний. Только первые упражнения показались легкими. А дальше учитель не щадил ни себя, ни своего ученика. Не получается — повтори: и-и раз! Раз-два и три-и-и-и!
— Тодя, что ты уставился на фокусника, извлекающего ленты из рукава? Это старый, примитивный трюк. Но и его надо делать умеючи. А уж об акробатике говорить нечего. Зрители понятия не имеют, сколько труда нужно затратить, чтобы так легко и непринужденно исполнить эти нелегкие стремительные каскады («каскад», как и многие другие цирковые выражения, уже не были Тоде в диковинку). Чтобы сложнейшие упражнения делались как бы между прочим, артисту надо иметь крепкие мускулы, он должен точно рассчитать малейшее движение. В цирковой мерке нет мелких делений. Перед публикой мы, партерные акробаты, должны всегда представать с веселой улыбкой на устах, хотя у самого в это время рубашку хоть выжми…
Но когда недели через две кто-то из актеров заметил, что у паренька еще не вполне отточены движения и что ему не хватает чувства ритма, Алекс сердито ответил:
— Дураку полдела не показывают.
Вяльшину же не терпелось. Не прошло и недели, как он потребовал, чтобы в афишах было указано «Партерные акробаты шесть-Кис-шесть». Но Антуанетта уговорила директора повременить хотя бы еще дней десять, дать Тоде как следует отрепетировать номер.
Первый раз в жизни появиться на ярко освещенном манеже ребенку, очевидно, легче, чем взрослому. Тодя не испытывал страха перед многочисленной публикой. Ему хотелось одного: чтобы Алекс и Антуанетта были им довольны.
Томясь в ожидании условленного сигнала, шестеро Кис не могли устоять на месте, то и дело подскакивали вверх. Антуанетта в номере не участвовала, но от них не отходила, часто поправляла на Тоде трико, до самой шеи плотно облегавшее его худое подвижное тело.
Стоял густой, тяжелый дух. К резкому запаху конюшни и влажных опилок примешивались ароматы духов, доносившиеся из переполненного до отказа зрительного зала.
Наконец Вяльшин подал знак, и артисты с ходу врассыпную выскочили на манеж. Впереди младшие, позади старшие Киселевы — Алекс и его брат. Взрослые сперва понаблюдали, как малыши исполнили несколько эквилибристских трюков, затем приступили к основному номеру — пирамидам. Зрители как завороженные следили за каскадом прыжков и воздушных сальто шестерки Киселевых, их захватил безостановочно пульсирующий четкий ритм. Кто-то из сидящих в первом ряду шепнул своему соседу:
— Как гуттаперчевые…
Сам Алекс ни одного акробатического трюка не сделал, и все же всем ясно было, что он не только камертон, по которому настраиваются остальные, но и душа этого великолепного ансамбля, что именно он невидимо направляет и поддерживает равновесие всей колонны.
Когда номер закончился и акробаты собирались покинуть манеж, Вяльшин преградил им дорогу. Зал громко аплодировал, слышались возгласы «бис», Алекс взял Тодю за руку и подвел вплотную к барьеру. Тот, смущенно улыбаясь, стал кланяться, посылая комплименты публике. На его щеках горели красные пятна. Он был счастлив и мог бы поклясться, что слышал, как кто-то на галерке крикнул:
— Смотри, смотри, это же Довидл, сын Носн-Эли.
Аплодисменты и возгласы затихли, зрители стали расходиться.
У репертуарной доски за кулисами клоун — человек угрюмый, взбалмошный и вспыльчивый — скривил губы, будто собрался чихнуть, и, ни к кому не обращаясь, произнес:
— Мало им своих, так они с улицы притащили еще одного нищего…
Должно быть, именно поэтому Анна Ивановна по-матерински тепло прижала к себе Тодю, а Александр Александрович обхватил его за узкие плечи, привлек к себе и впервые похвалил:
— Отлично! Лишь теперь мы с тобой возьмемся за настоящую работу. А на то, что клоун сказал, не обращай внимания. Он из тех людей, которые всем недовольны.
Дни пролетали один за другим. Минуло лето. В воздухе засеребрилась паутина. Как-то утром, выглянув в окно, Тодя увидел — на дворе осень. Всю ночь с Днепра дул холодный ветер и колыхал ситцевую занавеску на окне. Только недавно листья на деревьях начали желтеть, а сегодня соседская крыша покрылась инеем и морозный туман застилает озябшее солнце.
Сандалии на Тоде расползлись, из костюма он давно вырос, и тот уже не грел его окоченевшее тело.
Киселевы посовещались меж собой, посоветовались с другими артистами, но обратиться к Вяльшину не решились: продажа билетов в кассе шла туго.
Днем, когда стало немного теплее, все Киселевы направились в лучший магазин по продаже одежды. Знатоком по этой части считался Алекс, но торговалась при покупке главным образом Антуанетта. Когда вышли из магазина, Тодю нельзя было узнать: на нем был темно-синий костюм, суконное пальтишко, цветная рубашка, черные ботинки и темно-серые носки. Под мышкой он держал сверток со старой одеждой. Оттуда они пошли к шапочнику и купили ему картуз, украшенный кожаным плетеным ремешком поверх твердого блестящего козырька.
Тодя направился домой. Ветер разрумянил его щеки. Киселевы остановились на углу и долго смотрели ему вслед.
— Паныч, — обратился к Тоде дворник мадам Олиновой, — вы к кому?
— Господи, — встретила его мать на пороге, — кормилец ты наш, где ты все это раздобыл?
Отец тут же пошел к Киселевым узнать, не украл ли, упаси бог, его сын все эти вещи.
Тодя не мог понять, отчего никто в доме не рад его обновам. Теперь-то уж ясно, что быть ему артистом. Мама, та даже не улыбнулась. Она лишь обронила горячую слезу на его новую рубашку и прошептала:
— Носи, сынок, на здоровье!
КАК БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ
Свежие, недавно расклеенные афиши еще пахли типографской краской. Большие квадратные буквы как бы подмигивали, взывали. Прохожие невольно поворачивали головы в их сторону и читали: «Мальчики-шарики — Вилли, Жора и Тодя Кис».
По улицам и переулкам носились специально нанятые мальчуганы и до хрипоты орали, оповещая публику о чудесах, которые их ожидают на последних гастролях знаменитых артистов Кис. Возле рынка и постоялых дворов мальчишки на ходулях стреляли из ракетниц и с помощью металлических рупоров пытались перекричать шумную толпу. Кое-кто поддавался соблазну, полагая, что на цирковом представлении за пятиалтынный можно хоть на время забыть о своих заботах и немного повеселиться.
Тодю же известие о том, что наступают заключительные гастроли Киселевых, не только не обрадовало, а огорчило до слез. Жизнь в подвале на Дворянской, после того, как он увидел совсем иной, увлекательный мир, опостылела ему. Своим настоящим домом он теперь считал цирк Киселевых. Но неожиданно на эту семью обрушилась беда. Младшие Киселевы — Вилли и Жора — где-то заразились дифтерией. Болезнь протекала тяжело, так что на протяжении двух недель родители не отходили от постелей мальчиков. Алекс и Антуанетта попросили Вяльшина разрешить им приходить к началу второго отделения, в котором они выступали, с тем, чтобы, не задерживаясь, отправляться домой.
Вяльшину просьба Киселевых пришлась не по нутру. Его и без того тонкие губы еще больше растянулись. Его уже давно задевала независимость Киселевых. Чтобы привлечь публику и делать деньги, у него и без них найдется достаточно фокусников, воздушных гимнастов, канатоходцев. Киселевых он пригласил лишь потому, что хотел идти в ногу с требованием моды. Но делать это он собирался лишь до тех пор, пока это было в его интересах. Так он им и сказал:
— Не забывайте, я не меценат, а директор. Потрудитесь заглянуть в контракт, который вы подписали. Там сказано, что вы обязаны являться на представление даже в том случае, если ваше участие в нем программой не предусмотрено. На каком же основании вы обращаетесь ко мне с такой просьбой?
Киселевы на этот раз промолчали, но, ни единым словом не возразив своему хозяину, поступали по-своему. По вечерам они приходили в цирк к началу второго отделения, исполняли свои номера и уходили домой. За те две недели, что дети болели, Вяльшин не заплатил акробатам ни копейки. Алекс подал в суд.
Зал заседаний был переполнен. На суд явилась вся труппа. Многие любители цирка засвидетельствовали, что в те дни они видели Киселевых на манеже. Сам Вяльшин на суд не пришел. Его представлял адвокат Варшавский. Когда врач стал рассказывать, как тяжело болели дети Киселевых, Варшавский хорошо поставленным голосом перебил его на полуслове:
— Это к делу не относится.
— И все же они работали! — послышался голос из зала.
Адвокат махнул рукой: уймись, мол, и потребовал, чтобы вывели из зала суда нарушителя спокойствия. В зале поднялся шум. Судья встал, и звонок колокольчика призвал собравшихся к порядку. В это время к Варшавскому подскочил Тодя и крикнул ему в лицо:
— Вы нехороший человек, не лучше врунишки Эли. И вас надо было как следует отдубасить!
Клоун счел бы за счастье, если бы публика в цирке смеялась после его выходок так, как она заливалась хохотом здесь, в зале суда.
— Молодец! — раздались выкрики. — Всыпь ему!
Жандарм, с трудом неся свое грузное тело, схватил Тодю за ухо и, словно щенка, вышвырнул за дверь.
Суд, как и следовало ожидать, заступился за Вяльшина. Покидая зал суда, Варшавский увидел Тодю, потиравшего покрасневшее ухо, и насмешливо процедил:
— Ну, «адвокатик», так кого отдубасили?
Тодя нагнулся, чтобы подобрать и швырнуть подходящий камень, но Александр Александрович схватил его за руку и потянул к себе:
— Пошли, глупыш…
Тодя повернул голову и крикнул Варшавскому вслед:
— Будь я адвокатом, я бы говорил правду.
Киселевы, возможно, не скоро бы еще расстались с Вяльшиным и его цирком, но в это время на их адрес неожиданно поступил объемистый пакет с сургучными печатями по углам. Из Австрии пришло приглашение и контракт, который им предлагалось подписать с Венским цирком.
Вяльшин явно хитрил, когда отговаривал Киселевых не уезжать на чужбину. Он почему-то вдруг вспомнил об их заслуженной репутации, сожалел, что они окажутся вдали от родных мест, и советовал подумать, прежде чем давать свое согласие венцам. Весь секрет, однако, состоял в том, что Вяльшину надо было выиграть время и удержать актеров до наступления «мертвого» сезона, когда в течение нескольких месяцев цирк пустует.
Сошлись на том, что Киселевы на некоторое время задержатся, а за это им устроят бенефис.
— А что будет с Тодей? — в который раз спрашивала у своего мужа озабоченная Анна Ивановна.
Сам Тодя все это время ходил как в воду опущенный. «Неужели, — мучился он, — они уедут, а меня оставят?»
— Тодя, — как-то спросил его Алекс во время ужина, — ты хочешь поехать с нами в Вену?
Тодя только головой кивнул: «хочу».
— Тогда надо сходить к твоим родителям и поговорить с ними.
И снова они идут втроем по Дворянской улице.
Кто же мог подсказать Фуге, что появится такой дорогой гость? Только что собачонка бегала, высунув язык, и вдруг остановилась. Завиляла хвостом, отбежала в сторону, снова остановилась, недоверчиво принюхиваясь к непривычному для нее запаху. Что-то ее друг и хозяин сильно изменился. Надолго куда-то исчезает. Правда, как только появляется, угощает ее, гладит и ласкает. Но все равно, это не то, что было раньше, когда друг друга понимали с полуслова. Все это Фуга ему уж как-нибудь простила бы, если бы не эти непривычные, чужие запахи. Почему-то от него теперь пахнет конюшней, хотя до этого от него пахло речной свежестью и ветром. Раньше, бывало, хозяин Фуги врывался во двор как ураган и тут же бросался к будке. Теперь же он на удивление всем стал важным, степенным. Одет так, что уже не прыгнешь пыльными лапами к нему на грудь. Руки запускает в боковые карманы куртки. На ногах у него что-то скрипучее, а лизнешь — на языке остается вкус чего-то холодного и терпкого, как у засохшей шкуры на бойне.
— Фуга! Ко мне!
Это же голос Довидла! Поджав уши, Фуга повизгивает и от радости ползет на животе, льнет и ластится, как тогда, когда, кроме них двоих, никого на свете больше не существовало.
Первой вслед за Фугой приход гостей замечает Рохеле. Она сидит и вяжет для себя цветные варежки. Клубок прыгает в ее широком подоле, будто разыгравшийся котенок. На ногах у нее зашнурованные сапожки на высоких каблуках. Тодя искоса глянул в ее сторону. «А подбородок у нее знай себе растет». Он посмотрел в конец двора. Тропинки позарастали спорышем. Бревна и доски потемнели от времени, но лежат там, где лежали. Полуразвалившаяся избушка Хаим-Бера на замке, и оба ставня заколочены. Здесь же недалеко валяются обломки повозки Хаим-Бера — два лопнувших колеса, ржавая ось и порванная юфтевая шлея. Тодя еще не знает, что извозчика хватил удар и кто-то из местных благотворителей отвез его, парализованного, в богадельню.
Мать стоит с засученными рукавами и месит в деже густое тесто, но Тоде кажется, что в подвале уже пахнет свежеиспеченным хлебом. Так и хочется крикнуть: «Дай мне, мама, свежую лепешку с молоком!» От только что сваренной картошки валит густой пар.
Мамины усталые глаза излучают улыбку:
— Какие важные гости, а у меня тут такой бедлам!
Басшева не знает, куда деть свои набрякшие руки, измазанные тестом до локтей. Она подставляет щеку, и ее младший сыночек подскакивает и целует то место, где растет крохотная бородавка с двумя тоненькими небольшими волосками. В доме не прибрано. Мать немного смущается и высматривает место, где почище, чтобы усадить гостей.
Тодя глянул на облупившиеся стены с густыми наплывами плесени по углам. Мать оправдывается:
— Грех жаловаться, но Лейви давно уже сидит без работы. Все было как у людей: работал, получку приносил. Он даже купил себе пару новых ботинок, а мне бумазейное платье и уже было договорился обить сырые стены досками и оклеить их обоями, так, видите ли, ему вдруг захотелось, чтобы хозяин прибавил жалованье.
Тодя понимает, что маму все это огорчает, но Анна Ивановна, кажется, неглупая женщина, а подливает масло в огонь:
— А почему бы нет?
— Почему нет? — переспрашивает мать, и лицо ее перекашивается, будто проглотила что-то кислое. — Потому, что хорошему и плохому нет предела. Ведь я его умоляла, чтобы он этого не делал, не время, говорила я ему, семь раз отмерь и один раз отрежь. Так разве дети слушаются? — Мать краем глаза посмотрела на Довидла. — Не успел еще Лейви в тот злосчастный день раньше времени зайти в дом, а я уже за версту почуяла, какую «радостную» весть он нам принес.
— Мама, а где он, Лейви?
— Где ему, дитя мое, быть? Работу ищет.
Когда пришел отец и Киселевы заявили ему, что они хотели бы взять с собой Тодю в Вену, он, а не Басшева, тут же ответил им категорическим отказом. И при этом сказал:
— Слов нет, за вашу доброту мы вам очень благодарны, но из цирка я его со временем заберу. Я не хочу, чтобы в меня тыкали пальцем…
Мать подошла к Анне Ивановне, обняла ее, и, если верить Рохеле, они даже расцеловались.
— Ну и что? — говорила ей потом мать. — Они для меня близкие люди. — И когда соседка, поджав губы, недоуменно повела плечами, Басшева добавила: — А ты как думала? Что из того, что мадам Олинова еврейка?.. То-то и оно!
Киселевы еще только собрались уезжать, как из Одессы прибыла известная актриса — иллюзионистка. Звали ее «Веселой Луизой». Она носила атласное платье и модные лакированные туфли, но оттого, что все время жевала конфеты, не казалась Тоде такой уж важной. Антуанетту она встретила, как старую добрую подругу. Алекс смотрел на Луизу из-под густых бровей. Ему не нравилось в ней решительно все: и большой лисий воротник на высокой шее, и ее красивый, звонкий голос, и даже ее длинные каштановые волосы.
Луизе нужен был помощник, и она подыскивала для себя подвижного, худого паренька, сообразительного, с «головой на плечах».
— Знаешь, — сказала Анна Ивановна своему мужу, — Луиза, хотя и имеет привычку сперва говорить, а потом думать, но женщина она добрая, детей любит, и Тоде у нее будет неплохо.
— Это так, — отозвался он, как бы соглашаясь, и тут же добавил: — Но любит она детей ради самой себя. А может быть, еще и потому, что они напоминают ей ее собственное потерянное детство.
— Пусть даже так, что из этого? Ты теперь в плохом настроении и не хочешь понять, что у Тоди пока нет другого выхода. Тебе не по душе фокусники-иллюзионисты, номера которых рассчитаны на то, чтобы одурачить зрителя, я, как ты знаешь, тоже не в восторге от всякого рода чудотворцев, магов, манипуляторов. Они чужды цирковому искусству, и всем им место в каком-нибудь кафешантане или варьете.
Ничего не скажешь: ведь Анна Ивановна права…
Проводить в дорогу Киселевых собрался весь цирк. Когда чемоданы были уложены в телегу и возчик взял вожжи в руки, появился Вяльшин. Воротничок, манжеты и манишка, как всегда, сверкали белизной. Волосы блестели от бриллиантина. Рядом с ним вкрадчиво, по-кошачьи ступал рослый, худой мужчина со впалыми щеками и острыми скулами.
— Гляди, — схватила за руку мужа Анна Ивановна, изменившись в лице, — доктор Кук! Черт бы его побрал!
Тодя тоже повернул голову в сторону незнакомца и внимательно посмотрел на него. Что ж, человек как человек, правда, с несколько необычным, продолговатым лицом и мутно-голубыми глазами. В руке он держал стек.
Лошади рванули с места, и Довидл расслышал предупреждение, тревожно и торопливо произнесенное Анной Ивановной:
— Тодя, остерегайся этого человека, слышишь? Остерегайся!
Выступления Луизы не были связаны с риском. В отличие от других иллюзионистов, она не прибегала к последним достижениям оптики, акустики, механики и химии и, следовательно, обходилась без сложной трюковой аппаратуры.
Луиза привела Тодю в пустую гримерную, осмотрела его с ног до головы. Дважды потрогала его большие уши. Затем извлекла из ридикюля клеенчатый сантиметр и принялась обмеривать Тодю — его рост, ширину плеч. Кажется, все ее устраивало. Но, замерив сантиметром окружность головы, поморщилась и недовольно заметила:
— Нехорошо, дружок. Для сфинкса голова твоя великовата.
— Для кого? — переспросил недоуменно Тодя.
— Для сфинкса. Тебе не приходилось видеть возле какого-нибудь дворца каменного льва с головой человека? Это называется египетский сфинкс, а ты у меня будешь греческим. Ты что так смотришь на меня своими черными глазищами, будто я колдунья? Ну, ну, не обижайся и слушай, что я тебе скажу. У древних греков была легенда о загадочном крылатом существе с туловищем льва, с головой и грудью женщины. Боги ниспослали это создание грекам в наказание за их грехи. Сфинкс загадывал загадки, а того, кто не мог их отгадать, он съедал. У тебя от страха коленки не трясутся? Наш же сфинкс загадок загадывать не станет, он только будет на них отвечать.
Тодя удивленно посмотрел на себя в трюмо. Медленной величественной походкой Луиза направилась к двери, открыла ее и попросила униформиста принести ее ящик и столик. Это был необычный столик и необычный ящик.
— Видишь, — Луиза раздвинула крышку столика, — вот сюда, лапушка, мы тебя посадим, и никто тебя видеть не будет…
— Даже если кто-нибудь из зрителей приподнимет крышку?
— Пусть себе хоть десять раз приподнимает. Ножки стола пустотелые, и в них поместятся твои ноги. Я еще только не знаю, как быть с твоей головой. Она должна быть задвинута в ящик, но слишком велика и туда не войдет. Что же нам с тобой делать?
Тодя не любит, когда им командуют, но если его спрашивают, советуются с ним, он готов помозговать, тем более что здесь особенно и думать нечего.
— Мою голову вам не переделать, но ящик — его-то столяр может как-нибудь приспособить?
Луиза повеселела. С таким сообразительным пареньком можно работать. Она схватила и положила себе в рот сразу две конфеты и порывисто чмокнула Тодю в щеку.
— Пожалуй, это дело. Недаром у тебя на плечах большая голова. Как у министра. Ты еще у меня станешь настоящим сфинксом и будешь отвечать на все вопросы, какие вздумает задавать уважаемая публика. — Говорила она быстро, но окончания некоторых слов растягивала.
Тодя уже понял, что Луиза имеет в виду. Она хочет, чтобы Тодя-сфинкс из своего укрытия отвечал на вопросы зрителей, а что ответить, он догадается сам, прислушиваясь к вопросам, которые она ему повторит. Гордость первооткрывателя проснулась в его душе.
А получилось это вот как.
После того как шпрехшталмейстер, а проще говоря, инспектор манежа, густым басом объявил, что сейчас выступит всемирно известная Луиза Яко и исполнит свой коронный номер, требующий абсолютной тишины, в зале зашумели.
Луиза вышла плавной походкой, не спеша, с чувством собственного превосходства. Пусть себе шумят.
Одета она была в длинное черное платье, застегнутое под самым подбородком. Высоко взбитые кудрявые волосы отливают медью. На манеже ее продолговатое, узкое лицо приняло серьезное выражение. Если в эту минуту спросить Луизу, она и в самом деле поклянется, что может заставить сфинкса отвечать на все ее вопросы. Не успела она еще и рта раскрыть, а публика уже аплодирует. Недаром шпрехшталмейстер назвал ее «всемирно известной».
В ту самую минуту, когда прожекторы направлены на Луизу, униформист выносит столик со сфинксом. Она слегка притрагивается пальцами к столику, сдувает с него пылинку и, прикрывая глаза длинными ресницами, вкрадчивым голосом говорит:
— Сфинкс, будь добр, скажи мне, кто сидит на двадцатом месте в пятнадцатом ряду (последние слова она произносит с нажимом) и во что этот человек одет?
Разумеется, Тодя хорошо усвоил «ключ» к загадке и знает, что ответить, — в пятнадцатом ряду сидит мужчина в коричневом костюме.
Если Тодя не сразу схватывает, что ответить, Луиза с притворно наивным видом повторяет вопрос второй и третий раз. Зрителям она поясняет, что заставить сфинкса отвечать на ее вопросы — дело нелегкое.
Сеанс окончен. Униформист уносит столик. Тодя, сидевший в нем скрючившись, тут же вылезает. И не скоро еще он придет в себя, до того онемело все тело.
Что тут началось в зале!
— Браво! Бис! — в исступлении беснуются зрители. Одни до боли хлопают в ладоши, другие стучат ногами, свистят.
Луиза снова появляется на манеже. На этот раз она сама приносит столик с ящиком и просит желающих подойти и заглянуть в него. Находятся любопытные. Они перешагивают через барьер, внимательно рассматривают все вокруг, заглядывают в ящик, под столик — и правда ведь, ничего, кроме небольшой кучки золы, там нет. Чудеса, да и только!
— Друзья мои! Мне и самой жаль, но сегодня от сфинкса уже ничего не добьешься. Сгорел… — И лицо ее при этом выражает неподдельное огорчение.
ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ
Коротким было счастье. Тодя стал переходить от одного актера к другому. Вот когда он почувствовал, как хорошо ему было у Киселевых. В случайно подвернувшейся бродячей труппе акробатов и жонглеров он выступал на ярмарочных балаганах до тех пор, пока артисты не собрались перейти границы России. Он никак не мог понять, отчего так происходило, но почему-то все они рвались в Румынию. Ему же отец строго-настрого наказал — даже думать не сметь о том, чтобы покинуть пределы родной земли.
Клоуну Косопарди нужен был ассистент, и он подыскивал подходящего парнишку. Кто-то указал на Тодю. Клоун наобещал ему золотые горы, и он ему поверил, начал вместе с ним разъезжать по ближайшим городам и местечкам.
Косопарди — человек колоритной внешности: пузатый, как чайник, коротышка, в блузе канареечного цвета, — нарочно подчеркивал свой иностранный акцент. Все его остроты и шутки были рассчитаны на то, чтобы пробудить в зрителях самые низменные инстинкты. Рассказывал он их как бы по секрету, громким шепотом, так, чтобы слышно было в задних рядах, был большим охотником до пошлых анекдотов и двусмыслиц, похабных ругательств. При этом, самодовольно осклабившись, дергался, как в падучей, проливал ручьи слез (в его монтюр были вшиты резиновые трубочки-слезопроводы). Хохотать над его кривляниями, вероятно, и можно было, но веселиться — нисколько.
На манеж Косопарди выходил горбуном. Низко опущенные штаны болтались вокруг колен. Лицо — бескровное, известково-белое, а волосы жгуче-красные. Косопарди будто явился из преисподней.
Все это Тодя понял намного позже. Куда больше тогда его занимало то,, что Косопарди чуть что пускал в ход свою бамбуковую палку. Однажды Тоде попало ни за что ни про что, и он твердо решил: если еще раз клоун его тронет, то…
Произошло это в Николаеве.
Косопарди пуще глаза берег свою черную шляпу, формой напоминавшую головку сахара. В минуты похмелья он часто брал ее в руки, так и сяк гладил, чистил и холил, будто это не головной убор, а родное дитя. Так продолжалось до тех пор, пока он не засыпал. И надо же было случиться, что кто-то зашел в гримерную, где жил Косопарди, и сел на его шляпу…
Тодя в это время был во дворе, грелся на солнышке. Косопарди в своем длинном распахнутом халате неожиданно подскочил, злой, как черт, и, с яростью набросившись на мальчика, схватил его за горло и стал душить. Тодя вцепился зубами клоуну в руку. Косопарди бешено завизжал и, будто в него швырнули бомбу с горящим фитилем, отскочил в сторону. Казалось, вот-вот его хватит удар.
— Вот как? Кусаться? — и снова набросился на мальчика.
— Вот так! — услышал он в ответ. В руках Тодя держал увесистую суковатую палку.
Да, это был уже не прежний Тодя. Он наскоро собрал свои пожитки, уложил их в маленький чемоданчик и направился к выходу.
— Не думай, что это тебе даром пройдет, я еще с тобой рассчитаюсь, — грозил ему вслед Косопарди с видом боксера, изготовившегося для нанесения удара.
Домой, в Херсон, Тодя вернулся страшно усталый, голодный.
— Боже мой, где ты так вывалялся, ты же чернее трубочиста, — запричитала мать и бросилась на кухню греть воду. Она сбегала к соседке за куском хозяйственного мыла и попутно прихватила из сарая большое корыто.
Тодю, обычно скрытного, на этот раз долго упрашивать не пришлось. Он сам рассказал обо всех своих злоключениях. Возмущенный отец сжал свои пудовые кулаки и стиснул зубы так, что у него побелели скулы. Когда в отце взыграет «солдатская кровь», его лучше не трогать. В такие минуты даже мать боится ему слово сказать. И все же она, проглотив вздох, принялась его успокаивать:
— Что с тобой, Носн-Эля? Можно подумать, что ты собрался идти с ним драться.
— А ты что думаешь, этому разбойнику все сойдет с рук? — теперь он свой гнев перенес на мать. — Слыханное ли это дело: сына моего будут избивать, а я буду молчать? Хорошо бы мы, рабочие, выглядели, если б позволили всем, кому вздумается, хватать нас за горло.
К таким речам и мать не могла оставаться равнодушной.
— Что я думаю? «Мы — рабочие!» Можно подумать, что так уж не даете вы себя в обиду, никто не ездит на вас верхом…
Отец по натуре человек вспыльчивый, но и отходчивый. Он опустил руки вниз, под стол, и с горечью заметил:
— Нет, почему же? Еще как ездят! Да, многие вещи я начинаю видеть в другом свете. Последние силы из тебя выжимают, а ты не смей пикнуть. Но запомни, Басшева, мои слова: все до поры до времени, долго так продолжаться не может. Рабочий — что честный должник; тот по копейке собирает, чтобы рассчитаться с долгами, и рабочий копит обиды, чтобы, когда настанет время, за все расквитаться.
Тодя удивленно смотрит на отца, — да, он заметно изменился: на лбу резче обозначились морщины, и таких слов от него слышать еще не приходилось. А тем временем Носн-Эля думает о том, что его младший сын уже не маленький, вырос… Если у него хватило сил и ума взять в руки жердину, значит, он уже не пропадет, но пока худо. Как прожить? Лейви с трудом упросил владельца кондитерской, Нафтолу, принять его на работу, а тут в доме опять лишний рот. Но что поделаешь? Недаром говорят: беда научит, нужда заставит. Не чужой ведь. К восьми годам отпустили мальчика из дому раздетым и разутым. Иди, зарабатывай себе на хлеб. Разве он, отец, заранее не знал, что ребенку будет не сладко? Старшие, те хоть в хедере[4] учились, а этому и не пришлось. Видно, так уж ему на роду написано. Придется что-то придумать… Пока надо его порадовать доброй вестью:
— А ты знаешь, Довидл, кто теперь у нас в мастерских работает? Твой Никифор. Я его помаленьку обучаю токарному делу. Башковитый мужик! За что ни возьмется — все горит у него в руках.
Тодя оживился.
— Никифор? Ведь он же был матросом!
— Ну и что, что матросом? Должно быть, так надо.
— Тогда я сейчас и пойду к нему.
— Сейчас! Ты что думаешь? Он сидит дома и ждет не дождется, когда ты его навестишь? У него своих забот хватает. Но если тебе не терпится, я его завтра предупрежу — и ты к нему сходишь.
И вот шагает Тодя в село, где живет Никифор. Сатиновую косоворотку он снял и прикрыл ею плечи, связав узлом рукава под подбородком. В поле стоит запах налитых колосьев, воздух такой, что впору не дышать им, а пить, как парное молоко. От города до села не так уж далеко. Вот и ветряк виден. Кажется, что крылья ветряной мельницы врезаются в тучи. По дороге возвращается домой с пастбища стадо. Коровы идут сытые, с переполненным выменем. Пастух, усохший старик, держит длинный, по-змеиному гибкий кнут. За стадом стелется густое облако пыли. У колодца стоит молодая крестьянка в новых плетеных лаптях, белой вышитой сорочке с широкими рукавами и разноцветным монистом на шее. Она с такой ловкостью подцепляет коромыслом до краев наполненные ведра, что вода в них даже не колыхнется. На плетнях сушатся пузатые макитры. Детвора барахтается в дорожной пыли. Тут же разлегся хряк — такой жирный, что розоватое сало просвечивает сквозь кожу и щетину.
— Заходи, заходи, Давидко! Посмотрим на тебя. Ну, как ты? Жив-здоров? Молодец, подрос, настоящий парубок! Не хватает только усов, был бы похож на настоящего мужчину. Ну, туды-перетуды, рассказывай, как там живут циркачи, что хорошего у тебя слышно?
— Ничего.
— Из ничего, да будет тебе известно, и получается ничего. Ничего — это нуль без палочки. Сам подумай.
Как-то странно получается: отца своего Тодя стесняется, а с Никифором он чувствует себя свободно.
Земляной пол в Никифоровой хате, видно, только что обмазали. У печки растянулась кошка. На подоконниках горшки с цветами. Большой стол покрыт чистой вязаной скатертью с короткой бахромой. Ее, должно быть, связала мать Никифора или его жена, Ксеня. Она сидит на сохранившемся, очевидно, с незапамятных времен сундуке для приданого и шинкует капусту.
— Давидко, а ну-ка ставь правый локоть на стол — померимся силенками. Вот так! О, да ты, брат, крепко стоишь на земле. С такими, как у тебя, мускулами ты в цирке далеко пойдешь…
— Дядя Никифор, я уже так далеко зашел, что еле домой добрался.
— И такое бывает. Но я вижу, что ты парень не промах, и язык у тебя хорошо подвешен. И за все это тоже надо твоим Киселевым сказать спасибо.
— Вы разве их знаете? Киселевы как раз ничему плохому меня не учили.
— А я и не говорю. Мне о них твой отец много рассказывал. Знаешь, у твоего отца золотые руки. Ему только дай развернуться, и он мог бы многого добиться. Уже сейчас он механика за пояс заткнет.
— А механик у вас злой?
— Нет, я бы этого не сказал, — Никифор обнял Тодю за плечи и продолжал: — Идем, угощу тебя свежим, еще в сотах, медом и покажу сад. Сад — отцовский. Сам он его сажал и вырастил и сейчас никому не доверяет чистить его, а уж о том, чтобы подрезать или побелить деревья, и говорить не приходится.
Ночевать забрались в сарай на сеновал. Воздух был свеж и прохладен, и они укрылись большим овчинным кожухом. Сквозь приоткрытую дверь видно было, как взошла луна, проложила серебряную тропку до середины неба и осветила все вокруг. Потом снова скрылась за тучки. Где-то в селе вдруг заливисто залаяли собаки.
Тодя лежал и думал: что имел в виду Никифор, когда в саду сказал: «Дуб только тогда сбрасывает листву, когда начинает пробиваться новая». А разговор у них, собственно, был о Вяльшине, об адвокате Варшавском, о владельце мастерской, в которой его отец и Никифор работали. И вдруг…
В жизни, как в цирке, взрослые порой говорят так, что с трудом понимаешь, о чем речь. Он бы не постеснялся переспросить у Никифора, но услышал его ровное дыхание и понял, что тот уже спит.
И у Тоди начали слипаться глаза. Мысли уносят его в дубовую рощу. Спозаранку, в утреннем тумане, когда листья и травы еще унизаны капельками ночной росы, он собирает желуди. Мама варит из них вкусный кофе. Почему же их называют свиными? Совсем близко от него маленькая пичужка втянула клювом капельку росы и ловко запрокинула головку, чтобы побыстрее ее проглотить.
…Выпал снег, и сразу стало светло. Тодя одет в новенькие сапоги с лакированными голенищами: наконец-то сбылась его мечта. Снежинки кружатся в воздухе и лениво опускаются на деревья. Те из них, что не успели осесть, ветер вновь подхватывает и кружит в нескончаемом круговороте. Зимой на корявых дубовых ветвях еще долго остаются висеть засохшие листья. Дуб — крепчайшее дерево… Может быть, это и имел в виду Никифор?
…Минула зима, и, когда стало совсем тепло и домашние хозяйки принялись мыть и протирать окна в домах, а мальчишки — прибивать скворечники, в Херсон снова нагрянул Вяльшин со своим цирком. Несколько дней Тодя ходил сам не свой, как лунатик. Мать даже решила, что придется показать парня фельдшеру.
Вяльшин встретил Тодю так, словно вчера с ним расстался. Он куда-то спешил, на ходу Схватил Тодю за плечи и скороговоркой выпалил:
— Беру тебя к себе в ученики.
Тодя понимал: «ученик», значит, договора с ним не заключат и за работу платить не будут. Но на лучшее он и не рассчитывал. Сперва Вяльшин, очевидно, будет обучать его вольтижировке. Этим несложным, но довольно красивым номером обычно начинаются и заканчиваются цирковые представления, когда лошади кивают головами, будто отбивают поклоны. Тодя отчетливо представил себе, как он будет исполнять на бегущей по кругу лошади головокружительные трюки, так что у публики дух захватит. Да, он непременно станет настоящим наездником.
Тодя уже видит себя одетым в шелковую жокейскую куртку, белые брюки галифе, лакированные сапожки без каблуков. Черные волосы забраны под цветное кепи. Взглянул в зеркало и увидел себя таким, каким захотелось видеть. Плавно махнул рукой по воздуху — это он так гладит свою лошадь. У нее гибкая шея, тонкие точеные ноги и розоватые копыта. На манеж он выезжает верхом, сидя в легком нарядном седле. Ноги — в стременах, в руках — поводья. И уже когда лошадь несется галопом, он вскакивает на седло и показывает чудеса… Грохот аплодисментов и возгласы долго не затихают. Лошадь опускается на правое колено, вытягивая левую ногу, и низко кланяется.
В Запорожье гастроли затянулись до поздней осени. Полоса воды у берегов Днепра покрылась первым ледком, и от людских глаз на время как бы скрылся безостановочный, стремительный бег реки. Порывистый ветер неистово раскачивал верхушки оголившихся деревьев.
Как-то в один из ненастных вечеров Вяльшин возвратился из города с одним человеком, одетым в истрепанное пальтишко. Был он насквозь промокший, и бумажный воротничок на худой шее грозил расползтись.
— Накормить и постелить в большой гримерной, — распорядился Вяльшин, оставив незнакомца на попечение сторожа, а сам, не попрощавшись, ушел к себе.
То, что хозяин привел кого-то и, вопреки своему обыкновению, велел накормить, всех удивило. Гость — человек с тонкими чертами лица, но заросший, давно не бритый — присел к краю стола, протер пальцами стекла очков, осмотрелся и хрипловатым голосом представился:
— Альберт Хейфец, бывший профессор математики Варшавского университета.
Острый на язык клоун, услышав это, не удержался от соблазна подпустить шпильку. Чеканя каждое слово, не без желчи, он, улыбаясь, заметил:
— Так-так… Считать, значит, теперь есть кому, осталось только, чтобы кто-то хорошо платил…
Да, артист оригинального жанра, математик Альберт Хейфец умел считать. За какие-нибудь доли секунды его феноменальная память с быстротой счетной машины справлялась с самыми сложными задачами. Он мог легко оперировать большими числами: делил их, множил, складывал, вычитал, извлекал корни и возводил в квадрат и куб. Это был необыкновенно талантливый человек. Его выступления в цирке приносили Вяльшину изрядный доход.
Относительно причины изгнания Хейфеца из университета говорили всякое. Сам он об этом никогда речи не заводил. Все знали, что за последние дни его несколько раз куда-то вызывали, и он возвращался подавленный. Вяльшин, возможно, и знал, что в полицейском участке интересуются профессором, тем не менее он остановил его как-то и спросил:
— Если это не секрет, скажите, господин Хейфец, куда это вы каждый день исчезаете?
— Pro domo sua, — ответил тот, будто ждал, что его об этом спросят, и тут же спохватился: — Извините, господин Вяльшин, я совсем забыл, что вы не знаете латыни. Как бы вам объяснить? Pro domo sua буквально значит — для моего дома. А чтобы вам яснее было, это связано с защитой меня самого и моих дел, одним словом, сугубо личное дело.
Вяльшин понял: не хочет человек никого посвящать в свои личные дела.
К латинским изречениям Хейфеца Тодя понемногу стал привыкать. В самом начале своего пребывания в цирке профессор собрал всю цирковую молодежь и объявил, что будет заниматься с нею. Часто покашливая в кулак, он четко и красиво вывел на доске мелом по-латыни фразу: Nulla dies sine linea и пояснил, что это означает — ни дня без учебы.
Чем ближе Тодя присматривался к профессору, тем больше он восхищался им. Вот стоит он, его учитель, как всегда усталый, измотанный, с потухшим взором. Но в кругу своих учеников он преображается. Даже голос звучит по-другому. Трудно поверить, что его тонкие губы, близорукие слезящиеся глаза могут так открыто и ласково улыбаться. Тот, кто хотя бы раз услышал, как он занимается с детьми, как захватывающе рассказывает о странах, в которых бывал, как плачет и смеется скрипка в его руках, наверняка не стал бы насмехаться над его привычкой разговаривать с самим собой и, как все ученики, с почтением называл бы Хейфеца «профессором» или «маэстро», а не «этот рассеянный Альберт».
ЧЕЛОВЕК-ПАУК
Ни с кем из ребят в цирке Тодя не сошелся так близко, как с Леней Смигельским. Леня и его отец Юзеф были воздушными гимнастами. Их выступление обычно длилось не более четырех-пяти минут. Тодя стоял, задрав голову, и напряженно следил, как под самым куполом Леня перелетает с одной трапеции на другую.
Тодя уже, кажется, наизусть знал все движения, какие его друг должен был проделать, и все же каждый раз замечал что-то новое. К концу номера, когда барабанная дробь вдруг разрывала гнетущую тишину и Леня камнем падал с высоты головой вниз, чтобы в каком-нибудь метре от защитной сетки молниеносно выпрямиться, Тодю охватывал страх, и он, замирая от волнения, нетерпеливо ждал, когда звон медных тарелок радостно возвестит: опасность позади! В своем ярком костюме Леня, подобно сказочной радужной рыбке, бился в сетке, затем одним рывком спрыгивал и бегом покидал манеж.
Круглое личико Лени всегда излучало спокойствие и уверенность, но иногда Тодю охватывало тревожное предчувствие, и он злился на самого себя: отчего это ему приходит в голову мысль, что с его другом может что-то случиться.
И еще один человек, кроме Тоди и отца Лени, всегда стоял у занавеса, когда на манеж должен был выбежать молодой Смигельский. Это сторож цирка Сидор Степанович, глухой старик, лет под восемьдесят, служивший еще у деда Вяльшина.
Сидору Степановичу за последние три десятилетия никто из артистов не нравился.
— Э! — обычно махал он исхудалой дрожащей рукой. Глаза его щурились в улыбке и слезились, а смуглое лицо в крупных морщинах оставалось неподвижным. — Вот в молодости доводилось мне видеть всемирно известного воздушного акробата Эмиля Гравеле — на афишах его именовали Блонденом. Я видел акробатов, исполнявших танцы на канатах, натянутых на большой высоте — между высокими зданиями, городскими башнями, над рекой, — но никто не рискнул показать свой аттракцион на такой высоте, на какой это делал Блонден! И до чего только он, представьте себе, додумался? Ареной своего выступления однажды избрал Ниагарский водопад. Американские дельцы — а шуму наделать они мастера — для этого случая специально соорудили трибуны на двадцать пять тысяч зрителей. Блонден остановился над серединой кипящего водопада и стал показывать, как надо жарить яичницу… Вот это цирк! А сейчас? Со всех сторон на тебя давят стены, а сверху — купол. Нет, такие воздушные полеты — это не фокус… Я стреляный воробей, и на мякине меня не проведешь.
И все же Сидор Степанович не удержался и как-то вечером, степенно сморкаясь в красный носовой платок, заявил отцу Лени:
— Юзеф, вот те крест, из твоего хлопчика вырастет второй Блонден. — Сказал и тут же глуховатым шепотом предупредил: — Только ему ни гу-гу! А то как бы его большие уши еще больше не оттопырились.
Ленины уши всем бросались в глаза, видимо, оттого, что сам он был на редкость красив и пропорционально сложен.
Альберт Хейфец часто разговаривал с Леней по-польски. Однажды он подошел с ним к окну и сказал:
— Леня, постой немного против света. Попробую нарисовать тебя. Смотри, не зазнавайся, но такую фигуру, как у тебя, редко встретишь.
Тодя стоял в стороне и не отрывал глаз от мольберта. Рисунок ему не понравился. Неужели математик думает, что эти черточки и кружочки напоминают живого Леню? А уж его обаяние на бумаге и вовсе не передашь.
Однажды, только Юзеф и Леня Смигельские вышли на ярко освещенный манеж, несколько подгулявших морских офицеров, сидевших в первом ряду, подняли шум и стали кричать, что это не цирк, а жалкий балаган, где дурачат публику.
На арене появился Вяльшин. Он шел уверенной походкой, так как знал, что сейчас ему нечего опасаться: аттракцион Смигельских даже для лучших цирков находка. Жаль только, что шумит партер. Будь это галерка, взяли бы теплую компанию за шиворот и выкинули за дверь.
— Господа офицеры! Пожалуйста, успокойтесь. Если у вас есть претензии, можете после представления зайти ко мне или сразу скажите, чем вы недовольны.
Один из офицеров встал, еле держась на ногах, и начал кричать:
— Что это за фокус, если внизу подвешена защитная сетка? И что это за мачта? У нас на корабле и та намного выше!
Скандал разгорался не на шутку. Вяльшин был вне себя:
— Если мы вас не устраиваем, господа офицеры, можете уйти.
А галерка меж тем разразилась неистовыми аплодисментами. Отовсюду неслись то крики возмущения, то возгласы одобрения. Вяльшин стоял на манеже бледный, без кровинки в лице, и не знал, как утихомирить бушующую публику.
Назавтра директор вызвал Юзефа и предупредил, что если тот не поднимет выше мачту и не уберет защитную сетку, плата будет урезана вдвое.
Близких родственников у Смигельских не было. Но раз в месяц Юзеф шел на почту и львиную долю своего заработка отсылал кому-то в Польшу. Это, должно быть, и вынудило его пойти на риск, играть, как говорится, ва-банк. Но на кон ставились не деньги, а сама жизнь… Юзеф согласился, но с оговоркой, что защитную сетку уберут лишь тогда, когда он один под куполом. Не прошло и недели, как Леня остался круглым сиротой.
Долгое время Леня не работал. Вяльшин проявил необычное для него «великодушие» и разрешил ему ночевать в цирке и питаться вместе со всеми на кухне. Но жить как-то надо было, и Леня, еще не оправившись от горя, снова начал выступать вместе с итальянским першистом Джони.
Долго сидеть на одном месте Джони не мог. Стоило ему поработать недели две, как он впадал в запой, так что терял человеческий облик и вместе со своей неразлучной губной гармошкой валялся в канаве или под забором.
Однажды в базарный день цирк был переполнен крестьянами из окрестных сел. Джони, бледнее обычного, прикрепил пояс к шесту, Леня вскочил к нему на колени, затем на плечи и уж оттуда на самый верх шеста. Шест качнулся. Леня напряг свои упругие мускулы и вытянулся горизонтально, как струна. Публика в зале напряженно следила за его трюками. Шест снова качнулся. На этот раз нетрезвый Джони не удержал равновесие…
В Херсонском госпитале для бедных врачи и больные скоро привыкли к тому, что у кровати Смигельского часто можно видеть его друга Тодю. Вначале доктор Пельцер злился, ругал медицинских сестер за то, что пускают посторонних, но потом, появляясь в палате, уже и сам стал искать своими близорукими глазами этого постоянного посетителя. Иногда, бывало, пробурчит что-то нечленораздельное, а то и подмигнет, улыбаясь:
— Как вы, молодые люди, полагаете, в цирке еще поработаем?
Тодя заметил, кто к Вяльшину в цирк зачастил доктор Вильгельм Кук. Тоде казалось, что и Вяльшин почему-то опасается Кука, и хотя встречает доктора приветливо, но с большей радостью провожает его к выходу — важного, с тростью под мышкой и всегда с высоко вскинутой, как у верблюда, головой.
Сидор Степанович и Вильгельм Кук столкнулись лицом к лицу возле комнаты Вяльшина. Проход был узкий, и разминуться они не могли. Доктор ткнул своими тонкими пальцами в грудь сторожу цирка:
— Гляди-ка! Ты все еще жив, старик?
— На тот свет, Вильгельм Карлович, всегда успеешь, а смерть, говорят, в календарь не всегда заглядывает. Подожду еще малость.
— Жди, жди! Когда жизни у тебя останется совсем на донышке и я тебе понадоблюсь, не стесняйся и дай знать. Как-никак мы с тобой старые друзья.
Сидор Степанович покачал седой головой, протер слезящиеся глаза с припухшими покрасневшими веками, вытащил из кармана табакерку и, как бы не замечая, что доктор все еще ждет ответа, сделал вид, будто ищет веник, чтобы подмести пол. Кук, должно быть, считая, что слова его слишком быстро и тихо слетают с губ, подошел вплотную к старику и, приложив ладони ко рту, медленно прокричал ему в самое ухо:
— Совсем забыл, что ты давно уже глухой. Я говорю: мы ведь с тобой старые друзья…
— Верно, доктор, глухой, хотя я, старый дурень, думаю, что иногда один глаз стоит больше, чем два уха. Вы, может, помните мою черную собаку, Шарика? Уж как она была мне предана, кажется, дальше некуда, а все же как-то раз на меня осерчала и, когда я протянул ей кость, цапнула заодно и мою руку.
— Должно быть, Степаныч, тебе тогда было очень больно, если по сей день забыть не можешь?
— «Больно»… Нет, не в том дело. К боли мы привычные. Вот обида, она не забывается!..
— Так как же ты наказал своего Шарика?
— Высшей мерой наказания. Вот те крест! Я его прогнал прочь и больше видеть не захотел.
— Ну, ну! — Вильгельм Кук нервно передернул плечами и, не столько удивленно, сколько угрожающе, прорычал что-то невнятное и поспешно удалился.
Этот случайно услышанный разговор напомнил Тоде предупреждение Антуанетты: «Остерегайся этого человека». И когда Тодя, придя навестить своего друга, сквозь стеклянную дверь увидел, что Кук что-то горячо доказывает главному врачу госпиталя, он не на шутку встревожился.
— Знаешь, Тодя, — еще издали известил его Леня, — завтра меня повезут в Одессу показать профессору.
— В Одессу? Ведь доктор Пельцер говорил, что вскоре тебя выпишут.
— Доктор Пельцер действительно возражает, но меня сегодня дважды смотрел цирковой врач Кук и сказал, что ключица плохо срослась.
— Леня, послушайся меня, не езди в Одессу. Хочешь, тебя заберет моя мама, будешь пока жить у нас.
— Нет, Тодя, Джони мой опекун, а он свои права передал доктору Куку. Понимаешь, я не хочу остаться калекой. Кук меня вылечит.
В палату вошли главный врач и Кук — оба в белых халатах. Тодя не успел больше ничего сказать своему товарищу.
— Иди, иди, — взял его Кук за плечи и повернул лицом к двери. — Если тебе очень нужно, приходи завтра к пароходу. Там и поговорите…
Чем лучше шли дела у Вяльшина, тем скупее он становился. Заключить письменный контракт с Тодей он все еще не хотел, платил ему гроши.
Терпение Тоди лопнуло, и от Вяльшина он ушел к роликобежцу англичанину Джону Гастону. Джон отнесся к пареньку так, как когда-то Киселевы. Даже внешне он чем-то напоминал Алекса.
Года два они гастролировали по разным городам, покуда не прибыли в Киев. Выступали в цирке «Киссо». Здесь Джон ежедневно совершал свой рискованный трюк — мчался на роликах по высоко натянутой проволоке — и для большего эффекта при этом держал Тодю на плечах.
Незадолго до того как Джону и Тоде предстояло уехать из Киева, в городе появились афиши, возвестившие, что скоро киевляне смогут увидеть чудо природы — «человека-паука». Такие «чудеса» Тоде уже не раз приходилось видеть. Он знал, что номер этот основывается на оптических и декоративных фокусах и публике показывают только голову «паука». Само туловище незаметно, так как оно якобы окутано паутиной. Вполне возможно, что это просто кукла, управляемая кем-то при помощи проволочной нити.
Тодя надел свой выходной костюм и направился на Крещатик к ярко освещенному зданию, где выступало «чудо природы».
Удивило его прежде всего то, что белый потолок в зале совершенно чист — никаких сооружений. Только в одном месте, в правом углу было подвешено что-то, напоминающее птичье гнездо. На это гнездо и был направлен голубой луч прожектора. Посреди сцены стояла большая пивная бочка. На ней — две пустые кружки, остатки воблы, колбасы, сыра, хлебные крошки. Гаснет свет в зале. Заиграла скрипка, к ней присоединяются звуки флейты, и на сцену выбегает девочка-муха. Пышная юбочка, вся в блестках. Мягко и плавно машет она черными глянцевыми крылышками и жужжит, жужжит. Она «летит» вокруг бочки, но стоит ей опуститься на бочку, как откуда-то издалека раздается протяжное сердитое шипение. Медленно раскрывается гнездо, и зрители, заполнившие темный зал, видят, как по потолку ползет нечто, напоминающее скорее паука, нежели человека. Муха «улетает» со сцены, — теперь на нее никто уже не обращает внимания. Взоры публики прикованы к пауку. На какую-то долю секунды он останавливается, вместе со своей тенью как бы повисает в воздухе и ползет дальше, а вслед за ним тянется тонкая золотая сеть паутины.
Публика давно уже разошлась, а ошеломленный Тодя все еще не отходит от сцены. Как получается след от паутины, допустим, еще можно понять. Наверное, потолок покрыт тоненькими проволочками, они чем-то смазаны, и, когда «паук» дотрагивается до них, появляется паутина, он как бы плетет ее. Но что это за паук?
Кто-то отодвигает занавес и спрашивает:
— Тодя, это ты?
— Я, — отвечает он, удивленный. — Ты меня знаешь?
— Да.
— Кто ты?
— Неужели не узнаешь? Это ж я, Леня Смигельский.
Тодя опешил. Он стоял окаменев, не в силах тронуться с места, произнести хоть слово.
— Не пугайся, — говорит Леня, — выйди из зала, под аркой справа увидишь дверь. Попадешь ко мне.
В гримерной Леня был не один. В углу, возле двух скрипок и флейты, возилась «муха» — девочка лет пяти, одетая в туго накрахмаленную плиссированную юбочку. Тодя хотел подать Лене руку, но сделать это он не мог. Руки и ноги у его друга были изуродованы до неузнаваемости. Нос приплюснут, вдавлен в лицо. Только большие уши торчали у него по-прежнему. Уши… Может быть, из-за них все и произошло… Как только Леня начал переодеваться и снял с себя халат, Тодя увидел у него на спине блестящий паучий крест.
— Познакомься, Тодя, это наша Аллочка.
— Алла Брунова, — представилась девочка, заученно, как при выходе перед публикой, приседая.
— Тодя, проходи. Аллочка выйдет погулять во двор.
Оба долго неловко молчали, пока Тодя не спросил:
— Что же ты молчишь?
— Что тебе рассказывать? Сам видишь! — при этом Леня даже улыбнулся, но улыбка получилась вымученной.
— Давно уже?..
— Ты ведь помнишь, Тодя, Херсонский госпиталь. Оттуда меня повезли на повозке. Где-то в степи мы остановились позавтракать. Кроме возчика, с нами был еще какой-то человек, которого я до этого никогда не видел и не знал. Мне дали большой кусок селедки с хлебом и кружку холодного чая. Почему-то чай был несладкий, а даже чуть горьковатый. Потом… Потом я уже не помню, что со мной было. Я уснул, а когда проснулся, оказался забинтованным, весь в гипсе. Я ощущал страшную боль во всем теле, но у меня даже не было сил стонать. После мне сказали, что лошади чего-то испугались, рванули в сторону, повозка опрокинулась и я оказался под ней.
— Леня, где это произошло?
— Точно не знаю, но недалеко от города. Пришел я в себя в одной из Потеряйкинских землянок, в овраге, за Кузнечной улицей. Место это я сразу узнал, — мы с тобой там бывали, помнишь? Низенькие землянки, в которых живет голытьба, и крыши на них глиняные, заросшие травой. Я лежал на двух скамейках, поставленных рядом, и был укрыт тряпьем. Когда я выглянул в низенькое окошко, то сразу узнал, что это Потеряйкинские хибары.
— А лечил тебя кто, доктор Кук?
— Он меня навестил намного позже, но мне сказали: тем, что я остался в живых, я обязан ему.
Тодя сидел с опущенной головой. Неужели Леня до сих пор не понимает, кто и для чего сделал его калекой?
— А отсюда, из Киева, куда вы путь держите?
— В Одессу, Екатеринослав. Затем, в августе, будем в Херсоне.
— В Херсоне мы с тобой снова увидимся. Ну, Леня, будь здоров!..
— Я буду ждать тебя, Тодя.
К Гастону Тодя не шел, а бежал во весь дух. Англичанин стоял перед зеркалом, водя бритвой по намыленной щеке. Тодя схватил его за руку, повторяя:
— Джон, вы должны меня выслушать, вы должны!
— Что с тобой? Я слушаю, конечно, слушаю…
Гастона исповедь Тоди не удивила. Он сказал:
— Как мне известно, твой Леня, считай, у него уже четвертый. Такие пауки уже имеются и в Индии, и во Франции, и в Италии. Все это его работа — Вильгельма Кука.
— Я это так не оставлю. Не буду молчать! — запальчиво произнес Тодя.
— Ты наивное дитя. Никто тебя слушать не станет. И как ты все это докажешь?
— Докажу!
В Херсон пароход прибыл на рассвете. Из порта Тодя по зеленой улице Ганнибала тут же направился в Торговый переулок. Город еще только стряхивал с себя утреннюю дрему. Дворники, поднимая тучи пыли, подметали улицы.
Постучать в любую дверь Тоде ничего не стоило. Но прикоснуться к беленькой кнопочке этого электрического звонка у него смелости так и не хватило. К людям в белых халатах он с детства относился с особым почтением, да и само название «больница», должно быть, происходит от слова «боль». Тодя несколько раз обошел вокруг госпиталя, пока не увидел главного врача: тот не спеша шел на работу. Но подойти к нему на улице он не посмел. Когда Тодя взбежал по знакомым до каждой щербинки ступенькам и приоткрыл дверь, медсестра стремительно захлопнула ее перед его носом. Лязгнул замок. Она выглянула через форточку и сердито крикнула:
— В такую рань принесла нелегкая. Ступай отсюда, мальчик.
Тодя был уверен, что от его разговора с главным врачом зависит судьба Лени Смигельского. Двумя руками он стал барабанить в дубовую дверь и прекратил только тогда, когда услышал чуть хрипловатый голос доктора:
— Кто это так стучит?
— Какой-то мальчик. Он хочет с вами поговорить.
— Ну, что ж, впустите его.
Не успел Тодя переступить порог, как тут же выпалил:
— Вы знаете, доктор…
— Конечно, знаю. Ты только скажи мне, кто у нас лежит — твоя мать или отец?
— Никто. У вас лечился мой товарищ, и о нем я хочу поговорить с вами…
— Так, может быть, поговорим об этом немного позже?
— Нет, доктор, позже нельзя!
— Вот как? Ну что ж, идем ко мне в кабинет.
Тодя чувствовал, что доктор, хотя и слушает его внимательно, ни единому слову не верит. Он так ему и сказал:
— То, что ты мне здесь рассказываешь, занятная история, но явно выдуманная. Твоего товарища я хорошо помню. Скажи, пожалуйста, где он сейчас находится?
— Тут, недалеко от вас. Хотите, я вам его покажу.
Доктор подозвал медсестру, ту самую, что не хотела впустить Тодю в госпиталь, и попросил достать из архива медицинскую карту Лени Смигельского. На ступеньках он остановился, надел пенсне и, сказав: «Ну-ка, посмотрим», бегло перечитал одну страницу за другой.
Все шло так, как задумал Тодя. Около получаса никто в цирке не мешал доктору беседовать с Леней наедине, с глазу на глаз. Когда Тодя снова увидел доктора, он по мрачному выражению его лица понял: теперь поверил…
Хоть доктор и торопился, но первым делом велел кучеру отвезти его домой. Там он наскоро переоделся в черный костюм, надел лакированные туфли. До Потемкинского бульвара, где напротив городского театра помещался дом губернатора, они добрались быстро и поднялись по широкой мраморной лестнице с дубовыми перилами. Но им пришлось изрядно посидеть в вестибюле, пока их не принял губернатор.
Тодя стоял в углу и издали рассматривал губернатора, шагавшего вдоль стены большого кабинета. Он остановился возле черного письменного стола и на клочке бумаги записал несколько слов, затем поднял руку с зажатым в ней карандашом и после паузы заявил:
— Виновные будут наказаны. Строго наказаны. Наведайтесь через три дня.
Тодя готов был крикнуть так, чтобы Гастон, который в это время находился в Одессе, услышал: «Ну, Джон, вы говорили, что это будет глас вопиющего в пустыне, а я все же сумел доказать».
Когда три дня спустя Тодя и доктор снова пришли к губернатору, в кабинет их не пустили. Чиновник с широкими пышными бакенбардами небрежно ответил на их приветствие и даже не предложил доктору сесть.
Доктор уже не раз и не два измерил приемную вдоль и поперек. Квадратики паркета так блестели, что в них, как в зеркале, отражались стенные часы, царский портрет и расписной потолок. Белая, окантованная позолотой дверь открылась, и порог важно переступил вице-губернатор — камергер царского двора Крейтон.
Разговор длился не более двух минут. Вице-губернатор в парадном мундире со всеми регалиями остановился под портретом царя, у его ног, и тоном, не терпящим возражений, произнес:
— Как вы, доктор, могли поверить такому навету, такой клевете на своего коллегу? Хотя господин Кук и известен как сторонник идеи об особой миссии немецкого народа в истории человечества, он всегда и всюду держится в рамках законности.
— Ваше превосходительство, простите меня, но я в этом сам убедился…
— Вздор. Мы все выяснили. С мальчиком случилось несчастье, и он должен быть благодарен за то, что его вылечили и ему не приходится просить милостыню на паперти…
— Почему же они не отвезли его в больницу?
— Это уже дело его опекуна. Доктор Кук истинный интеллигент, и я запрещаю вам так говорить о нем…
Они уже были во дворе, когда доктор снова обрел дар речи.
— Понимаешь, — сказал он Тоде, — надо было ему сказать, что не всех титулованных и образованных людей можно считать интеллигентами.
На улице они попрощались. Стояла тяжелая предгрозовая духота. Тодя с опущенной головой направился в порт и оттуда, с билетом третьего класса на руках, отплыл в Одессу к Джону Гастону.
Да, видно, недаром говорят: с сильным не борись; кто богат, тот и прав…
КОРОЛЬ ШУТОВ И ЖАК АЛЬБРО
Посреди бела дня возле реки Молочная, недалеко от Мелитополя, раздался душераздирающий крик: спасите! Вдоль берега метались перепуганные ребятишки. Из ближайших кустов выбежал молодой парень и, стремительно бросившись в воду, поплыл на середину реки, где тонула девочка.
Пока пловец добрался до места, девочка пошла ко дну. Дважды он нырял, надолго скрываясь под водой, и девочку вытащил.
Пловцом, спасшим ребенка, был Тодя. Незадолго перед этим он снова поступил на работу к Вяльшину — цирковым наездником. Возвратился туда и Гастон. Желая поближе подружиться со своим конем, Тодя в тот день решил искупать его.
Публика на берегу уже начала понемногу расходиться, как вдруг, откуда ни возьмись, подкатили дрожки городского головы. Не успели еще колеса остановить свой бег, как он спрыгнул на землю и, набычившись, с налитыми кровью глазами, заорал:
— Кто здесь митинг собрал?
Гимназистик в белом кителе с медными пуговицами сделал шаг вперед и указал в сторону Тоди:
— Вот тот, возле лошади, что надевает рубашку…
И тут началось.
Хозяин города вырвал у кучера кнут и стал со всего размаха стегать Тодю.
Как из-под земли тут же вырос жандарм и набросился на Тодю, не дав ему подняться на ноги.
Пока одной даме удалось наконец растолковать хозяину города, в чем «вина» этого парня, Тодя лежал уже зверски избитый. Стоявшие возле него слышали, как он позвал: «Ластика!», и, когда конь подошел к нему, он ему что-то тихо прошептал. Ластика тут же опустилась на передние ноги и вытянула свою упругую шею так, чтобы парень без особого труда мог забраться к ней на спину.
В цирке эта дикая история всех взбудоражила, и даже Вяльшин заявил, что хотя у Тоди и нет никаких документов, но молчать он не намерен. Как только гастроли в городе подойдут к концу, непременно напишет жалобу.
Джон Гастон попросил Вяльшина в это дело не вмешиваться.
— Тодя, — сказал он, — считай, мой помощник, и со своим английским паспортом я скорее чего-нибудь добьюсь.
Через пару дней Джон и Тодя направились в городское управление. Гастон предъявил свою визитную карточку, в которой был указан его лондонский адрес. Его тут же пригласили в кабинет.
— Сэр, — заговорил спокойно Джон, — я англичанин, а этот бой, Жак Альбро, мой помощник, — француз. Мы объездили весь мир, но такого произвола, как в вашем городе, нигде не встречали. И хотя наши страны — союзники и совместно воюют против общего врага, мы вынуждены будем сообщить об этом инциденте нашим посольствам в Петрограде.
— Милостивый государь, — поднялся городской голова со своего кресла и, не глядя в глаза собеседнику, произнес: — Признаю ваше право на обиду, но, как вы сами понимаете, здесь произошло недоразумение. Стоит ли нам в такое время, когда наши солдаты сообща дерутся против германцев, заниматься такими пустяками? Вам я могу открыть секрет, и вы поймете, отчего произошел этот инцидент, о котором я глубоко сожалею. Дерево, которое не в состоянии свалить буря, иной раз подтачивается крохотным жучком… Вы, должно быть, слышали о таких городах, как Кострома, Иваново-Вознесенск. В последнее время там неспокойно. А чтобы этого не произошло и у нас, в особенности сейчас, в военное время, когда земля полнится тревожными слухами, мы вынуждены постоянно быть начеку. Поэтому я строго-настрого запретил какие бы то ни было собрания и митинги. А тут, как раз в день первой годовщины начала войны, — такое скопление народа… Полагаю, вы меня понимаете.
— Да, сэр, но пока Жак Альбро остался калекой, и я не знаю, как скоро он сможет приступить к работе.
— Прискорбно. Но я уверен, что все обойдется. А что касается издержек, то мы их вам возместим.
— Благодарю, сэр, но денег мы не требуем. Хотелось бы только, чтобы такое больше не повторялось. Кстати, во время этого инцидента у Жака стащили свидетельство, подтверждающее его французское гражданство. Если в связи с этим ему придется обратиться в свое посольство, он вынужден будет сообщить, при каких обстоятельствах это произошло.
Городской голова разразился дробным смешком, но внезапно оборвал его. Он окинул взглядом свой костюм, небрежным жестом смахнул несуществующую пылинку с рукава и, понимающе улыбнувшись, сказал:
— Что ж, полиция постарается разыскать его свидетельство. А пока мы выдадим бумагу, что цирковой артист Жак Альбро является французским гражданином. Полагаю, что это вас устроит.
Таким образом Тодя, младший из сыновей Носн-Эли — Довидл, стал французом по имени Жак Альбро. Тогда он еще сам не знал, какую службу это ему сослужит.
Жак давно уже мечтал стать клоуном. Клоун почти все представление на манеже. Вначале ему нравились лишь комики, смешившие своими остротами публику. Когда же он увидел на арене братьев Дуровых — Владимира и Анатолия, — окончательно решил, что его призвание — клоунада.
Жак не пропускал ни одного представления Дуровых.
Владимир Леонидович часто заставал его за кулисами. Он по-дружески подшучивал над забавным пареньком и каждый раз справлялся о его отце. Жак и не подозревал, что Носн-Эля приходил к Владимиру Дурову и просил его отговорить парня от выступлений в цирке. Вначале Владимир Леонидович разговаривал с ним снисходительно и насмешливо, словно считал своего собеседника простачком, который сам не знает, чего хочет. Носн-Элю это не на шутку обидело. Он встал и с чувством собственного достоинства произнес:
— Господин Дуров, я простой рабочий, токарь, но ни за что не согласился бы стать шутом даже у самого короля.
— Замечательно! — преградил ему Дуров дорогу к выходу. — Коль на то пошло, так знайте же, что я король среди шутов, а не шут среди королей. А теперь о вашем сыне. Мой отец тоже не хотел, чтобы его сыновья стали циркачами. Тем не менее я к пятнадцати годам вместе со своим братом Анатолием поступил к московскому балаганщику Вайнштоку. Быть может, слыхали о таком? Я это говорю вам для того, чтобы вы поняли: это не прихоть. Если ваш паренек у нас не случайный гость, тогда хлопоты ваши напрасны. Настоящий цирковой актер обычно оставляет манеж только по старости или же после того, как, не дай бог, разобьется и станет калекой.
Беседа затянулась. Кто-то зашел и сообщил, что по дороге затерялся винт от стальных трапеций и нет мастера, который мог бы сделать такой же.
— Если хотите, — сказал Носн-Эля, — я посмотрю.
Пока Носн-Эля возился с винтом, Дуров несколько раз заходил, стоял молча, внимательно наблюдая, как тот быстро и ловко орудует напильником. Как только работа была сделана, Дуров пригласил Носн-Элю к себе в гримерную. Там же был и ассистент Дурова — лилипут. Владимир Леонидович подсел к туалетному столику, взял из рук ассистента гримировальный карандаш и, глядя в зеркало, заметил:
— Мне кажется, что сами вы тоже артист. Да, да, нечего улыбаться. Артист своего дела. Я давно уже подыскиваю хорошего мастера и сегодня, кажется, его нашел. Я бы вас просил изготовить по моему чертежу портсигар. Он не должен быть золотым, ни даже серебряным. Пусть будет из обыкновенного металла. Согласны?
— Попробую.
Оказалось, что Владимир Леонидович капризный клиент. Ему не подходили монеты, вмонтированные в крышку. Когда все было сделано так, как ему хотелось, он попросил Носн-Элю подыскать и пригласить к нему хорошего гравера.
Носн-Эля направился на Суворовскую к ювелиру Рогозину. О Дуровых тот был наслышан, особенно о Владимире Леонидовиче. Он знал: его меткие словечки становятся расхожими, передаются из уст в уста. У этого клоуна и дрессировщика светлая голова и острый язык.
И хотя ювелир весь ушел в свои бриллианты, часики и колечки, он временами не прочь был поразмыслить о всяких других вещах, скажем, о том, что слова существуют для того, чтобы дошли не только до слуха, но и до сердца.
И все же уговорить лучшего в городе золотых дел мастера, чтобы тот закрыл мастерскую и шел в цирк, было не так-то просто. В конце концов Носн-Эля своего добился.
— Заходите, пожалуйста, — пригласил их Дуров к себе в комнату. Вдруг он уставился на Рогозина и спросил его в упор: — Скажите, пожалуйста, как вам удается, чтобы усы стояли торчком?
— Они вам не нравятся?
— Что вы! Я совсем о другом: красота вам отпущена в предостаточном количестве, так зачем молодому человеку приятной наружности такие пышные усы? Я бы вас вот о чем попросил: видите этот портсигар? На нем надо выгравировать так, чтобы можно было прочесть на расстоянии — под одной грошовой монетой: «Царской совести цена», а под второй — «Цена царской совести». Если не возражаете, давайте присядем. Почему-то у меня сегодня ощущение такое, словно на мне воду возили.
Рогозин улыбнулся:
— Господин Дуров, воду возить — еще не самое трудное дело, куда труднее выйти сухим из воды… Я вас прошу, закройте дверь на ключ.
Когда все было сделано, Владимир Леонидович выставил бутылку вина и наполнил три рюмки.
Портсигар Владимир Леонидович всегда носил при себе. Папиросы были прижаты резинкой к нижней крышке. Беседуя с кем-либо из высокопоставленных особ, он вынимал портсигар, приоткрывал крышку и настойчиво предлагал:
— Прошу, угощайтесь!
Пусть знают цену царской совести…
КОМУ НУЖНА ВОЙНА?
Жак Альбро мчался по ступенькам как угорелый. Он уже было протянул руку, чтобы рвануть на себя дверь комнаты Вяльшина, но дорогу ему преградил глухой сторож.
— Пустите, Сидор Степанович, я его заставлю заплатить все, что мне причитается. Пустите! Больше не дам себя обманывать. Хватит!
— Пущу, только не сейчас. Посмотри на себя, на кого ты похож: как разъяренный бык. Его, — указал он на дверь Вяльшина, — ни один дьявол не возьмет, а тебе, дурачок, покажут, где раки зимуют…
— Нечего меня пугать. Не то теперь время.
— Так уж? Ты еще птенец желторотый — и брось дурака валять. Ишь расхорохорился! Думаешь, мир перевернулся: бедный может уже потягаться с богатым… Хватит с меня того, что я не уберег Леню Смигельского. Пошли, говорю тебе, отсюда, Вяльшина нет, куда-то ушел. За веселые ночи он расплачивается днем. У него в комнате теперь хозяйничает новая примадонна. С ней, надо полагать, тебе говорить не о чем.
— Пусть будет по-вашему, но в другой раз я ему все выскажу.
— «Выскажу»… Ты готов броситься на него с кулаками. Я вас, прытких, знаю. Думаешь, в твои годы умнее был? Тоже был горяч. И я однажды бросился на своего хозяина и за это был избит так, что на всю жизнь остался глухим. Ты, верно, не знаешь, что и я был воздушным акробатом и даже мечтал померяться сноровкой с Эмилем Гравеле… Что, не веришь? Все так и было. А теперь открой-ка мою сумку и достань оттуда хлеб с колбасой.
— Сидор Степанович, — не унимался Жак, уплетая за обе щеки, — я эти три рубля, что кассир мне дал, брошу Вяльшину в лицо. Пусть ими подавится. Завтра же уеду в Петроград.
— Ну да, он тут же так и сгорит со стыда. Мой тебе совет — попробуй-ка лучше по-хорошему получить то, что тебе причитается…
Жак к Вяльшину все же пошел. Тот, узнав, в чем дело, встал, вынул свои карманные часы, взглянул на циферблат и сказал:
— Ты что, сам себе цену выставил? Если я не ошибаюсь, ты сейчас должен быть на репетиции, так вот, иди и не морочь мне голову. Если ты мне будешь нужен, я за тобой пошлю.
— Господин Вяльшин, я больше работать у вас не буду. Извольте рассчитаться со мной.
Директор не спеша подошел к столу, отодвинул в сторону пепельницу, наполненную окурками, открыл выдвижной ящик и вынул оттуда чистый лист бумаги.
— Хочу тебе напомнить, что ты не Дуров и даже не клоун Лакиндрош. Время сейчас военное, и достаточно будет мне написать в полицию, что ты подозрительный тип, бродяга, без документов…
— Пишите, — не дал ему договорить Жак, — нашли чем пугать. Но сначала взгляните на этот документ. На расстоянии вам, должно быть, трудно разглядеть, так я вам прочту: «Артист цирка Жак Альбро, французский гражданин»… Под документом стоит подпись, скрепленная гербовой печатью. Я вижу, вы с этим не согласны, что ж, можете жаловаться на высокопоставленную особу, которая выдала мне этот документ. А теперь достаньте из внутреннего кармана бумажник и рассчитайтесь с «подозрительным бродягой», который столько лет работал у вас за гроши.
Жак и не подозревал, что Вяльшин может так площадно ругаться. Но расстаться с несколькими новенькими хрустящими ассигнациями хозяину все-таки пришлось.
Паровоз зашипел, потом загудел. Жак стоял на заснеженном перроне и смотрел на поезд, который вот-вот должен был отойти. Рослый солдат в поношенной шинели со шрамом на лбу одной рукой опирался на костыль, а другой пытался ухватиться за поручни у ступенек.
Другой солдат, стоявший наверху, в тамбуре, злобно заорал: «А ну-ка, уберись отсюда!» — и прикладом винтовки толкнул инвалида так, что тот свалился на платформу.
В мгновение ока Жак вскочил на ступеньку вагона, но дверь перед ним захлопнулась. Паровоз пронзительно, как озорной мальчишка, свистнул, и пассажирский поезд тронулся с места.
— Считай, повезло тебе, — сказал Жаку инвалид, — ты бы не успел дотронуться до него, как он пристрелил бы тебя. Такая рабская душа, чтоб его холера скрутила, в сто раз хуже самих хозяев. Не зря они его держат здесь, а не в окопах. Пошли отсюда.
Сутки провели они на вокзале. Было так холодно, что даже в помещении приходилось все время растирать уши, чтобы не отморозить их. За все это время кассир ни разу не открывал окошка кассы.
Инвалид рассказывал, а Жак, слушая его, живо представил себе, как этот рязанский хлебопашец стоит посреди поля, мокрый от пота, и бруском точит косу — звонко и быстро водит им по тонкой, отливающей блеском стали. Откуда-то набежал ветерок, и море ржаных колосьев не спеша заколыхалось. Согретая земля дышит паром. До обеда еще далеко. Но отчего бегут сюда люди из деревни? Он кладет косу на стерню и до боли в глазах всматривается в даль. Всадник скачет, обгоняя всех, машет кнутом и что-то кричит. Он узнает его, это староста.
— Ты меня слышишь? — толкнул инвалид Жака в плечо. — Там же на поле я и повестку получил.
Солдат подносит ко рту скрученную цигарку и зубами разминает плотную бумагу. Затем, лизнув ее языком, не спеша рассматривает, что получилось. После этого лезет в карман и достает кресало, кусочек кремня и сухую губку. Искры летят густо, но фитиль загорается не сразу.
Жак еще как слушает! Вместе с той казенной бумагой, именуемой «повесткой», ему передается беспокойство солдата. Жак буквально видит, как из спелых колосьев осыпаются сухие зерна. Кто же займется ими, если миллионы здоровых мужчин тянутся по бесчисленным пыльным, болотистым дорогам к фронту и вслед им несутся плач и стенания женщин и детей?
— Видишь этот «Георгий?» — продолжает инвалид. — Мне его дали за поимку «языка». Брыкался тот отчаянно, но это ему не помогло: из-за линии фронта я его все же приволок. Умаялся здорово и в пустом окопе отдубасил его так, что он надолго запомнит. Потом оказалось, что это был такой же батрак, как и я. Он также оставил в деревне жену и двоих детей. Им, немецким солдатам, кайзер сказал, что русские внезапно напали на их страну.
— Кому же, — спрашивает Жак, — нужна эта война?
— Кому, говоришь? Возьми спрячь, — и солдат, оглядываясь по сторонам, подает Жаку помятый газетный листок, — прочтешь «Окопную правду», только внимательно читай, от корки до корки, и узнаешь, кому эта война нужна.
Человек в желтом башлыке поверх шапки, в короткой черной тужурке, вместе с морозом ворвался в полутемный вокзальчик и сообщил, что из депо вскоре отойдет воинский состав, к которому прицеплено несколько порожних товарных вагонов.
И вот он тащится, этот поезд, нарушая морозную тишину, от одного полустанка к другому, где маячат дежурные с тусклыми фонарями в руках. Жак и его спутник — солдат — сидят на полу и коченеют от холода. Сколько ни кутайся, мороз найдет щелочку. А тут их не одна и не щели, а целые дыры. Через них Жак видит проносящиеся мимо заснеженные поля и перелески, редкие села и хутора, верхушки колодезных журавлей, крытые соломой избы с широкими стрехами.
Зимний день короток. Не успели как следует оглядеться, а уже ночь. Лес стоит стеной, погрузившись в свои лесные думы, и в темноте не отличить оголенные березы от укутанных снегом хвойных деревьев. Неистовствует вьюга. Ветер лютует и бесится, гонит вдоль состава снежные вихри. Состав, гулко свистя, идет по мосту. Стучат, громыхают колеса на стыках рельсов. Вот проносится мимо какая-то станция, и узкие полосы света врываются в вагон, выхватывают из темноты кусок стены и тут же гаснут. Навстречу мчится поезд с ярко освещенными пассажирскими вагонами. Видно, как за столиками сидят офицеры и играют в карты. Стоит женщина, прильнув к стеклу, и вглядывается в ночь…
Жак направился в Петроград потому, что знал — там должен быть его учитель и друг Джон Гастон. Он был уверен, что тот поможет ему устроиться в столичном цирке. Но оказалось, что сам Гастон нуждается в помощи. Застал его Жак больным, с искалеченной ногой, в узкой и длинной, как сарай, холодной и сырой комнате, где из каждого угла веяло нищетой и запустением. Единственное, что Джон мог сделать для Жака, это уступить ему половину источенной шашелем кушетки.
— Что ты на меня уставился? — спросил Джон простуженным хрипловатым голосом. — Русские в таких случаях говорят: «Пришла беда — открывай ворота…»
— Джон, — сказал Жак, — сначала мне надо выспаться, потом видно будет. Я поступлю в цирк. Ничего, не пропадем.
Но уснуть Жаку не удалось. К Джону заглянул его сосед, Леонид Лагутин, слесарь Путиловского завода, человек подтянутый, быстрый в движениях. Сонная вялость вмиг рассеялась.
— Ну, какие новости вы нам принесли? — спросил Джон.
— Хорошие новости. Даже отменные. Круто заваривается каша. В городе сегодня бастуют двести тысяч человек.
Джон недоверчиво спросил:
— Вы их сами сосчитали?
Лагутин посмотрел на Гастона так, будто это капризное, избалованное дитя, и на лице его промелькнула усмешка. Он взял табуретку и подсел к кушетке.
— Джон, на прошлой неделе я вам говорил, что на нашем заводе рабочие объявили забастовку и директор грозился отправить всех бунтовщиков на фронт. Вы тогда были уверены, что рабочим придется пойти на попятную, уступить. Теперь вы видите, что ошиблись?
— Почему же вы, чудак-человек, так считаете, — привстал Джон с постели, опираясь на локти, — если директор сделал по-своему: завод закрыл, а рабочих прогнал?
— Потому-то мы, тридцать тысяч путиловцев, и вышли на демонстрацию. Больше того, к концу дня на пятидесяти петроградских предприятиях уже бастовало девяносто тысяч рабочих. Только подумайте: вчера девяносто, а сегодня двести тысяч. Дело идет к восстанию. А вы все толкуете, что мы просчитались…
— Об англичанине Томасе Море вы слышали? Кое-что? Жаль. Этот человек еще четыреста лет тому назад в своем фантастическом романе описал райскую жизнь на счастливом острове Утопия. Утопия — это воображаемое, несбыточное место, какого в действительности нет на земле. Но это Томас Мор; он мог себе позволить расписать людям радужный сон. Ваша же, Лагутин, философия, казалось бы, должна исходить только из реальной жизни, как же так получается, что вы предаетесь несбыточным мечтам? Винтовки ведь пока еще не у вас в руках. Разве мало той людской крови, что льется на фронтах? Вам еще и еще подавай напрасные жертвы? Я не верю, что другие города последуют вашему примеру. Не говоря уже о крестьянах, — их-то прокламациями со своего клочка земли не сдвинешь.
Лагутин встал:
— О какой земле вы здесь говорите? Кабы она была у крестьянина! И еще об одном, мой дорогой Джон, вы забыли: во времена вашего Томаса Мора еще не было путиловских заводов… Вы, Гастон, скажу я вам, любопытный человек. В цирке рискуете там, где надо и не надо. А тут всего опасаетесь…
Жак дотянулся рукой до стула, на котором лежала его одежда, и извлек из нагрудного кармана «Окопную правду».
— Джон, — произнес он вполголоса, — эту газету несколько дней назад дал мне один рязанский крестьянин, возвращавшийся домой с фронта без ноги. Он дальше жить в мире со своим помещиком не собирается… С этим покончено раз и навсегда. Два моих брата, которые вот уже третий год сидят в окопах, стрелять в таких, как мой отец, не будут… У них не поднимется рука, чтобы разогнать женщин, требующих хлеба для своих детей. А я, Джон, думаете, забыл своего друга Леню Смигельского? Или же херсонского губернатора, градоначальника Мелитополя? А разве с вами обошлись лучше, чем с путиловцами?
Лагутин подмигнул Жаку:
— Молодец! Видно, знаешь почем фунт лиха. Жаль, мне уходить пора, но к вам я еще загляну…
В ПЕТРОГРАДЕ
Жак вернулся из города усталый, голодный и не успел еще повесить пальто на вешалку, как кто-то принялся во всю мочь колотить в дверь.
Джон обрадовался:
— Так стучит только клоун Лакиндрош. Скорее открой, не то все соседи сбегутся, подумают — пожар.
Еще с порога Лакиндрош зачастил:
— Что вы на меня уставились? То, что нос у меня синий и длиннющий — вы уже видите, а плешь на голове будете иметь удовольствие видеть, когда я сниму свой шикарный цилиндр. Примите-ка эти свертки, только осторожно: в коробке — яйца, а к бутылке не прикасайтесь, иначе…
— Лак, — заметил Гастон с нарочитым неудовольствием, — порядочный человек постучит в дверь и стоит себе тихонечко, ждет, пока ему откроют.
— Так уж?.. Ты разве не знаешь, что от одного стука толку мало, а вот если дважды…
— Лак, знакомься. Это Жак Альбро. Я тебе о нем рассказывал. Ему ты можешь связать руки и ноги, а дверь так или иначе у него откроется.
— Изнутри, разумеется.
— Нет, Лак, снаружи.
— Если так… — подмигнул Лакиндрош своими смеющимися плутовскими глазами, пряча бутылку снова к себе в карман. — Так будет надежнее. Вы, Жак, как все факиры, должно быть, целый день сидели на горячих углях и глотали раскаленные гвозди, а теперь внутри горит, и моей, бутылки вам хватит на один глоток. Я же люблю таких людей, кто черпает вино вилкой и, если зачерпнул лишнее, вилку хорошенько отряхнет…
— Жак, скорее Лагутин царя скинет, чем Лакиндрош исчерпает свое красноречие. Пусть носится со своей бутылкой, а мы с тобой сядем за стол.
Любой другой на месте Жака непременно ощутил бы лишь запах одеколона, который исходит от Лакиндроша. Он же прежде всего почувствовал, что от того пахнет гримом. В эту минуту Жак готов был даже облачиться в одежду униформиста, лишь бы оказаться на манеже, услышать шум цирка, увидеть изумленную публику.
Если бы Жака спросили, нравится ли ему Лакиндрош, он, наверное, не знал бы, что ответить. Пока он ему кажется несколько странным. Для чего, спрашивается, схватил посудное полотенце и своими тонкими длинными пальцами принялся еще раз протирать совершенно чистый стакан? Шутит остроумно, не забывая подтрунивать и над собой. Ест с аппетитом, пьет со вкусом, смеется заразительно и все по-своему, на свой манер. Даже бутылку вина откупорил необычным способом: опрокинул горлышком книзу и незаметным движением извлек оттуда пробку так, что ни одной капли не пролилось.
Джон, видимо, уже привык к чудачествам Лакиндроша. Он помешивал ложечкой горячий чай и даже не смотрел в его сторону.
Лакиндрош отодвинул подальше от себя пустую бутылку и, барабаня пальцами по столу, принялся втолковывать Жаку:
— Когда малыши мечтают стать артистами, цирка — это я еще могу понять, но вы ведь по возрасту уже годитесь в женихи. Мой вам совет: возвращайтесь к себе в городишко, подыщите невесту с длинными черными косами и садитесь тестю на шею…
Гастон резко повернулся на кушетке и, лежа лицом к стене, приказал:
— Жак, гаси свет и ложись спать!
В комнате вдруг стало так тихо, что слышно было, как тикают стенные часы в соседней комнате. Странно, но то, что сказал клоун, Жака не так уж покоробило. Сколько горькой правды в его словах! Не далее как сегодня он сам подумал о том, что все его планы лопаются, как мыльные пузыри. Что он может теперь делать в цирке? Сейчас в ходу не рыжие клоуны, умеющие смешить публику, а те, кто умеет зло, с сарказмом, показать убожество «высшего» общества, властей, острым, метким словом сказать о главном. Умно, с выдумкой, свежо делают это клоуны-сатирики, такие, как Лакиндрош. Говорят, что он дьявольски находчив. Свои монологи он не просто придумывает, героев своих он копирует с живых персонажей. Зритель их узнает. И неудивительно, что и на этот раз его слова попали в точку. Еще говорят, что нередко Лакиндроша прямо из манежа уводят в полицейский участок. Там, однако, от него слова не добьешься.
Табуретка скрипнула, и словно издалека послышался голос Лакиндроша:
— Джон, ты небось думаешь, что у меня худое на уме?
И к Жаку:
— Жак, тебя, кажется, нелегко выбить из седла; надеюсь, ты хоть понял, что я ничего плохого не думал? Понимаю, цирк для тебя не цветок, что понюхал и выбросил.
— Я знаю, — ответил ему Жак, — что плохого вы мне не желаете…
За такой ответ Лакиндрошу бы не полениться и сходить в лавку за бутылкой вина. Так, пожалуй, он и сделает. Но сюда придет завтра, и если только в этом парне есть искра божья, то уж как-нибудь поможет ему вернуться на манеж. Сам он, Лакиндрош, и будет режиссером первой программы клоунады Жака Альбро в Петрограде.
Цирк переполнен. В партере, как всегда, полно богато одетых дам и господ, на галерке — рабочие, солдаты, матросы.
Не успели униформисты расстелить ковер, как на манеж выбежал Жак Альбро. Его широкий рот не растянут в улыбке. Он серьезен. В левой руке у него коробка консервов. Выходит шпрехшталмейстер, объявляющий номера.
— Скажи мне, дорогой, — обращается к нему Жак, — чем Временное правительство отличается от этих консервов?
Шпрехшталмейстер в недоумении. Он поводит плечами, разводит руками и удивленно спрашивает у клоуна:
— Как можно сравнивать правительство с сардинами?
Жак достает из кармана нож, которым открывают консервы, и вонзает его в крышку. И вот наконец жестяная коробка открыта.
— Смотрите. Сардины без голов, но какой порядок! У господ же из Временного правительства головы на месте и никакого порядка…
Галерка покатывается со смеху. Кто-то кричит:
— Вон из цирка, большевистский агент!
Это голос из первых рядов. У бокового входа, возле пожарника с медной каской на голове, какой-то студент машет голубой шапочкой. Он требует, чтобы клоун отказался от своих слов и извинился перед публикой.
Галерка неистовствует.
— Тихо! — обращается Жак к публике. — Я и должен извиниться, так как между Временным правительством и сардинами есть еще одна разница… — Он подносит коробку к своему длинному носу из гуммозы и после небольшой паузы: — Ух, как хорошо пахнут…
Прощаясь со своими коллегами после представления, Жак по выражению их лиц понял, что «благородной» публике он пришелся не по вкусу и больше ему здесь делать нечего.
В Петрограде было еще два цирка и несколько балаганов. Номера, которые Жак демонстрировал, импресарио нравились, но, узнав, что у него нет клоунского костюма, хозяева отвечали ему отказом:
— Клоун без своего реквизита не клоун!
По шумным улицам столицы Жак направился к зданию, в котором помещался Петроградский Совет. Он добьется, чтобы его принял Чхеидзе[5], и все ему выложит…
В просторный кабинет Жак прошмыгнул так тихо и ловко, что Чхеидзе этого даже не заметил. Огромный стол на резных ножках был завален бумагами. Председатель углубился в чтение газет. Жак снова приоткрыл дверь и, хлопнув, закрыл ее. Чхеидзе вздрогнул и взглядом велел ему оставаться на месте у входа.
— Кто вас ко мне пустил?!
— Извините, я хотел у вас спросить, как вы относитесь к нам, артистам цирка?
— Что-о? — Чхеидзе поднялся со стула и, оглядываясь по сторонам, как бы высматривая, с кем посоветоваться — прогнать ли этого странного субъекта сразу же или вначале как следует его отчитать, воскликнул: — Вы, циркачи, во все времена бродили по свету, как цыгане. Вы свободны, как птицы. Чего же вам еще не хватает?
После такой отповеди ждать чего-либо хорошего не приходилось. Теперь Жак больше не смотрел на чернобородое лицо Чхеидзе, а разглядывал его поднятую руку, повисшую в воздухе.
— Меня не берут на работу только из-за того, что я не имею своего клоунского костюма.
— Вот как? — ив глазах Чхеидзе снова вспыхнул злой огонек. — А тебе небось хотелось, чтобы государство преподнесло тебе новенький костюм? Ты бы лучше записался добровольцем на фронт, а когда победим, подсчитаем, сколько у нас балаганщиков и есть ли нужда еще в одном комедианте…
— В газете, — Жак достал из нагрудного кармана «Окопную правду», — пишут: «Долой войну! Трудящиеся России и Германии — братья и убивать друг друга не должны». На какой же фронт вы меня посылаете?
Услышать такое в своем кабинете Чхеидзе не ожидал. Глаза его полыхнули гневным пламенем. Он вскочил с места и бросился к дверям. Но Жака и след простыл.
Жак сбросил с себя одеяло и кулаками протер заспанные глаза. Гастон, свежевыбритый, в белой накрахмаленной сорочке, стоял у открытого окна, мурлыча какую-то песенку, и выглядывал наружу.
— Джон, с чего вдруг в такую рань вы раскрыли окна? Ведь дует.
— Глупенький, даже Нева и та уже дышит весной. Посмотри, как птицы стайками собираются на мостовой, как даже среди каменных громад они умудряются искать и находить для себя пищу. Мы с тобой ничем не хуже и не лучше их. Пойди умойся, и двинемся в одно место.
— Куда? — Жак понять не мог, что за ночь произошло такое, отчего Гастон стал на себя не похож.
— К знакомому торговцу, недалеко отсюда. Зимнее пальто мне уже не понадобится, и за него можно получить несколько рублей. Есть у меня еще некоторые вещи, без которых я вполне могу обойтись. А нам с тобой теперь нужны деньги. Что ты на меня уставился? Уезжать я никуда не собираюсь. Хочется посмотреть, чем кончится затея Лагутина…
— Джон, если только в этом загвоздка, то, пожалуй, не стоит задерживаться.
— Ты так думаешь?
— Как же иначе? Где бы вы ни были — в Англии или где-нибудь в другом месте, — об этом узнаете.
— А если мне хочется самому подставить плечо… На расстоянии сделать это будет труднее.
— Вот как! Почему же тогда вы все время твердите, что у меня слишком горячий темперамент, а сами идете на рискованный шаг, куда более опасный, нежели сальто-мортале?
— Ты ведь знаешь, что в цирке мы к риску привычные… Бери чемодан, и пошли.
Стуча и громыхая, трамвай перебегает на стрелке с рельсов на рельсы. Проехала пролетка. Лошадь на радость воробьям уронила свои «яблоки». И снова раздается лишь неумолчный птичий гомон.
Жак идет и думает о том, что, будь здесь мама, она бы не преминула сказать: «Ну и дела! Чего только на свете не бывает!..» Хотя теперь, когда братья и сестры разбрелись по свету, Мотл и Лейви кормят вшей в окопах, а родители остались одни, мама, пожалуй, не стала бы удивляться и согласилась бы с отцом, что «ничто не вечно под луной». И еще Жак в эту минуту подумал: должно быть, несладко им там живется! Если бы хоть его самого не преследовали неудачи и он мог покончить с унизительным положением нахлебника, стать наконец на ноги… Первую же получку он поделит на три равные части: маме, Джону и себе.
Оказывается, продать что-либо не так-то просто. Правда, за золотые часы Гастона тут же хорошо заплатили. Но его серое зимнее пальто, почти новый шерстяной свитер лавочник — тучный человечек с обрюзгшим лицом и тяжелыми мешками под глазами — взял в руки и сделал такую гримасу, будто это тряпки, которым место в мусорном ящике.
— Сегодня, — сказал он, вертя в пальцах спичечный коробок, — уже третье апреля. Кто же теперь станет покупать теплые вещи? Им сейчас грош цена. Но вам, господин Гастон, я все же кое-что за них заплачу.
Жак готов был вырвать все вещи из рук перекупщика. Но Джон даже не стал торговаться. Деньги он положил в бумажник, а перед уходом еще пожелал торговцу удачи.
Прохожим уже не хватает места на тротуарах, особенно много их на солнечной стороне. С широких проспектов сюда доносятся звуки «Марсельезы», ставшей за последнее время довольно популярной. Лавочник, провожавший господина Гастона к выходу, оглянулся и в испуге засеменил назад, в дом, поспешно закрывая ставни.
Было тихо, и только со двора доносились приглушенные голоса. Джон раздосадован: сегодня, когда в комнате прибрано и тепло, на железной печурке варится вкусный ужин и в гости вот-вот должен прийти Лакиндрош с несколькими приятелями, — как назло, Жак собрался уходить.
— Я еще понимаю, когда Лагутина не поймать — говорят, сегодня в Петроград прибывает Ленин, но ты-то куда спешишь? Туда ведь не пробиться.
— Попытаюсь…
Был теплый вечер. Никто в этот день не работал, газеты не вышли, и все же все в столице знали, что ожидается приезд Ленина.
Боковыми улочками Жак добрался до дворца Кшесинской. Еще в феврале солдаты известного в Петрограде бронедивизиона захватили дворец и передали его в распоряжение большевиков. Эти же солдаты, одетые в черное, его и охраняли. Чем ближе Жак подходил к Финляндскому вокзалу, тем многолюднее становилось на улицах. Он с удивлением рассматривал колонну, в которой рядом с рабочими Петроградского района маршировали гвардейцы Гренадерского полка, а бывший Московский лейб-гвардейский полк шагал вместе с пролетариями Выборгской стороны. Эта колонна расположилась в центре привокзальной площади.
Жак остановился, чтобы перевести дыхание, но новая волна людей, радостно возбужденных, счастливых, как птицы, вырвавшиеся из клетки, подхватила его и, словно щепку, понесла к перрону. Теперь он оказался среди сестрорецких рабочих, прибывших сюда из другого конца города. Им выпала честь первыми встречать Ленина.
«Гастон был прав, — подумал Жак. — Кроме голов и плеч, мне здесь вряд ли удастся что-нибудь разглядеть». Он поднял глаза и увидел перед собой телеграфный столб. В один миг он очутился наверху.
— Эй, полундра! — крикнул ему матрос, крест-накрест перетянутый пулеметной лентой. — Заберись повыше и скажи, что оттуда видишь.
— Вижу людей, знамена, лозунги и транспаранты…
— А ты вслух читай, что на них написано.
— Погоди минутку, вот только чуть осмотрюсь. Слушай: «Да здравствует Ленин!», «Да здравствует революция!», «Земля — крестьянам!», «Долой войну!»
— Вот это нам и надо. А как там, из твоего птичьего гнезда, поезда еще не видать?
— Нет, вижу два броневика.
— Эй, ты, акробат, почему бы тебе не просигналить машинисту, чтобы не жалел колес и скорее доставил сюда Ленина?
— Давно уже просигналил, но он почему-то не слушается…
Часы на вокзале показывали половину двенадцатого. Руки и ноги у Жака до того окоченели, что он боялся — вот-вот сорвется. И вдруг… Нет, это не был обычный отрывистый свисток, а громкий, пронзительный сигнал паровозного гудка: Ленин едет!
Вокруг стало так тихо, что было слышно, как стучат колеса на стыках рельсов. Как только поезд остановился, свет прожектора перекинулся в сторону тамбура, где стоял Ленин. Тонкий луч осветил улыбающееся лицо Ильича, перебрался на его белый воротничок, скользнул по темному пальто и, как в зеркале, отразился в тщательно вычищенных штиблетах.
Затаив дыхание вслушивался Жак в речь, которую Ленин произносил, стоя в дверях вагона.
Несколько сестрорецких рабочих подхватили Ленина на руки и понесли его к бывшему царскому павильону, где их ждала делегация Петроградского Совета.
До Ленина Жаку было теперь рукой подать. Вот стоит Ильич рядом с членами делегации, среди них и Чхеидзе, но Ленин повернулся лицом к собравшимся, к народу.
Молниеносно Жак соскользнул по телеграфному столбу вниз. Но преодолеть несколько шагов, отделяющих его от Ленина, ему все же не удается, и он громко кричит:
— Владимир Ильич! Разрешите вас спросить.
— Спрашивайте, — отозвался Ленин, дружелюбно взглянув поверх голов на молодого человека.
— Разъясните, пожалуйста, что революция дала нам, артистам цирка? Долго еще хозяева будут над нами измываться?
— Где вы работаете?
Толпа качнулась, и Жаку удалось пробиться к Ленину.
— Я странствующий актер.
Ленин положил руку Жаку на плечо:
— Народ любит цирк и нуждается в нем. Я сам с детства люблю цирк. Владимира Дурова знаете? — Жак утвердительно кивнул головой. — Постарайтесь его разыскать. Думаю, он вам поможет.
…Была уже полночь. Жак бродил по улицам и проспектам, и ему казалось, что он все еще ощущает тепло дружеской руки.
Он осторожно открыл ключом дверь комнаты и бесшумно разделся. К кушетке он подошел на цыпочках и вдруг громко крикнул:
— Джон! Я разговаривал с Лениным!
ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ
Тот же Лакиндрош, что когда-то советовал Жаку жениться и сесть тестю на шею, теперь взволнованно ходил по комнате взад и вперед и утверждал, что Жаку место только на манеже.
— Ты пойми, — остановился он вдруг у окна, — я не терплю, когда вижу перед собой бездарь, а мне говорят, что это эквилибрист высшего разряда. Мне подавай экстра-класс! Гастона я люблю за то, что он точен, как часовой механизм. Но и он не без греха, ему недостает осторожности хирурга. Джон, ты помнишь, то же самое я тебе говорил еще лет десять назад.
— Верно. У тебя хорошая память.
— Память нас и старит. Так вот, Жак, у тебя немало достоинств, тебе бы хоть на время попасть в хорошие руки. Даже в цирке у знаменитого Чинизелли нет теперь такого человека, кто мог бы тебя вышколить.
— Что же ты предлагаешь? — перебил его Джон.
— Предлагаю, чтобы Жак не мешкал, будто на базар собирается. Денег на дорогу можем ему дать, и пусть завтра же едет. Дуров, говорят, сейчас в Крыму.
— Решено, — ответил Жак, — завтра же вы от меня избавитесь.
— Ты слышишь, Джон, что Жак только что сказал? Недаром говорят: брось собаке кость, она же тебя и укусит. Жаль, что сардины кончились и закусывать больше нечем. Эта водка крепка, как спирт, и чиста, как родниковая вода.
Три стакана взметнулись в поднятых руках и застыли на мгновение. Трое друзей пожелали друг другу успеха.
В каждом городе и городишке Российской империи было множество узких и кривых улочек без тротуаров и мостовых, застроенных кособокими, приземистыми лачугами, напоминающими грибы-поганки, с глухими ставнями, закрытыми на болты. Но таких, как в Евпатории… На одной из улочек длиной с мизинец, изрытой колдобинами, ходил по дворам кудрявый мальчонка лет семи и водил за руку слепого шарманщика. Жак стоял в стороне и смотрел, как слепой старик крутит шарманку. Как когда-то сам он, Довидл, мальчонка, одетый в рванье, делал стойки и ходил на руках, а в зубах держал фуражку, — может, кто-нибудь бросит пару монет, кусок хлеба или картошку.
Из-за низкой стены, на которой сушилось множество пеленок, показалась девичья головка в платке, а под ним лицо, обрамленное белокурыми волосами, с черными, как спелые черешни, глазами.
— Хана, ты что стоишь? — закричала девушка. — Какой-то солдат собирается бить твоего отца.
Засмотревшаяся было на шарманщика Хана тут же сбросила засаленный передник, сунула босые ноги в мужские сандалии, вскинула на широкие плечи коромысло и, размашисто шагая, громко позвала:
— Фрося, пошли!
В конце узенькой улочки бурая кляча Иойны-водовоза столкнулась с черным жеребцом, запряженным в легкую пролетку, которой правил солдат.
— Дорогу! — закричал солдат, и куры испуганно шарахнулись в сторону.
Водовоз в длинном брезентовом фартуке поверх могучей груди не спеша, будто его это не касается, поставил на землю два больших пустых ведра, прислонился к бочке и пальцами, похожими на деревянные сучки с наростами, принялся скручивать цигарку из махорки.
— Эй, ты, биндюжник, — разгорячился сидевший в пролетке офицер, — заворачивай свою колымагу во двор и освободи дорогу!
— Рашид, — подозвал водовоз крепко сбитого рыжего парня, — как тебе нравятся эти паны? Им кажется, что они всё еще в Петрограде. Смех один! Сам попробуй заверни тут. И без того колеса задевают стены домов. Солдат! — на этот раз Иойна обратился к кучеру. — Нечего зря время тратить. Подай назад, и мы разъедемся.
Солдат, будто его кипятком ошпарили, подскочил и замахнулся ременным кнутом на водовоза.
— Ну, ну, дяденька, потише, — и Рашид вырвал кнут из рук солдата и забросил на крышу.
Когда Хана, Фрося и Жак прибежали к месту происшествия, Рашид держал офицера за лацканы и, как манекен, тряс его из стороны в сторону. Водовоз в это время боролся с солдатом.
— Папа, не бей его, а то как бы не покалечил! — закричала Хана.
— Ты же видишь, — водовоз даже сплюнул с досады, — я и ведро в руки не взял. Скажи-ка сама ему, чтоб отвязался, не то в самом деле дух из него вышибу.
Солдат тем временем схватил ведро, но не успел поднять его, как очутился на земле: Жак тут же ловко подставил ему подножку.
— Вставай и не лезь больше.
Жак помог ему подняться. И хотя солдат все еще ругался, они вдвоем подали пролетку назад, к перекрестку. Только после этого Рашид оставил офицера в покое.
— Рашид, — заметила Хана улыбаясь, и на щеках у нее зарделся жаркий румянец, — а ведь офицер мог тебя застрелить.
— Не беспокойся. Сперва я его сверху донизу по-свойски малость погладил и понял, что, кроме плеши на голове, очков и носового платка, ничего у него за душой нет.
— Фрося, передай ему, этому рыжему, чтобы руки держал в карманах, а гладит пусть одних офицеров.
— Сама скажи, вы ведь уже помирились, — ответила Фрося своей подружке и оглянулась на Жака.
Отец Ханы, Иойна-водовоз, успел уже наполнить ведра и снести их в один из дворов. Оттуда донесся его зычный голос:
— Хана, слышишь, Хана, хватит лясы точить, иди скорей домой, поставь на место коромысло и не забывай — у тебя еще уйма дел. А вы, ребята, убирайтесь подальше.
Не хотелось Жаку уходить, но ничего не поделаешь: слышно было, как поблизости свистят полицейские. Рашид лукаво прищурил правый глаз, смачно сплюнул сквозь зубы и, слегка дотронувшись до руки своего нового знакомого, пробасил:
— Пошли, пусть ищут ветра в поле!
Только к середине лета, когда Жак уже не надеялся дождаться встречи с Дуровым, Владимир Леонидович прибыл в Евпаторию.
— Ну-ка, парень, — погрозил ему Дуров пальцем, — расскажи, что ты в Петрограде делал?
— Владимир Леонидович, вы ведь уже сами знаете, — смущенно ответил Жак.
— Знаю, конечно. А тут что делаешь?
— Месяца два я выступал перед началом сеансов в кинематографе. Теперь Вяльшин заключил со мной контракт…
— Вот и хорошо. А там мы что-нибудь придумаем.
У выхода из цирка Жак увидел Рашида. В руках он держал тяжелый деревянный ящик, обитый жестью.
— Жак, мне нужно с тобой поговорить.
— В чем дело?
— Я рассказал о тебе одному человеку…
— Фросе?
— Фрося не такая злюка, как Хана, и с ней можешь сам говорить. Послушай, человек этот, возможно, вскоре к тебе зайдет. Запомни: он среднего роста, с рыжей бородкой. Если он тебя о чем-нибудь попросит, постарайся сделать все, что сможешь.
— Коль ты начал, так договаривай до конца. Что он попросит, как его зовут?
— Караев.
— Он что, тоже грузчик или с тобой из одной местности?
— Давида Караева здесь знают. Он большевик. Сам он из Бобруйска, маляр, а сюда прибыл из Батуми. Я как-то тебе уже рассказывал, что в Джанкое я был пастухом, а Караев вместе со своей женой красил там полы у богатых немецких колонистов. После этого он был камнетесом, садовником, работал на строительстве железной дороги Евпатория — Сарабуз. Это он научил меня читать, подарил книгу Горького «Мать». Теперь тебе ясно, что это за человек?
— Ясно!
— Караев просил спрятать этот ящик. Первому встречному такое дело не доверяют.
— Хорошо.
Жак стоял и смотрел вслед Рашиду, как тот широко шагает в сторону базара. Этот толковый парень с медно-коричневым лицом понравился ему с первой минуты. Но близко узнал он его только теперь. Что Рашиду ничего не стоит взвалить на плечи два полных мешка муки сразу, Жак уже знал, но что тот дружит с таким человеком, как Караев, для него было неожиданностью.
Еще больше ему понравилось то, что обо всем этом его товарищ никогда раньше ни единым словом не обмолвился. Жаку не раз приходилось бывать у Рашида на чердаке и даже ночевать у него дома, но фамилии его он до сих пор не знает. Зовет его Рашидом, как все.
Прошло два дня, и к Жаку в цирке подошел человек и тихо шепнул ему: — Караев.
— Отойдем, — отвел его Жак в сторонку.
— В городе облава. Могут и цирк оцепить. Куда вы спрятали ящик?
— Под моей койкой.
— Знаете, что в нем пистолеты? А меня можете где-нибудь здесь спрятать?
— Среди зрителей.
— Не годится, в зале наверняка шнырять будут.
— Тогда идемте со мной.
Владимир Леонидович сидел в своей артистической уборной и перелистывал какой-то иллюстрированный журнал. Жаку он и договорить не дал:
— Подробности мне ни к чему. Ты иди, а вы, — обратился он к Караеву, — коль вы мой гость, то знайте, к Дурову с обысками не ходят. Полистайте лучше этот журнал и посмотрите, какие красивые женщины бывают на свете, а я пойду скажу, чтобы перенесли ваш ящик в надежное место.
Караев был прав. Больше часа у всех зрителей цирка проверяли документы. Несколько человек задержали и среди них одного лишь потому, что он держал в руках кисть и его пиджак был в краске.
Когда стемнело и Жак убедился, что возле цирка подозрительных типов не видно, он пошел к Дурову. Владимир Леонидович стоял посреди комнаты и внимательно слушал, что говорил ему Караев.
— Сюда, в Крым, они стекаются из центральных областей. Одни рассчитывают кое-как перебиться здесь в это смутное время, другие хотят бежать за границу, но большая часть рыщет по полуострову, как волки. Они ждут не дождутся, когда выдастся удобный момент и можно будет перегрызть горло большевикам. С ними заодно местные меньшевики и эсеры…
Владимир Леонидович подозвал Жака:
— А ты, конспиратор, как думаешь? Что стало бы с земным шаром, если бы все тянули в одну сторону? Непременно перевернулся бы…
Жак заулыбался: Дуров Дуровым и остается.
Из цирка Жак вышел вместе с Караевым. Накрапывал мелкий дождик, пахло морем и степью. Острая молния на мгновение осветила бухту и порт. Недалеко от бульвара Караев попрощался с Жаком.
Было уже совсем темно, когда к калитке загородной дачи с железной, в шипах, оградой, где офицеры местного гарнизона устроили кутеж, подошли двое мальчишек лет десяти — двенадцати и попросили солдата, стоявшего на вахте, вызвать офицера Бородулина.
— Одна дама, — перебивая друг друга, объясняли они солдату, — велела нам передать офицеру записку.
— Убирайтесь вон! — закричал на них солдат. — Никакого Бородулина здесь нет.
— Как это нет? Дама сказала, что она нам хорошо заплатит.
— Вот сейчас я вам обоим выдам! — наставил он на них винтовку.
— Погоди, погоди, дяденька, — не отставали мальчишки, — она еще сказала, что мы можем передать эту записку штабс-капитану Вольдемару Рубцову.
— Вольдемар Рубцов, — смягчился солдат, — такой есть. На ваше счастье, он сегодня дежурный, но как только записочка попадет к Владимиру Иннокентиевичу в руки, ваш Бородулин может проститься со своей дамой. Ну-ка, постойте здесь минуточку, — опустил он винтовку, — и никого сюда не подпускайте. Сейчас его позову.
Когда во дворе послышались шаги, у калитки, будто их здесь поставили охранять вход, стояли уже не мальчишки, а Рашид и Жак. Рубцов и солдат увидели нацеленные на них револьверы.
И тот и другой сразу же поняли, чего от них хотят. Без лишних слов один позволил вытащить пистолет из кобуры, а другой отдал винтовку. Рашид учтиво поклонился и насмешливо заявил:
— Теперь можете продолжать развлекаться. Адье!
В ту же ночь другая группа получила от Караева задание окружить дом винодела Ахмеда Яфарова. Сам Караев и не ждал такого «урожая». Из огромных винных бочек извлекли десятка два винтовок, несколько ящиков патронов и гранат и даже пулемет. Оружие пока спрятали на гвоздильном заводе, где у Караева были надежные люди.
В прежние времена Вяльшин редко когда оставлял цирк, теперь же он стал часто отлучаться. Перебрался в гостиницу. На манеже появлялся лишь тогда, когда в партере сидели важные гости. Как-то после представления он собрал труппу и объявил, что завтра все должны участвовать в демонстрации, которую организуют местные меньшевики.
Никто ему не возражал, но и своего согласия на участие в демонстрации не выразил. Отозвался один только партерный акробат Банси:
— Я думаю, что, если директор заплатит нам, как за выступление, никто не откажется.
Кто-то свистнул. Жак выкрикнул:
— Кто вас уполномочил говорить от имени всех?
— Молчи! — поднял Вяльшин вверх шамбарьер. — Банси чужестранец, ему чувство патриотизма чуждо. А ты не думай, что мы позволим тебе вести большевистскую агитацию. Смотри, как бы после не пожалел.
— Господин Вяльшин, пугать меня нечего. Я уже не ребенок, а относительно патриотизма, так что-то давно у вас не видно доктора Кука… Вильгельма Карловича, говорят, посадили. Ко всему прочему он еще оказался немецким шпионом.
— Прекрати, Жак, не то сейчас же выгоню тебя из цирка. Ты отлично знаешь, что Кук заходил не ко мне, а к Сидору Степановичу. Но не об этом речь. Мы должны прежде всего проявить здравый смысл, а упреками бросаться будем потом, когда все уляжется. Если мы останемся в стороне, интеллигенция начнет бойкотировать наши представления. Сегодня я сам участвовал в программе, и то партер был наполовину пуст. Не хотите меня слушать, пусть скажет Владимир Леонидович…
Вяльшин тут же пошел за Дуровым. Но Владимир Леонидович отрезал:
— Я о таких вещах и слышать не хочу.
Жак, Рашид, Фрося, Хана и еще несколько ребят из Союза рабочей молодежи стояли на тротуаре и наблюдали за демонстрацией, проходившей по центральной улице. Впереди шествовал военный оркестр, за ним — отцы города. Почти все во фраках с красными бантами на лацканах. Затем шли владельцы предприятий, магазинов и ресторанов, служащие. На лозунгах и плакатах большими буквами написано: «Война до победного конца!»
В хвосте колонны толпились мастеровые, портовики. Неожиданно над последним рядом взметнулось красное полотнище, на котором было выведено мелом: «Ты голодай, чтоб им жилось весело!»
Несколько офицеров бросились к дерзким смельчакам и вырвали из их рук транспарант. Демонстранты пришли в замешательство: на одном перекрестке оркестр играл бравурный марш, а на другом чуть не дошло до драки. Заправилы поняли, что затевать скандал в такой торжественный момент негоже, и стали уговаривать офицеров «не давать себя спровоцировать».
Фрося и Хана тут же куда-то исчезли. Колонну они нагнали через полчаса. Девушки принесли с собой толстый лист бумаги, на нем был выведен углем тот же лозунг: «Ты голодай, чтоб им жилось весело!»
Когда Жак рассказал об этом Дурову, Владимир Леонидович на минуту задумался и спросил:
— Как ты, Жак, смотришь на такую идею? Ты собираешь своих городских ребят, и за несколько дней вы готовите такую пантомиму, что даже Караев ахнет.
Несколько дней спустя, когда Вяльшин с частью труппы уехал в Симферополь, в городе появились афиши новой цирковой пантомимы. В представлении, сообщалось, участвует свыше ста человек. Кто мог бы подумать, что участники — не профессиональные актеры, а сапожники, портные, парикмахеры, столяры, рабочие железной дороги и порта.
Жаку пришлось здорово повозиться с ребятами. Пять ночей кряду они репетировали, пока Дуров, укрывшийся за занавесом, не кивнул одобрительно головой.
…В зале и на манеже вдруг стало темно. Затем тонкий луч прожектора высветил Жака. Он был одет в рабочий комбинезон. Жак объявил, что программа, которую сейчас покажут, именуется: «Ты голодай, чтоб им жилось весело!»
Когда свет зажегся снова, зрители увидели на левой стороне арены солдат в окопах, на правой — рабочих у станков. Середина арены представляла собой великолепный зал, в котором веселились и танцевали богачи, офицеры.
С арены не доносилось ни единого звука, и лишь по движениям и мимике участников пантомимы угадывалось, что с минуты на минуту должно что-то произойти. Жандармы с дикой злобой набросились на тех, кто с возмущением что-то втолковывал рабочим и солдатам. Завязалась потасовка. Рашид, очевидно забыв, что он играет роль ростовщика, сбросил с себя тесный в плечах фрак, высокий цилиндр и замахнулся кулаком. Он и в самом деле чуть не заехал своему соседу — «фабриканту» — в рожу.
Раздались звуки «Марсельезы», и на манеже взвилось красное знамя. Публика вскочила с мест и аплодисментами проводила артистов, направившихся с арены к центральному выходу.
Не успели еще закончить представление, как в цирк нагрянул чиновник городского управления.
— Как звать этого заводилу, что объявлял программу? — спросил он у партерного акробата Баней.
— Жак Альбро.
— Жак Альбро? — удивленно переспросил чиновник. — Откуда он взялся?
— По документам он француз.
Назавтра Жака вызвали в полицейский участок.
Владимир Леонидович посоветовал ему не торопиться.
— Пусть Вяльшин сам сходит, — сказал он. — Если крокодиловы слезы директору не помогут, его выручит бумажник.
И все же Жаку пришлось расстаться с Евпаторийским цирком.
Вечером возле вокзала Жаку предстояла встреча с Рашидом и еще одним товарищем. Пришел он немного раньше назначенного времени и, ожидая своих товарищей, даже не заметил, как рядом с ним оказался патруль — двое военных. Один из них, с жесткой щеткой фельдфебельских усов и широким шрамом на шее, должно быть, старший по чину, потребовал от Жака предъявить документы.
— Пожалуйста, — протянул Жак свое мелитопольское удостоверение.
— Жак Альбро, — прочел офицер вслух и положил удостоверение к себе в карман. — Ты как раз нам и нужен. Смотри за ним в оба, — сказал он солдату, — а я на минутку отойду и позвоню в комендатуру.
Жак мысленно прикинул: «С одним я бы еще справился, но как знать, сколько солдат выскочит из вокзала… Был бы здесь Рашид…»
Когда офицер вернулся, Жаку показалось, что промелькнула фигура Рашида в неизменной короткой куртке с отворотами. Но в эту минуту офицер с силой толкнул Жака в плечо:
— Иди, иди!
Как получилось, что друзья оказались впереди него и сопровождавших его конвоиров, Жак не понял. Но недалеко от первых городских домов он увидел, что они идут навстречу.
Винтовку из рук солдата Рашид выхватил так внезапно, что тот не успел оказать сопротивления. Конвоиров тотчас же отвели в сторону от дороги.
— Если хотите остаться в живых, лежите и чтобы пикнуть не смели, — пригрозил им Рашид, после того как связал обоих. — Для вас же будет лучше, если полежите часок тихо.
В одном из пустынных переулков они остановились: погони не было слышно.
До Караева добрались без приключений. Он им указал, кому передать оружие, и велел немедленно перебраться на конспиративную квартиру.
— Давид Львович, чего нам бояться? — пытался возражать Рашид. — Пусть ищут ветра в поле.
Караев рассердился и категорически заявил:
— До тех пор, пока я вас не позову, вы не должны показываться в городе. Ясно?
Два дня подряд шел дождь. Канавы были переполнены водой. Подул тугой прохладный ветер. Лишь к вечеру, когда совсем стемнело, северный ветер разогнал тучи и в прояснившемся небе показались звезды.
Рашид, Жак и Иойна-водовоз направлялись к Мойнакскому озеру, где их ждал Караев. Шли по липкой грязи. Впереди шагал Рашид. Жак видел перед собой его саженные плечи, выгоревшую тюбетейку, с которой тот не расставался и поздней осенью.
Следом за Жаком шел Иойна-водовоз. Жак и не подозревал, что отец Ханы столь словоохотлив: даже в такую минуту, когда надо соблюдать тишину, он не прочь рассказать тысячу историй.
Иойна знает город, как свои пять пальцев, но ночью он плохо видит, и ему кажется, что в темноте ничего не стоит сбиться с дороги, заблудиться. Он уже в который раз справляется у Рашида:
— Мы правильно идем?
— Он ведь вам уже сказал, — хмурится Жак.
Хлюп, хлюп… Это Иойна вдруг свернул чуть в сторону и ступил обеими ногами в лужу. Вода доходит до голенищ, но тот, как ни в чем не бывало, продолжает разговор, а говорит он, будто цепом молотит:
— Лучше дважды переспросить, чем один раз заблудиться.
Возле домика у озера их встретил Караев. Он отвел Иойну в сторонку и тихо о чем-то спросил. Недели через две Жак узнал, о чем секретничали Караев с водовозом: Иойна снабжал водой «эскадронцев» Крымского кавалерийского полка и знал многое из того, что интересовало Караева.
В пустой хате, где они собрались, до того накурено, что небольшая пятилинейная лампа почти гаснет. Ноги у Жака сильно промокли, надо бы стянуть с себя сапоги и выжать портянки, но так тесно, что повернуться негде.
Выступает Караев. Жак смотрит на него, будто видит впервые. Говорят, что большевистская организация Евпатории вторая по величине после севастопольской. Она насчитывает свыше двухсот членов, и делегатом от них на первой партийной конференции Таврической губернии был Караев.
Жака разбирает любопытство: кто из тех, что прибыл сюда на собрание профсоюзного актива, является большевиком? Машинист Захар Зарубин, которому уступили место за столом, — этот наверняка большевик. Ну, а Иойна-водовоз, что сидит и жует соломинку и то и дело почесывает затылок, видимо, только сочувствующий. Но по выражению его лица нетрудно догадаться: за Караевым он пойдет на любое рискованное дело.
Иойна приложил ладонь к уху, прислушиваясь к тому, что говорит Караев:
— Теперь все уже знают: оттого, что вместо губернатора-монархиста посадили комиссара Временного правительства, мало что изменилось…
Иойна целиком согласен со словами оратора и восхищенно цокает языком. Он сам как-то сказал дочери: «Знаешь, Хана, что я тебе скажу, — хрен редьки не слаще». А Караев продолжает:
— В Симферополе фабриканты и помещики создали «Совет народных представителей», но в этом совете нет ни одного рабочего, ни одного крестьянина. Кто же, спросите, его поддерживает? Поддерживает совет «Объединенный Крымский штаб» с шестью тысячами кавалеристов-эскадронцев и отборными воинскими частями, состоящими из одних офицеров и юнкеров, а также меньшевики и эсеры. Они и посылают своих представителей на Кубань, на Дон, где хозяйничает зажиточное казачество.
Иойне даже как-то не верится: говорят здесь о таких тонких вещах, как политика, а ему все ясно и понятно. Он целиком согласен с Караевым: надо создать вооруженные рабочие дружины. А как же иначе! И у него самого, у Иойны, припрятан обрез. На эскадронцев с одними оглоблями не пойдешь…
Водовозу неясно лишь одно. В Севастополе власть уже в руках большевиков. Он сам видел, как оттуда пришел военный корабль «Пидонис», но, вместо того чтобы направить орудия против буржуев, севастопольцы затеяли переговоры с Татищевым, а граф этот, как и следовало ожидать, оставил их в дураках. В тот же день «Пидонис» поднял якорь и отбыл в Севастополь.
Не мог этого понять не только Иойна, но и сам Караев. У него зародилось подозрение, что в командование Черноморского Центрофлота пробрались эсеры.
Разошлись поздно ночью. Среди тех, кто охранял собрание, были также Хана и Фрося. Хана к отцу и не подошла. Она шагала рядом с Рашидом. Ну ничего, дома Иойна задаст ей как следует, чтобы не вздумала больше ходить за парнем, как тень.
Сергей Иванович Куликов прибыл в Евпаторию со специальным заданием от севастопольской большевистской организации. И вот сидят они вдвоем, Куликов и Караев, среди бела дня за опущенными занавесками. Караев доволен, что прислали Куликова, а не кого-нибудь другого, ведь они старые друзья и понимают друг друга с полуслова.
Сергей сообщил, что Севастополь направляет в Евпаторию красный десант. Караев давно ожидал этого. Теперь предстоит разработать план боевой операции. Нужно взвесить все до мелочей. Пока же Караев отвечает на вопросы, интересующие Куликова. Он подтверждает:
— Береговые батареи Евпатории по эскадре огня не откроют. Наоборот, артиллеристы будут сражаться за советскую власть. Революционно настроенные солдаты и матросы имеются и в других частях гарнизона.
Когда Куликов ушел, Караев спохватился: у Сергея за весь день маковой росинки во рту не было. Как же ему не пришло в голову хоть чем-нибудь накормить такого желанного гостя?
Жак и Рашид заметили, что с Караевым происходит что-то странное. Он бледнее обычного и не находит себе места. Не знали они, что эскадра из Севастополя давно уже должна прибыть, а ее все нет. Был бы шторм — тогда понятно, но море спокойно, волны колышутся мерно, неторопливо.
А двенадцатого января в Евпатории произошли трагические события. Офицерский батальон вместе с кавалерийским эскадроном и отрядом вооруженных гимназистов неожиданно окружил береговую батарею. Руководили операцией граф Татищев и капитан Новицкий.
На помощь артиллеристам поспешил Караев с несколькими десятками дружинников. Но что могла сделать горстка плохо вооруженных людей против значительно превосходящих сил белых? Давид Караев, руководитель большевиков Евпатории, попал в руки врага.
Впоследствии стало известно, какую жестокую расправу Новицкий и Татищев учинили над Караевым. Много часов подряд его избивали, выламывали руки, но не смогли добиться от него ни единого слова. На рассвете Караева приволокли на берег залива и недалеко от царской дачи, бросив в яму, засыпали землей еще живого.
Двумя днями позже севастопольские матросы вместе с рабочими Евпатории освободили город. Среди пятисот офицеров и эскадронцев, взятых в плен, оказались и те, кто замучил Караева.
Город еще не видел такой внушительной демонстрации, как в день восемнадцатого января 1918 года. Центральная улица, тогда же названная именем Караева, была запружена народом. Это пролетарии Евпатории провожали в последний путь своего боевого товарища.
ЗОЛОТЫЕ ЭПОЛЕТЫ
Зима выдалась неустойчивой, капризной. Не успел мороз покрыть стекла замысловатым узором, как ледяные пальмы стали таять, потекли. Февраль даже ночью плакал капелью. С моря дул пронизывающий ветер. Телеграфные провода неумолчно гудели. Жака назначили старшим патруля: с ним были Рашид, два дружинника и два матроса-красногвардейца. Они уже прошли несколько улиц и переулков, когда дорога вывела их к постоялому двору Залыгина. Повсюду в окнах дома было темно, и только сквозь щель одной из закрытых ставен пробивалась узенькая полоска света. Пришлось долго стучать, пока хозяин открыл дверь.
— Никого из тех, кого вы ищете, здесь нет, — сказал Залыгин. — Те, кто вас опасается, уже давно сбежали отсюда. И чего только вам не спится? Хороший хозяин в этакую непогодь и собаку на двор не выпустит.
— Хватит разговаривать, — оттолкнул его с прохода один из матросов, — мы и без твоей жалости как-нибудь обойдемся.
— Вы-то обойдетесь, а мне как быть? Из-за вас никто ко мне заезжать не станет. Я ведь не буржуй, а жить с чего?
Все койки в доме пустовали, только в одной большой комнате сидели несколько пожилых мужчин и занимались какими-то расчетами. У края стола, в тени, тучный мужчина с седыми торчащими, как пики, усами углубился в большую конторскую книгу.
— Кто такие? — спросил Жак.
— Мы — виноделы, коммерсанты из Симферополя, — отозвался один из них, передвигая костяшки на счетах. — Время, правда, тревожное, но мы политикой не занимаемся. Нас интересует только дебет и кредит. А прибыли мы сюда, чтобы заключить новые контракты и рассчитаться со здешними виноделами и торговцами фруктами.
— С кем вы здесь встречались?
— Загляните, пожалуйста, в наши конторские книги, и вы узнаете, с кем мы здесь имеем дело.
Рашид перелистал бумаги и подтвердил, что люди, чьи фамилии значатся в книгах, действительно торгуют вином и фруктами. Документы у всех также оказались в порядке.
Внимание Жака привлек какой-то странный запах в комнате. У порога он остановился.
— Что ж, пошли дальше? — заметил Рашид.
— Интересно, чем это у вас так пахнет?
— В каждом доме живут свои запахи, а у нас пахнет табаком, вином. Какие же еще ароматы бывают в комнате, где собрались мужчины? Если желаете, можем и вас угостить.
Патруль уже отходил от постоялого двора, когда Жак снова остановился.
— Ребята, они нас обманули. Пахнет у них не только табаком и вином.
— Чем же еще?
— Чем — я пока не знаю, но запах почему-то кажется мне знакомым. Давайте вернемся.
— Ну уж нет! — разгорячился один из матросов. — Не знаешь, тогда и возвращаться ни к чему. Так бы прямо и сказал, что снова захотелось в тепло.
Между дружинниками завязался спор.
— Да пошли они все к черту, — заупрямился тот же моряк. — Плюнь на все и разотри, а то, циркач, влипнешь как муха в клей.
И тут Жак спохватился:
— Послушайте, даже странно, как это я сразу не вспомнил, пахло-то у них клеем. Вот увидите, что усы у толстяка коммерсанта приклеены. Это явная малина. Пошли скорее, а то как бы не проворонить.
Хозяин постоялого двора на этот раз разозлился не на шутку и даже пригрозил утром непременно пожаловаться начальству, что всю ночь ему не давали спать. Кто-то из дружинников шутя заметил:
— Вы же сами сказали, что в такую погоду собаку во двор не выгонишь. А у вас тут тепло, самовар на столе шумит и вином пахнет.
— Руки вверх! — скомандовал Жак, словно рубанул шашкой. — Вот так. Оружие есть?
Ненадолго воцарилось молчание.
— Да, знаете, время теперь неспокойное, — сказал один из коммерсантов в вязаной шапочке с помпоном на макушке, — а у нас при себе деньги, и немалые.
При этом он попытался опустить в карман правую руку, но стоявший рядом матрос ткнул в него наганом:
— Давай без этих штучек!
После того как вывернули карманы «коммерсантов», Жак приказал им всем стать в угол возле шкафа. Толстяка он подвел поближе к свету и слегка потянул за седые усы. Они так и остались у Жака в руке.
— Теперь, надо полагать, вы нам расскажете, кто вы такие и зачем сюда пожаловали.
— Мы уже вам говорили…
Пришлось долго рыться в чемоданах. Обнаружили топографическую карту и документы, по содержанию далекие от коммерции. В шкафу одной из соседних комнат было аккуратно сложено несколько комплектов морского офицерского обмундирования, в том числе китель с генеральскими эполетами. Если бы у Жака спросили, он, пожалуй, не мог бы объяснить, почему эполеты показались ему чем-то подозрительными. Может быть, оттого, что были на ощупь слишком жесткими. Он снял их с кителя и положил к себе в карман. «Коммерсант», у которого Жак сорвал усы, рванулся было с места:
— Прошу вас, возьмите что угодно, только эполеты оставьте. Это мои. Вы же видите, я с ними не расстался, хотя город уже у вас в руках.
— Ни в коем случае, генерал, ваше имущество вместе с вами мы доставим в штаб, а там уж разберутся, что к чему.
В штабе Жак осторожно подпорол эполеты. В одном из них он обнаружил сложенный листок бумаги, на котором было написано:
Михаил Эд!
Получив Ваше донесение, я весьма обрадовался тому обороту, какое приняли дела. Прошу действовать, не уклоняясь.
Благодарю Вас
Николай.— Ни-ко-лай?
Начальник штаба Сергей Васютин еще раз прочел вслух: «Ни-ко-лай», четко произнося все слоги.
— Чья эта подпись под письмом?
У генерала дрогнули посиневшие губы:
— Не знаю. Чья бы ни была, письмо это адресовано не мне.
— Не знаете? Ну что ж, придется отправить вас в Севастополь, а там все вспомните.
В это время зазвонил телефон. Дежурный передал трубку Васютину.
— Алло! Слушаю. В Джанкое, говорите?.. Ясно! Ждите прибытия группы из десяти человек… Нет, больше не могу… Хорошо, Рашид прибудет вместе с группой… Он там всех знает.
— И меня пошлите с Рашидом, — обратился Жак к начальнику.
— Нет, — отрубил Васютин, — тебя с Рашидом придется разлучить. У меня теперь нет времени на составление протоколов… Ты, Жак, отвезешь документы вместе с арестованными и обо всем подробно доложишь. Вот только записку напишу своему товарищу в ревком, чтобы знал, кого к нему посылаю. — Он достал из полевой сумки клочок измятой бумаги и карандаш. Первые слова он написал быстро, но потом задумался… — Жак, ты к нам откуда прибыл?
— Откуда? — пожал Жак плечами. — Из цирка.
Рашид подсказал:
— Из Петрограда. Жак с самим Лениным разговаривал.
— Ясно. Так и напишем. А теперь попрощайтесь, и в дорогу.
С Рашидом Жаку никогда больше не довелось свидеться. Спустя год его друг погиб на фронте.
…Понадобилось несколько дней, чтобы установить личности арестованных белогвардейских морских офицеров.
Через неделю член Севастопольского ревкома Евгений Павлович Сенин вызвал Жака и сказал ему:
— Письмо, которое вы доставили, писал Николай Второй[6]. «Коммерсант» с приклеенными усами и есть генерал Михаил Эд. О его миссии не знали даже бывшие с ним офицеры. Им было поручено выполнить приказ царя о выводе всех боевых кораблей из Севастополя и передаче их в распоряжение Антанты. Нам хотелось бы отблагодарить вас. Может, сами подскажете, как?
— Направьте меня в красногвардейский отряд, — заявил, не раздумывая, Жак.
— Сколько вам лет?
— Восемнадцать.
— Моему сыну столько же. И он такой же, как ты, худой и длинный. — Глаза у члена ревкома стали грустными. — В прошлом месяце его тяжело ранили. Теперь он в лазарете… Возьми, — извлек он из глубины сейфа эполеты с письмом и подал Жаку, — когда станешь отцом, а может, и дедом, у тебя будет что рассказать своим детям и внукам. А теперь пойдем познакомлю тебя с одним товарищем. Правда, человек он строгий, но вдруг ты ему понравишься.
Вправо от входа тянулся полутемный коридор. Жак ждал в углу возле дверей и слышал, как Евгений Павлович с кем-то ведет о нем разговор. Собственно говоря, слышал он только то, что ответил собеседник: «Ты ведь, Сенин, знаешь, что с улицы я никого не беру». После этих слов Жаку только и оставалось, что уйти, но как уйдешь, не попрощавшись?
У стены стояло видавшее виды кресло. Пружины на нем давно уже лопнули и торчали во все стороны. Жак сел и втянул голову в поднятый воротник. Если бы он смог наскрести в карманах хоть немного махорки на цигарку, глаза не слипались бы и не сосало так под ложечкой. Он уже забыл, когда в последний раз ел досыта. Да, вспомнил! В доме у Ханы. Она тогда подала им — ему и Рашиду — две полные тарелки пшенной каши и еще горячего чая налила. Сахара, конечно, у Ханы не было, и Иойна в шутку напомнил им:
— Помешивайте, ребята, ложечкой помешивайте, глядишь, чай и станет сладким.
Рашид каши есть не стал, а Жак потом жалел, что поторопился сказать спасибо. Он то и дело посматривал в сторону тарелки Рашида, где каша уже покрылась тонкой пленкой и оттого, должно быть, еще пуще дразнила его своим ароматом.
И еще одно воспоминание всколыхнулось в нем.
Караев иногда, ни с того ни с сего, схватит, бывало, Рашида за руку и, слегка прищурив правый глаз, спросит: «Моя Лиза уже не раз у меня справлялась, где ты питаешься, где ночуешь?» В тот день, когда Жак и Рашид в последний раз виделись с Караевым, последний повторил, что Лиза интересуется, отчего не видно Рашида, почему тот не заходит перекусить.
Рашид солгал:
— Давид Львович, скажите своей жене, что я и Жак каждый день едим пшенную кашу и пьем чай с сахарином.
Жак вдруг вспоминает Фросю. Хорошая девушка. Глаза синие, как степные васильки. Перед его отъездом сидели они вдвоем — он и Фрося — у нее дома на большом сундуке. Когда зажгли каганец, на полу и сундуке возникли какие-то странные тени. Ему почудилось, что он и сейчас видит перед собой, как эти тени все колеблются, колеблются…
Со стороны могло показаться, что парень, примостившийся в кресле у стены, уснул. Но сквозь дрему в ушах у Жака все еще звучал голос человека, отказавшегося принять его в отряд. Знакомый голос, где же он мог его слышать раньше? Перед его глазами всплывает далекий летний рассвет. Днепр укутан мягкой молочно-белой пеленой тумана. Лодка покачивается… И вдруг: кто это тормошит и называет почти забытым мальчишеским именем — Давидко!
Глаза у Жака все еще закрыты, и он отталкивает от себя чью-то руку.
— Давидко, циркач, туды-перетуды! Ты что, не узнаешь меня?
Жак рванулся с места. Если бы в окно влетела шаровая молния, он не вздрогнул бы так, как от этих неожиданных слов.
— Дядя Никифор, вы?!
— А ты думал, что это тебе снится?
Стоявший чуть поодаль Евгений Павлович, улыбаясь, заметил:
— Вот тебе и человек с улицы.
Никифор обхватил Жака правой рукой и долго не отпускал от себя.
— Ты уж молчи, — сказал он, обращаясь к Сенину. В его глазах светилась радость. — Эполеты ты мог бы выбросить в мусорный ящик, а парня надо было прежде всего накормить.
— Ты прав, Никифор. Пошли все ко мне. Что-нибудь придумаем…
И вот они сидят на широком диване, и Жаку не верится, что встреча эта не сон, а явь. Никифор приехал сюда всего на несколько дней, чтобы сформировать команду бронепоезда. Был он в Херсоне, и ему известно, что отец Давидки, Носн-Эля, умер. Никифор на минутку задумался, что-то вспоминая, и спросил:
— Ты небось думаешь, что, когда я поступил к твоему отцу в ученики, это было мое первое знакомство с ним? Нет, Давидко. Мы с ним познакомились гораздо раньше. Я тогда еще был парубком. Все это давно быльем поросло. Однажды на рассвете иду я, в руках у меня ящик, доверху набитый листовками. Только успел приклеить к стене первую, нагоняет меня человек и шепчет: «За вами следят. Меня зовут Гольдфарб. Я токарь, работаю недалеко отсюда в мастерских. Когда свернем за угол, давайте обменяемся ящиками». Так и сделали. Как только я дошел до перекрестка, меня задержали и отвели в полицейский участок. Шедший за мной следом шпик злорадствовал, потирая руки от удовольствия. «Сколько их у него, этих листовок, — сказать не могу, но я своими глазами видел, как он поставил в ящик банку клея и кисть». Жандарм уже приготовил бумагу для протокола. «А ну, открой-ка ящик и покажи свой товар», — приказал он мне. А я себе стою как ни в чем не бывало. «Если вам нужно, говорю, сами открывайте. Я и без того знаю, что в нем». Долго возились они с замком, покуда его взломали. Что было в ящике — я никогда не забуду. Какие-то инструменты, два ломтя хлеба и между ними кусок селедки, луковица, и в спичечной коробке — немного соли.
Жандарм до того рассвирепел, что его чуть удар не хватил, а глаза, и без того красные, еще пуще налились кровью. Он с такой силой саданул сапогом по ящику, что все имущество твоего отца разлетелось в стороны.
Вечером я пошел искать своего спасителя, но его и след простыл. Тогда я разыскал одного нашего товарища, который работал в тех же мастерских, что и твой отец.
«На Гольдфарба, токаря, положиться можно?» — спрашиваю я у него.
«Положиться-то, пожалуй, можно, но, кроме своей работы, он ничего знать не хочет. На риск никогда не пойдет».
«Вот на этот счет ты как раз и ошибаешься, — говорю я своему товарищу. — Еще как может рисковать! И не только прийти на помощь другу, но и протянуть руку попавшему в беду незнакомому, постороннему человеку. Просто он, очевидно, не только смел, но и благоразумен».
Я попросил своего товарища вызвать под каким-нибудь предлогом Носн-Элю из дома.
«Видите, — говорю твоему отцу, — жандарм сломал замок на вашем ящике».
«Ничего, — отвечает он, — это для меня пустяк».
Жак слушал, и ему казалось, что он в эту минуту видит своего отца, но не таким, каким запомнил, — вечно усталым, хмурым, обремененным повседневными заботами, а совсем другим…
И еще одну весть передал ему Никифор: старший брат Жака, Лейви, попал в плен и сейчас в Австрии, а Мотл, который мог целыми днями корпеть над священными книгами, вернулся с фронта большевиком.
С того дня Жак больше не разлучался с Никифором. Служили они оба на бронепоезде «Грозный»: Никифор — командиром, Жак — разведчиком.
РАССТАВАНИЕ
Солнце припекало вовсю. На небе ни облачка. В колосившейся, но еще неспелой пшенице, близ станции Чирская, лежал Жак, и острая боль пронизывала все его тело.
До Жака доносились приглушенный и все отдаляющийся гул артиллерийских залпов, разрывы снарядов, выпущенных «Грозным». Вырвавшись из белогвардейских клещей, бронепоезд устремился к Царицыну. Жак все это знал, тем не менее беспрестанно облизывал запекшиеся губы, бормотал: «Никифор, Никифор…»
И, как бы услышав приказ своего командира, он из последних сил приподнялся, опираясь на локоть, достал из кармана ножик, разрезал голенище сапога и, туго перевязав рану, попытался встать, но заскрежетал зубами от боли. Сознание помутилось. Что было дальше — помнит как во сне, ему чудилось, будто бредет он по первому тонкому льду, которым покрылся Днепр, проваливается и идет ко дну. Он пытается за что-то ухватиться, но тут острая боль приводит его в чувство. Теплый ветер доносит звуки гармошки и горьковатый запах дыма. Пламени он не видит, но, должно быть, где-то горит хата.
Бесконечно долго добирался он до железнодорожной будки. Вдали виднелась россыпь станционных огней. Будочник ничуть не испугался и даже не выказал удивления. Он только направил на него свой фонарь и спросил:
— Ну, что дальше делать будем?
Как ответить на такой вопрос? Пока ему нужно лишь напиться. От холодной воды чуть полегчало. Теперь, когда свет фонаря не слепит глаза, он видит, что здесь есть еще кто-то. Тулуп на лавке шевельнулся, и из-под него высунулись босые мальчишеские ноги. Жак все еще не знал, с чего начать разговор. Но будочник строго спросил:
— Долго еще собираешься здесь стоять?
— Если нельзя, могу уйти.
— Конечно, нельзя. Только кто тебе ногу одолжит? Федя, вставай, отведешь его к фельдшеру, — так же строго сказал старик пареньку с босыми ногами.
— К фельдшеру? — переспросил Жак. — Туда мне нельзя.
— Нельзя, говоришь? Тогда придется тебе идти еще дальше. В доме у попа Евлампия ночует штабс-ротмистр. Постучи в окошко и скажи: так, мол, и так, вы меня искали, вот я сам к вам и пришел. Что, не понял? Федя, пойдешь по дорожке мимо сарая. И скорее, пока не развиднелось.
Если верить тринадцатилетнему Феде, на фельдшера вполне можно положиться. Да и другого выхода у Жака все равно не было.
Вместо того чтобы укрыть Жака где-нибудь в погребе или на чердаке, фельдшер завел его к себе в спальню и сказал:
— Можешь не беспокоиться, сюда, кроме меня и моей сестры, никто не зайдет. Осколок сейчас вытащу. При первой возможности переправлю тебя в Царицын в госпиталь.
Фельдшер Христофор Михайлович слово свое сдержал. Больше всего Жака беспокоило то, что в дом часто захаживал поп Евлампий. Являлся он обычно рано утром, когда первые лучи отражались в каплях росы на верхушках деревьев. И как ни было Жаку больно, он лежал, как мышь, не смея даже шелохнуться. Не раз он слышал, как поп говорил фельдшеру:
— Что это у тебя так лазаретом пахнет?
— А чем же, по-вашему, — отвечал ему Христофор Михайлович, — у меня должно пахнуть? Я ведь не со святой водицей дело имею. Как говорится, кесарю — кесарево, а богу — богово.
— Ох, грешен ты, Христофор!
— А как же иначе? — соглашался с попом фельдшер. — Столько больных, искалеченных, а чем я им помогаю?
Молчание. Наверно, в эту минуту отец Евлампий, непринужденно восседая на стуле, чуть подался к столу, окунул кусок рафинада в горячий чай, откусил и поднес стакан ко рту. После нескольких глотков он продолжал:
— А мне, Христофор, сдается, что ты, богохульник, не отказался бы лечить и тех, кого лечить не следует.
— Кому-кому, а вам должно быть известно: нет на свете такого живого существа, кому доктор или фельдшер может отказать в помощи. Все вправе требовать от нас терпимости, сострадания, ласкового слова, доброты…
— Ну, а антихристы, большевики?
— Большевики, — сделал фельдшер удивленное лицо, будто впервые слышит это слово, — их, говорят, ни пуля, ни хвороба не берет, так что они даже умирают стоя.
— Христофор, — заметил в сердцах поп и порывисто отодвинул от себя стакан, — ей-богу, грешишь. Ты не думай, что так уж все незрячи.
Самоубийцы, которые бросаются с моста в воду, верно, чувствуют то же самое, что ощущал в эту минуту Жак. Но не иначе, Христофор Михайлович знал об отце Евлампии нечто такое, о чем достаточно было намекнуть, чтобы тот сразу же умолк.
— Я, вот разрази меня гром, грешен на язык, а вы, достопочтенный, — телом и душой, — отозвался негромко фельдшер. — А слепота души куда хуже, чем незрячие глаза.
Разговор на этом кончился.
Однажды ночью Жак услышал, что кто-то ходит возле дома. Он разбудил Христофора Михайловича. Фельдшер накинул на себя пальто и вышел во двор. Там никого не оказалось. Но у ворот он заметил еще тлеющий окурок.
Примерно через час Федя вывел Жака из фельдшерского дома и проводил до Воропонова к местному врачу. На всякий случай у Жака была бумага, подтверждающая, что он железнодорожник и покалечил себе ногу во время разгрузки вагона. Врач из Воропонова помог ему добраться до Царицына.
Гражданская война давно уже окончилась, а Жак все еще в госпитале. Пятый раз кладут его на операционный стол. Он слышит, как врачи спорят между собой — ампутировать ногу или повременить? Жак схватил доктора за руку и, будто тот в чем-то виноват, стал кричать на него:
— Вы не смеете! Я артист! Кому я нужен буду в цирке с костылем?
Это, возможно, и помогло, — ногу ему сохранили. Операция была сложной и мучительной: пришлось долбить кость. Медицинская сестра то и дело влажной марлей смачивала его губы.
По вечерам в палате свет не зажигают. Лежат впотьмах и толкуют о том о сем. Сосед Жака по койке, Дима, бывший кавалерист, потерявший в бою обе руки, так молод, что губы у него еще по-детски пухлы. Дима вздыхает и проникновенно затягивает:
Жена найдет себе другого, А мать сыночка — никогда.— Дима, — прерывает его Жак, — спой что-нибудь повеселее. Давай любимую — «Красную кавалерию».
Диму долго упрашивать не приходится. Тем более, что песня, которую он собирается спеть, всем по душе.
Звонкому голосу Димы тесно в стенах палаты:
Мы — красные кавалеристы И про нас Былинники речистые Ведут рассказ.И хотя нога у Жака нестерпимо ноет, он, пересиливая боль, вместе со всеми подхватывает слова:
Мы — беззаветные герои все, И вся-то наша жизнь есть борьба!В палате воцаряется тишина. У порога, возле печки, выложенной голландским кафелем, застыла медицинская сестра, и ей кажется, что песня все еще звучит, не умолкая.
Жака из лазарета так скоро не выписали бы, но из Херсона сообщили, что мать его тяжело больна, ждет не дождется, когда он приедет хоть на один день.
Пассажиры хлынули по перрону к выходу на привокзальную площадь. Стоявший у своей брички возле Херсонского вокзала извозчик с прокуренными рыжеватыми усами держал в руках кусок макухи, то и дело вгрызаясь в нее зубами. Лошадь, ребра которой нетрудно было пересчитать, посмотрела на хозяина голодными глазами и так глубоко вздохнула, что из ее ноздрей повалил густой пар. Жака так и подмывало сказать извозчику: «Будь человеком, отломи хоть кусочек животному». На вопрос Жака, отвезет ли он его на Дворянскую, извозчик даже не ответил. Его взгляд в это время был прикован к вещевому мешку, висевшему у Жака за спиной. Раза два он повел носом, будто хотел по запаху установить, что в нем. Жак потянул его за рукав:
— Я ведь не невеста, а вы не жених, что ж вы меня так разглядываете? Возьмите-ка вожжи в руки и айда, поехали.
Извозчик подтянул чересседельник, поправил хомут и забрался на свое место. Сел в бричку и Жак, но извозчик все еще не собирался двигаться в путь. Он повернулся к седоку и предупредил его:
— За деньги я пассажиров не вожу.
— За что же?
— За что угодно. Овса для моей кобылы, надо полагать, у вас не найдется. А вот если дадите мне хлеба, я скажу вам спасибо. Вы к кому приехали?
Жак извлек из вещевого мешка буханку хлеба, разрезал ее на две равные части и одну протянул извозчику.
— Еду к матери. Знаете Басшеву, что живет в доме мадам Олиновой?
— А как же? Тиха, как голубь, но, горемыка, угасает. Глаза у нее запали, все плачет да вздыхает. На, забери свой хлеб. Возьми, тебе говорят, а мне лучше оставь «бычок» на затяжку. Ты, наверно, тот самый, что выступал в цирке? Кто же это тебя так изуродовал? Да что спрашивать. Мои сыновья вовсе с войны не вернулись. Но! Н-но, холера! Ползет, как черепаха. Бери, солдат, вожжи в руки, а я тем временем побегу и обрадую твою мать. Дай хоть богоугодное дело сделаю.
Как ни погонял Жак кобылу, извозчик все же его обогнал.
Со щемящим сердцем застыл Жак на пороге с костылями под мышками. Лицо у мамы как бы в каменных складках. Белки глаз в красных прожилках. Он только и мог произнести:
— Мама!
На лице Басшевы появилось подобие улыбки. Слабым прерывающимся голосом она проговорила:
— Слава богу, сынок, дождалась тебя.
— Мама!
В последние дни у нее совсем ослабло зрение, и все вокруг виделось ей, как в тумане.
— Не пугайся, Довидл, — погладила она его исхудавшими непослушными пальцами. — Поставь костыли в сторонку и сядь рядом со мной. Отец, царство ему небесное, до последней минуты все тебя вспоминал. Мне больше его повезло. — Она перевела дух и обратилась к домашним: — Дети, Довидл ведь с дороги, соберите ему что-нибудь поесть.
Она, должно быть, еще что-то хотела сказать, но не смогла, не хватало дыхания, и ее сухие губы только беззвучно шевелились…
…Через несколько дней Басшеву похоронили.
В отчем доме Жак задержался еще на неделю. Отсидели траурную седмицу. Накануне отъезда ему снова захотелось увидеть и услышать, как вместе с зарей зарождается и набирает силу новый день. Когда рассвет притушил звезды, он подошел к окну и долго вглядывался в смутные очертания двора, как бы укутанного лунным саваном. Нет больше отца и матери, Хаим-Бера, соседки Рохеле, собачонки Фуги, но по-прежнему поет голосистый петух, возвещая наступление дня.
День начинался серый и беззвучный. Жак направился на базарную площадь, где пятнадцать лет назад он впервые в жизни переступил порог цирка. Оттуда он пошел в госпиталь, где когда-то лечился Леня Смигельский. Ему захотелось заглянуть в палату, в которой лежал его товарищ, но оказалось, что все окна заделаны фанерой.
Прошлое всегда ложится на сердце щемящей тоской.
Если бы не боль в ноге, он спустился бы к Днепру, а оттуда добрался до Алешковского леса. Как сказал когда-то Никифор? «Дуб только тогда сбрасывает листву, когда начинает пробиваться новая».
Нет больше Никифора. В приволжской степи, к кургану притулился небольшой холмик, под ним покоится красный командир — бывший матрос Никифор.
Там, где когда-то стояла хатенка Хаим-Бера и возвышались штабели хозяйских бревен и досок, все перекопано. Голубятня заброшена. Но вот стоит веснушчатый мальчонка и, как когда-то Довидл, держит в руках картуз с поломанным козырьком. На оголенном дереве ворона точит клюв о ветку. Мальчик машет фуражкой и гонит ее, улюлюкая.
Теперь самая пора отлета птиц. Они поднимаются с насиженных мест и улетают на юг, к теплу. И не все сразу, а постепенно, по раз и навсегда заведенному порядку: сперва грачи — стаями, журавли, дикие гуси — клиньями. Плохо, должно, быть, тем птицам, что летят под белыми облаками поодиночке…
— Видишь, — показывает Жак мальчонке, — они летят и днем, когда светит солнце, и ночью, при свете звезд, и даже тогда, когда кругом сплошной туман…
Мальчик на минутку задумывается, потом спрашивает:
— Как же они не сбиваются с пути? — И, увидев звездочку на буденовке Жака, не удержался, чтобы не похвастаться: — И у меня есть звездочка.
…И снова в дорогу.
Как бы испугавшись собственного разбойного посвиста, паровоз вздрогнул и, натужно кряхтя, стал набирать скорость, нацелясь в дальнюю даль. По ту сторону вагонного окна и до самого горизонта тянулись нескончаемые поля, петлял широкий утрамбованный шлях.
* * *
И солнце и дождь. Пахнет одуряюще, пьяняще. Мы стоим, укрывшись под тополем, на углу киевского Крещатика и бульвара Шевченко и смотрим, как у тротуара пузырится вода, а над мокрым асфальтом поднимается вверх прозрачное облачко пара.
— Видите, как капли светятся? Что ни капля — солнце.
Это говорит мне Жак Александрович Гольдфарб. Его густые брови, длинные, почти до плеч, волосы совсем уже седые. Лицо в рубцах, шрамах, складках и морщинах.
Дождь перестал, и мы по бульвару идем к площади, где возвышается здание нового киевского цирка, окруженное молодыми каштанами. Деревья сплошь покрыты бело-розовыми свечами. Они издают душистый запах меда. Шлифованные гранитные плиты, купол высокого здания сверкают под лучами солнца. Блеснул и серебряный знак на груди Жака Александровича с надписью: «Герою революционного движения 1917—1918».
Жак Гольдфарб давно уже не выступает в цирке, но его тянет сюда, к этому великолепному дворцу, что стоит на том самом месте, где когда-то был самый большой в Киеве базар — «Евбаз». В те времена здесь размещались цирковые балаганы, крытые рваными цветастыми полотнищами. Здесь не раз выступал Жак Альбро.
Жак Александрович рассказывает, и мне кажется, что время вдруг отступило лет на пятьдесят назад.
— По цирку, — говорит он не спеша, обдумывая каждое слово, будто подводит итог своей жизни, — я тосковал и не перестаю тосковать. Даже тогда, когда был на фронте: и в гражданскую войну, и в Отечественную, когда в одной части со своим сыном сражался против гитлеровцев. Но о чем теперь говорить — главное в жизни уже позади…
В его словах звучала затаенная печаль, а в повлажневших глазах блеснула грустная улыбка. Должно быть, Жак Гольдфарб тогда уже знал, что тяжело болен и дни его сочтены…
Поздно вечером я проводил его до дома. На перекрестке, там, где мигал одноглазый светофор, мы расстались… Расстались навсегда.
1965
Перевод И. Лева.
Примечания
1
Свод еврейских религиозно-философских, моральных и бытовых предписаний.
(обратно)2
Высшее еврейское духовное училище.
(обратно)3
Имеется в виду, манифест 17 октября 1905 года.
(обратно)4
Еврейская религиозная начальная школа.
(обратно)5
Н. С. Чхеидзе — лидер думской фракции меньшевиков. С февраля по август 1917 года был председателем Петроградского Совета. Сторонник коалиции с буржуазией.
(обратно)6
Письмо Николая Второго, которое Жак извлек из эполета генерала Михаила Эда. Сорок лет спустя Жак Альбро передал его в Центральный государственный исторический архив СССР, где было подтверждено, что этот документ написан собственноручно бывшим русским царем.
(обратно)



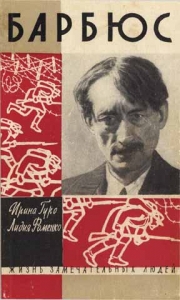


Комментарии к книге «Если бы не друзья мои...», Михаил Андреевич Лев
Всего 0 комментариев