Амбруаз Воллар, Поль Дюран-Рюэль Воспоминания торговцев картинами
© Г. Г. Геннис, перевод, 2018
© М. Ю. Герман, предисловие, 2018
© П. В. Мелкова (наследники), перевод, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
Предуведомление к двум «автопортретам» Михаил Герман
Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать.А. С. Пушкин
Сетования по поводу «коммерциализации искусства» ведут в тупик, история неумолима, и знание одно поспешествует спокойному осознанию былого и сущего. «К чему бесплодно спорить с веком», – писал тот же Пушкин.
Рассказывают, в Древней Элладе знаменитый художник Полигнот имел право «свободного обеда»: вместо гонораров получал право на кров и еду, куда бы он ни приходил.
Проза истории оказалась иной.
Художник, держащий кисть, и знаток – обладатель кошелька, их взаимозависимость, их симбиоз, трудный и плодотворный, увековеченный рисунком Брейгеля (1565–1566; Альбертина, Вена), – это явление, столь же раздражающее, сколь и неизбежное, имеет свою историю, естественно, и своих героев. Знает она и подлинно трагические страницы – достаточно вспомнить братьев Тео и Винсента Ван Гогов, немало в ней и подвижничества, и подлости. Но были в ней и свои герои. Настоящие рыцари ремесла, многим и тогда казавшегося не самым почтенным.
Речь даже не о коллекционерах. Но о тех, кто приводил в движение гигантский механизм, служивший (небезупречно и небескорыстно, разумеется) движению, эволюции искусства, его интеграции в развитие культуры, наконец, просто выживанию творящих искусство и радости тех, кто обладал им – душевно или материально.
Были, разумеется, просто собиратели. От древних владык до членов семейства Медичи, королей и императоров. Не каждый монарх имел желание и возможность, как Екатерина II, собирать картины по советам Дидро. Властелины Нового времени не отличались завидным вкусом. Все же во Франции со времен Пьера Крозá крепла традиция просвещенного коллекционирования.
Посредники были полезны даже искушенным собирателям.
Купить картину у Воллара или Дюран-Рюэля было проще, чем попасть прямо к художнику, имя опытного маршана служило клиенту если и не абсолютной гарантией качества, то аргументом в пользу заключения сделки.
К тому же, в отличие от многих своих коллег, и Дюран-Рюэль, и Воллар были владельцами галерей (Дюран-Рюэль имел их в нескольких странах), которые являлись одновременно и серьезными выставочными залами, далеко опережающими в показе современного искусства сам Люксембургский музей.
Публикация в одной книге двух этих автобиографий – «Воспоминания» Поля Дюран-Рюэля[1] и «Воспоминания торговца картинами» Амбруаза Воллара – заставляет вспомнить (пусть даже и не без известного пафоса!) знаменитые «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. Сравнение более чем условно, поскольку воспоминания пишутся от первого лица, самими героями; но в судьбах этих людей все равно ощутимо нечто эпическое: деятельность их на грани XIX и XX столетий – пример рыцарственного служения искусству.
У Воллара и Дюран-Рюэля немало общего. Но качеств совершенно противоположных, наверное, никак не меньше.
Прежде всего оба они – как тогда выражались – les hommes d’affaires, «деловые люди», коммерсанты. Но состояния, нажитые ими с великим трудом и постоянным очень серьезным риском, – просто ничто рядом с их поистине грандиозным вкладом в развитие Новейшего искусства.
Среди прославленного племени парижских маршанов Дюран-Рюэль и Воллар – олимпийцы. Были, разумеется, и более тонкие, и едва ли не бескорыстные ценители, такие как Берта Вейль или тем более Канвейлер. Но никто не обладал в той же степени, как эти два человека, сочетанием редкой интуиции (художественной и деловой), подлинным пониманием искусства и талантом коммерческим и организационным.
Без их заинтересованной, глубоко профессиональной, часто и самоотверженной работы художникам куда труднее было бы занять достойное место в истории искусства, получить известность, наконец, просто выжить. Сосредоточенно и последовательно занимаясь коммерческой деятельностью и умножая свои капиталы, оба маршана постоянно имели в виду само Искусство и старались по мере возможности помогать художникам, оказывавшимся в нужде. Даже когда сами попадали в стесненные обстоятельства, даже на грани краха.
И оба они – каждый по-своему, разумеется, – по-настоящему любили искусство, понимали его и им жили. К тому же ценили, чтили и понимали художников, умели с ними ладить. А все это – непростая наука.
Они дерзали ставить на новое; если и ошибались, то очень редко. Здесь вновь можно вспомнить Плутарха – фразу из его жизнеописания Фемистокла: «начало победы – смелость».
В остальном же Поль Дюран-Рюэль и Амбруаз Воллар решительно не схожи. Хотя были и объединены Местом – парижане, отчасти – и Временем.
Дети и созидатели XIX–XX веков, они принадлежали обоим столетиям. Но Поль Дюран-Рюэль (1831–1922) на тридцать с лишним лет старше, человек иного поколения, персонаж XIX века. Воллар (1866–1939) много работал и в веке двадцатом.
Они жили среди одних и тех же художников, разумеется, встречались, были знакомы. Воллар в своих воспоминаниях упоминает о Дюране бесстрастно, информативно и всего пятнадцать раз. Дюран-Рюэль о Волларе не говорит ни разу.
Дюран-Рюэль – консерватор, мечтавший некогда о карьере священника, приверженец конституционной монархии (Ренуар прозвал его «старым шуаном»[2]); великий мастер на определение характеров.
Но Поль Дюран-Рюэль был консерватором отважным, понимавшим, что устойчивость и достоинство искусства поддерживается его динамизмом, что эксперимент – гарантия прогресса и надежности.
Галерея его отца Жан-Мари-Фортюне Дюрана[3] в самом центре фешенебельного Парижа, на улице Мира (рю де ла Пэ), 1, рядом с Вандомской площадью, была хорошо известна со времен Июльской монархии. Художники старшего поколения помнили и первую лавку Дюрана-отца на южной окраине Парижа – в конце улицы Сен-Жак, где сначала продавались канцелярские товары, затем художественные принадлежности, потом и картины. Незадолго до смерти отца (1865) Поль Дюран-Рюэль принял на себя управление галереей. Он с детства приобрел вкус к поискам нового в искусстве, который его отец оттачивал в себе долгие годы. К тому же, чтобы ввести сына «в курс (metre au courant)» происходящего в мире маршанов за пределами Парижа, отец посылал его с картинами в разные города Франции, Голландии, Бельгии, Англии и Германии.
В шестидесятые Полю Дюран-Рюэлю было немного за тридцать, но известность и репутация его уже были высоки.
Его магазины, которые можно было бы назвать и галереями, открылись затем на улицах Лаффит и Лепелетье в районе, где в ту пору была сосредоточена торговля картинами. Как и отец, вначале более всего он интересовался барбизонцами[4], Камилем Коро, Гюставом Курбе, Милле, восхищался Делакруа, хотя не отказывался заниматься и модными мастерами академического толка. Отдавая должное профессионализму вполне салонных, признанных мастеров (например, Кабанеля), считаясь, разумеется, и со вкусами состоятельных и малоискушенных покупателей, он прямо говорил, что, хотя «освященное модой» легче продается, великих художников понимают тем менее, чем более оригинально их искусство. Но все больше увлекался «реализмом» (термин, часто употребляемый тогда и критикой, и самими импрессионистами по отношению к собственному искусству).
Человек необычайно сдержанный, если судить по его воспоминаниям и письмам, даже сухой, он судил о качестве искусства с редкой проницательностью, и выбор его был практически безошибочным.
Он, конечно, сильно рисковал, «поставив» на импрессионистов. Великолепная выставка в Люксембургском музее (Париж) 2014–2015 годов называлась «Дюран-Рюэль. Ставка на импрессионизм (Durand-Ruel. Pari de l’impressionisme)», а вступительная статья в каталоге – «Поль Дюран-Рюэль, этот неисправимый смельчак (oseur impenitent)»[5].
Он рисковал, побуждаемый увлеченностью новейшими исканиями, и нередко оказывался на грани банкротства. Однако мнение его ценилось настолько, что само его внимание было своего рода знаком отличия и свидетельством признания. Недаром в знаменитой, классической теперь уже книге «Архив импрессионистов», изданной в 1939 году Лионелло Вентури[6], Дюран-Рюэль, его письма и воспоминания занимают центральное место.
Он обладал безупречной честностью, точным вкусом, могучим разумом, поразительной энергией и очень добрым сердцем.
И все же остается некая неясность касательно личных художественных пристрастий и выбора Поля Дюран-Рюэля. Он вспоминает, что постоянно и много учился на выставках, оттачивал вкус, тренировал зрение. Но подлинное чувство угадывается только в его суждениях о Делакруа: по собственному признанию, его гениальностью он проникся с «безграничным восхищением», которое вызывал у него позднее «лишь один Коро».
Да, он понимал неизбежность перемен в искусстве и в художественных вкусах. Угадывал с редкой интуицией и приметы этих перемен, и талантливейших художников новой волны. Но так ли он любил их искусство или просто «ставил на них», видя в них создателей иных – даже им до конца не разгаданных ценностей?
Тем не менее он решался на грандиозные приобретения – достаточно вспомнить покупку в начале 1872 года нескольких десятков картин у Мане, за пятьдесят с лишним тысяч франков[7].
Правда, в большинстве случаев он перепродавал с большой, часто огромной выгодой, порой он даже перекупал их заново у своих клиентов, чтобы со временем реализовать еще дороже.
Но он несомненно восхищался отвагой молодых, ему нравились их поиски, он любовался их работами. Однако полюбил ли он их так же, как любил Делакруа, Коро, барбизонцев? И так ли важно это нынче?
В ноябре 1871 года, когда дела Дюран-Рюэля в Лондоне шли уже вполне хорошо, внезапно умерла его жена, оставив его вдовцом с пятью детьми. Он нашел в себе силы продолжать свою деятельность, столь же успешную, сколь и полезную для нового искусства.
Он показывал новую французскую живопись не только в Англии, но и по всей Европе и в Новом Свете. Американские просвещенные зрители узнали и оценили импрессионистов именно благодаря Дюран-Рюэлю, и молодые живописцы потянулись в Париж из Нью-Йорка, Чикаго, Вашингтона.
История его жизни, буде рассказал бы ее кто-нибудь другой, выглядела бы своего рода сагой о безупречном коммерсанте-джентльмене, настоящем знатоке – connaisseur’е. Ведь, помимо продаж, он организовывал превосходные выставки, издавал газеты и журналы, неутомимо утверждая высокое достоинство и благородное новаторство импрессионистов. Лишь в 1890-е годы устроил он семь (!) выставок одного Камиля Писсарро.
Его воспоминания захватывают особой поэзией точно выписанных подробностей и вызывают почтительное доверие – как разговор с человеком высокой и незапятнанной репутации.
Не то – Амбруаз Воллар!
Если Дюран-Рюэль воспринимается персонажем Бальзака – мощным, сильным характером с четко обозначенными предпочтениями, то Воллар куда ближе к героям Мопассана и Золя.
Золя в романе «Творчество» показывает двух маршанов – Папашу Мальгра и Ноде. Персонажи эти, вероятно, навеяны образами папаши Танги, известного всему Монмартру продавца красок с улицы Клозель, торговавшего и картинами, которыми с ним расплачивались художники[8], и Воллара[9]. Воллар, конечно, не вполне циник, описанный Золя. Он – поэт и фантазер, высокие принципы ему не так уж свойственны, но высокие чувства – несомненно. Способный на пылкие увлечения, Воллар, несомненно, немало мифологизировал свои воспоминания, отчасти из лукавства, но главное – от увлеченности. В отличие от Дюран-Рюэля, он разбирался в самой «плоти искусства» – достаточно перечитать его книгу о Сезанне. Воллар писал вовсе недурно, иронично (по отношению к самому себе – тоже), хотя вкус порою изменял ему, а к кончику пера прилипали и сплетни, и откровенное кокетство.
Он тоже обосновался на улице Лаффит, правда значительно позднее Дюран-Рюэля: в 1894 году он открыл, по собственному своему выражению, «лавочку (une petite boutique)» на этой улице в доме 39, между улицами Ла Файет и Шатоден, затем перебрался в соседнее здание под номером 41. И только около 1900 года обосновался в доме 6 – между Большими бульварами и бульваром Осман, в куда более фешенебельном месте той же улицы. Там была открыта и первая выставка Пикассо – в 1900 году.
В отличие от многих своих коллег, он не имел ни наследственной, ни приобретенной с юных лет страсти к искусству. Сначала он (восхищенный блеском мундира морских врачей, которыми любовался еще на своей экзотической родине, на острове Реюньон) решил заняться медициной, затем, напуганный видом крови (мудрый отец дал взглянуть сыну на хирургическую операцию), обратился к юриспруденции и окончил уже в Париже школу права.
В столице он с растущим интересом бродил вдоль витрин художественных магазинов Левого берега. Вскоре стал покупать живопись, начав с картинки на фарфоре за 20 франков, оказавшейся не оригиналом, а всего лишь репликой с работы и без того не слишком великого мастера.
Он первым рискнул широко показать Сезанна и продавать его картины (1895).
Еще в 1892 году он увидел пейзаж Сезанна (берег реки) в витрине лавки папаши Танги. Уже тогда Воллар угадал в этих странных холстах нечто неясное, но грандиозное, обращенное в будущее и сулившее успех: «Меня словно ударили в живот. У меня перехватило дыхание»[10]. Он купил около полусотни продававшихся совсем дешево работ Сезанна. Но разыскать их автора, который летом 1895 года приехал из Экса в Париж, Воллару не удавалось, однако он сумел договориться с художником через посредство его сына – Поля-младшего[11] и вскоре получил картины от самого Сезанна.
Осенью 1895-го в галерее на улице Лаффит, 39, открылась выставка картин Поля Сезанна. Тогда это было рискованным предприятием: Воллара едва знали, да и сам художник только начинал завоевывать робкое признание. Однако Амбруаз Воллар, этот «сонный креол», обладал поразительной интуицией, отличным глазом и профессиональным чутьем. После открытия выставки Жеффруа публикует статью в «Le Journal» от 16 ноября, где, хоть и упоминая снова о перспективной неточности и незаконченности, заметил мощную структурность, организованность сезанновских холстов, угадал и ощущение вечности, оппозиционное импрессионизму.
Спустя несколько лет Воллар стал едва ли не самым известным и почитаемым (после Дюран-Рюэля) торговцем картинами, тем Амбруазом Волларом, о ком будут вспоминать в своих книгах Гийом Аполлинер и Гертруда Стайн, хозяином знаменитого магазина и не менее знаменитого подвала на той же улице Лаффит (но уже в доме 8, между бульварами Итальянцев и Осман): в лавке «царил настоящий хаос (capharnaüm), там громоздились картины современных художников и повсюду властвовала пыль»[12] (Г. Аполлинер), а «сезанны» валялись на антресолях как попало. В «подвальчике (la cave)» Воллар принимал цвет парижской интеллектуальной богемы, и попасть на знаменитые его обеды почиталось честью.
Какие люди бывали здесь, в знаменитом Подвале дома Воллара!
В числе «участников этих подземных пиршеств» Аполлинер называет, помимо «множества хорошеньких женщин», «Принца поэтов» Леона Дьеркса, «Принца рисовальщиков» Форена, Альфреда Жарри, Одилона Редона, Мориса Дени, Мориса де Вламинка, Вюйара, Боннара, Пикассо, Эмиля Бернара, Дерена. Сам Воллар вспоминал и Сезанна, Дега, Ренуара, Родена, а сколько еще побывало там персонажей, ныне забытых, но тогда всем известных. В сущности, мало кто из знаменитых художников не побывал в этом сыром и небогатом, но знаменитом на весь Париж помещении.
«Все слышали про это знаменитое подземелье. Считалось даже хорошим тоном получить туда приглашение отобедать или отужинать. Я был участником нескольких таких пиршеств. Подвальчик с совершенно белыми стенами и полом из плит весьма походил на крошечную монастырскую трапезную.
Кушанья там подавались простые, но вкусные, готовились они по рецептам старинной французской кухни, которая еще не забыта в колониях; их жарили, долго тушили на медленном огне и подавали с экзотическими приправами. (…)
Многие из былых сотрапезников будут сожалеть об этом местечке Парижа, находившемся неподалеку от Бульваров, об этом подвальчике с белым сводом и стенами, не украшенными ни единой картиной, где было так мирно и спокойно» (Аполлинер)[13].
«Симпатичная обезьяна», «сонный креол» Воллар (шутили, что он разбогател во сне, и он сам поддерживал эту мысль!) – в каких только грехах его не упрекали (хотя всегда ценили его честность)! Корили за любовь к сплетням, рассказывали чудеса о его флегматичности, лени, даже грубости с покупателями, из-за которой и заинтересованные любители могли не увидеть интересующие их вещи, как то случилось с Гертрудой Стайн, пришедшей к нему на улицу Лаффит «посмотреть Сезанна» (это произошло уже после выставки Пикассо, скорее всего в 1904 году). Сюжет, рассказанный Стайн в «Автобиографии Алисы Б. Токлас», при всей его нарочитой фантасмагоричности, рисует образ человека, несомненно, обаятельного и своеобычного.
«Воллар был массивный темноволосый человек и он слегка шепелявил (…) Место было невероятное, совсем не похожее на картинную галерею. Внутри, лицом к стене, пара холстов, в углу небольшая стопка больших и маленьких холстов, кое-как наваленных друг на дружку (thrown pell mell on top of one another), в середине комнаты стоял плотный и мрачный темноволосый человек. Это был Воллар в хорошем настроении (cheerful). Когда же он бывал в совсем дурном настроении (cheerless), он перетаскивал свое плотное тело к стеклянной двери, выходившей на улицу, подымал над головой руки, упирался ими в верхние углы дверного проема и мрачно и угрюмо смотрел на улицу. Никто тогда и подумать не мог, чтобы зайти к нему.
Они (Стайны. – М. Г.) попросили показать им Сезаннов. Он стал менее мрачным и сделался чрезвычайно вежливым. Позже мы узнали, что Сезанн был великой любовью всей его жизни (the great romance of Vollar’s life)»[14].
Его упрекали в отсутствии вкуса, в неумении видеть и понимать живопись, а между тем реальная его деятельность, написанные им книги (он оставил превосходные очерки о Сезанне и Ренуаре, записал свои разговоры с этими мастерами и Эдгаром Дега), а главное, те художники, известности которых он поспешествовал, свидетельствуют решительно о другом…
Именно он летом 1901-го устроил первую персональную выставку Пикассо в Париже. Вероятно, Воллар раньше угадал значимость и перспективы Пикассо, чем почувствовал и полюбил его искусство. Тогда осторожный маршан предпочел выставить работы Пикассо вместе с произведениями его «почти соотечественника», баскского художника, в ту пору более зрелого и известного, – Франсиско Итуррино. Маршан был тонким игроком: Итуррино давал некоторые гарантии в смысле репутации и поддерживал «испанскую тенденцию» галереи, где совсем недавно прошла и выставка Исидре Нонеля, уже известного соотечественника Пикассо, прозванного «революционером для традиционалистов».
Как бы ни относился к Пикассо и его картинам Воллар, он, по обыкновению, профессионально позаботился о рекламе выставки: попросил Гюстава Кокьо, в ту пору довольно известного журналиста, знавшего импрессионистов и Родена, подготовить заранее статью для газеты и предисловие к каталогу.
Действительно, Воллар был человеком куда более эмоциональным и пылким, нежели Дюран-Рюэль. Суховатое сожаление, которое (и то весьма редко) встречается в тексте Дюран-Рюэля, не идет ни в какое сравнение с подлинной болью, что не раз звучит в воспоминаниях Воллара. О последних днях жизни Дега он написал, что тот, «испытывая ностальгию… приходил на то место, где раньше стоял дом, но теперь здесь расчищали площадку рабочие. У забора, возведенного вокруг участка, можно было часто видеть старика, который сквозь щели между досками смотрел туда, где была теперь голая земля.
В памяти у меня остался голос торговца скобяными товарами, обращавшегося к своей жене с порога лавки:
– Взгляни на этого бедного старика… Не правда ли, его можно принять за господина Дега?»[15]
Работы Дега, кстати, Воллар публиковал после смерти художника. В тридцатые годы минувшего века Воллар начал издавать роскошные книги, иллюстрированные авторскими оттисками в различных техниках (livres d’artiste)[16].
В числе этих изданий вышли два тома с «иллюстрациями» Дега: «Заведение Телье» Мопассана (1934) и сочинение Лукиана «Гримасы куртизанок (Mimes des courtisanes)»[17], переведенное на французский язык Пьером Луи (1935). Слово «иллюстрации» намеренно взято в кавычки. Эти монотипии (в большинстве с применением пастели), которые Дега начал в 1870-е годы, вовсе не предназначались для публикации в этих или каких-либо иных книгах. Серия называлась «Публичный дом». При жизни художника ее не видел почти никто, и бо́льшая часть монотипий была уничтожена после смерти автора наследниками, радевшими о сохранении репутации покойного мастера.
Конечно, сопоставление работ Дега с книгами Лукиана и Мопассана хоть и заманчиво, но рискованно, факт нового рождения монотипий в текстах – свидетельство поразительной цельности французской культуры и понимания Волларом этой цельности.
В этой связи достоин упоминания анекдотический сюжет, рассказанный Волларом. Не будучи уверенным в том, что эллинские куртизанки носили чулки, в которых (и только в которых) щеголяли героини Дега, издатель обратился за консультацией к знаменитому археологу и историку искусства Саломону Рейнаку. Старый академик сказал ему: «Как это часто бывает, художники интуитивно постигают то, что остается загадкой для ученых мужей. Лично я склонен думать, что греческие гетеры носили чулки. Ибо в противном случае куда бы они прятали свои бабки?[18]»[19]
Две непохожие автобиографии, две разные судьбы. И – две грани «острого галльского смысла»: тонкая рациональность, педантичное знание, с одной стороны, и веселая любовь, осененная профессиональной проницательностью, – с другой.
Они сделали свои ставки, Поль Дюран-Рюэль и Амбруаз Воллар, и выиграли. Но надо признаться: победило в этой «игре» искусство, без этих двух людей история живописи стала бы беднее.
Михаил ГерманПоль Дюран-Рюэль. Воспоминания
Возникновение фирмы Дюран-Рюэль и ее история до 1855 года
Меня часто спрашивали, почему я, с самого начала связанный с крупнейшими художниками века и поддерживавший отношения со множеством выдающихся французов и иностранцев, с коими мне довелось познакомиться в течение моей долгой жизни, никогда не вел записей, для того чтобы впоследствии обработать их и превратить в мемуары, которые, пожалуй, представляли бы известную ценность и уж во всяком случае не были бы лишены интереса.
К сожалению, у меня никогда не было времени писать, и я даже не мечтал об этом. Жизнь моя была такой беспокойной и напряженной, мне так часто приходилось предпринимать долгие поездки по Франции и другим странам, где я, случалось, жил многие месяцы, мои книги и деловые бумаги столько раз перевозились с места на место, что у меня просто не было возможности сохранить или разыскать старые каталоги, книги и документы, которые при случае помогли бы мне освежить свои воспоминания и послужили бы материалом для серьезной работы. Когда мне впоследствии понадобилось навести кое-какие необходимые справки, я вынужден был вновь приобрести все материалы вплоть до каталогов распродаж, которые сам же устраивал, и сверяться с протоколами аукционов. Естественно, что мемуары, предлагаемые мною читателю, страдают неполнотой. Я зачастую должен был полагаться исключительно на свою память, а этого недостаточно.
Когда разразилась революция 1789 года, мой дед по матери Франсуа-Иасент Рюэль был нотариусом в Бельжансье, под Тулоном. Он женился на девушке по имени Клер-Тереза Морель, происходившей из весьма почтенной марсельской семьи. Через одного из наших родственников мы состоим в отдаленном свойстве с семейством Консолá; ее отпрыски, дед которых был мэром Марселя, дружат с моими детьми. Один из родственников этой семьи, господин Гайар де Ферри, которого я знал очень близко, был французским генеральным консулом в Ливерпуле, Гаване и Лондоне. Сыновья его также служили нашими консулами на Востоке и в Африке.
В 1793 году мои дед и бабка, тайно извещенные о том, что их собираются арестовать как подозрительных, бежали на корабле из Тулона в Италию, где и поселились в Ливорно вместе с двумя сыновьями – старшими своими детьми. В Ливорно 10 февраля 1795 года родилась моя мать. Дед мой был совершенно разорен, и ему, как и многим эмигрантам даже из числа самых богатых, пришлось содержать семью, давая уроки.
После падения Робеспьера дед вместе с домочадцами вернулся во Францию, но чересчур рано и потому был арестован, хотя затем и освобожден благодаря заступничеству одного своего влиятельного друга. В течение нескольких лет он состоял секретарем маршала Сульта, который очень его любил. Супруга маршала стала даже крестной матерью четвертого ребенка моего деда – дочери Луизы, родившейся в 1803 году. Крестным ее отцом был полковник Франчески, адъютант маршала. Тетя Луиза всю жизнь прожила с нами – сперва с моими родителями, потом со мной.
Моя мать, получившая, как и оба ее старших брата, весьма солидное образование под руководством моего деда, видела, как трудно ее родителям содержать семью и сводить концы с концами, и, чтобы помочь близким, решилась принять предложение четы Гийо, друзей нашего дома, советовавших ей приобрести у них весьма процветающую писчебумажную лавку, которую они уже много лет держали в доме номер 174 по улице Сен-Жак.
Господин и госпожа Гийо, как настоящие друзья, уступили моей матери свое заведение за очень умеренную цену, причем стоимость его родители мои должны были выплатить позднее, за счет доходов от лавки. Мать моя никогда раньше торговлей не занималась, но смело взялась за новое для нее дело, способное помочь ей устроиться в жизни. Дочь супругов Гийо госпожа Лефор, с которой мы все успели хорошо познакомиться – она дожила до 93 лет, была подругой моей матери в пансионе. Видя, что матери, несмотря на весь ее ум и добрую волю, нелегко справляться с довольно крупным магазином, госпожа Лефор вместе со своими родителями решила выдать ее за старшего приказчика этой лавки Жана-Мари-Фортюне Дюрана. Он родился 6 октября 1800 года в Орé, где в то время жили его родители, и был, следовательно, чуть-чуть моложе моей матери. Его родные были уроженцами Клермона, что в департаменте Уазы. Одна сестра моего отца была монахиней в обители Сердца Христова в Ниоре, другая вышла замуж за бельгийца, господина Фюсса, профессора Льежского университета; благодаря этому браку у нас в Бельгии немало родни. У одного из сыновей дяди, моего двоюродного брата и советника брюссельского кассационного суда, было много детей, с которыми мы сохранили превосходные отношения. Отец мой, воспитанный в весьма христианском духе, был человеком незаурядного ума и отлично справлялся со своими обязанностями. После долгих переговоров и обдумывания они с матерью решили вступить в брак и в середине сентября 1825 года были обвенчаны в старинной церкви Сен-Этьен-дю-Мон. Брачный договор был подписан 15 сентября. Особенно интересны в нем два пункта, явственно доказывающие, что основой этого супружеского союза были отнюдь не деньги. Честно говоря, моя семья никогда не руководствовалась в таких делах корыстными соображениями, и я сам, и мой старший сын Жозеф вступили в брак при таких же примерно обстоятельствах. И вообще, мои родители и я в своей коммерческой деятельности мало, иногда, пожалуй, даже слишком мало, уделяли внимания чисто денежной стороне вопроса. Мы преследовали более возвышенные и более интересные цели, хотя это, к сожалению, и не помогает человеку разбогатеть. Вот эти вышеупомянутые пункты. 1. Моя мать по контракту приносила в семью писчебумажную лавку, оцененную с учетом клиентуры, наличного запаса товаров и т. д. в 10 000 франков, а также белье, платья, драгоценности на сумму в 5000 франков. 2. Мой отец приносил в семью 2000 франков наличными, которые ему удалось скопить, а также платье, белье и т. д. на сумму в 600 франков.
Для тех целей, какими задались мои родители, этого было мало.
Как только мой отец получил возможность самостоятельно распоряжаться в своем заведении, он задумал для увеличения оборота и, естественно, прибылей продавать не только исключительно писчебумажные товары, как это делал господин Гийо, но и те, что нужны живописцам и рисовальщикам: бумагу и холсты всех видов для масла и акварели, краски и наборы красок, мольберты и прочие предметы, необходимые для художников и дилетантов из числа светских людей.
Эта мысль была ему подсказана кое-кем из его друзей, состоявших в близких отношениях с художниками, в частности с молодыми талантливыми живописцами, с которыми вскоре перезнакомился и мой отец. Трое из названных выше друзей сыграли большую роль в его судьбе. Это – господа Марсо, Эрроусмит и Шрот.
Господин Марсо, ученик Шарле и Декана, был и тогда и потом одним из завсегдатаев нашего дома. Он отличался незаурядным умом: начав простым служащим Французского банка, он стал затем генеральным секретарем этого учреждения. В свободное время он усиленно и весьма успешно занимался акварелью.
Господин Шрот, человек более пожилой, был самым компетентным знатоком живописи в те годы. Он много занимался гравюрой и репродукциями, но, будучи натурой художественной и отличаясь щедростью, не нажил состояния и нередко оказывался в затруднительном положении. С помощью одного знакомого мне удалось разыскать одну статью, опубликованную в 1841 году в «L’Artiste». Автор, отзывающийся о господине Шроте весьма лестно, вспоминает в ней об одном из самых трудных периодов его жизни и отмечает, что в это тяжелое для него время он был покинут почти всеми знакомыми, за исключением единственного «честного человека по имени господин Дюран-Рюэль, который отказался участвовать в недостойных происках тех, кто хотел воспользоваться прискорбным положением бедного господина Шрота».
Англичанин Эрроусмит сыграл заметную роль в истории искусства. Он не только поддерживал отношения со всеми художниками своей страны, но и сделал больше, чем кто-либо, для того, чтобы познакомить с ними Францию, где он прожил много лет. Мой отец был с ним очень близок. Эрроусмит был одним из тех, кто уговорил Констебла, тогда еще почти не признанного в Англии, послать на выставку 1824 года те знаменитые пейзажи, которые произвели на ней такое впечатление и так сильно повлияли на талант Делакруа и многих других французских художников.
Эрроусмит открыл в Париже, на улице Сен-Марк, пивную, где всегда, особенно по вечерам, собиралось много посетителей, в частности молодых живописцев, литераторов и светских людей, объединенных страстной верой в новые художественные идеи эпохи. Один из залов пивной Эрроусмит назвал «Зал Констебла» и отвел специально для картин этого великого художника. Отец рассказывал мне, что купил у Эрроусмита многие из них, и в частности висевшее в этом зале огромное полотно, которое стоило бы сегодня бешеных денег. Я лично не знал господина Эрроусмита, но был близко знаком с господами Шротом и Марсо.
На вкусы отца сильно повлиял еще один человек, тоже англичанин, которого я, по-моему, никогда не видел, потому что был в то время еще ребенком. Это господин Браун, отец хорошо нам всем известного художника Джона Льюиса Брауна. Впоследствии он разорился, но тогда был богатым коммерсантом и жил в Бордо. Любитель живописи, особенно акварелей, он располагал большим количеством картин Бонингтона, своего любимого художника. Он сильно укрепил моего отца в намерении торговать произведениями представителей английской школы, в частности акварелистов. Последние нередко наезжали в Париж, порой даже поселялись там и начинали завоевывать признание у наших художников и некоторой части любителей.
Отец был человеком, не лишенным вкуса, пылким и предприимчивым. Поощряемый друзьями, о которых я рассказывал выше, он договорился с художниками, что в уплату за приобретаемые у него товары он будет принимать акварели, картины и литографии – техническую новинку, недавно привезенную во Францию английскими художниками и быстро перенятую некоторыми их талантливыми французскими собратьями: Жерико, Шарле, Деканом, Делакруа, Домье, Раффе и другими. Отец одним из первых начал покупать литографии. Одним из первых он стал также покупать акварели английских живописцев и тех из многочисленных французских художников, кто, по примеру английских коллег, уже создавал выдающиеся работы в этом жанре.
В меру своих тогда еще очень ограниченных возможностей отец начал также покупать кое-какие вещи у Декана и Шарле, с которыми близко сошелся, у братьев Девериа и Жоанно и других молодых художников этого поколения, в частности у Кабá, Флера, Рокплана, Теодора Руссо, Жюля Дюпре и их друзей из группы, прославившейся затем под именем школы 1830 года[20].
Я родился 31 октября 1831 года в том самом старом доме на улице Сен-Жак, где мой отец, как уже сказано, постепенно расширял круг своих операций и приобретал известность как знаток, друг и покровитель художников. Я был четвертым по счету ребенком в семье. Первым был мальчик, родившийся мертвым, вторым – девочка, прожившая всего несколько месяцев, третьим – моя старшая сестра, появившаяся на свет 27 октября 1827 года, нежная подруга моей юности, мой друг и опора во многих житейских перипетиях. Мы имели несчастье потерять ее 30 июля 1856 года, после долгой и мучительной болезни. Смерть ее намного сократила жизнь моего отца и сильно сказалась на моей дальнейшей жизни и моих замыслах.
Дом на улице Сен-Жак, где я провел раннее детство, был снесен совсем недавно, и я до сих пор храню нежные воспоминания о нем. Мы занимали большую квартиру на втором этаже, над магазином; с нами, то есть с родителями, сестрой и мною, жили еще бабушка и тетя Луиза.
Мы поддерживали особенно близкие отношения с семьей старшего брата моей матери, безвременно скончавшегося и оставившего без всяких средств к жизни вдову и семерых детей. Последние всегда считали тетку своей второй матерью, и она вполне заслужила это своими самоотверженными заботами о сиротах. У моего покойного дяди было двое сыновей и пять дочерей, из которых замуж вышла только одна. Остальные кончили свою жизнь монахинями, а до этого были гувернантками в почтенных домах друзей их отца, взявших на себя все расходы, связанные с превосходным образованием, которое постарались дать моим кузинам. В числе этих друзей были господин Легран и господин Вильмен, позднее министр Луи-Филиппа, а также господин Лардуэн, советник кассационного суда.
Ввиду того что в магазин отца год от году поступало все больше интересных и талантливых произведений, число клиентов вскоре увеличилось, а дела приобрели известный размах. В лавке отца назначали друг другу свидания, встречались, а затем и приводили туда своих приятелей все, кто интересовался новыми течениями в искусстве. Среди завсегдатаев магазина были юные принцы Орлеанские, учившиеся в ту пору в коллеже Генриха IV. Сначала они покупали у нас то, что им нужно было для занятий, но постепенно приучились подолгу рассматривать литографии, рисунки, акварели и картины, принадлежавшие моему отцу. С тех пор они всегда оставались нашими клиентами, и герцог Омальский с принцем Жуанвилем не раз напоминали мне об этих давно минувших днях. Принц Жуанвиль, в частности, в шутку рассказал мне однажды, как король Луи-Филипп выбранил его за то, что он купил у моего отца картину Марильи, только что отвергнутую Салоном. Тогда это в глазах многих было чуть ли не преступлением.
В самом деле, мой отец начал свою деятельность в момент ожесточенной борьбы между неоантичной школой, представленной Давидом, родившейся в результате развития якобинских идей революции, и целой группой молодых живописцев и литераторов, талант и воззрения которых сформировались под влиянием работ Гру, Жерико, Прюдона, Делакруа, Бонингтона, Констебла и других французских и английских художников. Безапелляционные доктрины Давида, Герена и их последователей оказались недостаточно убедительны для тех их учеников, в ком горел священный огонь таланта; эти доктрины связывали их, и, чтобы вырваться из гнетущей атмосферы мастерских своих наставников, такие молодые люди шли в Лувр изучать великих мастеров, в чьих творениях они старались почерпнуть секреты мастерства. Некоторым из этих молодых людей довелось в юности видеть там несравненную коллекцию шедевров, вывезенную Наполеоном из различных европейских музеев. Именно Лувр стал первым источником вдохновения для Жерико и Делакруа, не имевших, в отличие от Гру и Прюдона, счастливой возможности провести несколько лет в Италии. Коро, Домье, Раффе, Гаварни, Марилья, Тройон, Изабе, Диаз, Ж. Дюпре, Бари, Т. Руссо, Милле и другие поклонники Гру, Жерико, Бонингтона и великих луврских мастеров поочередно появлялись в лавке моего отца и становились завсегдатаями и нашего дома. Дебютировать им было весьма нелегко ввиду сопротивления, какое им, естественно, оказывали ревностные сторонники того, что именовалось классическим искусством. Отец безоговорочно встал на сторону этих художников и, несмотря на скромные свои возможности, вскоре оказал им некоторые важные услуги. Надо сказать, что всем этим великим живописцам, как правило, жилось очень нелегко, потому что их не покупал никто, кроме немногих друзей, кошелек у которых в большинстве случаев был тоже весьма тощ. Поэтому скромные покупки моего отца были для них как нельзя более кстати. От безвкусия своей эпохи страдали даже Делакруа и Коро; несмотря на их гениальность, им много лет подряд не удавалось продать ни одной картины. К счастью, они родились в богатых семьях, и им было на что жить; это позволило им продолжать свои поиски и создать шедевры, прославившие их.
Еще одной интересной личностью, с которой отец завязал деловые связи с тех пор, как занялся предметами искусства, была госпожа Юлен, занимавшаяся продажей картин; ее лавка находилась на улице де ла Пэ и имела довольно большую клиентуру. Она первая стала покупать произведения Бонингтона, Делакруа, Жерико и их друзей.
Заведение госпожи Юлен процветало, и это в значительной мере облегчало ей отношения с большинством любителей, с иностранцами и богатыми семьями, в то время как отцу было довольно трудно наладить торговлю предметами роскоши, так как магазин его был расположен в той части города, которая была удалена от богатых кварталов и населена в основном студентами.
В 1833 году, видя, что операции с картинами приобретают все более широкий размах и отодвигают на задний план торговлю писчебумажными товарами, отец почувствовал необходимость перебраться поближе к кварталам, где жили многие его клиенты и большинство тех, кому состояние позволяло войти в их число.
Он передал лавку писчебумажных принадлежностей на улице Сен-Жак на попечение ван Блотаня, одного из своих приказчиков, и открыл филиал своего заведения, предназначенный исключительно для торговли картинами и товарами для художников; филиал этот находился в очень удачном месте – в доме номер 103 на улице Пти-Шан, почти на углу улицы де ла Пэ. Квартиру на улице Сен-Жак отец оставил за собой, и мы жили в ней до 1839 года, когда отец, удовлетворенный результатами своего начинания, продал писчебумажный магазин вышеупомянутому приказчику и целиком посвятил себя торговле тем, что его особенно интересовало.
Мы переехали жить сначала на шестой этаж дома номер 25 по бульвару Капуцинок, а затем в дом номер 7 по улице де ла Пэ, также на шестой этаж.
Когда в 1834 году скончалась госпожа Юлен и никто не унаследовал ее дело, новый магазин отца стал главным местом встреч для тех, кто интересовался современным направлением в искусстве. Все они часто приходили к отцу смотреть на выставленные у него новые вещи.
Любителей находилось тогда еще мало, особенно на те картины, которые предпочитал покупать отец и которые, кстати сказать, продавались по таким ничтожным ценам, что операции с ними приносили лишь очень скромную прибыль. Поэтому торговлю предметами искусства, дававшую столь скромный доход, вели тогда в Париже, кроме отца, лишь Альфонс Жиру, чей магазин помещался на углу улицы Мадлен и бульвара Капуцинок, Сюсс – на площади Биржи и Бириан – на улице Кле, причем все трое занимались картинами лишь попутно, наряду с другими, более выгодными делами. Жиру, например, торговал в основном различными предметами роскоши, подарками, играми и т. д.; Сюсс имел фабрику и торговал бронзовыми изделиями; Бириан был владельцем фабрики холстов и других товаров для художников.
Продажа картин, акварелей и рисунков приносила тогда очень мало, потому что даже за самые великолепные вещи цены давались смехотворно низкие. Все три вышеназванные фирмы, равно как и магазин отца, покрывали свои расходы лишь за счет доходов от проката картин и рисунков, широко практиковавшегося в те времена. Светские люди, желавшие заняться живописью, и преподаватели рисования в коллежах и лучших частных школах за известную помесячную плату брали напрокат картины и рисунки известных живописцев, а затем копировали их сами или давали копировать своим ученикам. Такая операция зачастую приносила больше, чем доход от продажи картин и рисунков.
В 1843 году наш домовладелец решил сильно повысить арендную плату, но отец не согласился на это и совершил большую ошибку, расставшись с магазином, расположенным так удачно и позволившим завязать нужные связи. Отец подыскал новое помещение почти напротив старого, в доме номер 83 по той же улице; оно было просторней, чем прежнее, стоило сравнительно недорого, но находилось не столь на виду. Состояло оно из магазина окнами на улицу, предназначенного для розничной торговли, и большой квартиры на втором этаже. В квартире, кроме жилых комнат, было два просторных зала, образовывавшие как бы галерею, на хорошо освещенных стенах которой мы имели возможность вывешивать часть наиболее примечательных картин из тех, что принадлежали нам. Те же, что были проданы художниками совсем недавно, а потому, как правило, не успели просохнуть, оставались слишком влажными и не смотрелись еще достаточно хорошо, украшали стены наших жилых комнат в ожидании часа, когда их можно будет показать.
Посреди зала стояли столы, неизменно украшенные прекрасной бронзой Бари. Представление о нашем магазине дает литография, которую отец заказал тогда еще почти безвестному Добиньи в качестве фронтисписа к выпущенным нами в 1845 году двум томам репродукций с ряда картин Делакруа, Прюдона, Декана, Жюля Дюпре, Марильи, Флера, Шарле, Диаза, Раффе, Гаварни, братьев Жоанно, Девериа и др. Эти тома вышли под названием «Галерея Дюран-Рюэля»[21].
Несмотря на все усилия моего бедного отца, прибыли не покрывали расходов и долговых обязательств. Тогда он решил, что единственным средством, которое позволит ему выйти из этого катастрофического положения и продолжать поддерживать своих друзей, будет открытие филиала магазина в самом оживленном квартале Парижа, где всегда много биржевиков и иностранцев. С этой целью в конце 1846 года он снял за 15 000 франков – для того времени бешеные деньги – магазин, великолепно расположенный на углу Итальянского бульвара и улицы Шуазель. Это было смелое решение, если вспомнить, как плохо было тогда у отца с деньгами, но его расчет оправдался, и он быстро бы достиг долгожданной цели, если бы не событие, предвидеть которое не мог никто.
Открытие нового магазина навело отца на мысль, что мне, пожалуй, пора прервать занятия в Бурбонском коллеже, где я был приходящим учеником, и он взял меня в приказчики, чтобы, помогая ему, я понемногу приобрел вкус к делам.
Ряд выдающихся произведений, которые отец скупил и поочередно выставлял теперь в витринах, немедленно привлек в магазин толпу любопытных, и вскоре у нас образовался новый круг покупателей из числа любителей-иностранцев. Дела приняли совершенно иной оборот по сравнению с тем, что было в последние годы, и мои родители надеялись уже, что в скором времени все трудности останутся позади.
К несчастью, через год с небольшим после нашего переезда неожиданно, как гроза, разразилась февральская революция 1848 года, разрушившая все наши радужные надежды. Кредит был подорван, и всеобщая паника достигла таких размеров, что пятипроцентная рента упала до 40 франков. Столь мрачная ситуация перепугала моих родителей, особенно после того, как отец чуть не погиб в июне 1848 года, когда вместе со своим батальоном Национальной гвардии штурмовал одну из баррикад. Беспокоясь прежде всего о том, чтобы честно выполнить свои денежные обязательства, отец с матерью сочли первейшим своим долгом свести к минимуму расходы. Они сдали в аренду дорогостоящий филиал нашего магазина, решив, в ожидании лучших времен, отказаться от новых покупок и ограничиться розничной торговлей, а также прокатом картин и рисунков, доход от которых мог, на худой конец, покрыть их скромные текущие расходы, а отчасти и задолженность. Это решение оказалось роковым, потому что оно лишило моих родителей возможности возобновить выгодные операции после того, как минует гроза, которая к тому же оказалась более кратковременной, чем мы опасались. Как только государственный переворот 2 декабря завершился успехом, кредит начал восстанавливаться; но ошибка была уже совершена, и мои родители оказались опять заперты в четырех стенах своего злополучного помещения, что помешало им воспользоваться новым оживлением в торговле картинами, которое не замедлило наступить.
Все эти неудачи, происходившие на моих глазах, усугубили во мне отвращение к торговле. Я испытывал его в течение всего года, проведенного мною в магазине на бульваре, и не проходило дня, чтобы я не сожалел о прерванном не по моей воле ученье. Когда отец закрыл филиал своего магазина и моя помощь стала ему менее необходима, я опять с удовольствием сел за книги и под присмотром одного из братьев моей матери, бывшего капитана-артиллериста, подготовился к экзаменам на звание бакалавра, которые и сдал в марте 1849 года. Еще больше укрепившись в намерении не заниматься коммерцией, я сообщил родителям о своем желании стать военным, потому что эта карьера, равно как и деятельность миссионера, всегда казалась мне самым прекрасным и самым подходящим для меня занятием в жизни. Мое решение огорчило родителей, рассчитывавших, что я останусь при них и буду им помогать, но они все-таки позволили мне вернуться в прежний коллеж, преобразованный к тому времени в лицей Кондорсе, и посещать там курсы по подготовке в Сен-Сирскую школу, куда я и был принят в 1851 году.
Экзамены сильно утомили меня, я заболел и долго не поправлялся. Родители и врач, лечивший меня, объяснили мне, что состояние здоровья исключает для меня всякую возможность поступить в военную школу; я долго колебался, но в конце концов, смирившись и вняв голосу долга, подал военному министру прошение об отчислении и остался при родителях, чтобы помогать им.
Мелкая повседневная суета, связанная с торговыми делами, поглотила меня, но я все же старался учиться, посещая музеи и знакомясь с частными собраниями. Милле, Руссо, Диаз, Дюпре, Марилья, с которыми я часто общался, также очень помогли мне развить свой вкус. Кроме того, выставки, где экспонировались творения наших великих художников, и распродажи, через которые проходило немало их полотен, постоянно давали мне отличную возможность оценить их творчество и сравнить его с продукцией модных живописцев. В частности, картины Делакруа так поразили меня, что я проникся безграничным восхищением перед его гениальностью, – восхищением, равное которому у меня вызывал позднее лишь один Коро.
Катастрофические последствия революции 1848 года для моих родителей сделали их в высшей степени осторожными. Им пришлось резко ограничить закупки картин и перенести центр тяжести на побочные отрасли своей профессии, где они без риска могли заработать скромные средства к существованию. Это было весьма прискорбно: как только кредит восстановился, торговля картинами приобрела новый размах, и коммерсанты, недавно занявшиеся этим делом, – Франсис Пти, Бенье, Детримон, Тома, Кашарди, Февр, Вель и др., которых, в отличие от нас, не поглощала мелочная торговля в розницу и которым не приходилось гасить былую задолженность, смогли направить всю свою энергию и средства на покупку и продажу картин.
Даже фирма Гупиль, до сих пор занимавшаяся почти исключительно изданием гравюр и покупавшая полотна только тех авторов, которых она репродуцировала, например Делароша, Ари Шеффера и Ораса Верне, теперь также всерьез заинтересовалась торговлей картинами.
Не следует, однако, думать, что возобновление деловых операций и активность новых наших собратьев немедленно сказались на ценах на все те произведения, которыми столько и так малоуспешно занимался мой отец. Большинство их находило сбыт лишь с большим трудом и притом по ничтожным ценам. Считалось, что они недостойны занять место в крупных собраниях, поэтому их покупали только редкие знатоки да ловкие спекулянты, готовые немедленно перепродать свои приобретения, если это сулило барыш. За границей же наши великие художники были в большинстве своем неизвестны даже по имени.
В надежде найти новых покупателей Диаз и Руссо попробовали завязать непосредственные отношения с любителями путем публичных распродаж своих картин, но эта попытка не дала обнадеживающих результатов.
На распродаже, устроенной Диазом в 1849 году, его «Эффект сумерек» был куплен за 65 франков, «Этюд с березой» – за 75 франков, и только за одну очень красивую «Цыганскую сцену» он получил 500 франков. В последующие годы Диаз несколько раз повторил свой опыт, но столь же малоудачно и больше не возвращался к нему до 1857 года, когда успех художника в Салоне привлек к нему известное внимание публики.
Руссо предпринял такую же неудачную попытку в 1850 году. Я разыскал кое-какие сведения о ценах на этой распродаже, где фигурировали первоклассные и весьма важные произведения. «Окрестности Амьена» пошли за 426 франков, «Окрестности Парижа» – за 425, «Озеро утром» – 300, «Плато Бельнуа» – за 605, «Пастбище в Оверни» – за 275, «Ловец форели» – за 990, «Этюд со стволом дерева» – за 400. А ведь талант Руссо был тогда в самом расцвете. Чтобы не продавать картины на слишком невыгодных для него условиях, художник попросил моего отца придержать его полотна, пока цены не поднимутся до определенного и, кстати сказать, очень скромного уровня. Половину их Руссо вынужден был выкупить за отсутствием достаточного спроса на них, и я до сих пор помню, в каком отчаянии был этот бедный художник, сильно нуждавшийся в деньгах, когда увидел, что множество его великолепных картин висит, не находя сбыта, в наших залах на улице Пти-Шан. Позднее я не раз видел многие из этих полотен на распродажах, где за них порой давали бешеные деньги, и в собраниях выдающихся коллекционеров, которые приобрели их по весьма дорогой цене.
Одно из этих полотен, купленное позднее господином Исааком Перейрой, было после смерти этого знаменитого финансиста продано его вдовой за 500 000 франков американскому торговцу, а тот перепродал его за миллион некоему нью-йоркскому любителю. Мой же отец, по поручению самого Руссо, снял это полотно за 1500 или 2000 франков с одной из распродаж картин злополучного художника. Я отлично помню, как после распродажи на улице Пти-Шан отец перевез в наши залы многие другие великолепные картины бедняги Руссо, которому не повезло и на этот раз.
1855–1868
В 1855 году открылась большая Всемирная выставка, имевшая огромный успех. Отдел изящных искусств был размещен в просторных галереях, специально выстроенных для этого на авеню Монтень. Энгр послал туда 40 картин, Делакруа столько же. Декан выставил 45 полотен и 9 больших рисунков, Орас Верне – 21 картину, Шенавар – 19, Т. Руссо – 13, Месонье – 9, Тройон – 9, Коро – 6, Диаз – 6, Добиньи – 4, Милле – всего 1. Жюль Дюпре не прислал ничего.
Энгру и Орасу Верне были отведены две длинные галереи. Выставка второго из них привлекла огромное количество зрителей, без устали восторгавшихся его полотнами, в частности большими батальными сценами, привезенными из Версаля. Напротив, Энгра оценили лишь немногие посетители, хотя художник был представлен многими своими шедеврами.
Между двумя этими большими галереями находился гигантский центральный зал, где показывались произведения многих художников. Над всеми с блеском царил Делакруа. Целая треть зала была занята его шедеврами, созданными за 30 лет творчества. Эти картины в целом представляли собой такое захватывающее зрелище, отличались таким великолепным колоритом, тонкостью и гармонией, что вызывали возгласы восхищения даже у тех, кто до сих пор не признавал гений художника. Это была полная победа живого искусства над искусством академическим. Я до сих пор помню, какое впечатление произвели на меня создания великого мастера, собранные в этом зале. Они окончательно открыли мне глаза и укрепили меня в убеждении, что, может быть, и я сумею в своей скромной сфере сослужить кое-какую службу подлинным людям искусства, способствуя тому, чтобы публика поняла их и полюбила.
Все 45 картин Декана были вывешены на одной стене в другой галерее, но в совокупности не производили особенно выгодного впечатления по причине общей тяжеловесности выполнения и чрезмерного неистовства эффектов. Они охладили тот восторг, с которым я относился к произведениям этого художника, всегда в большом количестве имевшимся у моего отца.
Напротив, шесть картин Коро, представлявших собой подлинные шедевры, были по достоинству оценены избранной частью публики – художниками и знатоками. Одно из этих полотен бордоский музей приобрел в 1858 году за 5000 франков. Сегодня оно стоило бы миллион. Другая картина, «Воспоминание о Мортфонтене», была куплена императором, а затем последовательно находилась в частных собраниях Ренбо, Тавернье и Шошара. Сегодня она висит в Лувре.
Успех Коро разделил и Руссо, выставивший 13 весьма примечательных вещей. Позже десять из них перешли в мою собственность.
Курбе послал на выставку большое число своих произведений, но приняли туда только десять из них. Впоследствии почти все эти вещи, как, впрочем, большинство его лучших созданий, прошли через мои руки. Раздосадованный отказом жюри принять основную часть представленных им картин, Курбе выстроил неподалеку от официальной выставки большое здание и устроил в нем свою персональную выставку, экспонировав не только отвергнутые картины, но и большое число других своих выдающихся полотен. Публика и даже большинство любителей признали большой и мощный талант Курбе лишь по прошествии многих лет, но как только это произошло, он сразу же начал оказывать влияние на многих молодых художников, в частности на Уистлера и всех импрессионистов. Затем Курбе перевез свою выставку в Мюнхен и во Франкфурт, где она произвела сильное впечатление на всех молодых живописцев.
Милле показал лишь одну картину, изображавшую крестьянина за прививкой дерева. Это великолепное полотно осталось совершенно непонятым, пресса яростно раскритиковала его, и оно возвратилось в мастерскую злополучного художника. Тогда добрый Руссо, в распоряжении которого по счастливой случайности оказалась некоторая сумма денег, явился к Милле и объявил, что один любитель поручил ему, Руссо, приобрести для него картину за 4000 франков, каковые он тут же вручил автору. Руссо прибег к этой уловке, чтобы не обидеть щепетильного Милле, который ни за что не продал бы картину, если бы знал, что ее покупает бедняк Руссо, страдавший от нужды не реже, чем он сам. Несколько позднее Руссо продал эту великолепную картину своему другу Хартману. На распродаже коллекции этого любителя в 1882 году за картину дали 133 000 франков. Теперь она принадлежит господину Уильяму Рокфеллеру из Нью-Йорка и стоит безумные деньги. Я с большим удовольствием еще раз посмотрел ее в 1886 году, когда вместе с сыном Шарлем знакомился с собранием названного выше коллекционера.
Йонгкинд, великий художник, оказавший, наряду с Делакруа, Коро и Курбе, наиболее сильное влияние на современную живопись, и в частности на импрессионистов, послал на выставку две картины, оставшиеся незамеченными, если не считать нескольких знатоков. Превосходные марины этого весьма оригинального голландца, ученика Изабе и пылкого поклонника Коро, продавались тогда по смехотворно низким ценам. Я видел, как некоторые из них шли на распродажах по 30–40 франков.
Добиньи был представлен четырьмя очаровательными пейзажами. Талант его достиг тогда апогея.
Рикар выставил десять восхитительных портретов. Этот умелый художник, достойный соперник великих мастеров, секреты которых он постиг, делая великолепные копии с их творений, был замечательным рисовальщиком, тонким и чутким колористом. Равного ему портретиста нет до сих пор. Мы с ним были очень близки, и после его смерти я осуществил распродажу его мастерской.
Как всегда, зрители теснились у картин Месонье, привлеченные тем мастерством и добросовестностью, с какими он разрабатывал свои маленькие сюжеты.
Не меньшее количество публики привлекли к себе и вещи Кутюра, выставившего наряду с «Римлянами эпохи упадка» своего знаменитого «Сокольника» и два портрета. С той поры у меня завязались отношения с этим художником. Я приобрел у него различные картины. Он был безусловно талантлив, но чересчур высокомерен и неприятен как человек.
Зрители толпились также перед «Последними жертвами террора» Мюллера, «Сенокосом» Розы Бонёр и некоторыми другими полотнами, доступными широкой публике.
Шенавар, ученик Энгра и Эрсана, выставил ряд композиций, которыми первоначально собирался декорировать Пантеон по заказу правительства, полученному им в феврале 1848 года. Когда Наполеон III вернул Церкви это здание, Шенавару пришлось прервать работу, а его композиции так и не украсили Пантеон.
На этой достопамятной выставке фигурировало много других интересных картин. На ней можно было видеть полотна, подписанные именами членов Французского института и тех, кто следовал их традициям: Эбера, Кабанеля, Бугро, Барриа, Леневё, братьев Бенувиль, Эмиля Леви (все до одного лауреаты Римской премии)[22], Жерома, Амона, Глейра (учителя Моне, Ренуара и Сислея), Жандрона, Конта и т. д. Были на ней представлены и другие, подлинно талантливые художники, чьи имена я с удовольствием привожу здесь: Каба, Флер, Поль Юэ, Алиньи, Гаспар Лакруа, Сисери, Эрвье, Диаз, Барон, Зием, Тассер, Бонвен, Жаден, Шаплен, Рокплан, Браскасса́, Гийомен, братья Леле, Бида, Альфред Дедрё, Эжен Лами, Филипп Руссо, Гюстав Доре, Сен-Жан, Жанрон, Пильс, Ризенер, Филиппото, Деоданк, Жигу, Монжино, Марешаль из Меца, Кальс, Булар, Бершер, Доза, Тенбаль и много других, вещи которых с полным основанием ценятся и сейчас.
Как все это не похоже на официальные выставки наших дней!
В 1856 году отцу пришла удачная мысль переехать с улицы Пти-Шан в дом номер 1 по улице де ла Пэ. Новый магазин был расположен чрезвычайно выгодно, и наши операции сразу значительно расширились. У нас появились новые клиенты, и нам удалось продать много прекрасных картин за границу – в Германию, Россию, даже Америку, несмотря на всяческие помехи, чинимые нам другими торговцами, которые до тех пор отправляли туда довольно скверные полотна.
Чтобы расширить связи фирмы и лично познакомиться с обстановкой на рынке вне Парижа, я предпринял поездки в Лион, Бордо, в Бельгию, Голландию, Англию, в Берлин и Ганновер, всякий раз захватывая с собой картины, что позволяло мне не только приобретать полезные сведения и посещать иностранные музеи, но одновременно и делать дела. В Лондоне, куда я ездил неоднократно, я продал много разных произведений крупнейшим местным торговцам – Эгнью, Уоллису, Гэмберту, а также герцогу Омальскому, с которым я не раз встречался в Туиккенхеме. Сделал я там и несколько выгодных покупок – в частности, приобрел у Гэмберта три знаменитые картины Ари Шеффера: «Маргарита у фонтана», «Маргарита в церкви» и очень красивый «Крестный путь». Эти три примечательных полотна немедленно привлекли к нам на улицу де ла Пэ многочисленных любителей и имели у них шумный успех.
Действительно, то, что освящено модой, всегда продается быстрее, чем творения подлинно великих художников, которых публика понимает тем меньше, чем они оригинальнее и неповторимее.
Я сам на горьком опыте убедился в этом позднее, когда упорно вел две дорогие моему сердцу кампании. Первая из них, более понятная широкой публике, имела целью доказать ценность произведений прекрасной школы 1830 года. Вторая же, предпринятая мною в защиту тех, кого прозвали импрессионистами, обошлась мне гораздо дороже, потому что принесла много неприятностей и большие денежные потери. Мне казалось, что цены на картины настоящих художников чрезвычайно низки в сравнении с теми, которые давались за полотна модных живописцев вроде Ораса Верне, Делароша, Ари Шеффера. Последние были, разумеется, далеко не бесталанны, но их успех у публики объяснялся прежде всего сюжетом, доступным пониманию широкого зрителя. Кроме названных мною лиц, был еще Месонье… Месонье, чьи маленькие картины с каждым днем росли в цене, не был великим художником, но отличался добросовестностью, работоспособностью и выдающимся профессиональным мастерством. Эти достоинства позволяли ему доводить свои вещи до такой степени тщательности, которая вызывала восхищение тех, кто ценит и понимает в картине лишь отделанность всех ее деталей. Кроме четырех вышеупомянутых живописцев и Энгра, была еще уйма не очень талантливых, хотя более или менее ловких художников, задававшихся лишь одной целью – понравиться публике, потрафляя ее пристрастию к приятным или забавным сюжетам и традиционным пейзажам, выполненным разумными приемами, усвоенными в Школе изящных искусств. Именно они добивались успеха в Салонах, именно перед их произведениями, продававшимися порой по очень высоким ценам, толпилась публика.
В 1862 году я женился, а вскоре мой отец, уже страдавший серьезным недугом, который в 1865 году свел его в могилу, был вынужден передать мне руководство делами фирмы.
В те времена торговля картинами была еще совсем не тем, чем она стала впоследствии: размах операций был чрезвычайно ограничен, покупателей было немного, а вещи художников, которым мы уделяли особое внимание, считались весьма спорными и раскупались из рук вон плохо. Большое количество этих вещей оседало в мастерских художников, у торговцев и мелких любителей, обладавших только вкусом, но отнюдь не состоянием и поддававшихся соблазну по дешевке приобрести хорошую картину. В меру своих возможностей я начал где только мог скупать такие полотна и, ободренный успехом первых своих операций, собрал у себя значительную коллекцию.
Вплоть до 1870 года мне усиленно помогал один из моих коллег, недавно занявшийся торговлей картинами и разделявший мои вкусы. Брам был человек очень энергичный и пылкий, превосходно умел торговать, но располагал, к несчастью, весьма ограниченными ресурсами, что зачастую вынуждало меня брать на себя его долю расходов и порой чересчур утяжеляло лежавшее на мне бремя.
За произведения своих любимых художников мы давали относительно высокую цену; поэтому другие торговцы всегда охотно уступали нам картины, проходившие через их руки. Большое количество полотен приобрели мы и у коллекционеров: Бурюэ-Оберто, Мармонтеля, Исаака Перейры, Баройе, Дидье, Тесса, Буайара, Биндера, Боке, Маргерита, Вормс де Ромильи, Вийо, ван Кейка, Дюглере, Ларрье, Аллана и Краббе из Брюсселя. Мы даже купили несколько коллекций целиком, в частности коллекцию принца Наполеона в Пале-Рояле. Многое мы покупали и у самих художников.
Коро, например, уступил нам множество великолепных картин по ценам, кажущимся сегодня чем-то невероятным, например «Мост в Манте» за 800 франков и «Мариссельскую церковь», выставленную в Салоне в 1867 году, – за 1200. Позднее господин Моро-Нелатон заплатил за первую княгине Полиньяк 40 000 франков, а вторая была продана за 108 000 франков на распродаже Мам (1904). Кроме этих картин средних размеров, мы получили от Коро большие полотна, многие из которых уже выставлялись в Салонах прошлых лет и вернулись непроданными в мастерскую художника, в частности «Макбета», приобретенного позднее галереей Ричарда Уоллеса. Коро уступил нам эту вещь за 6000 франков. Приобрели мы у него также «Замок Пьерфон», «Озеро Неми», недавно проданное в Нью-Йорке за 85 000 долларов, «Праздник Вакха», «Вечер», «Утро», «Воспоминание о Виль-д’Авре» и «Танец нимф», фигурировавшие в Салоне в 1864–1870 годах.
Милле, Курбе, Дюпре, Диаз, Добиньи также уступили нам много своих картин всех размеров, а Домье и Бари – великолепные акварели, полотна и значительное количество прекрасных работ из бронзы, продающиеся сегодня в двадцать раз дороже, чем тогда[23].
В то время почти на каждой распродаже можно было найти немало картин наших художников, и мы приобрели большое количество их, никогда не покидая аукциона с пустыми руками, если только цены не казались нам слишком высокими. Таким образом, нам удалось поднять стоимость произведений наших художников до еще невиданного уровня. Например, в 1868 году на распродаже коллекции богатого египтянина Халил-бея, составленной почти исключительно из вещей, которые он купил у нас, мы вторично приобрели за 46 000 франков «Убийство епископа Льежского» Делакруа (Халил-бей дал нам за нее 39 000 франков) и за 27 000 «Каштановую аллею» Руссо (за нее мы получили от Халил-бея лишь 14 000). Такие цены казались чрезмерными, и я мог еще считать, что мне повезло, когда вскоре после этого продал обе картины госпоже де Кассен за 80 000 франков.
В 1912 году я устроил в отеле Друо распродажу собрания названной выше дамы, ставшей впоследствии маркизой Каркано. Делакруа купил господин Тобер за 205 100 франков, Руссо – Луврский музей за 270 000.
Мы приобрели большое количество других первоклассных произведений на распродажах коллекции барона Мишеля, господина Вийо, герцога де Морни, принца Акуила, господина де Мармонтеля, Дидье, Нарышкина, князя Демидова, маркиза дю Ло; на последней я, в частности, купил знаменитых «Танжерских одержимых» за…
Последней большой распродажей 1870 года была распродажа коллекции Эдвардса. Поскольку все свои картины он приобрел у меня, я счел за благо не руководить лично аукционом в качестве эксперта, а возложить эту обязанность на своего коллегу Аро. Выручка составила 547 000 франков, и я купил для себя 14 картин, стоивших 232 000 франков, в том числе 5 вещей Делакруа, 3 – Жюля Дюпре, 2 – Т. Руссо и 4 – Гойи. На этой распродаже фигурировали, между прочим, такие шедевры, как «После дождя» Руссо и «Стадо на мосту» Жюля Дюпре (со Всемирной выставки 1867 года). Две последние картины я продал господину Эдвардсу за 30 000 франков. Позднее они были отданы с торгов – первая за 30 600, вторая – за 39 000 господину Де Кандамо, который лет через пять – шесть перепродал их за миллион сенатору Кларку.
Эти частые покупки, да еще по ценам, непривычно высоким для того времени, наделали шуму и вызвали известное волнение как во Франции, так и за границей. Они привлекли ко мне в магазин многих любителей, но это отнюдь не облегчило моего финансового положения, и если бы я внял голосу благоразумия, то не позволил бы своей страсти завести меня так далеко. Чтобы сохранять цены на определенном уровне, нужно иметь возможность не торопиться с продажей и, более того, быть всегда готовым поддержать на аукционах те произведения, в которых вы заинтересованы. А я не располагал капиталами, достаточными для решения столь трудной задачи, и не сумел нигде заручиться серьезной поддержкой, поскольку публика, медленно меняющая свое мнение, все еще неодобрительно относилась к выдвигаемым мною художникам, о чем свидетельствуют следующие примеры.
В 1866 году, за год до смерти Руссо, мы с Брамом купили у него за 130 000 франков партию в 70 картин и превосходных этюдов с натуры, с которыми он долго не хотел расставаться – и не расстался бы, не вынуди его к тому кредиторы. Это было замечательное собрание, и мы экспонировали его на специальной выставке в Обществе художников на улице Шуазель, одобрительно встреченной всеми людьми со вкусом.
Однако меня изрядно разбранили за эту операцию, и господин Гэ, мой банкир и друг детства, сильно упрекал меня за то, что я действую во вред себе. А ведь среди этих картин были такие шедевры, как «Лес перед закатом», который я в 1894 году выкупил за 200 000 франков для одного из своих лучших клиентов – господина Дж. Дж. Хилла из Сент-Поля.
В 1868 году мы устроили распродажу того, что осталось в мастерской Руссо. Выручка составила всего 160 000 франков. Я купил на этой распродаже примерно за 70 000 франков 79 великолепных картин и эскизов. «Лес зимой», который Руссо всегда считал главным своим произведением и не продал бы ни за какие деньги, достался мне за 10 000 франков с первого запроса, поскольку конкурентов у меня не оказалось. Я хранил эту вещь у себя за отсутствием покупателей до 1887 года, когда продал ее за 25 000 франков господину Робертсону, компаньону Сеттна из «American Art Association»[24], а он уступил ее господину Уайденеру из Филадельфии. Теперь эта картина – гордость знаменитой галереи последнего.
На одной распродаже, устроенной в том же 1868 году Павлом Демидовым, фигурировали в числе других прекрасных произведений два больших полотна Коро – «Орфей» и «Диана», которые Демидов заказал художнику за 10 000 франков каждое. Я приобрел их с торгов за 3900 и 3045 франков соответственно, но перепродал только в 1875 году, и очень невыгодно. В 1892 году я вновь купил «Орфея» для госпожи Поттер Палмер на распродаже Котье, которую я устроил в своей галерее на улице Лаффит. Демидов заказал также Руссо и Коро две большие картины одинакового размера; я их купил у него по полюбовному соглашению по 10 000 франков за штуку, то есть по себестоимости. Обе вещи Руссо я продал потом Фопу Смиту за 30 000 франков, а после смерти последнего их перепродали в Америке за 200 000. Обе вещи Дюпре я продал Люксембургскому музею за 50 000 франков.
Даже самые прекрасные картины Милле, Диаза, Жюля Дюпре, Курбе и Делакруа с трудом продавались на аукционах, если цены на них никто не поддерживал. Точно так же дело обстояло и с картинами самых лучших старинных мастеров; любители могли тогда еще приобрести эти вещи по невероятно низкой цене, особенно если они не находились до этого в какой-нибудь знаменитой галерее. Я обычно старался не ходить на такие распродажи, чтобы не поддаться искушению, поскольку мне приходилось нелегко и с современными полотнами.
На распродаже собрания Удри, состоявшейся в 1869 году, я так вознегодовал, видя, как замечательные произведения идут по смехотворной цене, что позабыл о необходимости не разбрасываться, а беречь силы, не удержался и купил разные картины, в том числе «Давида и Саула» Рембрандта за 12 500 франков. Вскоре я перепродал эту вещь за 15 000. В 1890 году, когда обстановка изменилась, я опять купил «Давида и Саула» у господина Жоржа д’Э за 140 000. Эта картина оставалась у меня десять лет за отсутствием покупателя, хотя я выставлял ее повсюду, даже в Америке. И только в 1900 году на Выставке столетия в Амстердаме, где эта вещь вызвала большое восхищение, господин Бредиус, директор Гаагского музея, купил ее за 200 000 франков. Недавно ему давали за нее два миллиона, но он отказался.
На той же распродаже Удри я приобрел одно полотно Веласкеса за 2200 франков, одно – Якоба Рёйсдала за 1000 франков и два портрета работы Гойи: «Женщину с гитарой» за 4200 франков и «Женщину с веером» за 2200. Первый из этих портретов я вновь купил за 77 000 франков в 1905 году на распродаже Поммереля, где он значился как «Предполагаемый портрет герцогини Альба»; это замечательная вещь, которую сегодня нетрудно было бы продать за 300 000 франков. «Женщину с веером» приобрел за 29 000 франков Лувр на распродаже Кюмса в 1898 году, до того как цены на Гойю поднялись.
Покупка этих двух портретов внушила мне желание поискать в Испании другие портреты художника, и я довольно дешево приобрел целую серию их. Самый красивый из них, который я продал госпоже Натаниэль де Ротшильд, обошелся мне всего в 3000 франков. Сегодня он стоил бы в сто раз дороже.
В Америке, где работы школы 1830 года идут сейчас особенно хорошо, общественное мнение было настроено против наших великих художников еще больше, чем во Франции. Подтверждением этому может служить хотя бы такой факт. Я продал господину Адольфу Бори из Филадельфии, моему уважаемому клиенту и другу, ставшему впоследствии секретарем морского ведомства, большое количество выдающихся произведений Делакруа, Коро, Милле, Руссо, Дюпре, Диаза, Тройона и других наших великих художников. Когда он вернулся с ними в Филадельфию, его считали сумасшедшим, потому что он купил такие «ужасы», и Бори вынужден был скрывать свои приобретения, пока всемирный успех нашей прекрасной школы не позволил ему вновь обнародовать их, не боясь навлечь на себя насмешки. Бори прослыл с тех пор великим знатоком живописи. После его смерти наследники продали все картины за сумму, в двадцать раз превышавшую ту, что он заплатил за свое собрание.
1869–1871
На свое несчастье, годом раньше я познакомился с владельцем фабрики бронзовых изделий господином Марнинаком, который внушил мне доверие. У него в Париже были отличные связи, в числе его заказчиков состояли господин де Дюбейран, директор банка «Crédit Foncier», и Фроман-Мёрис – оба, кстати сказать, понесли из-за него значительные денежные потери. Марнинак был человеком очень обходительным, умным и сумел заговорить мне зубы. Когда я рассказал ему о своем желании подыскать какого-нибудь капиталиста, который помог бы мне в предпринятой мною трудной кампании, с тем чтобы я получил возможность подольше держать у себя великолепные вещи, оказавшиеся в моих руках, и не спешить их продавать (это всегда чревато опасностями и мешает поддерживать уровень цен), он назвал мне имя Эдвардса, левантийского банкира, составившего крупное состояние в Константинополе и недавно осевшего в Париже. Марнинак был близко знаком с Эдвардсом и свел меня с ним. Простодушный, как всегда, я изложил хозяину свои замыслы, он одобрил их, и я уже решил, что нашел ту опору, которую искал. К несчастью, это был противник, борьба с которым была мне не по плечу. Прожив всю жизнь среди честных людей, я был доверчив и не мог даже предположить, что такой богатый человек захочет обманывать и эксплуатировать меня. После недолгих переговоров было решено, что Эдвардс будет предоставлять мне необходимые кредиты по мере возникновения у меня нужды в них. Я, со своей стороны, обязался передать ему в качестве гарантии картины в количестве, достаточном для покрытия авансированных сумм, и так как у Эдвардса была прекрасная квартира на бульваре Осман, мы договорились, что он вывесит эти полотна у себя в гостиных, чтобы все считали, будто он их купил. В определенный момент я продам их с аукциона от его имени, что, как казалось мне, обязательно обеспечит успех распродажи. В самом деле, распродажи коллекций любителей проходят обычно успешнее, чем любые другие, ввиду того что у покупателей существует сильное предубеждение против торговцев. Соглашаясь на такую комбинацию, я совершил ошибку, тем более что кредит мне Эдвардс предоставлял под ростовщические проценты, но я был убежден, что произведения наших великих художников быстро возрастут в цене благодаря той кампании, которую я, опираясь на Эдвардса и его друзей, поведу теперь с гораздо большей смелостью. Я рассчитывал получить такую прибыль, которая дала бы мне возможность не только уплатить большие проценты Эдвардсу, но одновременно и поднять стоимость огромного запаса картин, которым я располагал.
Все это было только иллюзией, потому что, несмотря на мои усилия и временные успехи, которых я добивался в течение пяти первых лет, прошло целое десятилетие, прежде чем наступило реальное повышение цен на произведения названных выше художников, бывших, в большинстве своем, друзьями моего отца, а затем и моими. Эта иллюзия, которую я упорно питал, невзирая на бесчисленные трудности, возникавшие на моем пути, обрекла меня на большие неприятности, свела на нет мои усилия и в конце концов довела меня до разорения, причем мне только чудом удалось вторично встать на ноги.
Со всем пылом новообращенного я убедил себя, что, если бы просвещенным и честным художественным критикам, преданным тому же делу, которое защищал и я, была предоставлена возможность издавать свой собственный художественный журнал, они сумели бы повлиять и подействовать на публику гораздо успешнее, нежели я: их-то уж никто бы не заподозрил в корыстных целях. Меня же неоднократно упрекали в этом, особенно позднее, после 1871 года, когда я выступил в защиту молодых художников новой школы с той же пылкостью и тем же упорством, с какими служил делу их предшественников. Такие упреки задевали меня гораздо больнее, чем утверждение, будто я веду себя как безумец. Я всегда поступал как честный человек, руководствующийся голосом совести, но люди признали это лишь тогда, когда я состарился.
Обсудив вопрос с рядом друзей, любителей и критиков, я решил основать журнал «Revue internationale de l’art et de la curiosite»[25], мое имя не должно было упоминаться в этом органе, чтобы не повредить той совершенно бескорыстной цели, которую я преследовал. Редактировать журнал я поручил романисту Эрнесту Фейдо, брату моего клиента Альфреда Фейдо; оба они были друзьями наших великих художников. Мой выбор вследствие неопытности оказался серьезной ошибкой. Я предложил Фейдо пригласить сотрудничать в издании Альфреда Сенсье, Бюрти, Альфреда Мишеля, Лафенетра и других, поставив им задачу – защищать здравые концепции в искусстве, и в частности поддерживать наших великих художников, единственных подлинных мастеров современной французской школы. Все расходы по изданию легли на меня. Однако журнал не приобрел особой популярности, потому что редакторы его не оправдали моих надежд. Журнал был безжизнен, неинтересен и не отвечал той цели, которою я задался. Война 1870 года, естественно, прервала издание журнала, но в конце 1871-го оно возобновилось. Я передал руководство журналом Альфреду Сенсье, большому другу Руссо и Милле: я все еще доверял ему, невзирая на странные вещи, которые по секрету рассказал мне о нем Милле за несколько месяцев до смерти. Сансье воспользовался своим положением и напечатал в журнале ряд статей о Руссо, а затем, с минимальными для себя расходами, издал их отдельной книгой, не пожелав подарить мне ни одного экземпляра. Поняв наконец, что журнал обходится мне очень дорого, но отнюдь не служит делу, ради которого он создан мною, я прекратил его выпуск.
Обнадеживающие результаты, которых я достиг за последние годы своей деятельности, еще более укрепили мою веру в скорый успех предпринятого мною дела, и я уже не раз жалел о том, что не располагаю достаточно просторным помещением, где можно было бы в благоприятных условиях вывешивать и показывать принадлежащие мне великолепные полотна. Мне даже случалось отказываться от выгодных предложений и воздерживаться от покупки выдающихся произведений только потому, что их негде было хранить. Мне казалось, что, если б у меня была достаточно просторная и хорошо освещенная галерея, я мог бы устраивать выставки, которые бы наделали шуму, привлекли внимание публики и сильно помогли мне убедить ее в талантливости великих художников, с каждым днем вселявших в меня все более страстную любовь. В этой мысли меня поддерживали как сами художники, так и многие мои клиенты, и она превратилась в нечто вроде навязчивой идеи.
К тому же меня давно огорчало, что я не могу сосредоточиться исключительно на операциях с интересовавшими меня картинами и вынужден тратить много времени на торговлю рисунками и красками, которая сильно выручила моего отца в трудное время, но теперь, когда основные наши дела приобрели такой размах, стала лишь препятствием и помехой в них. Все эти соображения побуждали меня стремиться к полной перестройке фирмы, а это было возможно лишь при наличии нового помещения.
После долгих поисков здания, где можно было бы устроить отвечавшую моим планам галерею, я было почти снял прекрасные залы на Итальянском бульваре, в которых с 1861 по 1865 год Мартине устроил несколько весьма примечательных выставок и которые он затем переоборудовал для концертов. Я уже договорился с владельцем здания Ричардом Уоллесом, как вдруг его поверенный усмотрел в деле непреодолимые трудности. Тогда я решил снять свое теперешнее помещение, принадлежавшее Эмилю де Жирардену, другу Марнинака. В здании этом, расположенном между улицами Лаффит и Лепелетье, помещался сначала пассаж, затем ресторан Всемирной выставки 1867 года и, наконец, кафе «Лепелетье». Я подписал арендный договор на тридцать лет и 15 октября 1869 года вступил во владение, но вынужден был произвести большие переделки, занявшие целых полгода. Не осуществив своего намерения снять галерею на Итальянском бульваре, столь часто посещаемом иностранцами и всеми богатыми парижанами, я совершил серьезный промах: помещение, арендованное мною, было расположено далеко от бульвара и не на виду, так как с обеих сторон выходило на малолюдные улицы.
Одновременно с этим Марнинак переарендовал у меня мой большой магазин на улице де ла Пэ на весь оставшийся срок действия арендного договора с добавочной уплатой в мою пользу всего лишь 2500 франков ежегодно и на условии, что я освобожу помещение до 15 апреля следующего года.
Мое соглашение с Марнинаком обязывало меня освободить и большую квартиру на втором этаже, над магазином, которую занимала моя семья; поэтому я стал подыскивать себе новое жилье поближе к улице Лаффит. Выбор свой я остановил на просторной квартире на шестом этаже дома номер 7 на улице Лафайет, куда мы и переехали в начале 1870 года.
Мой отказ от прекрасного магазина на улице де ла Пэ был серьезной ошибкой, и мне пришлось расплатиться за нее двадцатью годами тяжелых переживаний. Я и теперь не понимаю, как мог совершить ее, ведь я отчетливо понимал тогда, что именно удачное расположение магазина обеспечило немедленное расширение и дальнейшее процветание нашей фирмы. Этот магазин спас моих родителей, дело которых совершенно захирело в злополучном помещении на улице Пти-Шан. Мое страстное увлечение творениями наших великих художников совершенно ослепило меня, я забыл, что я коммерсант и что целый ряд обстоятельств не позволяет мне предаваться столь дорогостоящим затеям. В данных обстоятельствах, как и в течение всей своей жизни, я думал скорее об интересах других людей, чем о своих собственных, и поступал не как торговец, а как художник-дилетант.
Я слишком поздно сообразил, что выставки выгодны художникам, поскольку они упрочивают их репутацию, но вредят торговле. Покупатели видят на них слишком много вещей сразу, колеблются, прислушиваются к отзывам других посетителей и в конце концов решают повременить с покупкой. Кроме того, в большом зале любой предмет кажется маленьким, а следовательно, и цена, запрашиваемая за картину, кажется слишком высокой, чего не было бы, если бы картины смотрелись в маленьком помещении. Сколько раз мне самому пришлось убеждаться в этом, покупая картины! Цена, представлявшаяся мне очень низкой, пока я был у покупателя, сразу начинала мне казаться высокой, как только картину перевозили ко мне в галерею, да и сама картина часто выглядела гораздо хуже, потому что соседство других полотен, особенно полотен более высокого качества, всегда вредит тому, на которое смотришь.
Кроме того, в нашем деле товар чаще всего привлекает любителей не своими подлинными достоинствами, а редкостью и особенно ореолом тайны, окружающей его. Если по наивности показать много шедевров сразу, то, вероятнее всего, ни один из них не будет куплен. Зрители удовлетворятся тем, что посмотрят на эти шедевры, а потом пойдут в другое место и купят там по более дорогой цене менее примечательные, но лучше показанные полотна.
Моя вместительная галерея обладала еще одним недостатком – ее размеры вынуждали меня делать все новые покупки, чтобы подогревать интерес посетителей. Словом, я, и без того слишком увлеченный произведениями искусства, перестал сообразовываться со своими возможностями.
Через несколько месяцев после моего переезда на улицу Лаффит разразилась война, наши армии были одна за другой разбиты, и пруссаки подошли к Парижу. Чтобы избавить жену и пятерых малышей от ужасов неизбежной осады, я решил немедленно отправить их в безопасное место и остановил свой выбор на Балане в Перигоре, где у моего тестя было имение. Сам же я наспех упаковал все свои картины, начав с самых дорогих, с намерением отослать их в Англию, а затем уехать туда, лично получить груз и посоветоваться с тамошними своими друзьями о том, как мне быть в дальнейшем. Я успел отправить все в Лондон до того, как неприятель перерезал железную дорогу, и уехал из Парижа как раз перед тем, как были закрыты заставы. Рамы большинства картин за неимением времени упаковать не удалось. Я принял решение уехать в Англию и увезти туда свои картины не только потому, что не хотел рисковать ими, но еще и в надежде на то, что, используя свои заграничные связи, я в известной степени сумею и там продолжать свои операции, поскольку в моем распоряжении будет большое количество превосходных полотен. Я рассчитывал таким образом обеспечить семью, помочь друзьям, а по окончании войны расплатиться по своим обязательствам. Фор, господин Гольдшмидт и некоторые другие лица также поручили мне отослать в Лондон их коллекции вместе с моей. Таким образом, прибыв в Англию, я имел в своем распоряжении замечательное собрание первоклассных произведений искусства.
Я отправил весь багаж на имя Уоллеса, которого попросил оставить его в таможне, пока я не найду места, где смогу расположить мою коллекцию. Уоллес подыскал для меня временное помещение в Хеймаркете, и вскоре я его снял. Галерея, находившаяся в доме номер 159 по Нью-Бонд-стрит, представляла собой просторное, пустовавшее тогда помещение; по досадной случайности она называлась Немецкой галереей. Недостающие мне рамы я заказал тут же, в Лондоне.
В Англии меня знали слишком мало, чтобы мое имя привлекло на выставки много народу, поэтому я счел за благо объявить их устроителем несуществующий выставочный комитет в составе Коро, Милле, Ж. Дюпре, Диаза, Добиньи, Курбе. К этим именам я впоследствии добавил Бонвена, Рикара и Легро, находившихся в Лондоне, а также Фромантена и Зиема.
Я упоминался лишь в качестве администратора выставки. Разумеется, я не мог предварительно проконсультироваться со всеми названными художниками, но был совершенно уверен, что они одобрили бы мои действия.
Эти замечательные выставки я устраивал все пять лет, пока имел в своем распоряжении галерею, где нашло себе приют немалое число шедевров, созданных самыми знаменитыми нашими живописцами. Они привлекли к себе большое внимание. Пресса заняла чрезвычайно благожелательную позицию, и художественные критики поместили во всех газетах длинные и весьма хвалебные статьи о выставке.
Некоторые любители из Лондона и Глазго, в том числе господа Мюриэтта, Форбс, Йонидес, Мьевиль, Луис Хаттс и другие, сделались моими клиентами и сразу же кое-что приобрели по ценам, тогда для меня вполне приемлемым, а сегодня совершенно невероятным.
Большую помощь оказал мне в то время художник Легро, уже много лет живший в Лондоне.
Я намеревался вызвать в Лондон жену и детей, как только там устроюсь. Я снял для нас небольшой домик с садом в Бромптен-Кресенте, рядом с Южнокенсингтонским музеем, и жена моя приехала туда с четырьмя старшими детьми, оставив маленькую Жанну с кормилицей у своих родителей в Периге. Поездка оказалась нелегкой, ввиду того что прямое железнодорожное сообщение было в нескольких местах перерезано, но все кончилось благополучно, и, встретив свое маленькое семейство на вокзале, я с радостью убедился, что мои близкие совершенно здоровы. Мы прожили в нашем маленьком домике вплоть до сентября и в общем очень счастливо, если вспомнить, какая жизнь ожидала бы нас в Париже, останься мы там на время осады и Коммуны.
Я привез с собой такое количество выдающихся произведений лучших наших художников, что сумел организовать ряд выставок, которые запомнились всем людям со вкусом, жившим тогда в Лондоне, и в значительной степени содействовали ознакомлению англичан с талантом наших великих живописцев. Доход, полученный мною от этих операций, позволил мне покрыть все расходы, содержать семью, а также нескольких французских художников, бежавших, как и я, в Лондон, и посылать деньги Милле, поселившемуся в Шербуре, Ж. Дюпре, жившему в Кайе, Фромантену, жившему в ЛаРошели, Диазу, Бонвену и ван Марке, находившимся в Брюсселе. Со своей стороны, многие из них отправили мне в Лондон определенное число картин. Милле, например, который, не будь меня, остался бы без средств к существованию, присылал мне много картин; он сумел написать их в Шербуре и просил за них до смешного мало, прибавляя, что я могу снизить даже эти цены, если нахожу их слишком высокими. К его великому удивлению, я, наоборот, заплатил ему больше, чем он просил.
Брам, поселившийся в Брюсселе, неоднократно привозил мне картины, которые покупал у Диаза, Дюпре и других художников, и деньги, полученные им от меня в это печальное время, позволили ему содержать семью и не прекращать дел.
Ввиду того что Париж находился в осаде, Брюссель стал весьма важным деловым центром. Там нашли себе приют многие французские художники и любители, туда понаехали иностранные коллекционеры и торговцы, выгодно скупившие все, что можно было купить. Я сам несколько раз ездил туда из Лондона и наконец, ввиду неясности политической обстановки и кризиса во Франции, который грозил затянуться надолго, решил открыть там, на площади Мучеников, галерею, уступленную мне хорошим моим знакомым фотографом Гемаром. Заведовать ею я поручил одному мелкому коллекционеру из Бордо, человеку редкой честности, который недавно разорился и искал заработка. Я немедленно выслал ему из Парижа и Лондона несколько картин, и в течение трех-четырех лет мы устроили с ним в Брюсселе ряд примечательных выставок. Как и наши лондонские выставки, они содействовали ознакомлению иностранцев, понаехавших в столицу Бельгии, со всеми великими французскими художниками.
Брюссель давно уже был отличным рынком сбыта произведений французского искусства, и в нем существовали очень крупные собрания, как, например, коллекции королевского министра господина ван Прета, биржевого маклера господина Краббе, директора монетного двора господина Аллара, с коими я с давних пор поддерживал деловые связи, а также многих других любителей.
В начале 1871 года я познакомился в своей лондонской галерее с Моне, чьи картины привлекли мое внимание в последних Салонах, хотя самого художника, почти никогда не бывавшего в Париже, мне так и не довелось встретить. Моне привел ко мне Добиньи, высоко ценя его талант. Я немедленно купил у Моне все картины, написанные им в Лондоне. Он, в свою очередь, познакомил меня с Писсарро, также находившимся в Лондоне и написавшим там много очень интересных картин. Моне я заплатил за картины по 300 франков, Писсарро – по 200. Такую же цену я давал им еще много лет. Другой на моем месте был бы менее великодушен: когда я бывал не в состоянии покупать, эти художники вынуждены были отдавать свои вещи за 50–100 франков, а то и дешевле.
Вскоре я начал экспонировать на своих выставках по нескольку полотен этих художников и даже продал некоторые из них, хотя и с трудом.
Первого июня 1871 года в Кенсингтоне, в зданиях, специально построенных для этой цели, и в частности в Альберт-холле, открывалась Международная выставка изящных искусств. Господин Дю Соммерар, генеральный комиссар Франции, находился в большом затруднении: ни правительство, ни художники не смогли ничего прислать ему из Парижа, и наша страна рисковала быть очень плохо представленной. Он обратился ко мне, и я одолжил ему многие из тех прекрасных картин, которые привез с собой перед началом осады. Благодаря этому французский отдел оказался весьма примечательным и имел шумный успех у публики. Я продал на этой выставке ряд картин наших великих художников, в том числе великолепную «Охоту на львов» Делакруа, которая мне досталась от Фора.
Поскольку из-за войны и Коммуны Париж был отрезан от внешнего мира и всякая деловая жизнь в нем замерла, иностранные торговцы и многие любители вообразили, будто там царит полная подавленность и, следовательно, картины и прочие предметы искусства утратили всякую ценность. Поэтому они с нетерпением ожидали открытия парижских застав, чтобы помчаться туда и за гроши скупить все, что им захочется. Они сильно просчитались. Связи, завязанные в Англии и Бельгии поселившимися там нашими художниками, равно как успех наших выставок в Лондоне и Брюсселе, весьма способствовали привлечению внимания к творчеству нашей прекрасной французской школы и созданию за границей целой новой группы любителей.
Отдавая себе отчет в сложившемся положении, я, как только связь с Парижем восстановилась, поспешил телеграфировать или написать всем своим деловым знакомым об оживлении спроса за границей, рекомендуя отнюдь не снижать цены, так как покупатели, несомненно, появятся.
Вместо подавленности, которую иностранцы ожидали встретить в Париже, они повсюду столкнулись с хорошо осведомленными людьми, отнюдь не склонными снижать цены, а, напротив, даже повышавшими их. Тогда неожиданно началось всеобщее повышение цен, и дела заметно оживились, чему немало способствовал и я, произведя большие закупки.
Вечером 17 марта, решив, что теперь в Париже опять спокойно, я выехал туда, чтобы лично посмотреть, в каком состоянии мое предприятие. Галерея, которую я оставил на попечение одного из своих служащих, была превращена в лазарет, и в ней царил полный хаос. Но еще больше потрясло меня то, что утром в день моего приезда на Монмартре были убиты два генерала и провозглашена Коммуна. Делать мне в Париже, таким образом, было нечего, и я немедленно вернулся в Лондон; поездки мои в Париж возобновились лишь после падения Коммуны, но появлялся я там всегда на короткий срок, поскольку меня ждали в Англии семья и важные дела. Окончательно мы возвратились на родину лишь в сентябре, вверив наш дом и галерею на Нью-Бонд-стрит попечениям одного из моих служащих. Вскоре в Париж из Периге привезли и мою дорогую крошку Жанну.
К сожалению, мне недолго пришлось наслаждаться счастьем в лоне семьи, вновь соединившейся после стольких испытаний. В середине ноября я отправился с женой в оперу на «Фауста»; дома жена чувствовала себя отлично, но в середине спектакля ей стало нехорошо, и это внезапное недомогание усугубилось в связи с тем, что она была беременна. Мне пришлось отвезти ее домой. По дороге она каким-то образом сильно простудилась, и у нее началось воспаление легких.
Через несколько дней, когда жене стало уже гораздо лучше, у нее неожиданно случилась закупорка сосудов, и, несмотря на все усилия врачей, в 2 часа утра 27 ноября, успев, к счастью, воспользоваться услугами служителей церкви, она была отнята у меня смертью в присутствии наших дорогих детей, которых я поднял с постели.
Отпевали мою бедную жену в церкви Сен-Луи-д’Антен, так как наш дом на улице Лафайет относился к этому приходу. В этой же церкви в 1843 году я впервые принял причастие.
Я остался один с детьми на руках и был вынужден поселить у себя свою старую тетку Луизу, которая и до этого почти всегда жила с нами, а во время войны сопровождала нас в Лондон. Кроме того, я подыскал наставника для троих своих сыновей. Это был аббат Фурналь, священник из Авейрона и превосходный человек; он первоначально совсем один взял на себя заботы о воспитании моих детей и справился со своей задачей к полному моему удовлетворению. Когда мальчики подросли настолько, что смогли поступить в коллеж, незадолго перед тем открытый отцами иезуитами на Мадридской улице, аббат Фурналь продолжал присматривать за ходом их занятий и репетировал их в перерывах между классами.
Невосполнимая утрата, оставившая меня вдовцом с пятью детьми, причем старшему едва пошел десятый год, оказалась для меня ударом, последствия которого я чувствовал всю жизнь. Он глубоко омрачил жизнь и моим дорогим детям: как я ни силился заменить им незабвенную покойницу, я никогда не выполнял нелегкий родительский долг так, как сумела бы это сделать умная, образованная и самоотверженная мать-христианка. Вполне вероятно также, что благоразумие и здравый смысл моей покойной жены помешали бы мне совершить те чудовищные промахи в делах, которые на долгое время поставили под угрозу будущность моих детей. Но я был лишен ее советов, и ничто уже не останавливало меня на опасном пути, на который меня толкнули страстная любовь к прекрасным созданиям наших великих художников и уверенность в том, что наградой за мои усилия будет быстрый успех. Не задумываясь над возможными последствиями своей неосторожности, я во все возраставших размерах продолжал закупки, не соответствовавшие моим возможностям.
1872–1873
Шум, поднявшийся вокруг моих выставок в Париже, Лондоне и Брюсселе, вызвал у меня неосторожное стремление собрать все то прекрасное, что создала школа 1830 года, многие произведения которой еще можно было приобрести. Мне казалось, что, сколько я их ни куплю, все будет мало, так как мне теперь приходилось снабжать картинами не только свой магазин на улице Лаффит, но и два филиала, открыть которые меня вынудили сложившиеся обстоятельства. Похвалы прессы и комплименты, которые я ежедневно выслушивал от поклонников моих любимых художников, убедили меня в том, что минута окончательного торжества последних уже наступила, и я лихорадочно устремился на поиски новых шедевров, что было весьма несложно, так как многие владельцы частных собраний в связи с войной понесли значительные утраты.
Господин Гаве, например, когда-то с отменным вкусом собравший множество первоклассных вещей Милле, Делакруа, Коро, Руссо, Диаза, Дюпре и других, уступил мне скрепя сердце ряд неподражаемых произведений этих художников. Неудачные спекуляции земельными участками и постройками, затеянные Гаве перед войной, почти начисто разорили его, и он избежал банкротства лишь благодаря тому, что поочередно сбыл мне все свои полотна. Для начала я купил у него за 30 000 франков «Вечернюю молитву» Милле, «Возвращение пастуха со стадом» за 32 000, «Возвращение пахаря» за 20 000, два восхитительных полотна Руссо по 30 000 каждое, а затем, по мере того как у Гаве возникала нужда в деньгах, большое число других прекрасных произведений Милле, Коро, Дюпре, Руссо, Бари и Диаза. В течение двух лет я только и делал, что увозил от него все эти картины, которые он продавал мне сравнительно дорого, хотя сам купил их очень дешево. Из современных вещей Гаве оставил себе только несравненную серию пастелей Милле, но в 1875 году он и ее поручил мне продать с аукциона от его имени.
Семнадцатого марта 1873 года после нескончаемых переговоров с Сенсье я договорился с ним о покупке его коллекции, которую он собирал в течение многих лет. Она состояла из 167 картин и рисунков, которые он в большинстве случаев в буквальном смысле слова за гроши приобрел непосредственно у художника. Ввиду относительно высокой цены, запрошенной Сенсье, я пытался уговорить одного из моих коллег – либо Брама, либо Франсиса Пти – войти со мной в половинную долю, но они не согласились, так как были менее пылки, чем я. Кроме того, после моего возвращения в Париж Брам вообще отказался от совместных покупок, которые мы делали с ним до войны.
Как уже сказано, собрание Сенсье включало 167 картин и рисунков, в том числе 34 полотна и 19 пастелей Милле, оцененных в совокупности в 116 450 франков, 23 полотна и 9 акварелей и рисунков Руссо на сумму 89 850 франков, 22 полотна Диаза на сумму 28 200 франков, 2 вещи Делакруа – 6500 франков, 8 картин Коро – 19 500 франков и 50 работ различных других авторов – 13 440 франков, а всего на сумму 267 440 франков.
В числе вещей Милле были знаменитый «Сеятель», попавший позднее в галерею господина Вандербильта, «Вязальщики снопов», находящиеся сейчас в галерее Томи-Тьери в Лувре, уменьшенное авторское повторение «Собирательниц колосьев», которое 12 лет тому назад я продал с аукциона за 100 000 франков; «Возвращение с полей», попавшее в собрание Джона Т. Мартина в Нью-Йорке, и 19 других восхитительных полотен того же уровня, проданных впоследствии за бешеные деньги.
Серия Руссо включала прославленный «Дуб на скале».
Среди произведений Коро фигурировали «Вакханка с пантерой» и «Раненая Эвридика», шедевры, которым теперь просто нет цены и которые мы тогда продали по дешевке, а затем вторично купили уже за довольно большие деньги.
Сегодня такая коллекция стоила бы баснословную сумму, но самому Сенсье, жившему на скромный оклад чиновника министерства внутренних дел, где он к концу жизни дослужился до помощника заведующего канцелярией, она обошлась очень недорого. Это подтверждает хотя бы такой факт, что, увидев у меня уменьшенное повторение своих «Собирательниц колосьев», бедный Милле признался, что Сенсье дал ему за эту картину 40 франков. Остальные вещи Сенсье приобрел по таким же ценам.
Я часто навещал Коро, и он постепенно продал мне большое число пейзажей всех размеров, среди прочего – «Пожар Содома», выставленный в Салоне 1857 года, и «Туалет», выставленный там в 1859 году. За два этих несравненных шедевра я заплатил ему 15 000 и 10 000 франков соответственно. Первый я продал Абрахаму Камондо за 20 000 франков, а после смерти последнего выкупил эту картину за 100 000 франков у его сына Исаака и позднее перепродал ее за 125 000 франков господину Г. О. Хэвемайеру. «Туалет» у меня купил господин Данкен. Сейчас эта картина принадлежит госпоже Дефоссе, которая выкупила ее за 175 000 франков на распродаже после смерти своего мужа и в прошлом году отказалась продать ее за 800 000 франков. Столько же стоит теперь и «Пожар Содома».
Милле, признательный мне за все, что я делал для него в течение многих лет, работал теперь только для меня, и я получил от него ряд выдающихся произведений, в том числе большой вариант «Возвращения пастуха со стадом», проданного при распродаже коллекции Блана; вариант этот был еще красивее оригинала, и я продал его господину Гарриману, тому самому американцу, который приобрел у меня «Эдипа» Гюстава Моро. Получил я от Милле и «Женщину с лампой», которую уступил Лорану Ришару и которая несколько лет тому назад была продана в Америке за 400 000 франков. Тогда я заплатил за нее Милле 16 000 франков, больше, чем он получал за какую-нибудь из своих картин. «Пастух» обошелся мне в 1200 франков. Прислал он мне также картину, изображавшую женщину, которая поит корову, и проданную мною тому же Лорану Ришару, «Пастушку индюков», попавшую впоследствии в руки господина Даны, издателя нью-йоркской газеты «Sun», большую «Пастушку с пряжей», проданную нами госпоже Уоррен из Бостона и подаренную последней Бостонскому музею (это один из наиболее значительных шедевров Милле, который продал мне его за 12 000 франков). «Пастушку в лунном свете», находящуюся теперь в коллекции Томи-Тьери, он продал мне за 10 000 франков (этот вариант весьма примечателен, хотя и менее красив, чем оригинал, принадлежавший сперва господину Блану, затем господину де Кергофу, мне и господину Карлену; на распродаже собрания господина Карлена в том же 1872 году я вновь купил вышеназванный вариант за 20 000 франков). Следует упомянуть также «Пастушку гусей», «Сбивальщицу масла», «Женщину с ведрами», пейзажи и т. д.
Жюль Дюпре, мой большой друг, также уступил мне ряд картин, в том числе немало замечательных. С тех пор как я сильно помог ему выбиться из нужды, до которой его довела скверная привычка месяцами возиться с одной и той же картиной, без конца соскабливая и переделывая ее, он воспрял духом и создал прекрасные вещи, цены на которые уже начали резко повышаться.
Очень много работ я купил у Курбе, с которым давно поддерживал отношения. Во время осады, боясь, как бы его мастерская не попала под обстрел, художник перевез ко мне все свои важнейшие и еще не проданные полотна – «Мастерскую», «Похороны в Орнани», большие «Битвы оленей» и т. д.
Добиньи, спрос на которого сильно возрос, уже начал работать чуточку торопливо, но все еще писал очаровательные пейзажи. Его «берега Уазы» нравились любителям больше, чем любые другие мотивы, и позднее были проданы за огромные деньги. Добиньи уступил мне довольно большое число этих пейзажей, причем по очень скромной цене от 800 до 1000–1500 франков.
Диаз, живший во время войны в Брюсселе и завязавший там знакомства со многими иностранными любителями и торговцами, поднял цены на свои картины, но я первый благословил его на это и приобрел у него, помимо множества маленьких пейзажей, несколько больших лесных видов на 5000 франков, сумму, казавшуюся в то время фантастической. В последние годы кое-какие из тогдашних моих приобретений продавались за 100 000 и даже 150 000 франков.
Ван Марке, сосед Диаза по мастерской, а потом, после смерти Тройона, и ученик, которому очень помог завоевать себе имя контракт, заключенный со мной, также уступил мне ряд картин. Но с тех пор как он обязался работать исключительно на меня, у него отбою не было от покупателей, и он мог бы продавать им свои вещи с большей для себя выгодой, чем мне. Поэтому мы с ним условились, что он сам будет вести переговоры с покупателями, а разницу между их ценой и той, какую назначил я, мы будем делить. Ван Марке сильно на этом выиграл, так как значительно повысил цены, хотя с точки зрения сегодняшнего дня они все равно кажутся смехотворными. Впрочем, срок действия нашего контракта истек уже в 1873 году.
Зием, с которым у меня всегда были наилучшие отношения, также продал мне много видов Венеции, Константинополя и Марселя – он писал их с удивительной легкостью; этим своим даром он впоследствии стал злоупотреблять, что весьма повредило его репутации.
Бари, Домье, Йонгкинд, Буден, Кальс, Лепин, Дж. Л. Браун и другие также снабдили меня большим числом картин и акварелей по более чем умеренным ценам, так как все эти художники, бывшие отнюдь не в моде, лишь с большим трудом сбывали свои вещи и сводили концы с концами. Они были просто счастливы, вступая в деловые отношения со мной, потому что я никогда не торговался.
Многие из них настаивали даже, чтобы я сам назначал цену, так как знали, что я дам больше, чем они запросят.
Помимо тех вещей, которые я приобретал непосредственно у художников, я многое покупал у коллег-торговцев и особенно у любителей, всегда склонных по самым разным причинам прибыльно продать свои картины.
Зедельмайер продал мне прекрасного «Товия» Милле за 7500 франков (на распродаже Блана).
Адмирал Жорес, с которым я уже не раз вел дела, продал мне двух «руссо» за 20 000 франков, несколько вещей Диаза и т. д.
Февр, с которым я часто заключал солидные сделки, уступил мне замечательную картину Гюстава Моро «Юноша и смерть», проданную мною господину Каэн д’Анверу.
Гределю́, позолотчик Коро, с которым тот неизменно расплачивался картинами, продал мне двенадцать очаровательных пейзажей этого мастера.
Господин Гарнье, любитель, купивший у меня много картин, а затем оказавшийся перед необходимостью раздобыть большую сумму наличными, продал нам целую прекрасную коллекцию, где находились «Арабы за игрой в кости» Делакруа.
Господин Ларрье, депутат от Бордо и владелец знаменитого виноградника О’Брион, всегда усиленно спекулировавший картинами, продал мне за 105 000 франков десяток весьма значительных вещей, в том числе несколько полотен Коро и Делакруа.
Господин Вердье, зубной врач с улицы Лаффит, с которым мне случалось заключать сделки на сотни тысяч франков, продал мне одновременно 15 картин Коро.
Франсис Пти продал мне «Офелию» Делакруа за 20 000 франков, а также уменьшенное повторение «Убийства епископа Льежского».
Господин Дьетерле, друг Тройона, – две большие картины этого художника.
Эврар, бельгийский торговец, поселившийся в Париже, – «Урок вязанья» Милле за 20 000 франков. Я продал эту картину за 25 000 франков графу Камондо.
Негри, санкт-петербургский торговец, – большую картину Тройона за 22 000 франков.
Дюглере – две большие вещи Диаза за 20 000 франков.
Фердинанд Бишофсхейм – прекрасную вещь Руссо за 12 000 франков.
Господин Аллоу, известный адвокат, – «Коней, бьющихся в стойле» Делакруа; эта картина находится теперь в коллекции Камондо.
Мое страстное увлечение школой 1830 года, побуждавшее меня смело делать такие покупки, которые, по мнению коллег и даже большинства моих друзей, были просто разорительными, не заставило меня забыть ни о впечатлении, произведенном на меня купленными в Лондоне пейзажами Моне и Писсарро, ни о произведениях Мане, Пюви де Шаванна и Дега, бросившихся мне в глаза в Салонах различных лет еще до моего отъезда в Англию.
Сразу после возвращения в Париж я повидался с Моне и Писсарро, а также познакомился с Ренуаром, Сислеем и кое-кем из их друзей. Однажды у Альфреда Стевенса я увидел две картины Мане. Поскольку никто не посещал великого художника в его мастерской, он попросил своего друга Стевенса попробовать сбыть для него две упомянутые картины, а для этого вывесить их в своей мастерской. Это были великолепный «Булонский порт при лунном свете» (№ 112), находящийся теперь в коллекции Камондо, и столь же замечательный «Натюрморт» (№ 119), который я в 1886 году во время своей первой поездки в Нью-Йорк продал там господину Хэвемайеру за 15 000 франков. Стевенс запросил с меня по 800 франков за каждую картину. Я немедленно согласился и, придя затем в восторг от своей покупки, потому что произведение искусства восхищает по-настоящему лишь тогда, когда принадлежит вам и находится у вас, на другой же день отправился к Мане. Я нашел у него целую коллекцию выдающихся картин, многие из которых еще раньше привлекали мое внимание в Салонах разных лет, а теперь, после того как я на досуге присмотрелся к своим вчерашним покупкам, они показались мне еще прекраснее. Я тут же купил у Мане за 35 000 франков все, что у него было, а именно 23 картины, дав ему ту цену, которую он запросил. Вот список этих вещей с указанием цены и номера по каталогу Дюре:
№ 51. «Убитый тореадор». Салон 1864 г. Я продал его Фору за 3000 фр., потом выкупил у него же и перепродал в Америку за 30 000 фр. Сейчас картина принадлежит Уайденеру 2000
№ 23. «Гитарист». Салон 1861 г. Также продана Фору за 4000 фр., потом, в 1907 г., выкуплена мною и теперь принадлежит г-ну Осборну, заплатившему за нее 200 000 фр. 3000
№ 12. «Пьяница», не допущен в Салон 1859 г., продан Фору и выкуплен мной 1000
№ 65. «Философ», принадлежит г-ну Эдди из Чикаго, который приобрел его у меня за 20 000 фр. Недавно он отказался продать картину за 125 000 фр. 1000
№ 66. «Нищий». Эту картину, как и предыдущую, я продал Фору за 1500 фр., а позднее выкупил ее. В 1912 г. мы продали ее Чикагскому музею за 100 000 фр. 1500
№ 95. «Тряпичник», проданный мною Ошеде за 1500 фр. Попал затем в коллекцию Круана 1000
№ 53. «Мальчик, пьющий воду» (или просто «Мальчик»), продан Шарлю Эфрусси, затем Розенбергу и Бернхейму 1000
№ 63. «Чтец», продан Фору за 1500 фр. В 1907 г. я выкупил у него картину за 100 000 фр., и она до сих пор еще принадлежит нам. В 1916 г. ее хотел купить городской музей Цинциннати (США) за 30 000 долларов (150 000 фр.) 1000
№ 77. «Трагический актер» (Рувьер). Отвергнута Салоном 1866 г. В 1898 г. мы продали ее г-ну Джорджу Вандербильту 1000
№ 88. «Женщина с попугаем». Салон 1868 г. Мы продали эту картину Ошеде за 2500 фр. Потом она досталась г-ну Эрвину Девису, подарившему ее Нью-Йоркскому музею 1500
№ 32. «Испанец» (портрет брата Мане в костюме испанского махо). Я продал эту картину Ошеде за 1500 фр. В 1878 г. на распродаже его собрания ее купил за 650 фр. Фор, у которого я ее позднее перекупил. Мы затем продали ее г-ну Хэвемайеру за 100 000 фр. 1500
№ 76. «Флейтист». Отвергнут Салоном 1866 г. Я продал его Фору за 2000 фр., а примерно в 1895 г. выкупил и продал Камондо. Сейчас принадлежит Лувру 1500
№ 29. «Испанский балет». Все еще находится в нашей коллекции на улице Ром 2000
№ 31. «Уличная певица» (или «Женщина с вишнями»). Я продал эту вещь Ошеде. На распродаже его собрания в 1878 г. она за 450 фр. досталась Фору, у которого я выкупил ее примерно в 1895 г. Тогда же мы продали ее за 70 000 фр. г-же Сиэрз из Бостона; сейчас ей предлагают за эту картину 200 000 фр., но безуспешно 2000
№ 125. «Отдых» (портрет мадемуазель Моризо). Салон 1873 г. В 1880 г. я продал эту картину Дюре за 3000 фр. На распродаже его коллекции в 1894 г., осуществленной мною, я выкупил «Отдых» за 11 000 фр. В 1898 г. мы продали его г-ну Дж. Вандербильту. Это одно из лучших созданий Мане, стоящее огромных денег 2500
№ 54. «Христос и ангелы». (Салон 1864 г.) Мы держали эту вещь у себя до 1902 г., так как на нее не находилось покупателя, а затем продали г-ну Хэвемайеру. Друзья Мане в течение 10 лет безуспешно добивались, чтобы ее приобрел Лувр. Это также один из шедевров художника 3000
№ 81. «Бой „Кирсежа“ с „Алабамой“». (Салон 1872 г.) Продан в Америке г-ну Джонсону из Филадельфии 3000
№ 37. «Мадемуазель В. в костюме тореадора» (портрет В. Брен[26]). Не допущена в Салон 1863 г. Продана за 4000 фр. Фору, у которого в 1895 г. мы выкупили ее, а затем перепродали г-ну Хэвемайеру 3000
№ 115. «Мол в Булони». Продан за 600 фр. Клаписсону, который опять перепродал ее мне. Находится сейчас в моем частном собрании 500
№ 138. «Порт в Бордо». Продан мною Дюре, на распродаже которого в 1894 г. я выкупил эту картину за 8500 фр. Мы уступили ее г-ну Мендельсону из Берлина 600
№ 84. «Цветы» (пионы). Я продал этот натюрморт за 600 фр. г-ну Сонье из Бордо. На распродаже его собрания в 1886 г. натюрморт был оценен в 680 фр. Я купил его и продал г-ну Моро-Нелатону, в чьей коллекции он и находится 400
№ 73. «Бой быков». Мы продали его только в 1886 г. в Нью-Йорке, за 5000 фр., затем выкупили и перепродали за 70 000 фр. Чикагскому музею 500
№ 117. «Морской берег». Продан Фору за 700 фр., потом выкуплен у него и до сих пор принадлежит нам 500
________
35 000
Несколькими днями позже я еще раз заглянул к Мане, который за это время собрал свои картины, находившиеся у его друзей; я купил у него вторую партию полотен, но список их у меня не сохранился. В числе их были «Музыка в Тюильри» (№ 16), «Мальчик со шпагой» (№ 41), «Отплывающий стимер» (№ 114), «Булонская эстакада» (№ 115), еще одна «Эстакада» и т. д., всего на сумму 16 000 франков. Я продал «Мальчика со шпагой» господину Эрвину Девису за 10 000 франков, а он подарил его впоследствии Нью-Йоркскому музею. «Музыка в Тюильри» оставалась у меня до 1908 года, когда я продал ее за 100 000 франков господину Хью Лейну, который подарил эту картину галерее Тейт в Лондоне вместе с большим «Портретом мадемуазель Евы Гонсалес», купленным им у меня за 150 000 франков.
Не успел я завершить все эти сделки с Мане, как отправился к Пюви де Шаванну, который до тех пор тоже еще ничего не продал, потому что в наш так называемый просвещенный век художника не признают тем дольше, чем он талантливее, оригинальнее и неповторимее. Я немедленно купил у Шаванна несколько картин: «Надежду», которую он намеревался послать в очередной Салон, куда она действительно была допущена; «Усекновение главы святого Иоанна Крестителя»; уменьшенные повторения четырех больших картин, которые первыми украсили Амьенский музей; «Магдалину в пустыне» и уменьшенное повторение его большой работы в Пантеоне, посвященной святой Женевьеве. Позднее Пюви де Шаванн постепенно продал мне и написал для меня много других картин, но сбыл я их очень не скоро и с большими трудностями. Представление о последних может дать следующий пример. Я заплатил Шаванну 7000 франков за «Надежду» (у меня долго хранился уменьшенный вариант этой вещи, проданный мною Анри Руару, на распродаже которого в 1912 году ее купил Лувр за 65 000 франков). Эту великолепную картину сочли такой уродливой, что я не мог сбыть ее даже по минимальной цене. Через несколько лет, нуждаясь в деньгах, я продал ее господину Пату за 3000 франков, а тот, в свою очередь разорившись, предложил мне вернуть ее за 2000 франков, на что я поспешил дать согласие. Во время первой своей поездки в Америку я продал эту вещь Эрвину Девису за 7000 франков. Позднее он с выгодой для себя перепродал ее не помню уж кому. У изображенной на этом полотне женщины свободные белые одежды. «Магдалину» через пятнадцать лет после того, как я купил ее, приобрел у меня за 4000 франков господин Шерами. Мне она обошлась в 5000 франков. Я выкупил ее на распродаже после смерти Шерами за те же, по-моему, 4000 франков, что показывает, как долго такой большой художник не мог завоевать признания. «Магдалину» я перепродал Франкфуртскому музею.
Вот другой пример. Шаванн дал мне для какой-то распродажи в благотворительных целях очаровательную картину, фрагмент одного из его марсельских панно. За отсутствием покупателей эта вещь осталась у меня и была оценена в 265 франков. Затем я продал ее Руару за 300 франков. На распродаже его собрания любитель из Берлина купил названную картину за 68 000 франков, причем Лувр до самого конца пытался перебить у него эту картину.
Шаванн был большой художник, но понимали его тогда лишь немногие знатоки да кое-кто из собратьев по ремеслу. Талант признали за ним только после его смерти, но до конца он все равно не был понят. Так было с Делакруа, Коро, Домье, Бари, Милле, Руссо, Мане и всеми великими художниками минувшего столетия, так останется и впредь, пока мода будет определяться снизу, а не сверху, как это было в старину, когда вкусы диктовались просвещенной верхушкой.
Незадолго до смерти Пюви де Шаванн, который был не только великим художником, но и сердечным человеком и преданным другом, сказал мне буквально следующее: «Я всегда был верен вам и, если не считать больших государственных заказов, всегда продавал свои вещи только вам, но тут нет особой моей заслуги, потому что к моим картинам никто никогда не приценялся».
Дега, с которым у меня также завязались прочные отношения и который также продал до этого лишь несколько второстепенных вещей, уступил мне для начала целую партию пастелей и картин, привлекших к себе так мало внимания, что я, несмотря на крайне низкие цены, лишь с большим трудом сбыл их по истечении ряда лет. Часть этих вещей у меня приобрел Фор, мой давний знакомый, с которым я очень сблизился во время своего пребывания в Лондоне, где мы жили с ним в соседних домах на Бромптен-Кресент; позднее я выкупил у него эти картины. В нашей коллекции на улице Ром есть одно небольшое полотно Дега, относящееся к тем временам. Это «Беговые дрожки» – я купил картину за 1000 франков и продал Фору за 1500, а через пятнадцать лет выкупил у него за 10 000. Есть в нашей коллекции и другая картина Дега – «Лошади на лугу», купленная мною у художника за 850 франков, проданная Тиссо за 1000 франков и позднее выкупленная у него. К тому же периоду относятся различные другие вещи, которые я сбыл в Лондоне. Одна из них – «Балет „Роберт-дьявол“», купленная у Дега за 3000 франков и проданная господину Йонидесу за 200 фунтов, вместе со всей коллекцией последнего перешла по его завещанию Южнокенсингтонскому музею[27]. При жизни Йонидесу давали за нее 10 000 фунтов, но он отказался. Интересно, сколько она стоила бы сегодня! Дега уступил мне также «Балерин на уроке», которых я продал Сикерту и за которых, еще много лет тому назад, сенатор Кларк уплатил 80 000 франков. Сейчас эта картина стоит по меньшей мере вдвое дороже. Я же дал за нее Дега 1500 франков и перепродал ее Сикерту за 2000. С полдюжины других полотен я уступил одному портному в Брайтоне, после смерти которого, лет двадцать тому назад, они – я, к сожалению, об этом не знал – были проданы за бесценок у Кристи и вновь куплены в Париже Манци и разными другими торговцами. Все это первоклассные произведения. Одно из них, «Балерины на уроке», купленное мною у Дега за 3000 франков и проданное за 200 фунтов, стоило бы сегодня 500 000 франков. Оно не менее красиво, чем другая картина под тем же названием, за которую Фор заплатил 4000 франков. Позднее я выкупил эту последнюю за 100 000 франков и перепродал полковнику Пейну за 125 000. Сегодня многие наши американские клиенты с радостью дали бы за нее полмиллиона франков.
Клод Моне, поселившийся в Аржантёе, поблизости от своего друга Кайботта, продал мне целый ряд очаровательных этюдов с натуры, написанных им во время поездки в Голландию, а затем и ряд картин, созданных в Аржантёе, Руане и окрестностях Парижа. Те самые полотна, за которые я неизменно давал ему по 300 франков и которые в течение двух десятилетий находили признание лишь у немногих знатоков, повсюду разыскиваются сегодня любителями, готовыми дать за них чрезвычайно высокую цену.
Вот еще пример слепоты и запоздалого прозрения публики: один из этих видов Голландии я продал Добиньи за 400 франков. После его смерти картина была продана на аукционе в отеле Друо за 82 франка вместе с рамой, причем она одна стоила 80. Купил картину Дюре. На распродаже его собрания, проведенной мною в 1894 году, я выкупил ту же картину за 3400 франков и продал господину Дека за 4000. В 1901 году на одной из распродаж, устроенных господином Дека, картина была куплена за 30 000 франков.
Со своей стороны, Ренуар, Сислей и Писсарро, работавшие в Лувесьенне, Марли, Шату, Буживале, приносили мне много картин, дышавших свежестью и правдой. Но, как и полотна Моне, они почти не привлекали к себе внимания публики, когда я их выставлял у себя в галерее.
В Лондоне мы продали совсем незначительное количество этих полотен, а когда я уехал оттуда и поддерживать названных выше художников там стало некому, немногие любители, отважившиеся приобрести несколько картин, один за другим распродали их.
Тогда же я имел счастье познакомиться с Уистлером, которого заинтересовал успех моих выставок и который был к тому же дружен с Мане, Дега и другими художниками их группы. Он прислал мне, с тем чтобы я выставил их у себя на улице Лаффит, довольно много своих картин, в том числе наиболее известные, как, например, «Портрет матери», находящийся сейчас в Люксембургском музее[28], и «Портрет Карлейля». Я стал его парижским уполномоченным, и он поручил мне представлять его картины в Салон. Художники и кое-кто из любителей восторгались работами Уистлера, но они были слишком хороши и возвышенны, чтобы публика могла их понять… и мне не удалось продать ни одной из них.
Настоящие заметки, при всей их неполноте, могут дать читателю представление о размахе моих операций в тот период и о лихорадочном оживлении, царившем в делах фирмы. Все эти сделки, выставки, которые приходилось устраивать, непрерывное поступление и отправка картин, то покупаемых, то продаваемых, то отправляемых в Брюссель и Лондон, то возвращавшихся оттуда, требовали очень точной и своевременной отчетности. К сожалению, помощники были у меня плохие и счетные книги велись неаккуратно, в чем отчасти был виноват я сам, так как не имел времени, а зачастую и возможности регистрировать все подробности проводимых мною операций. Правда, в моем столе всегда лежали два маленьких реестра: в первый я собственноручно заносил все сделки, которые заключал единолично, во второй – те, которые осуществлял на половинных началах с Брамом, но что касается этих последних, то здесь сведения мои часто бывали весьма неточны, поскольку Брам, переутомленный, как и я, но человек еще менее аккуратный, нередко забывал информировать меня о ходе дел.
Это было серьезным упущением с моей стороны, и позднее я сильно поплатился за свои промахи и небрежность. Мне нужно было иметь рядом с собой сведущего человека, который содержал бы отчетность и торговые книги в безупречном порядке, а у меня не было служащих, способных оказать мне сколько-нибудь ценную помощь. Я должен был почти все делать сам, и мне, кроме того, постоянно приходилось уезжать на день-другой в Лондон или Брюссель, где меня столь же неудачно замещали мои служащие, люди честные, но легкомысленные и бездеятельные.
Позднее, когда для меня наступили трудные годы, я был вынужден закрыть оба своих филиала. Пока я мог заниматься ими лично, они оправдывали себя, но нерадивость моих представителей привела к тому, что эти филиалы перестали окупать расходы по их содержанию.
1874–1879
Первые выставки на улице Лаффит, где я показал принадлежавшие мне картины Моне, Сислея, Писсарро, Ренуара и Дега, возбудили только любопытство. Большинство посетителей смотрели на них равнодушно, но без враждебности. Несколько непредубежденных любителей заинтересовались ими, и я сумел даже кое-что продать. Напротив, появление полотен, приобретенных мною у Мане и Пюви де Шаванна, было встречено яростным хором нападок, насмешек и оскорблений. Началась настоящая кампания протеста против этих художников, спровоцированная нелепыми статьями в некоторых газетах и принявшая вскоре неслыханно разнузданный характер. Пресса осмеивала и травила наших злополучных художников, огульно осуждая их всех. Меня, осмелившегося показать и защищать такие произведения, называли безумцем и бесчестным проходимцем. Мало-помалу доверие, которое мне удалось завоевать, было сведено на нет, и я стал подозрительной личностью даже в глазах своих лучших клиентов. «Как можете вы, – упрекали они меня, – вы, кто один из первых оценил школу 1830 года, расхваливать нам теперь картины, в которых нет и намека на художественность?» Мне неоднократно предсказывали, что я кончу дни свои в Шарантоне[29].
Чтобы предотвратить грозившую мне опасность и особенно ввиду недостатка средств, я вынужден был ограничить закупки и позволить моему другу Фору, располагавшему значительным состоянием, занять мое место около Мане, у которого уже не я, а Фор купил за 6000 франков «Кружку пива», выставленную в Салоне 1873 года, а позднее и ряд других картин. Фор купил также много полотен у Моне, Сислея, Писсарро и Дега. Эти бедные художники, которых я, в силу обстоятельств, принужден был, пусть даже временно, оставить на произвол судьбы, сумели, правда, сбыть кое-что отдельным моим клиентам – Ошеде, Шоке, графу Дориа, господину де Беллио, братьям Гехт, Руару, Берару. Однако все это были ничтожные сделки, и, чтобы не умереть с голоду, беднягам пришлось впоследствии продавать свои картины по невероятным ценам – 100, 50 и даже 20 франков за штуку. Однажды я разом купил 5 полотен Моне, которые некий маклер уступил мне за 100 франков.
Что до меня, то многочисленные шедевры наших великих художников, принадлежавшие мне, не послужили для меня оправданием в глазах публики, и прежде всего той ее части, которой чудилось, что я оскорбляю ее вкус и плохо служу ее интересам. Мой кредит был подорван до такой степени, что все попадавшее ко мне в руки, казалось, немедленно теряло всякую ценность; чтобы выполнить свои многочисленные обязательства, мне пришлось продавать в убыток, часто за половину себестоимости, замечательные шедевры Коро, Делакруа, Милле, Руссо, Дюпре и других мастеров. В этих обстоятельствах я мог считать, что мне еще повезло, когда я продал «Сарданапала» Делакруа за 60 000 франков, «Окрестности Саутгемптона» Дюпре за 25 000 франков, «Смерть дровосека» Милле за 10 000 франков, хотя купил я эту вещь за вдвое большую сумму, и т. д. (Картина «Смерть дровосека», одно из наивысших достижений художника, была показана на Всемирной выставке 1867 года, а ныне находится в Копенгагенском музее[30].)
Не находя даже на таких жалких условиях покупателей на свой товар, я не раз бывал вынужден доверять прекрасные творения школы 1830 года, большим количеством коих еще располагал, различным маклерам, поручая им продать эти вещи любителям или тем из моих коллег, которые отказывались покупать у меня лично.
Последнюю надежду собрать значительную сумму, столь нужную мне в этот критический момент, я утратил в связи с еще одним неблагоприятным обстоятельством. В 1873 году в Вене устраивалась огромная Всемирная выставка, и по просьбе министерства изящных искусств я отправил туда большое число первоклассных картин, которые должны были придать блеск французскому павильону. Кроме того, решив воспользоваться случаем, поскольку выставка должна была привлечь в этот город многих коллекционеров, я послал туда одного из своих служащих с партией весьма примечательных полотен. Он снял там галерею и выставил их. Я имел все основания рассчитывать на успех, но, к несчастью, мои надежды не оправдались. В Вене вспыхнула эпидемия холеры, и это нанесло выставке смертельный удар: посетители спешно разъехались, и я ничего не продал.
В такой ситуации Дега, Моне, Ренуар, Сислей, Писсарро, Сезанн, мадемуазель Моризо и Гийомен, решив вступить в непосредственный контакт с публикой, организовали общество и открыли выставку своих произведений в помещении, принадлежавшем Надару и расположенном на бульваре Капуцинок. В надежде добиться у публики более снисходительного отношения к выставке, они допустили на нее менее одиозных художников, как то: Бракемона, Будена, Лепина, Кальса, Брандона и Де Ниттиса. Мане благоразумно воздержался и не примкнул к группе.
Выставка импрессионистов открылась 15 апреля 1874 года. Публика валила на нее валом, но с явно предвзятым мнением: она видела в этих великих художниках лишь самоуверенных невежд, пытающихся привлечь к себе внимание оригинальничанием. Общественное мнение ополчилось на импрессионистов, и они вызвали новый взрыв насмешек, презрения, даже негодования во всех кружках, мастерских, выставочных залах и даже театрах, где над ними всячески потешались.
При всем том на выставке экспонировались первоклассные картины, многие из них стали потом знаменитыми. В числе работ Дега фигурировали прекрасные «Балерины на уроке», которые я продал Фору за 4000 франков, а в 1895 году выкупил у него за 10 000 и которые стоили бы сегодня 400 000; второе полотно под тем же названием, купленное Мюльбахером за 1200 франков и входящее теперь в состав коллекции Камондо; восхитительные «Кулисы», принадлежавшие господину Анри Руару и проданные с аукциона за 400 000 франков в декабре 1912 года, когда я проводил распродажу его коллекции; наконец, «Скачки в провинции», проданные мною Фору и находящиеся ныне в одном из крупных немецких собраний. В моей коллекции имеются также два знаменитых произведения Ренуара, фигурировавшие на этой достопамятной выставке, – «Маленькая танцовщица» и «Ложа», за которые мне совсем недавно предлагали 350 000 франков. В числе картин, выставленных Моне, были его знаменитый «Завтрак», «Рыбачьи лодки, выходящие в море» и «Итальянский бульвар» – ныне они находятся в Германии. В каталоге фигурировал также один пейзаж из его серии «Море перед закатом», значившийся под названием «Впечатление» [ «Impression»]. Стремясь посмеяться над художниками группы, пресса ухватилась за это словечко и дала экспонентам прозвище «импрессионисты», которое так и осталось за ними.
Сейчас кажется совершенно невероятным, чтобы выставка, на которой были представлены подобные произведения, могла вызвать такие нападки, но общественное мнение было тогда так восстановлено против опасных новаторов, что публика шла на выставку с твердым намерением посмеяться и не давала себе труда смотреть на сами картины. То же произошло и год спустя, когда Моне, Ренуар, мадемуазель Моризо и Сислей решили пустить с аукциона известное количество своих произведений. Эта распродажа, которую я вместе с Пийе провел в марте 1875 года и на которой фигурировало 20 великолепных полотен Моне, 12 – мадемуазель Моризо, 19 – Ренуара и 21 – Сислея, сопровождалась неописуемыми сценами. В день выставки и во время распродажи Пийе был вынужден вызвать полицейский наряд, чтобы перебранка не переросла в форменное сражение. Публика была так настроена против немногочисленных защитников злополучных экспонирующихся художников, что пыталась сорвать аукцион и встречала воем каждое новое предложение, хотя цены были более чем скромными и выручка от распродажи 73 картин составила всего 11 496 франков. А ведь продавалось замечательное собрание произведений, и за самое слабое из них сегодня дали бы большие деньги. Представление об этой распродаже может дать хотя бы тот факт, что в числе работ Моне экспонировалась «Весна», которая была продана тогда за 205 франков и которую господин фон Чуди приобрел впоследствии для Берлинского музея за 40 000 франков; в числе работ Ренуара – «Источник», который я, по поручению художника, снял для него с аукциона за 110 франков и который несколько лет тому назад был куплен у меня княгиней де Ваграм за 70 000 франков, и, наконец, «Туалет», приобретенный Дюре за 140 франков. Эта же самая картина, доставшаяся мне за 4200 франков на распродаже собрания Дюре в 1894 году, была недавно продана нами в Америку за 100 000 франков. За «Источник» сегодня без труда можно было бы выручить 200 000, а то и 300 000 франков. Если бы я не был тогда в положении, вынуждавшем меня к предельной осторожности, эти картины никогда не пошли бы по таким смехотворным ценам. Я поручил бы друзьям поднять на них цены до приличного уровня, как это обычно делается на аукционах, и за отсутствием серьезных конкурентов сам приобрел бы эти вещи, невзирая на насмешки публики.
Мои злополучные друзья, все еще уповавшие на поворот в общественном мнении, не пали духом, и та же группа, которая устроила в 1874 году пресловутую выставку у Надара, в 1876 году открыла вторую выставку в моей галерее на улице Лепелетье, в 1877-м – третью в большом помещении на втором этаже дома номер 6 по улице Лепелетье, в 1879 году – четвертую на авеню Оперы и в 1800-м – пятую на улице Пирамид. Все эти выставки, где экспонировались целые собрания выдающихся произведений, привлекли не меньше публики, чем выставка 1874 года, но послужили поводом к оскорблениям и насмешкам еще более глупым, чем те, какими была встречена первая попытка импрессионистов.
Эти постоянные неудачи и невозможность повторять вышеописанные дорогостоящие опыты привели к распаду Общества импрессионистов, созданного в 1874 году.
В том, что художники новой школы так долго не могли добиться признания и подвергались таким ожесточенным нападкам, нет ничего удивительного: через такие же испытания пришлось пройти и представителям великого поколения 1830 года. Даже в 1870-е годы, после блистательного успеха на распродажах последних лет, талант этих живописцев нашел признание лишь у избранных знатоков, круг которых, правда, расширялся с каждым годом; публика же по-прежнему относилась к ним с предубеждением, а в официальных сферах и в среде художников на них взирали с прежней враждебностью.
Новым доказательством тому явилось голосование жюри при закрытии Салона 1874 года, когда присуждалась почетная медаль. Коро, давным-давно заслуживший ее и выставивший в Салоне три новых шедевра, получил всего три голоса, все остальные были отданы Жерому.
Эта вопиющая несправедливость возмутила всех, кто считал Коро бесспорным и уважаемым главой современной живописи, и они решили в знак протеста поднести художнику от себя ту высокую награду, в которой ему было отказано официально. Создан был комитет под председательством господина Маркотта, друга Энгра и Делакруа, поручивший изготовление большой почетной медали скульптору Жоффруа-Дешому, который позднее получил заказ на памятник великому художнику в Виль-д’Авре.
Торжественное вручение медали состоялось в моей галерее на улице Лаффит и сопровождалось бурным и трогательным выражением симпатии к художнику. Я сам видел, как Коро плакал от волнения.
В следующем году он скончался, почти сразу после Милле. Вскоре за ними последовали Бари, Домье, Диаз, Фромантен, Добиньи, и единственными представителями прославленной плеяды художников остались Жюль Дюпре и Зием.
Десятого мая 1875 года я устроил распродажу мастерской Милле. Она дала 321 000 франков, сумму, достаточную для уплаты долгов художника, после чего семье покойного осталось 80 000 франков.
26-го того же месяца я приступил к распродаже мастерской Коро. Выручка составила 407 000 франков. В каталоге значилось 497 картин и этюдов, не считая бесчисленных рисунков.
Результаты двух этих распродаж, весьма скромные в сравнении с теми миллионами, которые они принесли бы сегодня, казались тогда просто блестящими – настолько мало ценила публика двух великих художников.
Через несколько недель, 11 июня, господин Гаве поручил мне продать с аукциона его чудесную коллекцию из 95 пастелей Милле. Выручка составила всего 430 000 франков, и владельцу пришлось еще снять с продажи несколько пастелей, бо́льшую часть которых у него приобрел вскоре господин Куинси Шоу. Какие бы деньги дали за подобное собрание сегодня!
Седьмого февраля 1876 года я устроил также распродажу мастерской Бари. На распродаже фигурировало большое число прекрасных акварелей, картин, рисунков, бронзы всех размеров и бесценная коллекция всех моделей художника. Выручка, однако, составила всего 247 000 франков, немногим более одной двадцатой теперешней стоимости проданных вещей.
Распродажа мастерской Добиньи, устроенная Брамом 6 мая 1878 года, дала не более блестящие результаты – выручка составила всего 239 000 франков. То, что шло тогда по 1000–1500 франков и даже дешевле, позднее было продано по весьма высоким ценам.
Вопреки ожиданиям смерть всех этих великих художников отнюдь не подняла цены на их произведения, а, напротив, по сравнению с предыдущими годами сильно снизила. Это понижение произошло в период с 1875 по 1880 год, в чем легко убедиться, познакомившись с каталогами тогдашних распродаж. Там встречается немало случаев, когда второстепенные полотна Делакруа, Коро, Милле, Добиньи, Дюпре шли за несколько сот франков, и даже прекраснейшие их произведения продавались по весьма умеренным ценам.
Вынужденный обстоятельствами любой ценой реализовать имевшиеся у меня ценности, я сам неоднократно пускал с молотка некоторые свои лучшие картины, зачастую продавая их гораздо ниже себестоимости, хотя и последнюю никак нельзя было считать высокой.
О состоянии рынка в те злосчастные годы можно судить по плачевным результатам распродажи, которую в 1878 году решился устроить мой друг Фор. Сбыв в 1873 году свою коллекцию, он вновь собрал кое-какие отличные картины, в частности ряд великолепных полотен Коро, чему способствовало снижение цен на вещи этого великого художника, последовавшее после его смерти. Стремясь целиком посвятить себя новой школе, Фор надеялся без труда продать то, что ему удалось купить по таким дешевым ценам. Поскольку я был тогда в опале у публики, он счел за благо назначить оценщиками Брама и Жоржа Пти, тогда еще совсем молодого и только что сменившего своего отца в качестве главы фирмы. Однако за отсутствием спроса Фор был вынужден выкупить за гроши почти все, что он выставил, и выручка от распродажи не покрыла расходов по ее проведению. А ведь картины Коро, которые ему пришлось взять обратно, все до одной представляли собою первоклассные произведения и стоят сегодня огромные деньги. Общая стоимость 42 картин, фигурировавших на этой распродаже, составила тогда всего 209 950 франков. Чтобы позондировать настроение публики, Фор включил в число этих картин три выдающихся произведения Мане – «Кружку пива», «Бал в Опере» и «Полишинеля». Только на последнюю картину нашелся покупатель, давший за нее 2000 франков «Кружку пива» и «Бал в Опере» пришлось снять с аукциона за 10 000 и 6000 франков соответственно, без серьезной конкуренции.
Другой, более крупной распродажей, результаты которой подтвердили трудное положение со сбытом и неустойчивость цен в тот момент, была распродажа Лорана Ришара, состоявшаяся 23 мая, вскоре после распродажи Фора. Сбыв в 1873 году свою коллекцию по ценам, превзошедшим его ожидания, Ришар пожалел, что продал ее, и выкупил у меня много произведений, доставшихся мне на аукционе, в том числе «Иней» Руссо и «Мариссельскую церковь» Коро. Понемногу Ришар составил еще более крупную и прекрасную коллекцию, нежели первая, но, будучи, как это часто бывает с любителями, склонен к спекуляции, испугался начавшегося снижения цен и опять счел за благо сбыть то, что собрал. С целью привлечь на распродажу клиентов Пти и Фераля он, равно как и меня, назначил их оценщиками, но результаты не оправдали его надежд, и ему пришлось выкупить половину картин по ценам, которые показались бы сегодня невероятно низкими.
Коллекция Ришара, состоявшая почти целиком из первоклассных произведений, включала 92 картины современных и 20 картин старых мастеров. Среди первых было 19 полотен Т. Руссо, 10 – Милле, 12 – Диаза, 8 – Делакруа, 5 – Коро, 5 – Тройона, 5 – Жюля Дюпре, 3 – Фромантена, 2 – Месонье и 2 – Курбе. Чтобы составить представление о ценности двух последних произведений, проданных тогда одно за 13 100, другое за 7600 франков, достаточно сказать, что десять лет назад мы продали их в Америке примерно за 100 000 франков, а сегодня они стоили бы вдвое больше. Десять картин Милле, давшие на распродаже всего 88 570 франков, были великолепны и принесли бы сегодня верных три миллиона. Пять работ Коро, проданных за 31 870 франков, стоили бы сегодня огромных денег, равно как восемь вещей Делакруа, принесших 80 945 франков, и 19 вещей Руссо, принесшие 210 410 франков, так как все это были изумительные произведения. Среди них был «Иней», доставшийся мне за 60 000 франков на первой распродаже в 1873 году и вскоре выкупленный у меня Лораном Ришаром, на этот раз всего за 46 500 франков.
Распродажа коллекции господина Ошеде, состоявшаяся 5 июня того же 1878 года, была вызвана иными причинами, но цены на ней также дают представление о настроениях тогдашней публики. Господин Ошеде, первый муж госпожи Моне, очень богатый человек, один из первых уверовал в художников новой школы. Он купил у меня много полотен, но затем ему не повезло в делах, и кредиторы вынудили его продать свою коллекцию. Как и на распродаже Фора, было сочтено за благо пригласить оценщиком Жоржа Пти.
В числе 117 картин, значившихся в каталоге, было 5 вещей Мане, 12 – Клода Моне, 13 – Сислея, 9 – Писсарро, 3 – Ренуара и 2 – мадемуазель Моризо.
Пять картин Мане были приобретены по следующим ценам: «Женщина с вишнями» (№ 31 в книге Дюре) – 450 франков; «Тореадор» (№ 33 там же) – 650 франков; «Женщина с попугаем» (№ 88) – 700 франков; «Нищий» (№ 66) – 800 франков; «Посадка на корабль в Булони» (№ 114) – 315 франков. Таким образом, за эти вещи было получено гораздо меньше, чем я сам дал за них Мане в 1872 году.
Все 12 полотен Клода Моне были очень красивы. Именно картины этого периода творчества Моне пользуются сейчас особенным спросом и стоят особенно дорого. А тогда они были проданы по следующим ценам: 200, 105, 250, 505, 60, 250, 175, 165, 210, 62, 95 и 130 франков. Среди них находился «Вид площади Сен-Жермен л’Осерруа», который несколько лет тому назад был куплен у нас господином фон Чуди для Берлинского музея.
13 работ Сислея были проданы за 101, 82, 140, 105, 21, 200, 136, 105, 251, 175, 40, 40 и 93 франков. В их числе была одна из сцен наводнения в Марли, пользующихся сейчас таким спросом. Позднее я продал ее господину Камондо.
За последние три года я понес такие потери, что бремя их исключало для меня возможность поддержать цены на произведения моих друзей. Фор приобрел некоторое количество их, но если бы в аукционе принял участие я, это лишь еще больше разозлило бы публику, толпившуюся в залах и встречавшую дикими воплями появление на аукционном столе каждой новой картины. В довершение ее ликования оценщики несколько раз поворачивали эти полотна, которые не потрудились даже обрамить, тыльной стороной к зрителям: тогда можно было утверждать, что произведения импрессионистов одинаково понятны что с лицевой, что с задней стороны холста.
В том же 1878 году, пытаясь пробудить у публики сочувствие к участи старого и больного Домье, который не мог уже работать и поэтому впал в нищету, его друзья и почитатели устроили в моей галерее его ретроспективную выставку. На ней были представлены 94 картины, 139 акварелей и рисунков, несколько гипсов и 34 бюста, выполненные художником для Филипона, а также полное собрание лучших его литографий. Каталогу было предпослано предисловие Шанфлёри. Эта примечательная выставка живо заинтересовала подлинных любителей, но не имела никакого успеха у публики. На следующий год бедный Домье умер, оставив ряд неоконченных картин и много эскизов, которые бесчестным спекулянтам удалось за смехотворно малую сумму выманить у вдовы покойного. Кое-как подрисовав эти вещи, спекулянты сбыли затем большинство их по очень высокой цене. Часть их фигурировала на распродажах, устроенных после кончины художника.
Несмотря на свое затруднительное положение, я нашел случай во всеуслышание заявить о неизменной любви, которую питал к великим художникам нашей прекрасной школы 1830 года, так неудачно именуемой теперь за границей барбизонской.
В 1878 году в Париже состоялась большая Всемирная выставка. В павильоне изящных искусств, разумеется, не было ни одной работы Мане, Дега, Моне и их группы. Однако, к всеобщему удивлению, жюри, почти целиком состоявшее из художников и, несомненно, стремившееся обезопасить себя от невыгодных сравнений, постаралось, сверх того, не допустить на выставку ни одной вещи Делакруа, Милле, Руссо, Бари, Декана, Рикара, Тройона и других живописцев вышеназванной школы, скончавшихся в последние годы. Оно снизошло лишь до того, что разрешило вывесить 10 картин Коро, из которых только 2 были подлинно ценными, 9 вещей Добиньи и 3 – Изабе.
Чтобы по мере возможности исправить последствия столь отвратительного остракизма, я задумал устроить в своей галерее на улице Лаффит ретроспективную выставку[31] наших великих покойных мастеров. Однако я был лишен тех сокровищ, которыми располагал прежде, и мне пришлось обратиться к крупнейшим парижским коллекционерам, единодушно согласившимся доверить мне то лучшее, что было в их собраниях. Благодаря им выставка по своему значению и красоте оказалась несравнима с той, которую по примеру моему Антонен Пруст устроил в 1889 году в зданиях на Марсовом поле и которая также имела большой и заслуженный успех. Я сумел показать 380 картин, в том числе 88 – Коро, 61 – Милле, 33 – Руссо, 32 – Делакруа, 30 – Курбе, 34 – Рикара, 21 – Диаза, 18 – Добиньи, 17 – Тассера, 13 – Поля Юэ, 11 – Тройона, 7 – Шентрёйля, 9 – Фромантена, 8 – Бари, 4 – Декана.
Эта выставка произвела глубокое впечатление на всех, кто посетил ее, чтобы насладиться творениями наших великих художников, но ей недоставало официального престижа, и успех она имела ограниченный. Публики было мало, и я не покрыл даже свои расходы.
Тем не менее выставка сильно повлияла на иностранных и французских любителей и людей со вкусом. Они воспользовались случаем, чтобы познакомиться с нашей прекрасной школой, а это весьма помогло вновь привлечь к ней внимание публики. Результаты выставки сказались на распродажах следующих лет, в частности на распродажах собраний господ Уилсона и Хартмана, на которых картины, фигурировавшие на моей выставке, пошли по неслыханным ценам.
В этой связи мне вспоминается фраза, сказанная мне одним из крупных нью-йоркских торговцев, Германом Шауссом, когда я, показывая ему свою выставку, заметил, что он совершает ошибку, не уделяя внимания нашим великим художникам. Он ответил буквально следующее: «Эти картины никогда не найдут спроса на нашем рынке». Два года спустя он стал одним из самых рьяных покупателей этих картин, которые сумел потом продать по баснословным ценам. Он был хорошим коммерсантом и понимал, что, раз клиенты начали чем-то интересоваться, этот товар и надо им поставлять. Вот вам типичный пример той быстроты, с какой изменились вкусы покупателей. Вскоре после этого Шаусс получил от французского правительства орден.
Со мной обошлись не столь любезно. После ретроспективной выставки 1878 года и особенно ввиду многолетних моих заслуг перед французским искусством самые наши выдающиеся художники и художественные критики обратились в министерство народного образования и изящных искусств с ходатайством о награждении меня крестом Почетного легиона. Несмотря на неоднократные настояния, их ходатайство, под которым стояло множество подписей, так и осталось под сукном. В этом следует видеть проявление враждебности, которую всегда питали ко мне в официальных сферах. Правда, в 1879 году я устроил публичную распродажу в пользу свободной школы, которую правительство как раз начало подвергать гонениям, а в 1881-м был даже арестован за протест против такого акта произвола, как изгнание из Франции конгрегаций, занимавшихся воспитанием юношества. Поплатился я и за такое преступление, как попытка привить зрителям любовь к импрессионистам в ущерб интересам всех тех художников, которым покровительство государства и извечное невежество публики помогли прослыть лучшими мастерами своего времени.
1880–1887
В 1880 году, благодаря поддержке господина Федера, директора знаменитого «Union Générale» и любителя живописи, с которым меня познакомили незадолго до этого и который проникся ко мне самыми дружескими чувствами, мои дела начали принимать совершенно иной оборот. Кредиты, предоставленные в мое распоряжение Федером, облегчили мне проведение различных выгодных операций, в частности позволили выкупить у господина Эдвардса большую коллекцию картин, отданных ему в обеспечение взятых у него взаймы сумм и пущенных мною с аукциона в феврале 1881 года с разрешения Эдвардса, фиктивно все еще остававшегося их владельцем. Эта коллекция состояла из таких первоклассных произведений, как, например, «Танжерские одержимые», проданные за 95 000 франков. Этот шедевр, который Делакруа отдал за 1000 франков, в 1852 году на распродаже ван Изакера пошел всего за 2175 франков и был приобретен мною в 1869 году на распродаже маркиза дю Ло за 48 500 франков. Теперь он принадлежит господину Дж. Дж. Хиллу и стоит по меньшей мере полмиллиона.
Четырнадцатого марта состоялась распродажа коллекции Уилсона, состоявшей из старинных и современных картин, бо́льшую часть которых владелец приобрел у меня, как, например, «Вечернюю молитву», купленную им в 1872 году за 38 000 франков. Эта картина пошла теперь за 160 000 франков. Другая вещь Милле, за которую 3 марта 1867 года я дал на распродаже 1620 франков, была продана теперь за 33 700 франков.
Седьмого мая того же года имела место посмертная распродажа собрания господина Хартмана. Оно включало лишь 9 картин Милле, 10 – Т. Руссо и 2 – Делакруа. Выручка составила 798 590 франков. Самую ошеломляющую цену – 133 000 франков на аукционе дали за картину «Прививка дерева» Милле.
Высокий уровень цен, достигнутый на распродажах Эдвардса, Уилсона и Хартмана, способствовал дальнейшему повышению цен на картины школы 1830 года, начавшемуся во Франции и за границей.
В том же году семейство Курбе поручило мне продать все его художественное наследие. Первая распродажа, где фигурировали наиболее значительные произведения художника, состоялась 9 декабря и принесла 251 590 франков. Перед началом торгов аукционист объявил, что семейство покойного дарит государству «Похороны в Орнане». Государство же приобрело затем для Лувра «Битву оленей» за 41 900 франков, «Загнанного оленя на снегу» за 33 900 франков и «Человека с кожаным поясом» за 26 100 франков.
Вторая распродажа имела место 28 июня 1882 года. На ней фигурировало 40 картин и 19 рисунков, но выручка составила всего 62 660 франков.
Цены на произведения Курбе, сильно упавшие в 1872 году вследствие прискорбной роли, которую художник сыграл во время Коммуны, значительно повысились в момент первой распродажи. Однако вследствие того, что некий хорошо известный бельгийский торговец много лет наводнял рынок тысячами их копий и подделок, это повышение оказалось кратковременным. Даже лучшие создания великого живописца стало невозможно продать, и лишь через несколько лет нелепой недооценке Курбе был положен конец.
Поддержка со стороны господина Федера помогла мне вновь успешно развернуть свои операции, и я опять вспомнил о бедных художниках, которых начиная с 1874 года был вынужден предоставить их злополучной судьбе. Я возобновил покупки и, чтобы привлечь внимание к моим друзьям, устроил большую выставку их произведений на улице Сент-Оноре, в бывшем концертном зале Валентино, который я за свой счет арендовал на два месяца и в котором выставил принадлежавшие мне картины. Я показал публике большое количество новых произведений, а также все то лучшее, что оставалось у меня от прошлых лет. Чтобы не поставить под угрозу успех выставки, я представил дело так, будто она является продолжением выставок, организованных самими художниками; поэтому на титуле каталога значилась лишь фамилия Портье, бывшего секретаря их общества, а теперь моего служащего. Выставка дала вполне удовлетворительные результаты. Пресса и та заняла благожелательную позицию, и мне удалось завязать связи с несколькими новыми любителями.
В начале следующего года я сделал еще одну аналогичную попытку, сняв для этой цели помещение на втором этаже по бульвару Мадлен с выходом на бульвар. Там я с января по июль 1883 года поочередно провел пять выставок, посвященных персонально Будену, Моне, Ренуару, Писсарро и Сислею; все выставки привлекли к себе внимание публики и помогли изменить отношение значительной части зрителей к этим мастерам. Чтобы показать, что выставки устраиваются исключительно в интересах самих художников, я одолжил их картины у владельцев тех основных частных коллекций, в которых они находились.
Я намеревался и впредь продолжать эти выставки, позволявшие публике по достоинству оценить талант каждого художника в отдельности, поскольку в больших галереях произведения их терялись в массе других, а зачастую были просто плохо экспонированы. Но тут меня постиг тяжелый удар в связи с событием, которого никто не предвидел, – крахом «Union Générale»[32], разорившим столь многих французов. Банкротство его директора господина Федера, пожертвовавшего всем состоянием ради спасения своей компании, поставило меня перед необходимостью вернуть авансированные мне крупные суммы; более того, в благодарность за оказанные им услуги я сам в течение ряда лет, в свою очередь, помогал ему, надеясь, что при его уме и опыте он сумеет вновь стать на ноги. К несчастью, смерть помешала ему; он скончался, так и не вернув мне долг, составлявший значительную сумму – несколько сот тысяч франков.
Прошли долгие годы, прежде чем я оправился от этого нового удара. Чтобы расплатиться по обязательствам и прожить, я вынужден был пустить в ход все ресурсы. В целях экономии я сдал в аренду свое помещение на бульваре Мадлен и даже часть галереи на улице Лаффит. Я попытался также занять деньги под залог картин, но в собрании моем уже не было прекрасных творений школы 1830 года. У меня оставались почти исключительно вещи моих новых друзей, а их чуть ли не повсеместно предавали остракизму и рассматривали как ничего не стоящую мазню. Нашелся только один человек, согласившийся кредитовать меня, да и то в пределах стоимости рам, а не самих полотен, за которые тогда никто не дал бы и гроша. Я прожил несколько страшных лет, соблюдая строжайшую экономию и лишь время от времени заключая какую-нибудь ничтожную сделку, но все-таки стараясь помогать моим злополучным друзьям, как только у меня в руках оказывалось хоть немного денег.
Тридцатого апреля 1883 года в возрасте 50 лет скончался Мане, унесенный страшным недугом, который уже три года подтачивал его, и наследники художника поручили нам с Жоржем Пти распродать мастерскую. Распродажа состоялась 4–5 февраля 1884 года. Наши недруги предрекали нам такую полную неудачу, что Пти даже не явился на выставку и аукцион, боясь повредить делу своим присутствием. Друзья Мане и те были встревожены. Однако результаты, при всей их скромности, превзошли наши ожидания. Вот несколько весьма показательных цифр, дающих представление о ценах на основные картины. «Балкон» был куплен Кайботтом за 3000 франков, «Урок музыки» – Руаром за 4400, «Портрет Фора» – мною за 3500, «У папаши Латюиль» – Дюре за 3500, «Бар в Фоли-Бержер» – любителем господином Шабрие за 5850, «Скетинг-ринг» – им же за 1670, «Служанка в пивной» – мною за 2500, «Нана» – доктором Робеном за 3000.
«Олимпия» была снята с продажи, после того как я довел цену до 10 000 франков, поскольку других покупателей на нее не нашлось; то же произошло с таким великим творением, как «Аржантёй», при последней цене в 12 000 франков, и с «Бельем», при последней цене в 8000 франков. «Расстрел Максимилиана» был также снят с продажи при смехотворной оценке в 175 франков. Та же участь постигла «Поругание Христа воинами» и «Старого музыканта» – на них покупателей не нашлось.
Выручка от распродажи, на которой было выставлено 159 картин, пастелей и рисунков, составила 116 637 франков. Сколько бы дала подобная распродажа сегодня!
Эта распродажа отлично характеризует как настроение тогдашней публики, так и бесчисленные трудности, какие мне приходилось преодолевать. Не знаю, удалось бы мне это или нет, если б не счастливый случай, который в конце 1885 года помог мне завязать отношения с нью-йоркской «American Art Association».
Эта фирма выхлопотала себе привилегию, обычно даваемую только музеям, – право беспошлинного ввоза картин и предметов искусства для показа их в своей галерее, при условии известных предварительных финансовых гарантий и с обязательством последующей выплаты пошлины с того, что продано, и отправки обратно в Европу того, на что не нашлось покупателей. Один из компаньонов этой фирмы, которого привел ко мне кто-то из друзей, был поражен размерами и составом моей коллекции, особенно той ее части, что находилась в моей квартире на улице Ром. Он решил, что подобное собрание непременно произведет сенсацию в Америке.
Мы условились, что я немедленно отправлю в Нью-Йорк 300 лучших своих картин мастеров новой школы, чтобы представить ее во всем блеске. Все расходы по фрахту, страховке, выставке, рекламе и т. д. американцы брали на себя, а я обязывался лишь уплатить им комиссионные с продажи. Я не замедлил согласиться на такие условия. Они вполне устраивали меня, тем более что при своем тогдашнем положении я был лишен возможности взять на себя большие расходы, неизбежные при подобной операции.
Я отобрал картины, отправил их, как мы договорились, в Нью-Йорк и 13 марта 1886 года сам отплыл туда для устройства выставки в известной галерее на Мэдисон-сквер, которая принадлежала названной выше фирме и в которой под ее руководством проходили все крупные распродажи, имевшие место в Америке за последние тридцать лет. С собою я взял не своего старшего сына Жозефа, который блестяще завершил образование, получив степень лиценциата словесности и оканчивал теперь юридический факультет, а его младшего брата Шарля, красивого двадцатилетнего юношу, отличавшегося редкими способностями и блестяще сдавшего экзамены на звание бакалавра словесности и бакалавра наук, как это сделал впоследствии и мой третий сын Жорж. Мой бедный Шарль с помощью обоих своих братьев, которые позднее один за другим приехали к нам в Америку, оказал мне неоценимую помощь, так как в делах был поистине гениален. К несчастью, скоропостижная смерть отняла его у меня 18 сентября 1892 года, вскоре после его возвращения из шестой поездки в Америку. Этот страшный для всех нас удар серьезно затормозил развертывание наших операций в великой заокеанской стране, где покойный уже завоевал себе исключительно прочное положение. Мой дорогой мальчик ушел от меня почти в том же возрасте, что и его мать, которая умерла у меня на руках в 1871 году, спустя несколько месяцев после нашего возвращения из Англии.
Выставка в Нью-Йорке открылась через несколько дней после нашего приезда. Каталог, равно как и все объявления, был озаглавлен просто: «Works in oil and pastel by the Impressionists of Paris». Мое имя не упоминалось. Американцы увидели подлинно замечательное и обширное собрание выдающихся произведений Мане, Дега, Ренуара, Клода Моне, Сислея, Писсарро, мадемуазель Моризо, Гийомена, Синьяка, Сёра, Кайботта, Форена, Будена, Лепина, Дж. Л. Брауна, к которым я добавил кое-какие другие полотна, способные заинтересовать зрителя, как, например, «Смерть Марсо» Ж.-П. Лорана. Выставка возбудила всеобщее любопытство, имела огромный успех и, в отличие от того, что происходило в Париже, не вызвала ни скандала, ни глупых выпадов, ни протестов. Пресса единодушно заняла благожелательную позицию, и газеты Нью-Йорка, равно как и других крупных городов США, напечатали немало хвалебных отзывов о выставке. Публика и любители шли на нее не для того, чтобы посмеяться, а чтобы понять, что же представляют собой те пресловутые картины, которые наделали столько шума в Париже. Поскольку в Америке, почти так же широко, как и во Франции, я слыл одним из первых защитников великих художников 1830 года, люди без малейшего предубеждения шли смотреть работы моих новых друзей, предполагая, что они несомненно обладают какими-то достоинствами, раз я их так упорно отстаиваю.
Оценить с первого взгляда творчество новых художников было нелегко и дано не всякому. Поэтому приобрели у меня картины лишь немногие любители, задавшие тон в Америке, как то: господа Спенсер, Хэвемайер, Фаллер, Сини, Эрвин Девис, Фиц Джералд, Лоренс, неоднократно посетившие выставку и тщательно изучившие ее экспонаты. Кое-что купил у меня и господин Сеттн, один из директоров «American Art Association». Состояния мне выставка не принесла, но успех был ощутимый и обнадеживающий.
В соответствии с обязательствами, принятыми на себя американцами, выставка должна была продолжаться всего месяц, но наплыв зрителей заставил моих хозяев продлить ее. Поскольку их помещение нужно было освободить, они договорились с Национальной академией рисунка, что после закрытия выставки все мои картины будут перевезены в обширную галерею Академии на 23-й улице. Там они, ко всеобщему удовлетворению, экспонировались еще месяц, притом в лучших условиях, и получили таким образом нечто вроде официального признания.
После этого первого успешного опыта я договорился с американцами устроить в начале следующего зимнего сезона вторую выставку столь же крупных размеров, на которой будут, однако, представлены не одни импрессионисты, но также картины школы 1830 года и других известных художников, чтобы публика могла их сравнить с произведениями новой школы.
Восемнадцатого июля мы с сыном вернулись в Париж и сразу же занялись подбором коллекции, достойной поставленной нами цели. В октябре мы отправили ее в Нью-Йорк, и мои сыновья Жозеф и Шарль отплыли туда, чтобы принять картины и выставить их в галерее на Мэдисон-сквер. Я собирался выехать вслед за ними, чтобы поспеть к открытию выставки, но мое отплытие задержалось в связи с неожиданными серьезными затруднениями, вынудившими меня остаться в Париже до марта следующего года.
Нью-йоркские торговцы, отнюдь не мешавшие мне при первой моей попытке, поскольку они были уверены в полном ее провале, теперь, когда я добился успеха, решили воспрепятствовать беспошлинному ввозу второй партии моих картин. С этой целью они направили в Вашингтон категорический протест против предоставленной мне привилегии. Их ходатайство, усиленно поддержанное политиканами, вынудило правительство предупредить «American Art Association», что впредь со всего присланного мною будет взиматься пошлина. В то время таможенные сборы были весьма высокими, так что нам пришлось бы уплатить колоссальную сумму. Весьма раздосадованные таким решением, мои американские коллеги предприняли ряд шагов с целью его отмены и в конце концов добились того, что мои картины, уже много месяцев лежавшие на таможне, были на этот раз освобождены от пошлины, но при условии, что их не будут продавать, а лишь выставят, после чего все они без исключения будут отправлены обратно во Францию. Те же полотна, которые любители пожелают купить, не могут быть переданы им немедленно, а должны быть высланы из Парижа с уплатой обычной пошлины. Нам пришлось согласиться на поставленные условия, но все эти переговоры отняли столько времени, что залы на Мэдисон-сквер оказались уже заняты и нашу выставку пришлось устроить в галерее Национальной академии рисунка, где публика встретила ее с той же радостью, что и первую. Открылась она лишь 25 мая 1887 года, когда деловой сезон в Нью-Йорке уже подходил к концу. Тем не менее она увенчалась успехом, но в финансовом отношении результаты ее не оправдали наших ожиданий и были далеко не такими, какие она дала бы, если бы открылась в начале зимы. На ней фигурировало большое число выдающихся произведений Дега, Моне, Сислея, Ренуара, Писсарро, мисс Кэссетт и других представителей современной школы, а также 10 больших картин Пюви де Шаванна (первые его вещи, которые пересекли океан), в том числе «Бедный рыбак», находящийся сейчас в Люксембургском музее, «Магдалина», в прошлом году купленная у нас Франкфуртским музеем, и великолепные уменьшенные повторения картин из Пантеона и Амьенского музея. Делакруа был представлен «Смертью Сарданапала» и «Покаянием», которое приобрел позднее Бостонский музей. Экспонировались также значительные произведения Т. Руссо, Жюля Дюпре, Курбе, Добиньи, Эннера и др.
Помехи, чинимые ввозу наших картин, вынудили нас действовать по-иному. Мы решили сами вести свои дела и сняли в Нью-Йорке помещение, куда, уплачивая пошлину, стали привозить те или иные картины, которые надеялись легко продать. Этот опыт удался, и мы обосновались в доме на 5-й авеню, а несколькими годами позже, когда размах операций возрос, перебрались в красивое здание, принадлежавшее нашему лучшему американскому клиенту и другу Г. О. Хэвемайеру, чье изумительное собрание состоит исключительно из шедевров, в большинстве случаев проданных ему нами. Чтобы составить представление об этой коллекции, достаточно упомянуть, что в ней 8 великолепных полотен Рембрандта, 30 – Коро, 20 – Мане, штук тридцать – Дега, ряд выдающихся произведений Гойи и Греко и другие в том же роде.
Открытие филиала в Нью-Йорке и расширение операций позволили нам мало-помалу преодолеть трудности, с которыми я так долго боролся, выплатить долги друзьям и без помех заняться делами. Наш успех пошел на пользу и художникам, делу которых я служил. Цены на их произведения стали непрерывно подниматься и достигли теперь весьма высокого уровня.
Должен сознаться, что таким резким поворотом в своей судьбе я был обязан прежде всего вновь обретенной возможности покупать великолепные произведения старинных мастеров и школы 1830 года, которые у меня очень быстро брали в Америке либо музеи, либо любители. Прибылей же от продажи картин новой школы никогда не хватило бы на то, чтобы вывести меня из затруднительного положения, потому что нам еще предстояла долгая и упорная борьба за признание молодых художников. Побеждать предрассудки – дело нелегкое.
После двух этих первых поездок в Америку я совершил еще семь, поддерживая связи со своими клиентами в Нью-Йорке и других крупных городах США. После 1888 года мои поездки прекратились, и теперь во время делового сезона туда поочередно ездят мои сыновья Жозеф и Жорж. Оба они пользуются большим уважением любителей.
Амбруаз Воллар. Воспоминания торговца картинами
Предисловие. О том, как мне впервые предложили написать воспоминания
Как-то вечером в гостях у мадам С., после ужина, мы разговорились о достоинствах различных религий. Когда спросили мое мнение, я прямо заявил, что если бы мне пришлось выбирать, то я отдал бы предпочтение иудейской вере. Второе место я отвел протестантизму, а на самое последнее поставил католическое вероисповедание.
– Но позвольте полюбопытствовать, мсье Воллар, – спросила хозяйка дома, – каковы ваши соображения?
– Мадам, я родился в стране, жители которой не переносят сквозняков. Так вот, в синагогах прихожанам нельзя снимать шапку; протестантские храмы, где не принято оставаться в головном уборе, по крайней мере, прилично отапливаются; а в католических церквах, напротив, люди находятся с непокрытой головой под ледяными сводами, подвергаясь воздействию сквозняков, дующих из всех щелей…
– С таким необычным взглядом на вещи, – заговорила опять хозяйка дома, – вам бы следовало написать воспоминания. Это наверняка получилось бы у вас оригинально.
Ее совет развеселил гостей, и меня в первую очередь.
Однако по какому-то странному совпадению некоторое время спустя меня посетил представитель одной крупной американской фирмы, господин У.-Э. Бредли, и предложил написать воспоминания. Внутренне польщенный, я стал отказываться, заявив, что не понимаю, какой интерес может представлять для читателя рассказ о том, что я увидел и услышал за свою жизнь. Кроме того, я не скрыл от него, что пишу с большим трудом и, значит, медленно.
– Ну что ж! Мы дадим вам столько времени, сколько нужно.
Господин У.-Э. Бредли, достав из кармана какой-то документ, сказал:
– От вас требуется только поставить подпись… вон там… где крестик…
И я расписался совершенно машинально. После чего посетитель положил на стол чек, выписанный на определенную сумму долларов.
Заметив мое удивление, он сказал:
– Это аванс за вашу рукопись.
– Но если я умру, не успев ее вам передать, окажется, что ваша фирма заплатила деньги зря!..
– Как «зря»!.. Вы полагаете, что это ничего не стоит – дать объявление следующего содержания: «Фирма „Литтл Браун“[33] приобрела исключительные права на издание мемуаров господина Воллара… гм… великого…»
– Если уж на то пошло, не лучше ли написать: «Мемуары самого известного из торговцев картинами»?
– Действительно… Почему бы и нет?.. Недурно…
Про себя же я подумал: «Хорошая реклама может дать очень много, но во Франции с помощью подобных трюков человека не заставишь купить книгу».
И вот однажды вечером, зайдя в магазин Фламмариона, я заметил посетителя, листавшего книги и отбрасывающего их в сторону одну за другой. Я услышал, как он пробормотал: «Пока нет ничего похожего на выдающихся писателей». И он уже отобрал было «Отверженных» Виктора Гюго, как вдруг взгляд его упал на томик, лежавший в стопке только что вышедших изданий. «Ах! – воскликнул он. – Ведь это та самая вещь, о которой один критик сказал, что это нечто большее, чем Гюго». И, положив «Отверженных» на место, он решительно взял «Вождя» Клода Фаррера и двинулся к кассе.
I. С острова Реюньон на факультет права в Монпелье
Моя семья. – Первые годы жизни. – Страсть к красивым мундирам. – Я хочу быть судовым врачом. – Бакалавр. – Я отказываюсь от медицинской карьеры. – Решено: я буду изучать право
Я родился на острове Реюньон, этой «жемчужине Индийского океана», известной вначале под именем острова Бурбон, очаровательная природа и нравы которого были так хорошо описаны Мариусом-Ари Леблоном. Когда я рассказываю о своей родине, меня иногда спрашивают: «Сколько там жителей и какова площадь вашего острова?» Я где-то прочитал, что Реюньон меньше, чем самый маленький департамент Франции, если не считать департамента Сена. Что касается количества его жителей, об этом мне никогда не было известно.
Зато я знаю другое, то, что первыми колонизаторами острова Бурбон были преимущественно приехавшие из Франции аристократические семьи: в многочисленных королевских указах утверждалось, что дворяне, отправляющиеся на «колонизацию», не нарушают закона. Были там и крестьяне, которых политика Кольбера поощряла к заселению новых земель, присоединенных к французской короне. Во время Революции некоторые из «бывших» аристократов, почувствовав угрозу своей жизни, также отправились на «острова» в поисках надежного убежища. Наконец, к перечисленным категориям людей надо добавить французов, выходцев из самых разных сословий; покинуть родину их заставляла склонность к приключениям.
Таков был случай моего деда по материнской линии. Он родился на севере Франции. В молодости мечтал стать художником. Но в конце концов уехал в поисках удачи на Реюньон, где женился на девушке, родители которой были провансальцами. Помнится, среди бумаг, оставшихся после его смерти, я обнаружил обрывок письма, адресованного им другу-французу. В нем дед говорил о «божественном Энгре». Этот эпитет «божественный» по отношению к художнику показался мне удивительным, тем более что я впервые встречал его употребление применительно к человеку.
Что до моего отца, родители которого никогда не покидали древней провинции Иль-де-Франс, то он приехал на Реюньон, чтобы получить место в конторе нотариуса, и в конечном счете стал ее владельцем. Через несколько лет после прибытия на остров он женился. От этого брака родилось десять детей, старшим из них был я.
Находясь в окружении людей с чуждой культурой, которые понемногу просачивались на остров, – негров, китайцев, индусов, мальгашцев, – белое население было прежде всего озабочено тем, чтобы сохранить в целостности свою расу и традиции. Поэтому крайне важное значение придавалось воспитанию детей.
Однажды я услышал, как подруга моей тети Ноэми рассказывала, что попросила надзирателя лицея разрешить ее сыну, который должен был поехать вместе с ней за город, пропустить завтрашние занятия.
– Хорошо, – ответил надзиратель. – Но вы передадите вместе с ним объяснительную записку, в которой сошлетесь на то, что он был болен…
– Как?! Дать моему Эдуару пример обмана?! И мне, его матери, краснеть перед ним!.. Нет, уж лучше пусть идет в лицей.
Само собой, девушек воспитывали в строгих правилах благопристойности и приличия, которые сегодня вызвали бы у нас улыбку. Такое же воспитание я обнаруживал у южноамериканок, встречавшихся мне в Париже. Дело в том, что молодые чилийки, уругвайки и парагвайки имели до сих пор таких же воспитательниц, что и наши девушки на Реюньоне, – почтенных монахинь, которые поддерживали у себя в пансионах обычаи и этикет старой Франции… Я никогда не забуду своего удивления, когда увидел молодую бразильянку с изумительными пышными волосами, завитыми в узел.
– Почему вы, мадемуазель, не постриглись? – спросил я.
– Если бы я это сделала, то по возвращении в Рио все стали бы показывать на меня пальцем!
Через два года я вновь встретился с очаровательной иностранкой. Должен сказать, что на сей раз у нее была прическа под Жанну д’Арк. И я не уверен, что ныне девушки Реюньона не сделали того же…
* * *
Переносясь мысленно в далекое детство, я вижу попугая, сидящего на жердочке. Я сгорал от желания завладеть одним из перьев этой птицы; но, видя, как попугай разбивает клювом самые твердые семечки, я остерегался подходить к нему. Несмотря на свой юный возраст, я заметил, что соседский негритенок повторяет за мной все мои движения. Тогда в его присутствии я выдернул перышко из хвоста цыпленка, а затем, показав на попугая, сказал: «Ты тоже возьми себе красивое перо». Но он попятился и, скривив лицо, произнес: «Это нехорошо». И мне пришлось отказаться от столь вожделенного пера.
Вокруг жердочки, укрепленной во дворе под манговым деревом, вырос целый садик, где среди других растений распустились великолепные подсолнухи. Как-то раз, когда между мной и одним из моих братьев возникла ссора из-за владения садом попугая, тетя Ноэми, разняв нас, сказала: «Мы перенесем жердочку в другое место, чтобы вырос другой садик. Тогда у вас не будет причин для раздоров». Я спросил у няни: «Попугай никогда не роется в земле и не сажает зернышек, как же тогда вырастает садик?» – «Это, глупенький, дело непростое», – ответила она. Но я заметил, что, вылущивая семечки, попугай разбрасывает их вокруг себя. Так я нашел объяснение тому, откуда появляются все эти растения, растущие в таком очаровательном беспорядке.
В то время мной владела настоящая страсть к цветам. Когда взрослые были довольны моим поведением, они позволяли мне рвать их на наших клумбах. С какой радостью я собирал букеты! Предпочтение я отдавал розам; далии (несомненно, из-за того, что в них было что-то искусственное и металлическое, хотя я этого четко не осознавал) казались мне ненастоящими цветами. Однако я должен признаться, что, когда много лет спустя Ренуар предложил мне на выбор две свои картины, на одной из которых были изображены розы, а на другой далии, я, честно говоря, оказался в очень затруднительном положении.
У нас дома в гостиной находилась витрина, дававшая возможность полюбоваться не только образцами местной фауны – чучелами камышевок, бабочками под стеклом, раковинами, – но и букетами цветов, сделанными из соломки, окрашенной в различные цвета. Тетушка Ноэми, за которой ее подруги охотно признавали недюжинный талант акварелиста, с гордым видом срисовывала эти искусственные цветы к себе в альбом.
– Цветы в саду более красивые, – сказал я ей однажды.
– Да. Но зато цветы из соломки никогда не вянут, – возразила тетя.
Позднее я узнал, что по той же самой причине самые роскошные букеты Сезанна были срисованы с бумажных цветов.
Я продолжал донимать родителей просьбами разрешить мне кое-что переоборудовать в нашем саду по своему усмотрению. Но неизменно слышал в ответ: «Подожди… Тебе еще надо подрасти!»
А пока я просил няню переносить попугая с его жердочкой то на грядку с гвоздиками, то к бальзаминам, то поместить его среди роз и упивался разнообразием картин, которые я создавал таким образом. Помню, я отдавал предпочтение клумбе лилий, в центре ее птица с разноцветным оперением смотрелась ярким пятном. Был у меня еще и рыжий кот. Я нашел его как-то утром лежащим возле бордюра из незабудок. Я еще не знал тогда, что такое дополнительные цвета, но пришел в восторг от такого сочетания красок.
Однажды я составил небольшой букетик из маргариток и белых фиалок, который показался мне очень красивым. Я побежал показать его тетушке Ноэми.
– Послушай, – сказала она, – никогда нельзя помещать белые цветы рядом с белыми цветами… Они плохо смотрятся вместе.
– Но, тетушка, это не один и тот же белый цвет…
– Все равно… Говорю тебе, это монотонно.
Однако позднее мне довелось услышать от Ренуара, что он стремится передать эффект, создаваемый белым на белом. «Это невероятно сложно, – говорил он, – но в живописи нет ничего более увлекательного и эффектного».
Одним из моих детских желаний было стать… рабом! Я слышал от взрослых, что когда-то существовали рабы и что им постоянно приходилось скрываться в лесах.
– Так, значит, няни рабов позволяли им уходить? – спросил я.
– У рабов не было нянь.
Не иметь няни и совсем одному уходить в леса – как это, должно быть, интересно! И вот однажды, когда я рассматривал старую картинку, изображающую негра, сидящего на вершине кокосовой пальмы, окруженной охотниками с собаками, которые разъяренно вцепились в ствол дерева, няня объяснила мне:
– Это беглый раб. Он не желает спускаться вниз и ждет, когда хозяин выстрелит в него из ружья.
– Почему?
– Потому что он надеется, что повредит себе что-нибудь и не сможет больше работать. Видишь, какой это был лодырь!
Ее объяснение отбило у меня всякую охоту отправиться в одиночку в лес, где можно было натолкнуться на непослушных беглых негров. И с тех пор, когда во время прогулок мы проходили мимо лесной чащи, я инстинктивно сжимал сильнее руку своей нянюшки.
В четыре года во мне обнаружилась склонность к собирательству. Поскольку трогать что-либо внутри дома мне строго-настрого запрещалось, я довольствовался предметами, которые подбирал в саду и на которые никому не пришло бы в голову позариться. Так, я принялся собирать крупную гальку. У меня уже получилась весьма приличная «коллекция», как в один прекрасный день все мои богатства куда-то исчезли. Оказалось, что для починки стены понадобился строительный материал и все мои камешки пошли в дело.
Я сразу же оставил гальку ради осколков разбитой посуды, которые находил тут и там. Особенно нравились мне обломки голубого фарфора. Однако мои родители сочли, что разрешать ребенку играть с острыми предметами небезопасно, и осколки фарфора также бесследно исчезли.
Мне было сказано, что впредь все мои «коллекции» будут у меня отбираться. Я был слишком юн и еще не читал «Собирателя эхо»[34] Марка Твена. Какие прекрасные перспективы открылись бы тогда передо мной! Я смог бы собрать изумительную коллекцию звуков, раздававшихся в нашем саду и разносившихся по соседним садам! Окончательно лишившись всего, я, по крайней мере, имел возможность, когда захочу, полюбоваться сокровищами, собранными в музее естественных наук моего родного острова: раковинами, чучелами львов, тигров, птиц и т. п. После приезда во Францию мне довелось увидеть уже живых львов и тигров. И что же? Я едва осмеливаюсь это сказать: они произвели на меня ничуть не большее впечатление.
Во дворе музея жил дикобраз, который, в отличие от экспонатов, был вполне живым существом. Заплатив сторожу пять сантимов, можно было дотронуться до кончика его носа палочкой; и это было настоящим чудом – видеть, как ощетиниваются колючки животного, за которым бдительно присматривал его «импресарио», готовый остановить наши руки, инстинктивно тянувшиеся к дикобразу. «Эй, вы, поосторожней! А то вы повыдергиваете ему все иглы», – предупреждал он.
Когда мне исполнилось шесть лет, отец сказал:
– Теперь ты уже большой мальчик, тебе надо взяться за серьезные занятия под руководством тетушки Ноэми.
Эта тетя Ноэми, о которой я несколько раз упоминал, была старшей сестрой матери. Так и не выйдя замуж, она целиком посвятила себя воспитанию своих племянников и племянниц. Моя мать, поглощенная домашним хозяйством, нашла в ней бесценную помощницу. В уход за доверенными ей детьми тетя Ноэми вносила ту суетливую заботливость, которой курица окружает своих малышей: всем своим видом, вплоть до округлых очертаний плеч, скрытых пелериной, она напоминала наседку, которая хлопотливо собирает к себе под крыло птенцов.
Старая дева, она жила в постоянном страхе перед дьяволом. Я часто видел, как она осеняет свою грудь мелкими знаками креста. «Это чтобы сохранить сердце в чистоте, мое дитя, и не стать жертвой дьявола», – объясняла тетушка Ноэми. И она читала мне «Жизнь Арского кюре», где дьявол, никогда не оставлявший в покое святого, принимал самые разные обличья…
Я заметил, что моя тетя, когда мы отправлялись к дяде Бюроло, крестилась, проходя мимо картины, изображающей декольтированную даму: это была копия девы Рафаэля. Лично меня эта «дама» не пугала, и я наивно рассуждал, что если таково одно из обличий дьявола, то он не так уж и страшен. Но вот однажды ночью я вдруг проснулся от какого-то непонятного звука, словно кто-то царапал пол, и, несмотря на темноту, я разглядел белый продолговатый предмет, похожий на палочку, зигзагами метавшийся по комнате. Не было ли это проявлением дьявола? Я вскрикнул. Прибежала служанка. Весь дрожа от страха, я показал ей на белый предмет, остановившийся у стены. Она нагнулась, подобрала с пола свечу и воскликнула: «Глупая крыса! У нее слишком узкая норка, чтобы туда пролезла свеча…»
Значит, это была всего лишь крыса, похитившая свечку. С тех пор я стал меньше бояться дьявола.
Пришло время, когда наше воспитание взял в свои руки отец.
Это был человек, нежно привязанный к своим близким. Но, будучи весьма строгим к самому себе, он находил естественным быть столь же требовательным и к другим. В его представлении залогом будущего его детей могли быть только университетские степени. Не могу сказать, что я испытывал отвращение к учебе, но должен признаться в отсутствии у меня врожденных способностей к некоторым предметам, таким как математика, география, рисование… Особенно трудно давалось мне рисование. Я так никогда и не смог изобразить одного из маленьких человечков, которых дети рисуют на полях своих тетрадей.
За завтраком и обедом речь шла только об оценках, полученных за те или иные задания и сочинения. Когда день подходил к концу, мы все равно не могли считать себя свободными. После ужина начиналась проверка выученных уроков и исправление заданий на следующий день. Мой младший брат и я, поскольку разница в возрасте у нас была небольшой, учились по одной программе. Особое значение отец придавал греческому и латыни. Когда он не успевал проверить домашние задания после ужина, нам приходилось вставать затемно. Со свечой в руках мы спускались со второго этажа, где спали, на первый. Там нас уже ждал отец, вооружившийся своими страшными подстрочными переводами… Нам был не по душе столь строгий контроль за нашими успехами в обучении, и мы считали себя очень несчастными. Но все это были лишь мелкие неприятности: папе в нашем возрасте пришлось куда тяжелее.
Скромный служащий нотариальной конторы, он всего добился сам, занимаясь по ночам своим образованием. Став нотариусом, отец находил удовольствие только в общении с книгами, от одних названий которых мне и поныне делается не по себе. Помню «Логику» Пор-Рояля[35], «Рассуждение о методе» Декарта, «Разыскания истины» Мальбранша… Благодаря этой сосредоточенности на самом себе его ум приобрел какую-то сухость, что-то от пуританского аскетизма, который он навязывал окружающим. Поэтому, воспитанные в католической вере, мы были лишены и тех радостей, которые она считает позволительными даже для самых истовых своих адептов. Вспоминаю, как возмутился отец, когда мать, поверив каталогу книг для юношества, купила мне на двенадцатилетие сказки Андерсена.
– Покажи мне эту книгу, – сказал отец.
Наткнувшись на сказку «Платье короля», он воскликнул:
– Как! Здесь говорится о голом человеке?.. – и конфисковал издание.
Однако настоящий ужас внушала моему отцу женщина.
Когда труппа артистов, находившаяся проездом на острове, давала спектакль «Мария, или Божья благодать» и один из моих дядей предложил сводить меня туда, папу эта идея встревожила, ибо он считал, что одно только присутствие на сцене актрисы могло внушить «дурные мысли» юноше моего возраста. В то время мне было шестнадцать лет! Надо ли добавлять, что к нам в дом приглашались самые некрасивые служанки. И не только служанки. Поскольку мне надо было учить английский язык, однажды я сказал отцу: «Кажется, есть такая мадам Бокаж, которая владеет превосходным методом обучения современным языкам». Эта мадам Бокаж была симпатичной вдовой, чей сорокалетний возраст скрашивался пышными формами, которые вызывали острейший интерес у подростка, каковым я тогда был. Отец, ничего не ответив, строго посмотрел на меня. По прошествии некоторого времени он сказал: «Я нашел преподавательницу английского языка, произношение у нее еще лучше, чем у твоей мадам Бокаж…» Соответствовало ли это действительности, я не знаю. Но в чем я смог убедиться своими глазами, так это в том, что мадемуазель Желье, нанятая мне в преподаватели, была необычайно уродлива.
К счастью, строгая дисциплина, которой мы подчинялись, ослабевала в течение двухмесячных каникул, когда семья уезжала в Брюле. Брюле, расположенный на высоте пятисот или шестисот метров над уровнем моря, – это хаотичные заросли папоротника, гортензий, древовидных камелий, смешение разных растений, как на гравюре Бредена. Это река со множеством излучин, всюду образующая водоемы и водопады. Это голубой туман, спускающийся на закате с гор, какая-то неосязаемая вата, которая в считаные мгновения распространяет сумрак, как бы сотканный из серебристо-серых тонов, восхищающих зрителя на полотнах Уистлера.
С вершины Брюле в те дни, когда воздух отличался особенной чистотой, можно было увидеть вдали другую вершину, всю белую, носящую название Питон-де-Неж. В шестнадцать лет родители разрешили мне отправиться туда на экскурсию.
– Ах, вот уж где белый цвет – так это белый цвет! – воскликнул я.
– Тут есть и голубой, мсье, – произнес у меня за спиной негр.
Я присмотрелся повнимательнее и должен был признать, что негр прав: на снегу действительно лежали голубые отсветы. Но почему, рассуждал я, несмотря на эту голубизну, он кажется таким ослепительно-белым? Много лет спустя, наблюдая за прачкой, полоскавшей белье, я спросил:
– Для чего вы добавляете синьку в воду, которой споласкиваете белье?
– Чтобы оно было совсем белым, – ответила женщина.
* * *
Однажды я обнаружил дома альбом, когда-то принадлежавший моему деду. В нем оказалось множество репродукций мундиров, которые носили офицеры французской армии, и я пришел в восторг при виде стольких великолепных военных. Ах, если бы я когда-нибудь смог надеть на себя один из этих красивых костюмов!
И вот как-то в воскресенье, выходя из собора после торжественной мессы, я замер от изумления, увидев нескольких офицеров, одетых в мундиры еще более пестрые, чем те, что были в дедушкином альбоме. Я навел справки и узнал, что это морские врачи и фармацевты. На голове у них были фуражки, украшенные узорами, так что их легко было спутать с головными уборами генералов, а на спине сверкало чудесное солнце, все из золота. Единственное различие между двумя формами состояло в окраске бархата воротника и обшлагов, которые были зелеными у фармацевтов и малиновыми у врачей. Свой выбор я остановил на последнем цвете, сообразив, что золото блестит на малиновом фоне ярче, чем на зеленом.
Определившись, я заявил отцу: «Я хочу быть морским врачом!..» – «Во всяком случае, – сказал он хладнокровно, – я советую тебе для начала исправить оценки в лицее».
Спустя некоторое время учитель по литературе, большой почитатель Виктора Гюго, предложил написать сочинение на тему «Гротеск в произведениях древних и современных авторов». Вспомнив, что эта тема раскрыта в предисловии к «Кромвелю», я как ни в чем не бывало списал все у поэта. И учитель оценил мое сочинение как самое… плохое! Несмотря на свое преклонение перед Гюго, папаша Жейо не увидел в моей работе ничего, кроме восторженности. Она показалась ему какой-то нелепой и до такой степени высокопарной, что он, желая показать моим одноклассникам, до чего может доходить пафос, прочитал сочинение вслух, и класс, слушая его, покатывался со смеху. Оскорбленный до глубины души, я хотел было сознаться в обмане, но, подумав, решил, что благоразумнее промолчать: приближался экзамен на бакалавра, а папаша Жейо был не только преподавателем, но также выполнял обязанности экзаменатора…
На Реюньоне степень бакалавра была в глазах семей настолько же престижной, насколько она внушала ужас ученикам. В довершение всего экзаменационная комиссия состояла в том числе и из судей, и легко себе представить, как были напуганы лицеисты, когда они вдруг оказывались перед прокурором Республики и следователем: мы выглядели не столько учениками, сколько подсудимыми, ожидающими приговора. Вдобавок по некоторым предметам я учился из рук вон плохо, в частности по истории и географии, а экзамены по этим дисциплинам принимал сам председатель комиссии, господин прокурор Республики, чья суровость наводила ужас на кандидатов. Только чудо могло меня спасти, и оно свершилось. В тот момент, когда прокурор Республики открыл рот, чтобы задать мне вопрос, в экзаменационный зал ворвался полицейский и подбежал к нему. Он сообщил, что в сквере перед городской ратушей обнаружен труп повесившегося на самой высокой ветке тамариндового дерева индийца, «свободного работника». Так называли индийцев, за которыми ездили на их родину, чтобы заменить ими негров; последние, освободившись от рабства, получали статус избирателей и по этой причине считали труд недостойным своего нового положения. Наш «свободный работник», страдавший от ностальгии, прибегнул к такому нецивилизованному способу расторжения контракта. К тому же смерть давала одно существенное преимущество – она позволяла ему воскреснуть на родине, согласно распространенному там поверью: «Посаженное здесь вырастет в Мадрасе».
Короче говоря, жандарм явился сообщить о происшествии прокурору Республики; но прежде всего он хотел узнать, надо ли перерезать веревку…
Прокурор поспешно удалился вместе с полицейским; таким образом, ситуация складывалась в мою пользу. А поскольку удача никогда не приходит одна, экзамен продолжил другой член комиссии, лицейский учитель истории, давний друг нашей семьи. Так я получил степень бакалавра.
Теперь я мог ехать во Францию, чтобы заняться изучением медицины! Так как обычно врачи заполняют рецепты и ставят подписи крайне неразборчивым почерком, я тут же стал учиться писать как курица лапой. Но мои усилия оказались напрасными. Отец устроил мне своеобразное испытание, отведя в больницу, где я присутствовал на операции. От одного только вида крови я едва не грохнулся в обморок и с болью в сердце вынужден был признать, что мне следует отказаться от галунов и золотистого солнца, к которым я так стремился.
Карьера врача на этом для меня закончилась, и все решили, что я должен заняться изучением права. Отец выбрал факультет в Монпелье, полагая, что, прежде чем я привыкну к суровому северному климату, мне следует пройти стажировку на юге.
II. Приезд во Францию. Первые впечатления
О том, что меня удивило в Марселе. – Я изучаю право в Монпелье. – Аптека Петето
Первая встреча с Марселем стала для меня сюрпризом. Марсель, ворота Востока, Марсель фокейцев, всегда казался мне сказочным городом. Но таким он предстал передо мной, когда я сошел на берег. Сперва я был несколько ошарашен царившим вокруг оживлением. Но я быстро пришел в себя. «В конечном счете, – подумал я, глядя на всех этих озабоченных прохожих, снующих туда и сюда, – это тот же Реюньон, только гораздо больших размеров». И словно я все еще находился на своем родном острове, где все друг друга знают, я спросил у какой-то женщины, где живет господин Анри Тайяр, и нисколько не удивился, когда она без колебаний сообщила мне название улицы, номер дома и этаж. Разгадка, однако, была проста: оказывается, волей случая я обратился с вопросом к горничной своего друга (позже я узнал ее в женщине, которая подавала на стол). По дороге у меня было немало поводов для удивления: например, трамваи, непременно набитые битком. Откуда и куда могли ехать все эти люди? Странными казались также и дымовые трубы, тесно прижавшиеся друг к другу на крышах домов. Одна из них вызвала у меня особый интерес, поскольку буквально ощетинилась трубками из листового железа, которые с их колпаками, поворачивающимися на ветру, напоминали собрание людей, кивавших друг другу. Позднее, рассматривая картину, написанную в стиле кубизма, я подумал: «Где-то я уже это видел». Это были точь-в-точь марсельские трубы.
В очередной раз я удивился, заметив в глубине молочного магазина разложенные на полках большие куски масла. Поскольку я приехал из страны, где масло было очень редким продуктом (оно поступало на Реюньон в основном из Европы в коробках или флаконах, откуда его извлекали на кончике ножа), эти большие куски, которые были гордо выставлены напоказ, заставили меня широко раскрыть глаза. И еще один сюрприз – веревка для разрезания масла… Однако мое искреннее негодование вызвали небольшие тележки, которые тащили за собой люди. Мое детство было проникнуто рассказами, почерпнутыми из «Хижины дяди Тома»; я прекрасно знал, что рабов больше нет, и тем не менее я увидел людей, впряженных в тележки наподобие осликов!..
В Марселе я был только проездом. По прибытии в Монпелье прежде всего пришлось искать пансион, который был бы мне по карману. Я нашел такой, где за пятьдесят франков в месяц утром и вечером подавали закуску или суп, мясное блюдо, овощи, сыр, фрукты, полбутылки вина и вдоволь хлеба. Я познакомился там с репетитором из коллежа в Безье, которому его родной город выделил стипендию, для того чтобы он мог подготовиться на преподавателя лицея. Он был высоким и худым, с красным лицом, носил неизменный редингот, и его прозвали Верзилой. Слегка чопорные манеры и нечто от янсениста в его облике резко контрастировали с эмансипированным поведением других студентов. Вот почему один из преподавателей факультета рекомендовал его хозяйке самого крупного в Монпелье дома свиданий; она искала какого-нибудь серьезного человека, который мог бы давать уроки ее воспитанницам с целью повышения их культурного уровня, так как этот дом посещала интеллектуальная элита города. Но Верзила гордо отклонил ее предложение. Помню, в каком он был отчаянии, когда провалился на экзамене. «Значит, мне всю жизнь придется быть репетитором!» – «Но почему бы вам не заняться политикой?» – сказал кто-то. Он пожал плечами. Совет, однако, оказался хорошим, и позднее он последовал ему. Политика привела Верзилу сперва в парламент, а затем на улицу Гренель: именно мсье Луи Лаффер стал ректором университета.
После того как я обеспечил себе «пропитание» в дешевом пансионе, надо было подумать о «крыше». Я нашел жилье в доме, принадлежащем аптекарю по имени Петето, с которым у меня скоро завязались дружеские отношения. Моя жизнь текла очень размеренно. Я почти никуда не ходил и охотно помогал жене аптекаря в приготовлении не очень сложных препаратов (без ядовитых веществ), что входило в ее обязанности. Кроме того, я ухаживал за цветами в садике, который располагался позади аптеки и возвышался над железной дорогой. Там росло фиговое дерево; тщетно я очищал его листья, задыхавшиеся в паровозной копоти: ни одна фига так никогда и не созрела.
Господин Петето продолжал внушать мне уважение, особенно когда надевал охотничий костюм. Ну и забавно же он выглядел! По правде сказать, он не охотился, ему делалось дурно от одного вида крови, и если его встречали в городе с ружьем за спиной, то только потому, что, получив разрешение на охоту и стремясь не отстать от коллег, офицеров запаса, он хотел воспользоваться своим правом, которое давали ему уплаченные за охотничье удостоверение двадцать пять франков.
Каждое воскресенье мы, чета Петето и я, отправлялись на прогулку в лес. Я собирал мелкие ягоды вдоль изгородей, составлял букеты из полевых цветов, которые дарил нашей спутнице. Однажды я застал курицу в тот момент, когда она снесла яйцо, и принес его, очень гордясь этим поступком. Мы не трогали благородные цветы; но в то воскресенье, когда мы проходили мимо решетчатой ограды, верх которой был увит розами, мадам Петето вскрикнула от восхищения, и я уже собрался было полезть за розами, как она остановила меня:
– Нет, лучше я сама.
Я соединил ладони; она уперлась в них одной ногой, словно это было стремя, и, приподнявшись с земли, дотянулась до цветка. В этот момент сквозь решетку мы увидели хозяина виллы. Кажется, он нас заметил. Я быстро спрятал розу, «улику преступления».
Владелец розового куста подошел к нам и, обращаясь к супруге аптекаря, сказал, держа в руке шляпу:
– Мадам, у меня есть более красивые розы, чем эти, и я был бы счастлив, если бы вы их приняли от меня.
Мы вошли; мадам Петето чувствовала себя уверенно, а аптекарь и я были несколько сконфужены. Увидев подошедшего садовника, я с беспокойством подумал: «Не является ли та курица, у которой я отобрал яйцо, собственностью хозяев виллы?» И поглубже затолкал его в карман.
На обратном пути супруга аптекаря держала в руках роскошный букет роз. Я нес яйцо и букетик полевых цветов.
Иногда в воскресные дни мы отправлялись позавтракать на траве. Для этой цели выбиралось тихое место, покой которого нарушал лишь стрекот цикад.
Господин Петето в сопровождении своего пса Пикрата нес завтрак; я – десерт в небольшой корзинке и книгу «Письма с мельницы», лежавшую в кармане пиджака; отрывки из нее госпожа Петето имела обыкновение читать нам вслух.
Во время одной из таких экскурсий, проходя мимо нашего мясника, мы заметили белую козу.
– О, какая симпатичная козочка! – взволнованно воскликнула мадам Петето и попросила мясника доверить ее нам, пообещав, что вечером мы приведем ее обратно домой. Он согласился.
– Только не позволяйте ей много бегать, – посоветовал он. – Это распаривает мясо.
Я взял животное за привязанную к шее веревку, и мы продолжали путь. Но когда мы шли мимо виллы, на которой висела табличка: «Сдается в аренду», коза заблеяла.
– Она узнала свой дом, – сказал нам сосед. – Ее прежние хозяева жили здесь. Врач порекомендовал им поить ребенка козьим молоком. Теперь он вылечился, и вчера они все уехали.
– Жаклин! – крикнул своей жене аптекарь, который успел уже уйти далеко вперед.
Услышав это имя, козочка потянула веревку в сторону господина Петето и, нагнав его, облизала ему руку. Теперь мы нарочно окликали козу, и милое животное подбегало то к одному, то к другому из нас и ласкалось.
– Хорошо, что ее зовут так же, как и меня, – сказала мадам Петето.
Мы подошли к ручью. Место было чудесным, и мы решили там остановиться.
На траве была расстелена скатерть, а бутылки положены остужаться. Мадам Петето взяла у меня из рук «Письма с мельницы» и, погладив козочку, прочла нам с чувством, соответствующим обстоятельствам, «Козочку мсье Сегена».
После завтрака мы принялись спорить о том, что лучше для животного: кончить свои дни, угодив волку на обед или под ножом мясника. Госпожа Петето, натура поэтическая, пыталась разжалобить нас, рисуя мрачную картину бойни, но тут ее супруг вспомнил, что мясник режет скот у себя в саду.
– Я предпочитаю такой конец для Жаклин, – сказала жена аптекаря и, обращаясь к козочке, добавила: – Ты видишь, милая, мы тебя любим.
Коза вытянула морду в нашу сторону. Она покачивала бородкой и словно бы говорила: «Да, да…»
Как-то вечером – шел уже двенадцатый час – я проснулся оттого, что кто-то постучался в мою дверь. Это был господин Петето в плаще, застегнутом на все пуговицы. Гремела страшная гроза.
– Как! Вы собираетесь выйти в такую погоду?
– Что поделаешь, надо. И поскольку моя жена ужасно боится грома, я надеюсь, что вы составите ей компанию до моего прихода.
И он вышел в сопровождении Пикрата, который не подпрыгивал радостно, как это делал обычно, а уныло плелся за хозяином, опустив хвост.
Жене аптекаря была неизвестна причина столь внезапного и странного ухода.
– Мой муж, который ничего от меня не скрывает, на этот раз точно язык проглотил. Он сказал только с таинственным видом, что готовится нечто очень важное.
Исчерпав не одну тему разговора, я понемногу впал в состояние полудремы; из него меня вывели лай Пикрата и чавканье ботинок, расплескивающих воду. Это был господин Петето, возвращавшийся из своей экспедиции.
– Как ты промок! – воскликнула его жена.
– Я даже не почувствовал дождя. Мы победили. По моему предложению коллеги единодушно проголосовали за смерть Живодана.
Я знал этого Живодана. Это был городской фармацевт, который продавал лекарства ниже проставленной на упаковке цены.
У меня невольно вырвалось:
– Что? Вы собираетесь отравить вашего коллегу?
Ибо я подумал, что смертный приговор, вынесенный аптекарями…
Господин Петето встал весь бледный:
– Мы – убийцы?! Нет, мы одолеем Живодана вполне законными средствами. Этот негодяй снизил цены на швейцарские пилюли и пастилки Жероделя до одного франка пятнадцати сантимов. С завтрашнего дня мы определенно начнем продавать их за один франк.
В большей степени привыкшая, чем я, к преувеличениям южан, мадам Петето и глазом не моргнула, узнав, что ее муж проголосовал за смерть Живодана. Но решение торговать лекарствами себе в убыток вызвало у нее протест.
– Эпоха больших лишений только начинается, – продолжал серьезным тоном господин Петето. – Мы поклялись на Фармакопее, что будем держаться до последнего. На следующей неделе мы собираемся взяться за сироп Патапона, затем придет черед настойки Дешьена, рыбьего жира, сандала Миди, железистой соли Бравэ.
Я так и не узнал, чем завершилась битва, ибо как раз в те дни мой отец решил, что мне следует окончить курс юридических наук в Париже.
III. В Париже
Школа права. – Аукцион. – Синьор Инноченти. – Художники, торговцы, коллекционеры. – Фелисьен Ропс. – Салон доктора Фийо. – В мастерской Льюиса Брауна
Мне часто приходилось слышать разговоры о том, в какой восторг приходит иностранец, впервые попадающий в Париж. Однако когда я после двух лет изучения права в Монпелье вышел из поезда на Лионском вокзале, то первым делом обратил внимание на хмурые улицы под мелким пронизывающим дождем. Фиакр, в который я сел, попал в затор; извозчики осыпали друг друга отборными ругательствами. Выбравшись из пробки, мы доехали до Латинского квартала, и я вышел возле невзрачного отеля, который мне порекомендовали. Там я провел ночь, дрожа от холода, так как не было возможности затопить камин. Но главное – я был в Париже! Париж!.. Волшебное слово, оно заранее располагало меня к тому, чтобы восхищаться всем увиденным. Гостиница находилась на улице Тулье, в двух шагах от Люксембургского сада. Именно туда я и отправился на другой день с самого утра. Меня ждало разочарование. Он был всего лишь более просторным, но и менее уютным, чем «Сад короля» на моем родном острове; лишь позднее я разглядел его великолепную планировку. Я пошел осматривать музеи, однако единственное, что осталось в памяти после часовой прогулки по нескончаемым залам, – это ощущение безмерной скуки.
Какими забавными кажутся мне все эти путешественники вокруг света, которые рассуждают, как о привычных вещах, о том, что они увидели, странствуя по миру. Только во время войны, когда в городе соблюдалась маскировка и погасли все огни, меня по-настоящему потрясла несравненная красота церкви Сен-Жюльен-ле-Повр, освещенной лунным светом. Как и все, я неоднократно посещал Колониальную выставку 1931 года; как и все, я, в частности, останавливался перед воссозданным ангкорским храмом. Я тоже говорил: «Это очень интересно», но не испытывал никаких чувств. Однажды в каких-то влажных сумерках мои глаза вдруг раскрылись, и я увидел весь Восток. Точно так же, когда я гулял по Большим бульварам на уровне улицы Лаффит, вдали показалась церковь Сакре-Кёр, словно зов таинственного города, только что возникшего передо мной.
Но я не единственный, кого Париж очаровал не сразу. Прислугой у меня была на редкость немногословная деревенская девушка. Ее молчаливость я принимал за положительное качество, но в одно прекрасное утро, после нескольких недель работы, она вдруг предстала передо мной в шляпке и с чемоданом в руке.
– Довожу до вашего сведения, мсье, что я уезжаю, – сказала она.
– Как? Что случилось?.. Вам здесь не нравится?
– Нет, мсье. Ваш Париж очень скучный. Дома я могу поговорить с любым человеком, а здесь никто не обращает на меня внимания. И потом, гулять тут неинтересно, все улицы похожи одна на другую. Я умираю от тоски… Я должна вернуться домой…
В Париже я ходил на занятия не чаще, чем в Монпелье; но это не помешало мне получить лиценциат. Затем я начал готовиться к докторской степени, однако сдал лишь первый экзамен, так как фланирование по набережным вдоль витрин, в которых были выставлены всевозможные рисунки и гравюры, занимало меня куда больше, чем экзамены.
«Какая неудача!» – воскликнул я про себя, когда мне удалось приобрести за двадцать франков небольшую картину на фарфоре, изображающую девушку с разбитым кувшином и подписанную: «Лор-Леви д. Бонна». Ребенком я прочитал в одной из моих дорогих книг историю маленькой парижанки, которая, получив от родителей на именины три луидора, захлопала в ладоши и воскликнула: «На эти деньги я смогу купить красивую репродукцию картины Бонна „Иов на куче навоза“». Автор рассказал и о том, что его героиня, выйдя из дому, чтобы сделать эту покупку, повстречала по дороге нищего на вид старика и, пожалев его, отдала ему свои луидоры. Это подаяние впоследствии было вознаграждено. Родители девушки, обманутые одним ловким финансистом, умерли в нищете. Вскоре после этого к сироте явился тот бедствующий старик, ради которого она пожертвовала произведением Бонна. И когда девушка открыла рот, чтобы сказать: «Бедный человек, увы, я больше не могу вам ничем помочь», тот, достав из кармана пачку банкнот, вручил ей деньги с такими словами: «Мадемуазель, моя жизнь проходит в служении другим людям, которым я даю взаймы деньги под соответствующие проценты. И когда я встречаю кого-то, кто желает мне добра… Возьмите эти деньги, я воспользовался вашими тремя луидорами к вашей же пользе».
Такова история девушки, любившей Бонна.
Что касается меня, то, когда прошла первая радость обладания, несмотря на авторитет имени Бонна, я начал сомневаться в ценности моего приобретения. Но я вспомнил, что однажды на уроке один ученик бросил замечание: «Какая скучная эта Севинье!», и учитель сказал нам: «Когда в будущем кто-нибудь из знаменитых будет вызывать у вас скуку, скажите себе: „Это просто я маленький дурачок“». И тогда я повторил про себя: «Я дурак, я дурак». Но тщетно: картина Бонна казалась мне все менее значительной. Я решил от нее избавиться. Я разыскал того, кто мне ее продал, и, сообщив о своем намерении избавиться от картины, намекнул ему на возможность более выгодной сделки. Торговец погладил свою длинную седую бороду, а затем глубокомысленно произнес: «Молодой человек, когда вам будет столько же лет, сколько и мне, вы поймете, что лучше иметь синицу в руке, чем журавля в небе».
Я уже привыкал к мысли о том, что моя злополучная покупка останется со мной, когда один из друзей пришел сообщить мне о своей женитьбе. Я поспешил предложить ему моего «Леви-Бонна» в качестве свадебного подарка. Через несколько месяцев, завтракая у молодоженов, я заметил, что подпись на картине стала короче и гласила теперь просто: «Бонна».
– Моя жена считает, что одного «Бонна» достаточно, – ответил друг на мой немой вопрос.
Я же вскоре узнал, что автор картины вовсе не дама и что «д.», стоявшее после «Лор-Леви» на картине «Девушка с разбитым кувшином», означало всего-навсего «писано с»[36].
* * *
Первая сколько-нибудь значительная картина, купленная мной в студенческие годы, принадлежала кисти Инноченти. Благодаря ей я снискал большое уважение у своих соотечественников в Латинском квартале. Один из них, к мнению которого прислушивались – он был для нас авторитетом, так как ежемесячно получал от своих родителей по триста пятьдесят франков, – заявил, что она не уступает в силе Рембрандту. На картине были изображены танцующие перед очагом крестьяне.
Благодаря этому приобретению я познакомился с самим художником, который пригласил меня к себе в мастерскую в Нейи. Через Инноченти я впоследствии сошелся с директором «Художественного союза», где, как мы увидим, получил, так сказать, первое боевое крещение в качестве торговца картинами.
Инноченти был одержим идеей «средиземноморской федерации». Он нарисовал картину с тремя персонажами в натуральную величину, изображающими соответственно Францию, Италию и Испанию. В центре ее располагался генерал Буланже, в то время кумир парижан; рядом с ним были короли Испании и Италии. Художник возлагал самые большие надежды на эту аллегорию, которую он видел уже воспроизведенной на брошках, приколотых к корсажам дам. Хотя его желание не осуществилось, он все же получил за свою картину бронзовую медаль на Всемирной выставке 1889 года. Друзья пророчили ему почетную медаль. Инноченти передал произведение в дар французскому государству. В благодарность за это он удостоился «академических пальм». Во время официальных церемоний или на обедах у французов он непременно появлялся со своими знаками отличия. «Надо уметь уважать страну, которая воздала вам должное», – говорил он.
* * *
1890 год! Какое благодатное время для коллекционеров! Повсюду шедевры, и, можно сказать, за бесценок. За изумительный «Портрет Захария Аструка» кисти Мане просили тысячу франков, и это казалось непомерно высокой ценой. Я вспоминаю, что меньше чем через два или три года «Женщина на диване»[37], принадлежавшая когда-то Бодлеру, была с трудом продана в отеле Друо[38] за тысячу пятьсот франков. У меня дома (в Шестом округе на улице дез Апеннен) находилось прекрасное ню Ренуара, за которое я просил двести пятьдесят франков, причем люди не желали даже на него посмотреть. Когда я приобрел небольшую лавочку на улице Лаффит, произведения Ренуара несколько выросли в цене; я робко просил за картину четыреста франков и помню, как один «именитый» коллекционер сказал мне:
– Если бы у меня были лишние четыреста франков, я купил бы это полотно, чтобы сжечь его в камине в вашем присутствии, – настолько огорчительно мне видеть Ренуара, представленного таким скверно нарисованным ню.
Когда Ренуару воздали по справедливости, за это полотно, побывавшее в руках у многих людей, Роден в конце концов заплатил что-то около двадцати пяти тысяч франков. Сегодня оно является одной из жемчужин его музея. Я уже не говорю о Сезанне, чьи холсты продавались в 1890 году у папаши Танги: самые крупные – по сто франков за штуку, а самые маленькие – по сорок.
Замечательнейшие литографии Редона, отпечатанные по 25–30 экземпляров, шли по семь с половиной франков за штуку; в течение десяти лет их цена оставалась неизменной. А Гоген, проявивший себя мастером во всех жанрах, Гоген-художник, Гоген-керамист, Гоген-скульптор, так вот, по возвращении с Таити Гоген получил отказ на свое предложение подарить «Деву с Младенцем» Люксембургскому музею, который, впрочем, дрогнув перед возмущенными возгласами членов Института, отверг также семнадцать полотен из коллекции, завещанной Гюставом Кайботтом.
В связи с этим я вспоминаю, как после той неудачи брат коллекционера господин Мартиал Кайботт, встретив меня, сказал: «Воллар, вы знаете Бенедита (в то время он был хранителем Люксембургского музея), не могли бы вы уговорить его приютить на чердаке отвергнутых художников (ими были Ренуар, Сислей, Сезанн, Мане), с тем чтобы, когда ветер переменится, он имел возможность выставить их в музейных залах?..» Я поспешил к Бенедиту. До сих пор у меня в ушах стоит его голос: «Чтобы я, чиновник, которому государство оказало такое доверие, стал укрывателем холстов, отвергнутых комиссией!..»
Через несколько лет Ренуар сказал мне:
– Кто-то говорил, что «Друзья Люксембурга» не прочь приобрести кое-какие из моих работ. Но я не хочу, делая подарок, выглядеть так, будто горю желанием прорваться в музей. Слушайте, возьмите-ка вот эту пастель (это была «Госпожа Моризо и ее дочь») и скажите президенту «Друзей Люксембурга», вы его знаете, господину Шерами, что я продам им картину за сто франков. Досаднее всего то, что они посчитают себя обязанными прийти ко мне с выражением благодарности…
Когда я принес пастель господину Шерами, он пришел в ужас оттого, что ему придется нести «ответственность» за включение Ренуара в экспозицию Люксембургского музея.
– Заверьте господина Ренуара, что мы все здесь его уважаем, – произнес он. – Но скажите ему, что мы решили, дабы не давать лишнего повода для критики, выносить все наши закупки на суд господина Бонна.
Я осмелился спросить у господина Шерами:
– А не хотите ли вы приобрести какие-нибудь вещи Сезанна? Разве «Друзья Люксембурга»…
Господин Шерами строго оборвал меня:
– Сезанна?.. Почему тогда не Ван Гога?
Обыватель рассуждал точно так же. Когда в 1894 году я выставил работы мастера из Экса, мне довелось как-то услышать перебранку возле витрины магазина. Мужчина крепкой хваткой удерживал молодую женщину перед «Купальщицами».
– Заставлять меня глядеть на это – меня, удостоившуюся в пансионе награды за рисование!
– Ну что ж, малышка, – возразил мужчина, – в другой раз ты будешь любезнее со мной.
Эта возмущенная женщина, по крайней мере, не принадлежала к разряду художественных критиков. Но разве один из писателей, на которого критики охотно ссылались по причине его современных тенденций, осмотрев ту же самую экспозицию, не сокрушался о том, что «Сезанна подводит его посредственное мастерство» и что он терпит неудачу «в искусстве размещения планов и создания иллюзии пространства»?
Еще хуже дело обстояло с Ван Гогом: с его живописью не могли примириться даже люди самых передовых взглядов. Чего же удивляться неприятию со стороны публики, если наиболее свободомыслящие художники, такие как Ренуар и Сезанн, не понимали Ван Гога; первый упрекал его за «страсть к экзотике», а другой говорил ему: «Откровенно сказать, вы рисуете как сумасшедший!»
Если старшее поколение встречало столько сложностей на пути к признанию, то что тогда говорить о молодых, таких как Боннар, Вюйар, Руссель, Дени, Аристид Майоль? Впрочем, я напрасно причислил Мориса Дени к молодым, с трудом продававшим свои работы, ибо он сразу добился признания. Я вспоминаю статью, написанную, если не ошибаюсь, господином Арсеном Александром, где можно было прочесть, что главное событие недели – не падение кабинета министров, а выставка Мориса Дени у «Независимых».
Однако уже начиная с 1892 года можно было подумать, что живопись «молодых» вот-вот одержит победу. Один торговец, который выставлял картины старых художников, Ле Барк де Бутвиль, под влиянием Воглера, ученика Сислея, захотел «впустить струю свежего воздуха» в свой магазин. Он устроил выставку «молодых». Но после короткого успеха, вызванного исключительно любопытством, наступило полное затишье.
Ле Барк де Бутвиль был не единственным, кто опередил свое время. До него старый торговец красками, папаша Танги, проявлял такой большой интерес к новому искусству, что предоставлял кредит художникам, создававшим «светлую» живопись.
Этот славный малый, который был по ошибке арестован в последние дни Коммуны как мятежник и которому грозил расстрел, кончил тем, что искренне стал считать себя революционером. Однако по каким-то ему самому непонятным причинам его пощадили, и, став позднее торговцем красками, он покровительствовал художникам-новаторам, в которых находил удовольствие видеть таких же бунтарей, как и он сам. Добавлю к этому, что он также предоставлял кредит тем, кто рисовал в мрачных тонах, но при условии, чтобы они вели размеренный образ жизни, например не посещали кафе и не играли на скачках. Ибо этот коммунар был по своим убеждениям типичнейшим буржуа; никто не смог бы поколебать его уверенность в том, что, ведя себя достойно, художник обязательно «добьется успеха». И если ремесло папаши Танги не принесло ему состояния, то он, по крайней мере, завоевал расположение художников. Эмиль Бернар открыл ему Сезанна и Ван Гога. Последний нарисовал несколько портретов Танги; на одном из них он изображен сидящим, почти в натуральную величину. Сегодня это полотно находится в Музее Родена. Когда к нему обращались с предложением купить картину, папаша Танги хладнокровно требовал за нее пятьсот франков и, если человек возмущался «чрезмерностью» цены, добавлял: «Я ведь не настроен продавать свой портрет». И действительно, холст оставался вместе с ним до конца его жизни; после смерти Танги картину приобрел Роден.
На распродаже коллекции Танги я купил пять полотен Сезанна примерно за девятьсот франков. После того как были оформлены покупки, оценщик, господин Поль Шевалье, похвалил меня за проявленную смелость: надо сказать, что торги начались с десяти франков. Этот комплимент меня только сконфузил, и я признался ему в том, что располагаю всего тремястами франками. Я предложил Шевалье взять их в качестве задатка, пока я не стану полноправным владельцем покупки. Он посмотрел на меня и сказал: «Нет, забирайте свои картины. Вы уплатите мне всю сумму сразу, как только будете в состоянии это сделать». Каким порядочным человеком был господин Шевалье! Воспоминание об этом случае позволяет мне объяснить тот факт, что после смерти Шевалье в его сейфе нашли столько невостребованных расписок.
* * *
Однажды, листая кое-какие издания, выставленные в проходах Одеона, я наткнулся на книгу Гюисманса «Некоторые». То, что он написал о сатанизме Фелисьена Ропса, вызвало у меня желание познакомиться с этим художником. На набережных я обнаружил одну неподписанную гравюру, и мне показалось, что это его работа. За нее просили пять франков, но я сумел приобрести ее за три франка пятьдесят. Набравшись смелости, я постучал в дверь мастерской художника. Судя по тому, что писал о нем Гюисманс, я ожидал, что попаду в логовище колдуна. Мне открыл абсолютно голый мужчина: это был Ропс. Я говорю «абсолютно голый», но следует уточнить, что на нем был зеленый козырек и что-то вроде слюнявчика, закрепленного на талии с помощью веревочки. Он принял меня без тени смущения. Я узнал, что мой офорт очень редкая работа: даже у него не осталось больше ни одного оттиска. Он предложил мне совершить обмен и вместо офорта подарил рисунок акварелью, на котором была изображена обнаженная женщина в перчатках и шляпке; ее вид явно возбудил сидевшую в клетке обезьянку. Я покинул мастерскую, гордясь тем, что обладаю теперь произведением, столь характерным для манеры художника. Позднее я услышал, как его ученик Рассанфосс назвал Ропса «бельгийским Кабанелем». Как-то я рассказал об этом Ренуару, и тот произнес: «Самое забавное состоит в том, что он, несомненно, хотел сделать мэтру комплимент».
В одно из посещений Ропса он представил меня своему другу поэту Эдмону Арокуру, которого после этой встречи я не видел более сорока лет.
– Как интересно! – сказал он мне, когда мы встретились с ним вновь. – В первый раз, когда я видел вас у Ропса, вы держали под мышкой папку, и сегодня у вас та же самая папка. Позвольте сказать вам, что тогда, у Ропса, я про себя послал вас ко всем чертям… Вы явились в тот момент, когда Ропс подписывал великолепный оттиск своего «Заклинания», который приготовил для меня. А вы пришли и попросили эту же гравюру для одного клиента. И она досталась именно вам. Но я, – добавил поэт, – уже давно не держу на вас зла.
Ропсу нравилось, что его считают большим бабником. Он не скрывал даже своих неудач по этой части. Как-то он рассказал мне об одном таком приключении.
Однажды Ропс получил письмо следующего содержания: «Господин Ропс, когда я была маленькой девочкой, Вы говорили: „Как мне хочется нарисовать твой портрет, плутовка!“ Так вот, я собираюсь прийти к Вам в мастерскую». Ропс ничего не помнил. Однако ему не терпелось увидеть особу, которая сообщала о себе таким необычным способом. В условленный час в дверь постучали. И он увидел перед собой дородную, седеющую и усатую женщину. «Как вы располнели, господин Ропс! Помните, вы то и дело норовили меня поцеловать; но теперь я замужем, надо сохранять благоразумие…»
В то же время я помню, что за два или три года до его смерти, когда я пришел к Ропсу в мастерскую, он сказал мне: «Я жду женщину». И, увидев, что я намерен удалиться, добавил: «Останьтесь. Когда раздастся три удара через большие интервалы, спрячьтесь в глубине мастерской». Прошло немного времени, я услышал три удара и встал с места. Уходя, я машинально обернулся: старая служанка принесла Ропсу чашку с травяным отваром.
Через Ропса я познакомился с доктором Фийо, большим почитателем импрессионистов. Какие приятные минуты я провел у него! Каждый вторник устраивались «домашние обеды», на которые без особых приглашений приходили завсегдатаи этого дома, а после обедов мы, бывало, с большим удовольствием слушали госпожу Фийо, будущую Жанну Роне, великолепную исполнительницу Венсана д’Энди. К числу близких друзей семьи принадлежал и господин Дюме, начальник отдела в министерстве религиозных культов; благодаря ему вокруг доктора Фийо крутилось множество церковнослужителей. В самом деле, последние, в тех случаях, когда они не осмеливались обращаться непосредственно к господину Дюме, прибегали к помощи любезного хозяина. Как-то один прелат послал доктору великолепного живого омара, написав в записке, приложенной к посылке, следующую фразу, которая казалась мне в то время очень остроумной: «На Вашем столе он будет кардиналом». В другой раз кандидат на епископский сан привел к доктору Фийо, чтобы он их послушал, двух хорошеньких племянниц; они, разумеется, не поскупились на похвалы своему изумительному дядюшке. Все эти хитрости, шитые белыми нитками, «директор культов» брал на заметку, стремясь воспрепятствовать тому, чтобы кто-нибудь недостойный не проник в ряды священной армии, за которой он присматривал; ибо, несмотря на весь свой антиклерикализм, господин Дюме относился очень серьезно к престижу церковной иерархии.
В один из таких «вторников» я совершил бестактность, воспоминание о которой даже и теперь, по прошествии длительного времени, не дает мне покоя. В тот вечер я впервые увидел одну очень словоохотливую даму, которая сильно гнусавила.
– Вы не находите, – спросил я у одного из соседей, чтобы как-то начать разговор, – что этой даме пошло бы на пользу, если бы она не так часто гудела своей трубой?
– Согласен с вами. За тридцать лет я так и не смог к этому привыкнуть.
Я с удивлением посмотрел на него, и он пояснил:
– Да. Я ее муж.
Однажды, когда я уходил вместе с Ропсом от доктора Фийо, все еще находясь под очарованием картин, украшавших стены его дома, художник сказал мне:
– Не правда ли, это какое-то сумасшедшее искусство?
– Право, не знаю. Во всяком случае, на все это весьма приятно смотреть…
– Если так, то тем хуже для вас. Стоит только раз восхититься этой живописью – пиши пропало…
* * *
Вскоре после этого, выгодно продав «Женщину с обезьяной», приобретенную мной у Ропса, я использовал часть вырученных денег на покупку акварели художника, который, возможно, и не принадлежит к мастерам первого ряда, но заслуживает большего, нежели безразличие, с каким к нему относятся сегодня. Я имею в виду Джона Льюиса Брауна. Довольный купленной картиной, изображающей всадников, я рискнул отправиться в гости к художнику, прихватив с собой акварель. Он похвалил меня за мой «глаз» и, помню, нанес три точки гуашью на шлем одного из всадников, сказав: «Вот так будет лучше».
Помнится, проходя в его мастерскую на первом этаже дома, расположенного на улице Баллю, я был буквально ошарашен, вдруг оказавшись перед генералом, сидевшим верхом на лошади посреди небольшого сада: это была модель художника.
– Кстати, – сказал я ему, – на бульваре Монмартр я видел удивительный рисунок с изображением лошадей.
– У Буссо, не так ли? Ах, ей-богу, это рисовал Дега, наш обожаемый мастер… Но вы ведь уже видели Дега давеча, когда мы уходили с вами вместе, ну, знаете, такой господин в черных очках с толстыми стеклами, с которым я поздоровался мимоходом.
– Но как Дега удается рисовать, расположившись со своим мольбертом среди толпы?
– Да он рисует у себя на четвертом этаже, используя в качестве моделей деревянных лошадок. – И, заметив мое удивление, он добавил: – Конечно, Дега посещает ипподромы в Отейе, в Лоншане; но именно в мастерской он воссоздает натуру, по-разному поворачивая лошадок на свету. Он поступает, как Домье. Его друг Булар рассказывал мне, что однажды в Вальмондуа Домье сказал ему: «Мне хотелось бы порисовать уток». Булар отвел его на птичий двор; уток согнали в лужу, и, пока они барахтались в ней, Домье курил трубку, говоря совсем о другом. Через несколько дней, зайдя к своему другу в мастерскую, Булар остановился в изумлении перед рисунком, изображающим уток… А Домье сказал: «Ты помнишь, я видел их у тебя». Я же, не обладая такой хорошей памятью, – продолжал Льюис Браун, – вынужден прибегать к услугам настоящих лошадей. К счастью, у меня есть сад.
– Но, – довольно наивно возразил я, – рисуя ню, Дега ведь не использует для этой цели маленьких деревянных женщин?
– Дело в том, что с человеком в живописи можно поступать как угодно, и Дега, уверяю вас, не церемонится с моделями, заставляя их принимать самые неожиданные позы. И кстати, коли уж речь зашла об обнаженной натуре, я как-то зашел к Арпиньи. Показав мне пейзажи, он сказал с чуть таинственным видом: «Пройдите сюда» – и отвел меня в свою спальню. Роскошная дама спала, растянувшись на постели спиной к нам. «Посмотрите, – произнес Арпиньи и обнажил пару великолепных ягодиц. – Можете ли вы себе представить, как это соблазнительно для художника?.. Но я должен быть пейзажистом!»
Позднее я убедился, насколько удобно было такому художнику, как Льюис Браун, рисующему лошадей, жить на первом этаже. В самом деле, спустя некоторое время, спускаясь по лестнице одного дома, я увидел человека, сидевшего на лошади.
– Верно ли, что мастерская господина N находится там, наверху? – осведомился он.
Вот что мне удалось узнать. Художник, специализировавшийся на изображениях птиц, выставил в Салоне превосходно нарисованного жаворонка, которого у него купил один аргентинец.
– Не могли бы вы, – спросил у него покупатель, – с таким же совершенством нарисовать лошадь?
– Почему нет? – ответил художник.
– И меня верхом на ней, – добавил аргентинец, который заодно попросил разрешения явиться к нему в мастерскую и попозировать.
– Ко мне? – удивился художник. – Да что вы! Я живу на шестом этаже.
– Bueno![39] – сказал аргентинец. – У нас лошади поднимаются по лестницам…
Чтобы господин Льюис Браун еще больше дорожил своим первым этажом, в свое очередное посещение я рассказал ему историю про аргентинца. Помню, он негодовал: «Я только что вновь посмотрел „Анжелюс“, она опять как новенькая. А ведь раньше эта картина была вся покрыта кракелюрой!»
Надо сказать, что полотно побывало в руках у господина Шошара, знаменитого директора магазинов «Лувр», и, питая глубокое почтение к работам настоящих мастеров, он, очевидно, не мог допустить, чтобы эта картина, попав к нему, обнаруживала хоть какой-то изъян.
IV. Мой дебют
«Художественный союз». – Между Альфонсом Дюма и Деба-Понсаном. – Мой первый клиент. – Я нахожу «вкладчика»
Я сказал Ропсу, что мечтаю стать торговцем картинами, в надежде, что он порекомендует меня директору какой-нибудь галереи, где я мог бы овладеть азами этой профессии.
– Я сам веду дела с покупателями, – ответил он, – поэтому у меня нет, так сказать, отношений с торговцами.
Потом, немного подумав, он произнес:
– И все же я могу вам помочь.
Достав из ящика фотографию – на ней Ропс был запечатлен молодым, – он дал ее мне, предварительно написав на ней: «Завтрашнему Жоржу Пти, Амбруазу Воллару» – и поставив свою подпись.
Польщенный и в то же время смущенный подобной характеристикой, я не решился воспользоваться ею, но тем не менее рискнул обратиться в галерею Жоржа Пти, к которому у меня, к счастью, было рекомендательное письмо от одного банкира. Однако, не осмеливаясь предстать перед самим патроном, я заметил человека, который, как мне показалось, занимал в фирме важное положение, и вручил ему свое письмо.
– Сколькими иностранными языками вы владеете? – спросил он, бросив на меня испытующий взгляд.
– Ни одним. Но я человек нетребовательный; для начала я ничего не прошу.
– Но у меня хватает сотрудников, поэтому я нуждаюсь в людях, которые ничего не просят и вдобавок говорят на иностранных языках.
Это был господин Жорж Пти собственной персоной.
К тому времени я познакомился с господином Альфонсом Дюма, рантье, который занимался живописью как любитель. Дюма был учеником Деба-Понсана, рисовавшего исключительно коров на лугах и портреты министров, в основном тулузцев. У него я и нашел оплачиваемую работу.
Альфонс Дюма открыл картинную галерею. Но он не ставил перед собой цель обогатиться, а лишь хотел с помощью доходов, получаемых от продажи произведений других художников, окупить затраты на собственные занятия живописью. Возможно, в глубине души он тешил себя вполне понятной надеждой увидеть однажды, как прохожие останавливаются перед витриной, в которой выставлены «Женские торсы» или «Застигнутые нимфы», подписанные Альфонсом Дюма.
Но меньше всего он хотел прослыть торговцем.
– Вы понимаете, – объяснил он мне, – я принадлежу к семье художников. Я открыл не магазин, а салон: я светский человек, выполняющий роль посредника между художником и покупателем. Деба-Понсан оставляет для меня свои полотна; мой друг Жийу пообещал, что приведет ко мне членов своего клуба.
Скажу сразу, что последние отнюдь не были поддержкой для «Художественного союза». Эти господа иногда заходили к нам, оставив свой клуб, чтобы в лучшем случае поболтать с шести до семи часов. Как-то вечером Дюма, вынужденный из-за одного из таких гостей закрыть свой магазин на четверть часа позже положенного срока, сказал:
– Ясно одно: я понапрасну жгу газ. Но что делают все эти люди? – И он показал на террасу соседнего кафе, переполненного посетителями.
– Они пьют аперитив.
– Вместо того, чтобы думать о том, как украсить свой очаг. Ах, видите ли, мсье Воллар, сегодня люди слишком много времени проводят вне дома!
Дело в том, что покупатели к нам не спешили. Но однажды на горизонте забрезжила перспектива крупной сделки с работами Деба-Понсана. Вошел американец. В этот момент я был один в магазине. Не располагая временем (он должен был вскоре сесть на пароход), американец спросил, не можем ли мы предложить ему дюжину пейзажей и картин с изображениями лошадей.
– Видите ли, – объяснил посетитель, – я просиживаю в конторе с утра до вечера, и, когда возвращаюсь домой, мне хочется смотреть на картины, которые отвлекали бы меня от толпы людей, которую я вижу в течение дня. Я уезжаю завтра вечером. Покажите мне образцы, и я оставлю у вас заказ.
Как вы убедились, Деба-Понсан специализировался на коровах, но он сказал нам, что по желанию клиентов может с таким же успехом рисовать и лошадей, ослов, баранов, даже птиц.
Когда пришел Альфонс Дюма, я ввел его в курс дела.
– Скорее бегите к Деба-Понсану и передайте ему эту хорошую новость!.. Соединенные Штаты! Какой рынок!
Ему уже виделись суда, нагруженные работами Деба-Понсана и плывущие к берегам Америки. Но в этот день, как назло, у Деба-Понсана не нашлось ни одной законченной картины с коровами.
– А этот великолепный бык?! – воскликнул Дюма, заметив полотно, приставленное к стене.
– Ах нет! Это всего лишь подмалевок.
– Ну и что! Разве он не может дать представление о жанре?
– Я дал слово, что из моей мастерской никогда не выйдет неоконченной работы. В ее теперешнем виде картина позволит художнику распознать мои приемы, и меня обкрадут. Кто может поручиться, что ваш покупатель на самом деле не художник?
Мы с Дюма вздрогнули от этого предположения и дали американцу сесть на корабль, так и не заключив сделки.
Убытки отчасти компенсировал один клиент, заказавший на другой день два холста, сюжет которых он предложил сам. Ему хотелось иметь изображения военных.
– Я не знаю имен художников, пишущих на военные темы, – сказал нам покупатель. – Я хочу одного – чтобы мой заказ был выполнен «вне конкурса». Кроме того, для меня важно, чтобы один из военных был зуавом. Другой может быть кем угодно, при условии, что он не будет принадлежать к отборным частям. Дело в том, что я сам был зуавом… Если бы у меня было время позировать…
По правде сказать, он, с его солидным брюшком и отвислыми щеками, вряд ли был способен изобразить того далекого зуава, каким когда-то, возможно, был… Когда он сказал, что только занятость мешает ему позировать художнику, сопровождавшая его молодая дама – очень красивая женщина – не смогла сдержать улыбки, и я подумал, что если он когда-то и был зуавом, то теперь у него есть все шансы стать рогоносцем. Что до Альфонса Дюма, то он из кожи вон лез, желая потрафить клиенту.
– А если парой зуаву будет падающий из седла всадник?
– Я не хочу людям несчастья, – сказал толстяк, у которого решительно было доброе сердце. – Внизу должно находиться оружие.
– Так, – произнес Альфонс Дюма, – а если мы дадим ему в придачу пехотинца?
– Окопника? Годится.
Альфонс Дюма тут же назвал имя Деба-Понсана, и тот сотворил настоящее чудо в новом для него жанре: его зуав был великолепен; что касается пехотинца, то у него был такой вид, будто он наложил в штаны.
Между тем художник закончил своего быка. Полотно, сразу же выставленное у нас, заинтересовало одного прохожего, в котором я учуял торговца скобяным товаром. Я слышал, что люди в конце концов в чем-то становятся похожими на ту среду, в которой они живут, а у этого человека были заостренные локти и колени!.. В общем, вся его наружность выдавала торговца напильниками и гвоздями. Он разглядывал работу Деба-Понсана со все возрастающим восхищением.
– Этот могучий бык и эти хрупкие цветы… Какой восхитительный контраст!
Я подумал: «Этот скобяных дел мастер еще и поэт».
– А как называется картина? – полюбопытствовал он.
– «Мужественность», – произнес я и уже собирался добавить, что название картине дал сам мэтр, но осекся, увидев, какое глубокое разочарование отразилось на лице собеседника. Деба-Понсан позволил мне менять названия его холстов в зависимости от обстоятельств. Поэтому я продолжил:
– Так, по крайней мере, мог бы назвать картину человек, восприимчивый к поэзии, которой проникнуто это полотно.
– Так как же называется картина?
– «Апрель», – уверенно произнес я. – Апрель – это месяц, когда распускаются цветы, когда природа, источающая весенний аромат…
Лицо «скобянщика» просияло. Значит, он мог взять холст с собой, повесить его у себя дома, не краснея за покупку перед своей, возможно, сварливой супругой и не шокируя дочерей.
– «Апрель» – какой восхитительный символ!.. Мсье, я преподаю эстетику на факультете литературы в N. Я расскажу студентам о Деба-Понсане. Апрель! Сколько образов рождает магия этого слова! Я покупаю картину. Однако… – И лицо преподавателя вдруг омрачилось. – Вон то голубое пятно на вершине дерева, среди веток, что это такое? Похоже на незабудку, но незабудка – это же растение-паразит!..
Тут мне было нечего возразить клиенту. Я еще раньше обратил на эту деталь внимание самого художника.
– Можно подумать, что на ветвях вашего дуба растут незабудки, – сказал я.
– Ах, черт! Ну надо же! – воскликнул художник, а затем как ни в чем не бывало произнес: – Ну и что! Это повтор тонов. – И снисходительно добавил: – Знаете, все это дело художника.
Вспомнив, с какой уверенностью говорил тогда мэтр, я заявил клиенту:
– Это голубое пятно? Но это же повтор тона! Знаете, ведь это дело художника!
– Какая удивительная штука – искусство! – воскликнул преподаватель. – Глядя на эту картину, профан сказал бы: «Как это на дубе оказались незабудки?» А мы говорим: «Повтор тона». Повтор тона!
И его лицо озарила лукавая улыбка.
– На этой незабудке я подловлю своего коллегу, учителя ботаники…
Жизнь в «Художественном союзе» протекала очень спокойно. Честно говоря, работы Деба-Понсана начинали приедаться. Один клиент, проявивший сперва большой энтузиазм и купивший одну из наиболее удачных картин мэтра, «Корова и теленок», зашел в магазин и попросил Дюма забрать холст обратно.
Но были у нас и удачные дни. Так, один за другим были приобретены три холста Деба-Понсана. Помню также, что один любитель искусства купил у нас картину бордолезского художника Кенсака: на ней была изображена девушка, которая согревала горлицу на своих прелестных грудях.
– Можно ли подарить такое своей невесте? – робко спросил наш новый клиент.
Мы заверили его, что в этом нет ничего предосудительного.
– По дороге в свою контору, – признался он, – я уже несколько дней делаю небольшой крюк, чтобы полюбоваться этой сочной плотью. Не правда ли, приятны только те подарки, которые и тебе самому доставляют удовольствие?
Когда он покинул магазин, я сказал Дюма:
– С такими представлениями о подарках ему вполне могла бы прийти в голову мысль подарить своей жене на именины охотничье ружье!
Кажется, мое замечание не привело в восторг друга семьи Дюма, присутствовавшего при этом. Позднее я узнал, что он имел обыкновение преподносить своей жене полезные подарки, то есть делать их самому себе. Так, на годовщину свадьбы он подарил своей половине великолепную пенковую трубку. «Ты разве ничего не замечаешь? – спросил он, увидев изумление на лице супруги, и показал на головку трубки, выполненную в виде головы седобородого старика. – Это же вылитый твой отец».
После десятой проданной картины Деба-Понсана Дюма устроил в своем особняке в Нейи прием для близких друзей, на который был приглашен и я. В конце дня, когда гости, сидя в саду, любовались солнцем, лучи которого пробивались сквозь облака, один из них воскликнул:
– Ах, посмотрите же! Небо ну в точности как на картинах Моне.
– А что думает мэтр? – спросил Дюма у Деба-Понсана, устремившего взгляд к небу.
– Вероятно… Вероятно… Но… в любом заходе солнца… как и вообще в природе, есть хорошее и плохое…
В ту же секунду раздались раскаты грома.
– Вы видите! – вскричал один из гостей. – В этом небе было что-то не совсем нормальное.
– Что касается меня, – продолжил другой, – то, когда небо начинает превращаться в картины Моне, я поступаю следующим образом.
И он встал и ушел в дом.
– Но разве искусство не должно подражать природе? – спросил третий.
– Мне известно только одно, – заметил господин Деба-Понсан, – то, что я имею золотую медаль. Когда ваш Моне сможет сказать о себе то же самое, тогда и поспорим… Природа! Если сейчас она принимает сторону художников, которые занимаются живописью, не умея рисовать, тем хуже для природы! Вы ведь не станете утверждать, что Коро бездарь? Так вот, он сказал, что художник должен уметь исправлять природу. У древних есть изречение: «Ars addit Naturae».
– Я чуть было не вляпался в этих чертовых импрессионистов, – заявил другой собеседник. – Однажды, не придав значения подписи на холсте, я купил картину, на которой был изображен уголок Уазы, где мы любили гулять с женой. Заметив картину в витрине, мы почувствовали, что это выше наших сил, и сразу же унесли ее с собой. И вот кто-то сказал нам: «Как? У вас дома висит Писсарро?» Я тут же поспешил от нее избавиться. Во-первых, живопись импрессионистов идет вразрез с моими убеждениями, а во-вторых, жена считает, что, когда в доме растут дочери, надо иметь пристойный интерьер.
Эти слова повергли господина Дюма в состояние задумчивости, ведь у него было четыре дочери на выданье.
На другой день он принес в «Художественный союз» большую папку с рисунками.
– Я должен сознаться вам в грехе молодости, – сказал он мне. – Я познакомился с папашей Нуази в самом начале его карьеры, когда он занимался в основном книгами романтиков, от которых я был без ума. Однажды он зашел ко мне и сказал: «Я отведу вас к художнику, о котором начинают говорить». Я сразу же подумал: «Нуази знает мои вкусы, вероятно, там есть что-то интересное для меня». И вот он привел меня в мастерскую, где был сплошной модернизм!.. Пока другие люди разговаривали с художником, Нуази подошел ко мне и произнес: «Знаете, я сказал художнику, что вам очень нравится то, что он делает». И прежде чем я успел вставить хотя бы слово, эта скотина Нуази обратился к мэтру с такими словами: «Господин Альфонс Дюма не осмеливается просить вас об этом, но нельзя ли ему унести с собой что-нибудь из ваших работ?..» Деваться было некуда. И художник отобрал несколько рисунков, снял со стены акварель в рамке и все это вручил мне. Проделка обошлась мне в целых десять луидоров. В тот момент мне было не до шуток, уверяю вас. В наши дни, кажется, это искусство начинает приобретать ценность. Еще один довод в пользу того, чтобы эти вещи ликвидировать. Вот уже пятнадцать лет в них дремлют мои луидоры.
Дюма взял папку, которую вначале положил на пол, и извлек из нее несколько произведений Мане: акварель «Олимпия»; оригинальный рисунок литографии «Черный кот и белый кот»; промежуточный оттиск цветной литографии «Полишинель»; несколько изумительных сангин; наконец, дюжину набросков кошек.
– Кажется, это все, – сказал Дюма.
Но когда он встряхнул папку, из нее выпал восхитительный женский этюд, нарисованный на пергаменте.
– Вот бы посмеялись надо мной знакомые, если бы увидели все эти вещи! Но я надеюсь на то, что вы избавите меня от них. И главное, ничего для показа, договорились? Не приведи бог, если Деба-Понсан, случайно заглянув к нам, увидит, что его выставляют рядом с Мане!
Надо думать, что прекрасные произведения обладают какой-то загадочной силой. И хотя я, следуя инструкциям патрона, показывал работы Мане лишь исподтишка, через несколько дней все было распродано. Дюма не мог прийти в себя от удивления. Но одна вещь его возмущала: человек, купивший рисунок «Черный кот и белый кот», настоял на том, чтобы у него взяли «сислея».
– И это случилось со мной, давшим зарок никогда больше не иметь здесь произведения импрессионистов! – кипятился Дюма. – Вам следует найти способ сплавить этого «сислея» какому-нибудь случайному клиенту. Словом, приложите все старания! И, как никогда, надо продавать все только внутри, ясно? Не будем отпугивать покупателей.
Действительно, торговля в магазине пошла бойко. Накануне мы сбыли два натюрморта с цветами Жанена, и если бы у нас имелись холсты с изображением фруктов, то почти наверняка сумели бы продать еще и третью работу. Кроме того, один из наших постоянных клиентов вел с нами переговоры, намереваясь заказать портрет у Кенсака и купить этюд Деба-Понсана, на котором были изображены бараны.
Во второй половине дня, собираясь выйти, Дюма сказал мне: «Я вернусь через пару часов, у меня встреча в клубе». Убедившись в том, что я располагаю свободой действий в течение этого времени, я убрал с витрины картину Деба-Понсана и выставил на ее месте работу Сислея. Через пять минут она была продана. И дело вовсе не в том, что импрессионисты пользовались большим уважением (шел 1892 год), просто так получилось.
Первыми словами Дюма по его возвращении были:
– Этого «сислея» определенно надо… Послушайте, Воллар, сходите к покупателю, который сплавил нам эту вещь, и попросите взять ее назад за небольшую сумму.
– Так я же ее продал.
– Невероятно! Кому-то из наших постоянных клиентов?
– Нет, незнакомому человеку. Он пообещал зайти к нам еще раз, чтобы посмотреть, не найдется ли у нас чего-нибудь в том же духе.
– Вы, конечно, сказали ему, что фирма не держит живопись подобного рода и что это чистейшая случайность?..
Я начал тяготиться жизнью в галерее Дюма. И вот однажды, когда, будучи свободным от дел, я облокотился о подоконник антресольного окна, он осел, и я должен был рухнуть вниз, если бы меня что-то не удержало, словно чья-то рука. Это был металлический стержень, вбитый в стену. Через несколько секунд явился слесарь и сказал: «Я пришел снять железный кронштейн на антресольном окне. Я обещал зайти вчера, но мой малыш сломал ногу». – «Что ж, – произнес я, – мне страшно повезло; если бы ваш сынишка не сломал ногу…» И я рассказал ему о том, что со мной случилось. Человек, кажется, пришел в ярость; можно было не сомневаться, что он принял меня за гнусного эгоиста.
Ничего дурного, напротив, не произошло с девушкой, которая, так никогда и не узнав об этом, спасла меня от смертельной опасности. Правда, незнакомец, оказавшийся на моем месте, попал в переплет, но я смею утверждать, что он был наказан за свое любопытство.
В тот день я сидел на империале омнибуса, следующего по маршруту Пигаль – Винный рынок, и ждал отправления, когда заметил на тротуаре восхитительную девушку, вылитую героиню Ж.-А. Рони-старшего. «Возможно, эта девушка не знает, что она прелестна», – подумал я и, встав с места, собрался выйти из экипажа.
– Простите, мсье, – сказал пассажир, которого я задел, проходя мимо, – я часто, как и вы, занимаю в омнибусе передние места. Позвольте полюбопытствовать, какое преимущество дает вам место справа от кучера, которое предпочитаете вы?
– Очень большое, – ответил я, – но простите, я слишком спешу сегодня утром. Я расскажу вам об этом в другой раз, ведь мы еще непременно увидимся.
У меня в самом деле не было времени объяснять ему, что я левша и что, сидя там, я мог опереться левой рукой о сиденье кучера. Не дожидаясь дальнейших объяснений, мой собеседник поднялся, чтобы пересесть на покинутое мной место. И омнибус тронулся в путь, унося пассажира навстречу его судьбе.
Я же подошел к девушке. Прежде всего я с удовольствием отметил, что имею дело с весьма порядочной особой, так как она не стала говорить мне, что она «серьезная», как это обычно делают девушки, позволяющие заговаривать с ними на улице. Через минуту к остановке подъехал трамвай, и девушка сказала, что должна со мной проститься. На мой вопрос, смогу ли я увидеться с ней еще раз, она ответила:
– Это уже невозможно. Завтра из Стокгольма приезжает мой жених. Но он, конечно же, будет очень доволен тем, что в его отсутствие я добилась успехов в изучении французского языка благодаря всем тем любезным господам, которых я повстречала за это время…
Так вот, эта девушка никогда не узнает, что спасла мне жизнь. В самом деле, на другой день, садясь в омнибус, которым управлял тот же кучер, я узнал от него, что в прошлый раз, вскоре после того, как я вышел, как раз тогда, когда экипаж проезжал мимо дома, предназначенного на слом, со стены сорвался кирпич и угодил прямо в голову пассажира, пересевшего на мое место…
Рассказывая о том, что случилось со мной, я обратил внимание на озабоченный вид директора «Художественного союза».
– Я полон сомнений, – признался он после паузы. – Я должен потратить триста тысяч франков. Мне предлагают две одинаково выгодные сделки, между которыми я колеблюсь, как тот осел… ну, вы помните историю с двумя вязанками сена.
– Будь я на вашем месте, я бы не сомневался, а употребил бы эти триста тысяч на покупку полотен Ренуара, Сезанна, Дега… словом, всех этих великих импрессионистов.
На другой день, когда я увидел Дюма, он имел странный вид.
– Жена, которой я передал наш разговор, не спала потом всю ночь, – произнес он. – Она сказала: «Твой Воллар меня пугает. Я знаю, что ты серьезный человек, не способный оставить своих детей без куска хлеба. Однако, зная, что рядом с тобой находится человек с подобными мыслями, я больше не смогу жить спокойно. Уже не говоря о том, что он несет ужасный вздор, вроде последнего предложения, сделанного в присутствии клиентов; за твоим „Художественным союзом“ утвердится дурная репутация…» Послушайте, Воллар, – продолжал Дюма, – вы должны пообещать мне, что никогда больше слово «импрессионист» не сорвется с ваших уст ни здесь, ни вне стен магазина…
Все больше существование, которое я вел в галерее Дюма, меня тяготило. И я заявил ему, что готов с ним расстаться.
– Вы откажетесь от такого жалованья?
Я знал, что место, за которое платят сто двадцать пять франков в месяц, как говорится, на дороге не валяется; но атмосфера в «Художественном союзе» становилась день ото дня все более невыносимой.
Когда Дюма понял, что избавится от меня, не особенно обременяя свою совесть, он обронил такую реплику:
– Вот обрадуется моя жена!
Но тут же я увидел, как нахмурился его лоб.
– Послушайте, мой дорогой Воллар, ведь мы расстаемся хорошими друзьями, не так ли? Я рассчитываю на вашу порядочность и не сомневаюсь, что, когда речь зайдет об импрессионистах, вы будете говорить всем, что я не переношу такое искусство.
– Я не только обещаю говорить, но если представится такой случай, то и написать об этом, – ответил я.
И свое слово я сдержал.
* * *
Меня часто спрашивают о том, как я начинал свою карьеру. Мой дебют относится к тому времени, когда я был вынужден питаться сухарями, имевшими перед хлебом то преимущество, что они стоили дешевле. Однако мои средства подходили к концу, и мне пришлось искать возможность подзаработать на нескольких рисунках и гравюрах – небольшой коллекции, которую я составил на студенческие сбережения.
Я слышал об одном торговце вином из Берси, который иногда покупал рисунки современных художников. Жил я в нижней части проспекта Сент-Уан. Расстояние меня не пугало; из экономии я проделал весь путь пешком, прихватив с собой рисунок Форена.
– Сколько стоит ваш рисунок? – спросил «мой покупатель».
– Сто двадцать франков.
– Я предлагаю вам сто.
И он извлек из бумажника банкноту. Сто франков! Это было весьма заманчиво. Тем не менее я не сдался. Некоторое время назад на меня произвела большое впечатление тактика одного «коллеги», с которым в моем присутствии стали торговаться о цене рисунка Ропса.
– Сколько стоит ваш «ропс»?
– Сорок франков.
– Ну нет! Если хотите, тридцать.
– Как! Вы торгуетесь?! Ну что ж, тогда я прошу пятьдесят.
И покупатель отдал пятьдесят франков.
Я тоже решил рискнуть.
– Вы торгуетесь о цене моего «форена», – сказал я клиенту. – Ладно! Тогда я прошу не сто двадцать франков, а сто пятьдесят.
– Помилуйте, вы просто нахал! – возмутился покупатель. – Ну хорошо… Я беру.
Положив деньги в карман, я подумал, что неплохо бы отпраздновать эту удачу, и позволил себе потратиться на билет в театр и скромный ужин в большом ресторане. Я выбрал постановку «Михаил Строгов» в Шатле. Какой прекрасный вечер я провел там! Заплатив полтора франка, я занял отличное место на самой верхотуре. Рядом со мной сидела семья, состоявшая из отца, матери и ребенка лет двенадцати. Последний, кажется, был увлечен перипетиями пьесы. Начался праздник эмира, и в тот момент, когда палач принялся водить перед глазами Михаила Строгова саблей, раскаленной добела, мальчик не выдержал и сказал:
– Если бы тот, другой, победил его в начале, пристрелив из пистолета, такого бы с ним не случилось.
– Глупышка, – отозвался отец, – будь он убит сразу, на этом все бы и кончилось и ты бы не увидел роскошного праздника эмира.
– А теперь… что же будет? – спросил ребенок.
Чувствовалось, что это «а теперь» означает: мальчуган охотно согласился бы на то, чтобы выжгли еще несколько пар глаз ради продолжения необычных приключений.
Покинув Шатле, я отправился в ресторан Вебера, где в те благословенные времена всего за два с половиной франка можно было получить тарелку йоркской ветчины, кружку темного пива, сколько угодно хлеба и большой кусок сыра. Когда я устроился за столом среди всех этих сияющих огней, элегантных вечерних платьев, официантов, которые предупредительно усаживали за соседний столик две молодые пары – я слышал, как их приветствовали: «Добрый вечер, Ренье! Добрый вечер, Мендрон!» – мне показалось, что я приобщился к большой жизни. Мысленно я представил, как все вокруг обращаются и ко мне со словами: «Добрый вечер, Воллар!» И, попивая свое темное пиво, я дал себе слово, что после каждой удачной сделки буду ходить в театр Шатле и ресторан Вебера. Но, вернувшись домой, я с грустью подумал: «Однако я обеднел на четыре франка».
* * *
Итак, я стал деловым человеком. Все, что составляло в то время мое «дело», обошлось мне не более чем в пятьсот франков. Если я сумел продержаться, то лишь благодаря одному «банкиру». Это был славный человек. Он одалживал мне мизерные суммы, требуя около ста процентов. Занимался он всем, чем угодно.
Мой запас состоял почти исключительно из рисунков и гравюр (их цены показались бы сегодня невероятными), вроде монотипии Дега, купленной мной за десять франков, или великолепных работ Гиса, которые можно было приобрести на набережных начиная от двух франков. Так же и со всем остальным.
Поскольку настоящие жемчужины приобретались по столь низким ценам, я не мог рассчитывать на выгодные сделки, продавая их торговцам: надо было выходить непосредственно на коллекционера.
Однажды «коллега» рассказал мне об одном из своих клиентов, который искал произведения Форена, Вийетта, Ропса, Стейнлена – словом, все то, что считалось тогда «передовым» искусством. «Я знаю, что такие вещи у вас есть», – сказал он. Я ответил что-то неопределенное. А сам подумал: «Как бы узнать фамилию этого покупателя!»
Позднее это мне удалось, и, что самое интересное, благодаря тому же самому торговцу. Как-то он заявил: «Лично я поступаю следующим образом: когда кто-нибудь говорит со мной о деле намеками, чуть позже я повторяю ему слово в слово все, о чем он мне поведал, и очень редко бывает, чтобы он не обронил замечания, которое способно вывести меня на верный след».
По отношению к нему я воспользовался его же собственной хитростью. Снова увидевшись со своим знакомым через какое-то время, я сказал:
– У меня есть клиент, который покупает Форена, Ропса, Стейнлена – словом, всю современную школу.
– Я, кажется, знаю, кто этот ваш клиент, – произнес он.
– Известно, что вам нет равных, но все же…
– Вашего человека зовут Морис И.
– Ну и ну! Верно! Вы меня просто потрясаете!
Фамилию я узнал, но как быть с адресом?
Я продолжил:
– Мне как раз нужно написать господину Морису И., не хотите ли вы передать ему что-нибудь?
– Да вроде бы нет.
На бланке, который он мне любезно предложил, я написал господину Морису И., что у меня есть произведения Форена, Ропса и т. д.
Надписав его имя на конверте, я воскликнул:
– Ах, черт! Я забыл его адрес.
– Неужели вы не держите все ваши адреса в голове?
И, взяв письмо из моих рук, он дописал название улицы и номер дома.
Через день в дверь ко мне постучали. Это был господин Морис И.
Я разложил перед ним свою коллекцию. Он ушел от меня, прихватив с собой работ на тысячу франков.
Каково же было мое удивление, когда на следующей неделе, проходя мимо лавки одного торговца, я увидел в витрине одну из вещей, проданных мной господину Морису И. Я вошел в магазин, где мне предложили всю приобретенную им партию.
– Такой товар не валяется где угодно, – сказал мне продавец. – Его принес нам посредник, светский человек. Те, у кого есть что продать, всегда думают, что лучше иметь дело с частными лицами…
Выходит, меня провели…
V. Монмартр в 1890 году
Веселый и артистический Монмартр. – Вийетт и «Ша-Нуар». – Шансонье Аристид Брюан. – Лотрек. – Кафе «Новые Афины». – Ренуар и Дега
Около 1890 года я обосновался на Монмартре, в нижней части проспекта Сент-Уан, на улице дез Апеннен. Две комнаты с мансардой служили мне одновременно и квартирой, и «магазином».
Однажды раздался звонок, и я впустил посетителя, который произнес: «За мной идет еще один человек».
Коллекционер поднимался по лестнице с трудом, подталкиваемый двумя друзьями. «Немного терпения, – говорил один из них, – поглядеть на прекрасного Гийомена – это стоит того, чтобы вскарабкаться на шестой этаж».
Монмартр 1890 года! Монмартр первого кабаре «Мулен Руж» – его изобразит для меня Бонна на своей знаменитой картине, – как он отличался от послевоенного Монмартра с его мрачными ночными заведениями!
В то время по воскресеньям я позволял себе развлечение, которое было мне по средствам: я отправлялся на Елисейские Поля и, стоя под деревьями, окаймляющими проспект, любовался парадом красивых колясок. Но, отступив однажды от строгих принципов экономии, позволявших мне до тех пор сводить концы с концами, я провел вечер в кабаре «Ша-Нуар». Там висела большая картина Вийетта «Parce Domine», о которой на Холме говорили, что она может соперничать с композициями мастеров XVIII века. Другим аттракционом «Ша-Нуар» было обслуживание посетителей гарсоном, одетым в костюм академика.
О Вийетте я узнал благодаря «Курье Франсэ»; вокруг этой газеты группировалось большинство самых знаменитых рисовальщиков того времени, начиная с Форена. «Самые знаменитые» не означает самые состоятельные. У Вийетта было много ревностных поклонников, но мало покупателей. То же относится и к художнику Луи Леграну, который, ютясь в тесной квартире на авеню Клиши, уже создал некоторые из своих самых красивых гравюр, но продать их не мог. Это ему удалось сделать только после того, как он (к их взаимной выгоде) повстречался с издателем Пелле. Изумительные гравюры по дереву Анри Ривьера накапливались в папках художника; если его имя и было известно публике, то благодаря представлениям китайских теней, вызывавшим аплодисменты на вечерах в «Ша-Нуар», тех вечерах, на которых состоялся дебют Леона Блуа, Жюля Жуи и будущего академика Мориса Доннэ. Когда говорят о художниках Монмартра, то на память сразу приходит Форен, несмотря на то что жесткость рисунков сатирика была полной противоположностью веселому монмартрскому зубоскальству. Действительно, насколько далеки они от «Пьеро» Вийетта, с женщиной, чьи плечи дрожат, когда она вставляет ключ в замочную скважину, в то время как за ней по лестнице следует «незнакомец», которого она пригласила к себе!
Я помню другое заведение на Монмартре, его содержал шансонье Аристид Брюан, рослый мужчина крепкого телосложения, который обычно появлялся в широкополой фетровой шляпе и с красным шарфом вокруг шеи. Он приобрел некоторую известность не только благодаря своим песням, но и в неменьшей степени грубым выходкам: например, едва клиент переступал порог кабачка, как на него обрушивался поток брани. Кабаре пользовалось большой популярностью, но потом прекратило свое существование. Память о нем сохранится благодаря афишам, нарисованным Лотреком; на них шансонье изображен в своем легендарном костюме.
Лотрек сумел бы поднять на высокий уровень искусство украшения стен, получи он хоть какое-то одобрение; об этом можно судить по холсту, написанному для балагана Ла Гулю, еще одной монмартрской знаменитости, которая, перестав танцевать в канкане «Мулен-Руж», стала укротительницей львов и других хищников, вскоре распроданных из-за того, что она разорилась. Когда Ла Гулю умерла, всеми забытая, в нищете, с полотном Лотрека начались разные приключения. Оно переходило из рук в руки и наконец было разрезано на части последним покупателем, посчитавшим, что будет легче продать холсты меньшего размера. Под давлением возмущенных почитателей художника куски соединили, и, уплатив четыреста тысяч франков, картину приобрела администрация департамента изящных искусств, того самого департамента, который двумя десятилетиями раньше поднял бы на смех Лотрека, если бы тот попросил разрешения бесплатно расписать какую-нибудь стену.
Свою фантазию он вкладывал не только в произведения, но и привносил ее во все свои житейские поступки.
Как-то, вернувшись вечером домой, я услышал от служанки:
– Сегодня после полудня приходил этот забавный коротышка. Я сказала ему, что мсье Воллар отсутствует. А на мой вопрос, как его фамилия, он, не говоря ни слова, подобрал валявшийся уголек, на изнанке холста, приставленного к стене, нарисовал человечка – и был таков.
В то время Боннар работал над интерьером моей столовой, и Лотрек на обороте одного из этюдов Боннара вместо визитной карточки оставил свой собственный силуэт.
Я сказал, что чиновники департамента изящных искусств рассмеялись бы, приди кому-то в голову мысль просить их заказать Лотреку фрески; после Ла Гулю великого художника пригласила хозяйка одного знаменитого приюта, предоставив в его распоряжение стены своего «салона».
В кафе «Новые Афины» на Монмартре собирались Дега, Сезанн, Ренуар, Мане, Дебутен и художественные критики вроде Дюранти. Последний стал поборником «новой живописи», хотя его восхищение не было безоговорочным, В частности, он упрекал Сезанна за то, что тот рисует мастерком каменщика. По мнению Дюранти, Сезанн покрывал холст таким толстым слоем красок из-за того, что, должно быть, полагал, будто килограмм зеленой даст более зеленый цвет, чем один грамм этой же краски.
Мане также недолюбливал художника из Экса. Утонченный и изящный парижанин, он находил, что в работах Сезанна получает отражение грубость этого человека. Но сквернословие, которое он ставил ему в вину, было, по правде говоря, вызвано отношением Сезанна к Мане, раздражавшему его своими светскими манерами. Так, когда автор картины «За кружкой пива» спросил у коллеги, не готовит ли он что-нибудь для Салона, то услышал в ответ:
– Да, горшок дерьма!
Иногда говорили: «Дега и Ренуар, с их столь непохожими натурами, не созданы для взаимопонимания». На самом деле, если, глядя на некоторые полотна Ренуара, Дега иногда замечал: «Он рисует клубками шерсти», подразумевая под этим некоторую ватность его живописи, то, бывало, он же, остановившись перед какими-то холстами Ренуара и как бы любовно лаская их взглядом, восклицал: «Надо же, какая красивая фактура!»
В то же время рисунок Дега ни у кого не вызывал большего восхищения, чем у Ренуара, хотя в глубине души последний сожалел, что тот ради живописи маслом отказался от пастели, в которой наиболее полно проявилась его самобытность.
Несмотря на взаимное уважение друг к другу как к художникам, Ренуар и Дега все же поссорились. И вот при каких обстоятельствах.
Составляя завещание о передаче своей коллекции импрессионистов в дар Люксембургскому музею, Кайботт вспомнил о том, сколько запрашивал Ренуар за свои полотна во времена, когда коллекционер приобретал их. Испытывая что-то вроде угрызений совести из-за того, что он купил их по столь низкой цене, и желая хоть как-то вознаградить художника, Кайботт завещал ему, на его усмотрение, одно из произведений коллекции.
В то время Ренуар начинал «продаваться». Узнав, что один коллекционер готов заплатить пятьдесят тысяч франков за «Мулен де ла Галетт», Ренуар, естественно, пожелал взять именно этот холст. Брат Кайботта, его душеприказчик, объяснил художнику, что, поскольку коллекция предназначена для Люксембургского музея, будет жаль, если она лишится одного из самых сильных полотен. То же самое Ренуар услышал и в отношении «Качелей», и в конце концов, так как наследие Кайботта включало многочисленных «дега», брат коллекционера предложил Ренуару (и тот с ним согласился) взять пастель «Урок танца». Но автору «Гребцов» быстро наскучило изображение музыканта, склонившего голову над скрипкой, и танцовщицы, которая, подняв ногу, ожидала нужной ноты, чтобы совершить пируэт. Однажды Дюран-Рюэль сказал ему: «У меня есть клиент, интересующийся тщательно отделанными работами Дега», и Ренуар снял картину со стены и вручил Дюран-Рюэлю.
Узнав об этом, взбешенный Дега отослал Ренуару великолепное полотно, которое последний как-то разрешил ему унести из своей мастерской: на картине была изображена почти в натуральную величину женщина в голубом платье с открытой грудью. Произведение было создано в то же время, что и знаменитая «Улыбающаяся дама». Я находился у Ренуара в тот момент, когда полотно было ему столь бесцеремонно возвращено. Схватив в приступе гнева шпатель, он стал рвать им холст. Платье уже превратилось в лохмотья и он занес было инструмент над лицом женщины, когда я воскликнул:
– Но подождите, Ренуар!
Рука художника замерла.
– Ну что еще?
– Мсье Ренуар, вы однажды говорили на этом же самом месте, что картина – это как бы твой ребенок…
– Как вы надоели мне со своей чепухой!..
Но он опустил руку и вдруг с жаром произнес:
– Какого труда стоило мне нарисовать эту голову! Право, я ее сохраню.
И Ренуар отрезал верх картины. Кажется, этот фрагмент находится в России.
Ренуар яростно бросил в огонь порезанные куски холста, затем, взяв листок бумаги, написал на нем одно-единственное слово: «Наконец!», вложил листок в конверт с адресом Дега и вручил письмо своей служанке, попросив отнести его на почту. Некоторое время спустя, когда я встретился с Дега, он поведал мне всю историю и, помолчав, спросил:
– Что он хотел сказать этим «наконец»?
– Очевидно, то, что он наконец порвал с вами отношения!
– Вот тебе на! – воскликнул Дега.
Он явно не мог прийти в себя от удивления…
Время наивысшей популярности «Новых Афин», где, как мы видели, собирались импрессионисты, было временем создания «Ложи», которую Ренуар с таким большим трудом сумел продать за четыреста двадцать пять франков – сумму, необходимую ему для того, чтобы уплатить за квартиру; в это же время Мане нарисовал женщину в белом сатиновом камзоле, лежащую на софе, – много позже, примерно в 1895 году, за эту картину на аукционе Надара не дали и тысячи пятисот франков; тогда же появились знаменитые «Белые индюки» Клода Моне, которые на аукционе Ошеде были проданы меньше чем за сто франков… И даже около 1900 года крупный торговец с бульваров, желая сбыть партию импрессионистов (она, по его понятиям, портила другие, «более тщательные» картины коллекции), не нашел ничего лучше, как отнести холсты в лавочку на отдаленном бульваре, где благодаря коллекционерам, искавшим выгодных сделок, шла бойкая торговля.
Однажды, проходя по бульвару Клиши, я из чистого любопытства зашел в ресторанчик с вывеской «Тамбурин». В соответствии с названием в нем стояло множество тамбуринов, художники расписали их, использовав самые разные сюжеты. И не только тамбурины можно было увидеть в ресторане; на стенах висели картины, колорит которых так и хотелось назвать кричащим. Вместе со мной внутрь вошел какой-то человек, спросивший у хозяйки заведения:
– Винсент пришел?
– Он только что был здесь. Повесил вот эту картину «Подсолнухи» и тут же удалился.
Так я едва не повстречался с Ван Гогом.
Понятно, что клиенты-художники не могли принести больших доходов хозяйке ресторана, некоей госпоже Сегатори, постоянно находившейся на грани разорения; в итоге вся ее обстановка, все ее тамбурины и «ван гоги» оказались в руках у случайных людей после распродажи на торгах. Торгах более чем скромных, ибо в то время Ван Гог пользовался репутацией потешного художника, и хорошо, если он не вызывал у людей возмущение, чему я был свидетелем однажды, когда один торговец картинами не смог сдержать своего негодования. «Какое нахальство! – объяснял он мне. – Представляете, этот тип, когда я разговаривал с коллекционером по поводу картины Жозефа Байля „Повар“, пришел предложить мне холст некоего Ван Гога, пейзаж с разноцветной луной, напоминающей паутину. Ничего себе! Хороший способ привлечь клиентуру, а?»
VI. Улица Лаффит
По следам загадочного дела. – Визит к мадам Мане. – Мои выставки Сезанна и Ван Гога. – У моих коллег. – Живопись на улице Лаффит. – Особняк королевы Гортензии. – Конец улицы Лаффит
В 1893 году я покинул улицу дез Апеннен и переехал на улицу Лаффит. Там, в доме номер 39, я снял небольшую лавочку, а чуть позже перебрался в дом номер 41.
Как известно, начинал я очень нелегко. И мое положение улучшилось не потому, что я приобрел магазин.
Однажды вечером, когда я собирался уже закрыть лавку, вошел один из моих клиентов и без всяких предисловий сказал:
– Я только что от одного мелкого торговца, имя которого я вам не скажу. Он попросил зайти к нему через недельку. Так вот, этот торговец обнаружил целую партию рисунков художника, чьи произведения начинают приобретать все большую ценность после его смерти.
– Больше никаких подробностей? – спросил я.
– Нет. Никаких, за исключением той, что все эти рисунки находятся в таком месте, где никому не придет в голову их искать.
– И это действительно все, что вам известно?
– Он сказал мне еще: «Некий… допустим, Дюпон… будет очень удивлен, так как он всегда ищет произведения этого художника. И потом, вся эта молодежь, без умолку болтающая о синтетическом рисунке, будет просто ошарашена!»
«Вот чем следовало бы заняться, – подумал я. – Но сперва надо узнать, кто такой этот Дюпон!»
В тот вечер, возвращаясь домой, я думал только об этом. В небе светила полная луна. Не знаю почему, но она напомнила мне беспрестанно вращающуюся тыкву. В этот миг я разминулся с Марселем Самба, не обратив на него внимания. Он окликнул меня.
– Вы, кажется, чем-то озабочены? – спросил он.
– И да и нет, – ответил я. – Во всяком случае, не могли бы вы объяснить, почему фамилия Дюпон вызвала у меня мысль о вращающейся тыкве?
– Черт возьми! – воскликнул он. – Да это же реминисценция диалога «Дюпон и Дюран» Альфреда де Мюссе. Помните: «И бритый шар без бороды и шевелюры, как большая тыква, поплывет в небесах»?[40]
Я едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. Значит, я на верном пути. Этим Дюпоном, вероятно, является известный торговец картинами Дюран-Рюэль. А художник, произведения которого он искал и который уже умер, не кто иной, как Мане. Волею случая я проходил мимо мусорного ящика, в котором рылся старьевщик. Он отпихнул ногой докучавшую ему собаку, проворчав: «Паршивый пес!» Слово «пес» воскресило в памяти разговор с одним художником, который пришел предложить мне альбом литографий, изображающих актеров. Цикл назывался «Комедианты»[41].
– Согласитесь, эти рисунки – настоящий синтез! – заявил он. – Я только что от папаши Нуази. Я показал ему их, но он, разумеется, ничего не понял.
Я же понял все. Этим мелким торговцем, о котором говорил мой клиент и который подтрунивал над термином «синтез», не сходившим с уст молодых художников, был папаша Нуази. Мне только оставалось узнать нужный адрес и опередить его. Поэтому я отправился к этой старой лисе, чтобы попытаться что-то выведать. Я застал торговца за важной беседой с клиентом. И сразу смекнул, что речь идет о таинственных рисунках.
– Немного терпения, – говорил папаша Нуази. – Скоро я собираюсь совершить налет. Можно не сомневаться, что мы их получим. Никто не додумается искать в этом месте. Правда, мне придется иметь дело с женщиной, а с женщинами надо иметь терпение.
Я подумал, что этой женщиной вполне может быть вдова художника. Не мешкая, я отправился к мадам Мане, где в самом деле обнаружил все рисунки мастера. Позднее я узнал, что их предлагали чуть ли не каждому встречному, но безуспешно, так как в то время к эскизам было пренебрежительное отношение. Мне удалось приобрести отвергнутую коллекцию. Я организовал небольшую выставку этих рисунков, и она пользовалась большим успехом у художников.
Во время выставки ко мне зашел человек, который долго рассматривал рисунки Мане, а потом сказал:
– Мсье, я художественный критик из «Эвенман». Мой директор господин Эдмон Манье очень интересуется художниками. Если бы господин Мане преподнес ему в дар одно из своих творений, мы непременно напечатали бы отчет о выставке.
Я ничего не ответил.
– Если это вам не с руки, то скажите мне адрес художника. Я привык…
– Его адрес? Кажется, Пер-Лашез…
– Как? Он умер?
– Больше десяти лет назад.
– Вот почему его имя мне было неизвестно! Знаете, я ведь занимаюсь художественной критикой всего три года…
* * *
Мне часто приходилось видеться с мадам Мане. Придя к ней в первый раз, я заметил молодого и очень милого человека.
– Мой брат, – сказала мадам Мане, представляя его мне, и продолжила: – Поскольку вы интересуетесь эскизами, я наведу дома порядок и обязательно разыщу этюды, которые не взяли торговцы. Найти их мне поможет брат. Недавно он обнаружил на шкафу красивую акварель моего мужа. С помощью Портье я сумела ее продать.
Сколькими изумительными полотнами пренебрегли коллекционеры, побывавшие у вдовы великого художника! Одно из них я увидел потом, уже на триумфальной выставке Мане в музее Оранжери. За ней специально присматривал «санитар по уходу за картинами», который во время экспозиции должен был следить за температурой воздушного слоя между холстом и предохраняющим его стеклом.
Знаменитая картина, не удостоившаяся такого внимания, «Казнь императора Максимилиана» была столь же ценным повторением, что и полотно, которым гордится музей в Мангейме. Брат мадам Мане посчитал этот холст менее удачным из-за его недостаточной «проработанности». Картина занимала слишком много места на стене, и повторение «Максимилиана» сняли с подрамника, свернули в рулон и убрали в чулан, запихнув под какую-то мебель. Однажды брату мадам Мане пришло в голову, что из этого полотна, считавшегося безнадежным в смысле продажи, можно что-то «извлечь». Например, сержант, заряжающий ружье, взятый в отдельности, мог сойти за жанровый мотив. Поэтому сержанта вырезали и продали. Оставшуюся часть картины, казалось, пристроить было тем более нелегко, что животы солдат, приложивших ружья к плечу, покрыла полоса кракелюров. Холст вернулся на прежнее место под мебелью, откуда брат извлек его еще раз, чтобы предложить мне. Я помню, как опечалилась мадам Мане, когда эти остатки были разложены на полу.
– Какое несчастье, что Эдуар так долго трудился над картиной! Сколько прекрасных вещей он мог бы нарисовать за это время!
Я заключил сделку. Но свернутое полотно надо было отнести мастеру, дублирующему холсты. О том, чтобы сесть в омнибус с громоздкой «печной трубой» в руках, не могло быть и речи. Я пошел искать фиакр. Сев в экипаж и положив рулон к себе на колени, я вынужден был постоянно следить за тем, чтобы не повредить его в дороге; мне приходилось ставить своего «Максимилиана» вертикально, наподобие огромной свечи, когда фиакру грозила опасность оказаться зажатым между двумя каретами. Без происшествий я доехал до улицы Кретте и вошел в ателье Шапюи, специалиста по дублированию холстов.
– Однако не является ли «Сержант», которого я подбивал новым полотном для мсье Дега, частью этой разрезанной картины?! – воскликнул он. – Мсье Дега сказали, когда он покупал «Сержанта», что остаток холста был случайно уничтожен.
Я показал этот холст Дега, и он, сразу узнав в нем картину, из которой был вырезан «его сержант», оторопел и, желая выразить свое негодование, сумел произнести лишь следующие слова:
– Опять семья! Остерегайтесь семьи!
Затем, успокоившись, художник встал между мной и картиной и, положив на нее руку, как бы в знак того, что эта вещь переходит к нему, сказал:
– Вы продадите ее мне. А мадам Мане скажете, что я хочу иметь ноги сержанта, которых нет на моем куске, и вдобавок то, чего не хватает на вашем фрагменте, – группу, образуемую Максимилианом и генералами… Скажите ей, что я заплачу…
Я отправился к мадам Мане. Выслушав меня, ее брат покачал головой.
– Я думал, – произнес он, – что сержант только выиграет, если убрать ноги, которые болтались внизу какими-то лохмотьями; так же и солдаты, приготовившиеся стрелять, выглядели лучше без группы генералов и того, что осталось от головы Максимилиана… Если бы я мог предположить, что куски холста, все изъеденные стенной селитрой, представляют еще хоть какую-то ценность, я не пустил бы их на растопку печи.
Я счел нужным рассказать Дега лишь о том, что недостающие части холста погибли из-за того, что они висели на сырой стене. Но он снова начал кипятиться: «Видите, Воллар, как надо остерегаться семьи!»
И на куске холста, размеры которого соответствовали первоначальным размерам оригинала, он наклеил «Сержанта» и фрагмент «Казни императора Максимилиана», купленный у меня: таким образом пустоты указывали на недостающие части.
«Семья, остерегайтесь семьи!» – возмущался Дега, подводя посетителей к восстановленной картине.
Помню, один бестактный человек спросил у него в связи с этой историей:
– Мсье Дега, а не разрезал ли и сам Мане вашу картину, на которой были изображены он и его жена?
Художник резко его оборвал:
– Но кто вам позволил, мсье, судить Мане? Да, это так. В конечном счете, возможно, прав был он. Тогда в дураках остался именно я, так как в приступе ярости я снял со стены небольшой натюрморт, который подарил мне Мане, и написал ему: «Мсье, я возвращаю Вам Ваши „Сливы“…» Ах, какое это было красивое полотно! В тот день я порядком сглупил, потому что, когда я помирился с Мане и попросил его вернуть мне «мои» «Сливы», выяснилось, что он их уже продал!
На аукционе, состоявшемся после смерти Дега, «Максимилиан» был приобретен Национальной галереей в Лондоне; она затем подвергла полотно новой операции: два составляющих его фрагмента были сняты с холста, на который наклеил их Дега, восстанавливая картину, и каждый из кусков был заключен в отдельную рамку.
На той же распродаже коллекции Дега среди других произведений Мане можно было увидеть и картину «Ветчина» и «Портрет мадам Мане» (жена художника изображена на ней в белом платье на голубом диване); обе эти замечательные вещи еще и в 1894 году, то есть более чем через десять лет после смерти художника, находились у его вдовы и ждали своего часа.
В то время у мадам Мане оставались еще два ее портрета: на одном она была изображена в теплице, а на другом – сидящей за пианино. Последний вошел в коллекцию Камондо и находится сегодня в Лувре. Я уже не говорю о многих других произведениях, которыми можно было полюбоваться в особнячке в Аньере, среди них портрет «Мане с палитрой», еще один «Мане стоя», картина с обнаженной женщиной в натуральную величину. К этому следует добавить то, что тогда называлось эскизами, а теперь составляет гордость музеев, например такие работы, как портрет господина Брена в натуральную величину, портрет мадам Мане в розовом, с кошкой на коленях. На распродаже коллекции Дега эти два холста также приобрела Национальная галерея в Лондоне.
Я могу назвать еще один замечательный подготовительный этюд к «Максимилиану» с персонажами в натуральную величину, находящийся ныне в бостонском музее; он тоже долгое время пролежал в свернутом виде в углу чулана у мадам Мане. Если полотну удалось избежать расчленения, то, несомненно, по той причине, что изображенные на нем персонажи казались чересчур «непроработанными», чтобы можно было думать о сбыте фрагментов.
Глядя на этого «Максимилиана», Ренуар сказал мне:
– Это чистый Гойя, и, однако, здесь Мане как никогда является самим собой!
Кроме того, к полотнам, которые произвели на меня большое впечатление у вдовы художника, я причислил бы набросок портрета знаменитого певца Фора, может быть еще более выразительный, чем окончательный вариант картины. Вспоминается также этюд Клода Моне, на котором изображен Мане, рисующий у себя в саду. Я хотел приобрести этот холст, но мадам Мане сказала, что он не продается. Через некоторое время я не увидел картины на привычном месте. Мадам Мане поймала мой взгляд и пояснила:
– Я нуждалась в деньгах. Ко мне зашел один немец. Картина ему понравилась. Вы понимаете, почему я отказалась продать ее вам: мне не хотелось, чтобы мсье Клод Моне увидел свое произведение в витрине у торговца. А поскольку в этом случае картина отправлялась за границу…
Еще не настало то время, когда проданное в Париже полотно сбывалось в Берлине, затем перепродавалось в Нью-Йорке и возвращалось в Париж, причем в какие-то считаные недели.
Да, я чуть было не забыл одну из самых значительных работ Мане, которая долго висела у его вдовы: называется она «Старый музыкант». Мадам Мане просила за нее пять тысяч франков и никак не могла найти покупателя. Жена члена генерального совета департамента Сена остановила свой выбор на двух детях, изображенных в центре картины. Она неоднократно предлагала госпоже Мане продать этот фрагмент, но та отказывалась, хотя и недостаточно энергично, как казалось покупательнице, ибо попытки возобновлялись.
Однажды эта дама сказала в моем присутствии:
– Моя дорогая мадам Мане, до сих пор я предлагала вам полторы тысячи франков, но я дойду и до двух… Ну же, будьте благоразумны! Вы просите пять тысяч франков за все, а я вам оставляю по меньшей мере три четверти картины!
И, приняв молчание госпожи Мане за согласие, она схватила лежавшие на столе большие ножницы. Увидев нацеленное на холст острие ножниц, госпожа Мане настолько проворно, насколько ей позволяла ее комплекция, вскочила с места и воскликнула:
– Нет, нет! Мне кажется, что вы собираетесь убить моего мужа!..
* * *
Как я познакомился с живописью Сезанна? Впервые я увидел картину этого художника (на ней был изображен берег реки) на улице Клозель, в витрине магазина мелкого торговца красками папаши Танги. Меня словно ударили в живот. У меня перехватило дыхание.
Одновременно со мной перед холстом остановились еще два человека: почтенный буржуа и его супруга.
– Разве можно так коверкать природу? – вопрошал человек в котелке. – Эти деревья того и гляди упадут! А этот качающийся дом и эта вода! Вода это или свинец? Про небо я и не говорю… Если бы природа была такой, то у людей навсегда пропало бы желание ездить за город.
В этот момент появился рабочий с мешком инструментов за спиной.
– Ах, вот местечко, где я бы с удовольствием порыбачил в воскресенье! – воскликнул он, взглянув на картину.
Буржуа с презрительным видом удалился.
Я же пожалел о том, что моих скромных сбережений бедного студента не хватает для покупки этого холста. Я подумал: «Как замечательно быть торговцем картинами! И проводить жизнь среди таких шедевров!»
Неудивительно, что, когда я всерьез занялся этой профессией, первым делом мне захотелось устроить выставку работ Сезанна. Но для этого надо было познакомиться с художником. Задача была тем более непростой, что Сезанн никому не давал своего адреса. Мне сказали, что я, возможно, отыщу его в окрестностях Фонтенбло. Сколько безуспешных прогулок я совершил там, заглядывая во все кабачки, особенно часто посещаемые художниками, пока мне не пришло в голову попытаться что-то разузнать у городских торговцев красками.
Я опросил троих из них. Но в ответ неизменно слышал одно: «Господин Сезанн? Такого не знаю». Четвертый, и последний, торговец, к которому я обратился, произнес:
– Этот ваш господин Сезанн? Погодите… Я вам сейчас объясню.
И он сообщил его адрес. Я бросился туда. Увы, в этом доме я узнал, что Сезанн недавно переехал на другую квартиру не оставив, однако, нового адреса.
Видя мое огорчение, жилец сказал:
– Кажется, я могу вам помочь; я слышал, как господин Сезанн назвал улицу одному из грузчиков. Это в Париже, в ее названии объединены животное и какой-то святой.
Получив эту неопределенную, но очень ценную информацию, я вернулся в Париж. Через несколько часов, сидя в небольшом кафе, я принялся листать справочник столичных улиц. Я не обнаружил ни одной улицы, носящей имя животного и одновременно какого-нибудь святого. Но вдруг прочел: рю де Льон. Итак, название животного было налицо[42]. В том же квартале, насколько я знал, находилась рю де Жарден, которая полностью называлась так: рю де Жарден-Сен-Поль (в честь одноименной церкви). Это навело меня на мысль о том, что рю де Льон тоже могла иметь полное название – рю де Льон-Сен-Поль. Решив звонить подряд во все двери, я начал с дома номер 2 и был приятно удивлен, когда услышал от консьержки:
– Господин Сезанн? Он проживает здесь. Его самого нет сейчас дома, но сын у себя.
Молодой человек принял меня на редкость любезно.
– Я попытаюсь уговорить отца доверить вам некоторые из своих полотен для вашей выставки, – сказал он мне, когда я изложил причины визита.
Вскоре после этого я получил около ста пятидесяти различных произведений художника. Холсты были свернуты в рулоны. Тогда моих скромных средств хватило как раз для того, чтобы показать их публике натянутыми на багет, приобретенный по цене два су за один метр.
Несколько штрихов дадут вам представление о том, насколько далеки были в то время люди от понимания ценности живописи мастера из Экса.
Прежде всего упомяну о возмущении художников; в отличие от обыкновенных зевак, они не ограничились негодованием, а, предположив наличие покупателей у этой живописи, сочли, что не только ущемлены их интересы, но что задето также их достоинство. Хочу напомнить и об оценке одного художественного критика из «Журналь дез артист», который возмущался «кошмарным зрелищем живописных уродств, превосходящих официально дозволенную сегодня меру чепухи».
В оправдание коллекционеров и критиков я должен сказать, что примерно так же рассуждали художники, и притом самые значительные.
Купив у Пюви де Шаванна его черно-белую литографию для одного из моих альбомов художников-граверов, я захотел приобрести у него еще что-нибудь, скажем цветную литографию.
– Это предложение кажется мне довольно заманчивым, – ответил он. – Я приду к вам, и мы выберем сюжет.
И действительно, через несколько дней он пришел. Остановившись перед витриной моего магазина, он долго глядел на «Купальщиц» Сезанна, а затем, даже не войдя внутрь, пошел прочь, пожимая плечами. Больше я его не видел.
Тем не менее иногда я встречался и с одобрительными оценками; приведу самый характерный случай, когда картину купил слепой от рождения господин. Он сказал мне, что его отец и дед были художниками и что у него прирожденная тяга к произведениям искусства. Сопровождавший его человек объяснял ему картины. Он остановил свой выбор на работе горизонтального формата с изображением берега реки. «Должно быть, вода располагается на ней более удачно, чем если бы картина была вертикальной», – заметил он.
Но если критики, любители искусства, даже художники, такие как Пюви де Шаванн, упорствовали в своем нежелании увидеть в творчестве Сезанна нечто большее, чем мистификацию, то молодые художники все более поддавались влиянию мастера из Экса. В 1901 году Морис Дени в знак восхищения мэтром, рисовавшим гору Сент-Виктуар, создал одну из самых своих проникновенных картин – «Подношение Сезанну», которую можно увидеть в Люксембургском музее[43]. Центр полотна занимает ваза с фруктами – копия знаменитого произведения Сезанна, принадлежащего Гогену. В левой части композиции изображен Серюзье, теоретик группы, выступающий с докладом перед своими товарищами: Дени, Рансоном, Вюйаром, Боннаром, Русселем, к которым присоединились Одилон Редон и Меллерио. Я тоже удостоился чести быть изображенным среди них.
Когда Дени написал картину, я уже больше не жил в верхней части улицы Лаффит. В доме номер 6, близ Бульваров, я приобрел большой магазин с антресолью. В честь открытия новой галереи я организовал выставку Ван Гога; это была первая большая экспозиция его произведений, на которой можно было увидеть более шестидесяти полотен, полученных из амстердамской мастерской художника, не считая целой серии его акварелей и рисунков. Цены самых значительных картин, вроде знаменитого «Макового поля», не превышали пятисот франков. Публика осталась к выставке равнодушной. Время еще не пришло… Однако я вспоминаю одну пару, которая, кажется, рассматривала работы с особенным вниманием. Вдруг мужчина, взяв спутницу за руку, сказал:
– Ты всегда говоришь, что моя живопись не радует глаз, ну и что же ты скажешь об этих произведениях?
В этот момент женщина остановилась перед двумя портретами Ван Гога, на обоих ухо художника было скрыто повязкой.
– Но почему он изобразил себя именно таким? – спросила она.
– Это после того, как он отрезал себе ухо, – сказал я, вмешиваясь в их разговор.
Пара посмотрела на меня с явным изумлением, поэтому я продолжал:
– Рассказывают, что, вернувшись домой после дня, проведенного в обществе девиц легкого поведения, Ван Гог машинально открыл Библию, и его взгляд упал на то место, где говорится, что если один из ваших членов вводит вас в соблазн, то надо отрезать его и бросить в огонь. Следуя библейскому завету, Ван Гог вооружился бритвой и… – (тут дама вскрикнула), – отрезал себе ухо.
– Он бросил его в огонь? – спросил у меня ее спутник.
– Нет. Завернув ухо в бумагу, он отнес сверток к тем девицам и сказал служанке: «Передайте это мадам Мари…»
Вспоминаю еще одного посетителя, который являлся каждый день под вечер. Он начинал с того, что бросал взгляд на витрину, где пылали «Аликаны Арля», затем входил внутрь и обходил зал кругом. Понемногу он становился все более словоохотливым. Ему нравилось рассуждать со мной о «Маковом поле». Однажды я не увидел его в привычный час: появился он только через неделю.
– Все это время я не мог прийти: моя жена родила девочку. Мы уже беспокоимся о ее будущем и, чтобы обеспечить ребенка приданым, решили приобрести такие вещи, цена которых впоследствии возрастет, например картины.
Я уже видел проданным свое «Маковое поле». И невольно посмотрел на эту картину. «Покупатель» проследил за моим взглядом.
– Если бы у меня были лишние деньги, я давно бы приобрел это полотно, – сказал он. – Но, понимаете, я теперь должен думать о потомстве… У нас есть прекрасный советчик – мой кузен, который преподает рисование в Париже.
Прошло какое-то время, прежде чем я снова встретился со своим знакомым: в один прекрасный день он появился с папкой под мышкой.
– Готово! – сказал он и похлопал по ней ладонью. – Здесь находится приданое дочери. – И, достав из папки «Фантазию» Детайля, он добавил: – Моему кузену удалось приобрести эту акварель за пятнадцать тысяч франков. Через двадцать лет это будет стоить не меньше ста тысяч.
Я не стал ему возражать.
Лет через двадцать пять я увидел человека с акварелью Детайля на улице Мартиньяк.
– Пришло время расстаться с картиной, – сказал он печально, – моя дочь выходит замуж.
Я спросил, помнит ли он мою выставку Ван Гога и пейзаж с маками, который так ему нравился.
– Еще бы не помнить! К счастью, я не поддался тогда соблазну: что бы я получил за него теперь?
– Так вот, дружище, вы бы выручили за эту картину более трехсот тысяч франков.
– Но тогда… сколько же стоит мой «детайль»?..
– Ваш «детайль»! «Баталию при Хунинге», считавшуюся его шедевром, хранитель Люксембургского музея отправил на чердак…
Однажды Ренуар увидел у меня несколько рисунков Ван Гога углем, изображающих земледельцев за работой.
– В силу своего вкуса, – сказал Ренуар, – я спокойно отношусь к живописи Ван Гога, мне не по душе некоторая ее экзотичность; но его рисунки крестьян – это совсем другое дело. Разве может сравниться с ними плаксивый крестьянин кисти Милле?
* * *
В небольшой магазинчик моего коллеги, расположенный по соседству, как-то вошел весьма элегантный мужчина, а потом покинул его, унося с собой несколько картин. Я подумал: «Несколько картин! За один раз и так быстро! Ну и подфартило моему соседу! Какие, однако, прекрасные работы Коро выставлены у него в витрине!» И я не без грусти заключил: «Жаль, что я не могу иметь несколько произведений 1830 года для привлечения богатых клиентов!»
Однако после полудня этот же самый джентльмен вернулся в соседнюю лавочку. И вскоре я узнал, что тот, кого я принимал за коллекционера, был не кем иным, как моим коллегой господином Брамом, который, занимаясь торговлей картинами, сохранял аристократическую выправку; должно быть, это была семейная традиция, ибо такие же безукоризненные манеры отличали и его сына, ставшего торговцем после смерти своего отца.
На память приходит выставленная в витрине магазина Дюран-Рюэля картина Ренуара (купальщица, поддерживающая рукой свою грудь). Какая чудесная вещь! У этой работы интересная история, о которой мне поведал сам Ренуар. Однажды, находясь в Сель-Сен-Клу, он вошел в кафе, и с ним заговорил хозяин:
– Я вас узнаю; более десяти лет назад вы снимали комнату в доме…
Ренуар подумал, что, наверное, что-то задолжал хозяину.
– …а после вашего отъезда я обнаружил там сверток холстов. Я убрал его на чердак. Сделайте одолжение, заберите работы, раз уж вы приехали.
В свертке лежали: «Купальщица», спящая женщина с кошкой на коленях и другие столь же замечательные произведения; всего пятнадцать холстов.
Рядом с Дюран-Рюэлем находилась небольшая, очень посещаемая лавочка: она принадлежала Бенье и благодаря «садоводческой продукции» госпожи Мадлен Лемэр напоминала прилавок цветочницы. Там можно было найти товар, удовлетворяющий людей с самым разным достатком, начиная от натюрморта с букетиком фиалок или тремя розами в вазе и кончая большими декоративными панно. Один завсегдатай магазина, большой почитатель таланта госпожи Лемэр, претворил в жизнь идею, которой очень гордился: розы, лилии и гвоздики, нарисованные его любимой художницей, он опрыскивал духами, вызывающими ассоциации с теми или иными цветами.
Клови Саго, прозванный «братом Саго» (его окрестили так, чтобы не путать со старшим братом, известным торговцем гравюрами), на другом конце улицы Лаффит, возле церкви Нотр-Дам-де-Лоретт, открыл небольшой магазинчик, где в числе прочих продавались картины Брака, в то время почти никому не известные. Там можно было увидеть и произведения Пикассо (его «голубого» и «розового» периодов). Именно там Стайны и обнаружили те прекрасные полотна этого художника, которыми они владеют. Подумать только! Всего за несколько лет до войны, в 1908 году, небольшое общество «Шкура медведя», вдохновителем которого был господин Андре Левель, купило у Пикассо замечательную картину «Семья акробатов» всего за тысячу франков – сумму, в то время отпугивавшую коллекционеров. В 1914 году, когда «Шкура медведя» решила избавиться от своих приобретений, картина была продана за одиннадцать с половиной тысяч франков, а на аукционе в Америке в 1931 году ее цена превысила миллион.
Возле Больших бульваров я, как сейчас, вижу магазин Жерара, специализирующегося на работах Будена, Эннера, Зиема.
Однажды, когда я сопровождал Ренуара во время его прогулки, он сказал:
– Надо не забыть остановиться у Жерара. Там есть акварель Йонгкинда… Какое чудесное небо, а ведь это совершенно белая бумага!
Выше по улице Лаффит находился магазин Дио, где перебывало множество творений Коро, Домье, Йонгкинда. В глубине лавки располагалась тесная столовая, а на антресоли три крохотные комнаты, где ютился он с женой и дочерью. Иногда под вечер в магазин заходил клиент. «Мы сейчас ужинаем, – говорил хозяин, – но, если моя жена не собирается в театр, я скоро вернусь». И господин Дио всегда ждал, когда постучат в его витрину.
Его магазин был набит картинами, которые хранились даже во дворе, где под каким-то навесом можно было увидеть эскизы Домье, отвергнутые в те времена, когда в основном ценились «законченные» работы. Однако известно, какую коммерческую и художественную ценность приобрели сегодня самые второстепенные из его набросков. Там я увидел этюды для «Дон Кихота», в частности тот, который восхищал Ренуара (простая лессировка умброй), а также замечательный этюд к «Иисусу и Варавве», который в один прекрасный день мне захотелось приобрести. Я рассказал о своем намерении знакомому художнику, но он принялся меня отговаривать:
– Видите ли, Воллар… Если бы Домье был жив, он сжег бы этот неудачный этюд.
И я был так наивен, что послушался его.
Перед самой лавкой Дио располагался магазин Тампелера, человека, в котором нашел поддержку Фантен-Латур, долго пребывавший в безвестности. За это художник испытывал к нему большую благодарность и остался ему верен даже тогда, когда позже в дверь его мастерской уже стучали многочисленные торговцы.
С Фантен-Латуром я познакомился, опубликовав свои альбомы художников-граверов. Время от времени я заходил к нему. Иногда я встречал там одного из хранителей Лувра, господина Мижона. Художник любил беседовать с ним о музыке. Как сейчас, вижу Фантена в круглой шапочке, сидящего перед мольбертом на низком стуле. Рядом с ним находилась госпожа Фантен – она и сама была уважаемой художницей, которая отдыхала от живописи, занимаясь вышиванием. Как-то раз, когда я был у них в гостях, Фантен воскликнул: «Ах, боже мой! Я так и знал, что это выскочит у меня из головы». И, отложив палитру, он поспешно вышел. Госпожа Фантен объяснила мне тогда: «Покупку сыра мой муж взял на себя».
Добившись успеха, Фантен не расстался со своей маленькой мастерской на улице Висконти – мастерской, в которой прошли его самые трудные годы; она осталась дорогой его сердцу. Покидая свой квартал, чтобы прогуляться на правом берегу, художник, однако, не выходил за пределы Больших бульваров из-за обилия экипажей и пересекал улицу, только когда отправлялся с визитом к своему торговцу и другу Тампелеру, обосновавшемуся по другую сторону бульвара.
Дега находил, что Фантену не идет на пользу такой замкнутый образ жизни.
– То, что делает Фантен, очень хорошо, но как жаль, что его работы всегда отдают левым берегом!
Живи они на левом берегу или на правом, Фантен, Дега, Ренуар придерживались одного распорядка: мастерская утром, мастерская после полудня. Никогда не забуду, как известный художественный критик Арсен Александр спросил у художника, рисовавшего танцовщиц:
– Можно ли зайти к вам в мастерскую?
– Да, – сказал Дега, взявшись за пуговицу его куртки, – но к концу дня, когда стемнеет.
Ответ Дега его ошеломил.
Нужно ли говорить, что Дега не выносил, когда его отвлекали от работы, Ренуар же относился к посетителям терпимо; их присутствие не мешало ему рисовать. Но чтобы уйти из мастерской и развлечься – об этом не было и речи…
Как-то я сказал ему:
– Я знаю человека, всецело преданного живописи, это Вальта, он постоянно живет в Антеоре, и к нему никто не ходит. Его единственное развлечение – охота…
– Что? – воскликнул Ренуар. – Вальта ходит на охоту?.. Он отлучается из мастерской? Если бы папаше Коро предложили поохотиться!..
Действительно, когда после года напряженной работы Ренуар устраивал себе отпуск и уезжал куда-нибудь, то в Варжемон, к своему другу Берару, то в Эсуа, на родину своей жены, а позднее в Маганьоск, в Грае, прежде чем он окончательно обосновался в Кане, режим оставался неизменным: мастерская утром, мастерская в послеобеденное время, за исключением тех погожих дней, когда его мастерской становилось чистое поле.
Что касается Дега, то во время редких отпусков, которые он себе позволял, художник обычно уезжал в Сен-Валери-сюр-Сомм, к своим друзьям Бракавалям, или же в Кё-ан-Бри, к Руарам. За город он отправлялся, только когда чувствовал потребность в пешей прогулке. Можно было видеть, как он шагает по аллеям имения в темных очках с толстыми стеклами.
Приехав однажды как раз в Кё-ан-Бри, я застал его работающим над одним из пейзажей, «эпатировавших» папашу Писсарро. Художник рисовал в гостиной, сидя спиной к окну.
– Мсье Дега, когда видишь, как вы изумительно «передаете» природу, невозможно поверить, что вы делаете это, отвернувшись от нее.
– О, мсье Воллар, в поезде я иногда поглядываю в окошко…
* * *
В то время улица Лаффит была улицей картин. Если кто-то говорил: «Я пройдусь по улице Лаффит», то можно было не сомневаться, что имеешь дело с любителем живописи. Так же и когда Мане говорил: «Стоит сходить на улицу Лаффит» – или, напротив, Клод Моне вопрошал: «Зачем ходить на улицу Лаффит?», это означало, что художник стремится или считает ненужным быть в курсе того, чем занимаются его коллеги.
Что касается Дега, то он любил по окончании рабочего дня заглянуть на улицу Лаффит.
Обычно он садился в омнибус, следовавший маршрутом Пигаль – Винный рынок, и выходил за церковью Нотр-Дам-де-Лоретт, расположенной совсем рядом с улицей Лаффит. Однажды я увидел, как Дега спустился с империала омнибуса вместе с одним из своих друзей, художником Дзандоменеги. Дега негодовал на своих соседок по омнибусу, двух «мерзавок», которые ехали с букетами в руках. Он не выносил запаха цветов, зато каким взглядом художника смотрел он на них! Поднимаясь по улице Лаффит, мы остановились перед лавкой Темпелера; в витрине была выставлена работа Фантен-Латура, изображающая женщину с розами на корсаже, и Дега, показав на этот холст, сказал, обращаясь к Дзандоменеги:
– Большой талант этот Фантен! Но я готов биться об заклад, что в действительности он никогда не видел цветов на корсаже у женщины.
Дзандоменеги вошел в лавку Дюран-Рюэля. Я же продолжил прогулку с Дега. Когда мы подошли к магазину Бернхейма, где были выставлены два полотна Коро и одна картина Делакруа, он спросил:
– Скажите, Воллар, сколько могут стоить подобные вещицы?
Я сознался в том, что мне это неизвестно.
– Ну что ж! Я сам во всем удостоверюсь. И прямо сейчас попытаю счастья.
Через несколько минут дверь в мой магазин отворилась: это был Дега.
– Мне не повезло, – сказал он. – Картины Коро проданы, но я куплю работу Делакруа!
Он действительно ее приобрел. Как-то я зашел к нему во время завтрака. Зоэ, которая выходила за покупками, тут же вернулась вся запыхавшаяся.
– Мсье, несут «делакруа»! – выпалила она.
Дега резво вскочил с салфеткой на шее и побежал встречать работу Делакруа.
Сезанн считал, что художник «выигрывает», рассматривая полотна других художников; но те, кого он называл «другими художниками», были старыми мастерами, и его улицей Лаффит был Лувр. Посвятив вторую половину дня рисунку с произведения Греко, Делакруа или кого-то еще из своих кумиров, он с необыкновенной гордостью говорил вам: «Кажется, сегодня я сделал кое-какие успехи».
Колдовские чары Лувра испытал на себе позднее и Ренуар. Однажды, уже будучи автором таких картин, как «Ложа», «Завтрак лодочников», он воскликнул, выходя из музея: «Из-за всех этих дурацких рассуждений о новой живописи я потратил сорок лет, чтобы обнаружить, что королевой красок является черный цвет! Посмотрите на Мане, он многое потерял, общаясь с импрессионистами…»
Дега тоже упрекал Мане за то, что тот отказался от своего великолепного «черносливового сока» и стал рисовать в светлых тонах. Но разве сам Дега не достиг, по мнению Ренуара, своих вершин благодаря общению с импрессионистами, создав необыкновенные пастели, напоминающие переливы цвета на крыльях бабочек?
Для всех молодых художников улица Лаффит была своего рода Меккой. Сколько раз я видел там Дерена, Матисса, Пикассо, Руо, Вламинка и многих других.
Вспоминаю выразительную внешность старого художника, папаши Мери, который рисовал птичек, цыплят, утят – словом, всякую мелкую живность, обитающую на птичьем дворе. Можно было увидеть, как он стоит перед витриной магазина с большой папкой под мышкой и терпеливо дожидается, когда торговец знаком предложит ему войти. Устав от ожидания, бедный художник иногда уходил своей еще бодрой походкой на поиски более справедливого ценителя «настоящей» и искренней живописи. Прохожих он упрекал в том, что они слишком медленно ходят по тротуарам. Это еще была та счастливая эпоха, когда люди располагали временем для того, чтобы пофланировать по улицам, и когда нередко можно было натолкнуться на господина, читающего газету.
Папаша Мери изобрел оригинальный способ «восковой живописи», она обладала удивительной способностью сохранять первоначальный тон и высыхала только после смачивания водой. Он опубликовал небольшую книжку, где раскрыл свои секреты. Но поскольку агент, который приобрел этот труд, и через год не продал ни одного экземпляра, Мери, отчаявшись, уничтожил весь тираж. Старый художник часто отлучался из мастерской, чтобы порисовать в зоологическом саду. Устроившись на складном стульчике перед вольерами, он умудрялся сделать наброски своенравных животных, запечатлеть которых было очень непросто, ибо они никогда не сидели на месте.
– Если бы я мог держать их в мастерской, то заставил бы этих паршивых животных сохранять одну и ту же позу, – ворчал он.
Вспоминаю, как однажды, пригласив к себе на обед гостей, он купил живого цыпленка, которого думал использовать в качестве модели, прежде чем отправить на кухню. Но птица все время двигалась. Дочь художника то и дело приоткрывала дверь в мастерскую и говорила: «Папа, поторопись, так мы никогда ее не сварим». От этого художник еще больше злился на птицу. «Вы видите, – говорил он, призывая меня в свидетели, – эта тварь нарочно суетится!»
Мери имел зуб на буржуа не только потому, что они не любили его живопись. Нередко люди спрашивали, глядя на его ощипанных птиц или молодых кур без хвостов: «Что это за животные такие?» Однако папаша Мери хвалился тем, что рисует свои модели с безукоризненной точностью, не дающей повода для сомнений. Я старался его успокоить, говоря, что городской житель не бывает на фермах, где мог бы познакомиться с обычными моделями художника.
Как-то раз, когда я находился в мастерской Мери, мой взгляд упал на один пейзаж.
– Вы смотрите на этот холст, мсье Воллар, он совсем крошечный. Так вот, я не отдам его и за пятьдесят франков (в то время это была приличная цена). Вы должны меня понять: я рисовал этот этюд в Шавиле, как вдруг ко мне подошел гулявший по лесу пожилой господин и попросил разрешения посмотреть на то, что я делаю. «Это очень красиво, – сказал он. – Я ведь тоже художник, меня зовут Коро».
После смерти папаши Мери его мастерская была распродана. Через некоторое время, проходя мимо лотка старьевщика, я вновь увидел тот небольшой холст. Думая купить его на память, я спросил у продавца, сколько он стоит.
– Вы знаете, это хорошая вещица, – сказал он. – Моя жена, которая разбирается в искусстве, увидела в одной из витрин на авеню Опера холст, подписанный Труйбером, очень похожий на этот. Поэтому, уступая вам картину за десять франков…
Десять франков! Именно такую цену я запросил когда-то на моей первой выставке Сезанна за маленький этюд, на котором была изображена банка с вареньем. Спешу добавить, что клиент не стал торговаться.
Но с другими произведениями Сезанна, в частности с тремя крупноформатными полотнами, на каждом из которых был изображен крестьянин, мне повезло меньше. Возле картин задержался один посетитель. «Сразу узнаешь наших южных крестьян», – сказал он, повернувшись ко мне. Некоторое время спустя я узнал, что этот коллекционер приезжает на следующий день утром в Париж восьмичасовым поездом. В метель, уже с без четверти восемь я прохаживался по перрону Лионского вокзала, вглядываясь в прибывающих пассажиров. Наконец я заметил нужного мне человека. Я подошел к нему, мы разговорились, и я постепенно дошел до своих «сезаннов», предложив ему купить все три работы за шестьсот франков.
– Вот уж никак не ожидал, что, сойдя с поезда, займусь покупкой картин, – сказал он. – Хорошо, я готов творить безумства; даю вам пятьсот.
Картины обошлись мне в пятьсот сорок франков. Поэтому я не снижал цены, однако клиент стоял на своем, и денег я еще не получил.
Но даже когда покупатель вынимает из кармана вожделенную сумму, даже когда он протягивает вам деньги, еще рано говорить, что вы их получили. Ведь ничего не стоит отдернуть руку! На первой выставке Сезанна я продавал великолепный пейзаж за четыреста франков. В этом полотне было все, что может понравиться коллекционеру: река, лодка с людьми, дома на заднем плане, деревья. «Наконец-то! – воскликнул покупатель. – Вот хорошо скомпонованная картина». Достав бумажник, он извлек из него четыре бумажки по сто франков и протянул их мне; я протянул руку… В этот момент дверь магазина открылась. Клиент обернулся и узнал в вошедшем одного из своих друзей.
– Я только что купил эту картину у Воллара…
– Вы правильно сделали, – сказал друг. – Это одно из лучших полотен Сезанна. Оно написано в тот период, когда он находился под влиянием импрессионистов.
Покупатель вздрогнул:
– У меня дома такие хорошие вещи, я не могу повесить рядом с ними картину ученика.
И банкноты вернулись в бумажник.
Однако через несколько дней кто-то рассказал мне, что, когда в присутствии этого любителя искусства произнесли мое имя, он воскликнул:
– Этот чертов Воллар чуть было меня не надул! Если бы не счастливая случайность, он всучил бы мне какого-то недоделанного «гийомена»!
Когда творчество Сезанна несколько поднялось в цене, господин Пеллерен приобрел это полотно за семьсот франков. Через двадцать пять лет он говорил мне по поводу той же самой картины:
– Один из ваших коллег попытался меня провести. Представляете, у него хватило наглости предложить мне триста франков за этого «сезанна»!
Доктор Гаше как-то сообщил мне, что у одного столяра есть целая коллекция Домье; этот славный малый в качестве вознаграждения за свою работу согласился принять от мадам Домье несколько этюдов, которым вдова художника не придавала никакого значения. Среди прочих там была, если мне не изменяет память, картина «Зал ожидания», которая находится ныне в музее Лиона. Столяр запихнул эти шедевры куда-то под комод.
– Поймите, они занимают много места… А в моей квартире не развернешься. У меня есть шкаф. Красивое зеркало, я купил его, когда женился, а еще портрет моей жены, сделанный из ее волос. И красивый старый ковер… Да, да, очень старый, его расшила моя бабушка. И потом, будь у меня просторнее, я повесил бы на стенах только те вещи, на которые приятно смотреть…
Я как-то осмелился спросить у него, почему он не избавится от полотен, доставляющих ему столько хлопот.
– Черт возьми! Ведь надо сперва найти покупателя, – ответил он.
Я сразу сообразил, что предложение, исходящее непосредственно от торговца, вызовет у него подозрения. Поэтому я не стал настаивать и решил зайти к столяру позже, полагая, что о существовании этих картин никто не догадывается. Но как ни прячь сокровища, их в конце концов обнаружат. О владельце работ Домье каким-то образом пронюхал один торговец. Также понимая, сколь сложно будет заключить сделку ему лично, он придумал гениальный план. Нарядив в богатую одежду своего служащего, он нанял коляску и отправился к столяру домой.
– Я привез вам одного из королей Америки, – сказал он.
Увидев картины Домье, ассистент произнес:
– Десять тысяч…
Поскольку столяр медлил с ответом, лжеамериканец сделал вид, что хочет уйти и занять место в своем экипаже. Предложение вскоре было принято. Назначенная цена – в будущем она возрастет более чем стократно – уже превосходила, и намного, ту сумму, которую получила мадам Домье, продав за несколько лет до этого большую партию этюдов своего мужа: за целый фургон картин ей заплатили полторы тысячи франков. Вспоминаю, что в то время одна газета возмущалась тем, как бессовестно ограбили вдову художника… Однако, после того как он намучился со своей «добычей», предлагая ее чуть ли не каждому встречному, покупатель был рад избавиться от картин, хотя бы вернув затраченные полторы тысячи франков.
Когда мне рассказали об уловке, к которой с таким успехом прибегнул мой коллега, я подумал: «В следующий раз, когда мне придется иметь дело с недоверчивым продавцом, я выряжу своего консьержа джентльменом…»
Но нам не всегда удается исполнить задуманное. Как-то я зашел в гости к господину Гюставу Жеффруа.
– Кстати, Воллар, – сказал он мне, – сколько стоят «сезанны» сегодня?
– Ну, та картина, за которую вы заплатили пять или шесть лет назад триста франков, стоит теперь тысячи три…
– Неужели?
Я перечислил другие работы Сезанна и сказал:
– Итого тридцать пять тысяч франков, не считая, разумеется, вашего портрета… Если вы намерены продать холсты, то я их покупаю.
– Продать моих «сезаннов»! Одна эта мысль терзает мне душу!
– И все же если вы решитесь, – сказал я, – то отдайте предпочтение мне.
Кажется, он в самом деле переживал душевные муки.
– Вы торговец, – простонал он. – Для вас важно только одно – купить, чтобы потом перепродать! Я же, предложи мне даже мешок золота…
Через некоторое время один из моих коллег узнал от кого-то, что у Жеффруа есть «сезанны». Чтобы устроить это дельце, он послал к нему светского человека, да еще самых благородных кровей – принца!
Со снисходительной фамильярностью вельможи последний осведомился у Жеффруа, не хочет ли он продать ему свои картины. Писатель, которому его непримиримые республиканские убеждения не помешали плениться обликом его высочества, дрожащим голосом назвал гостю указанную мной цену – тридцать пять тысяч франков. По заключении сделки Жеффруа, пребывавший в сильном волнении, позволил к тому же унести самую значительную работу Сезанна – портрет, который я не включил в расчеты.
– Я чувствовал, что надо сделать, чтобы картина приобрела законченный вид, – сказал мне однажды Сезанн. – Но во время сеанса Жеффруа без умолку болтал о Клемансо. И тогда я не выдержал и удрал в Экс.
– Значит, Клемансо не ваш герой? – спросил я.
– Послушайте, мсье Воллар, у него есть темперамент, но я, будучи слабым человеком в жизни, предпочитаю опираться на Рим.
Гюстав Жеффруа был не только художественным критиком и коллекционером, сумевшим разглядеть незаурядный талант Сезанна. Журналист, автор романов, он приобрел сторонников среди социалистов, опубликовав книгу «Заключенный», посвященную Бланки. Но Жеффруа проповедовал идеи старого революционера еще и устно. Однажды я увиделся с ним на мануфактуре Гобеленов, директором которой его назначил Клемансо.
– Сейчас работники отдыхают; господин директор, должно быть, беседует с ними, – сказал мне привратник.
Действительно, в одном из садиков, отданных в распоряжение персонала, я нашел мсье Жеффруа. Он непринужденно беседовал с одним из ковровщиков, который был занят посадкой салата.
Вероятно, речь шла о Бланки, и, по-видимому, собеседник довольно рассеянно слушал автора «Заключенного», рассказывавшего о жизни своего героя, его борьбе, тюремных заключениях, ибо, когда я подошел, рабочий произнес:
– Теперь я понимаю, кто такой этот Бланки: еще один ловкач, который отсиживался в тюряге, тогда как простые дурни били друг другу морду…
* * *
Одной из самых колоритных личностей в мире торговцев подержанными вещами был Сальватор Мейер, которого Форен изобразил на литографии держащим в руках картину, принесенную старухой.
Невысокого роста, пузатенький, с греческой шапочкой на голове, он расхаживал по своему магазину в тапочках, расшитых его женой, и разговаривал с клиентами. Относясь с особой предупредительностью к серьезному покупателю, он не выказывал пренебрежения и к человеку, который мог потратить лишь десятифранковую монету. И при этом был весьма сговорчив. «Товар создан для того, чтобы циркулировать», – была его любимая поговорка.
Как-то в одной из его папок я наткнулся на очаровательный лист Вийетта, на нем художник изобразил четыре разных сюжета. Я полюбовался украдкой этой вещью, решив подождать до тех пор, пока у меня не появится необходимых для ее приобретения сорока пяти франков. Наконец день этот наступил, и я не без волнения отправился к торговцу, собираясь вновь осмотреть папку. И в тот момент, когда я ее открыл, Мейер сказал одному клиенту:
– У меня для вас кое-что есть. Там лежат четыре работы Вийетта, маленькие сокровища, которые я только что купил; у вас есть прекрасная возможность… всего триста франков.
– Они и впрямь очаровательны, – заметил клиент, поглядев на них, – но скажите, Мейер, мне кажется, что я уже видел этих «вийеттов» в одной из ваших папок; только тогда рисунки были расположены на одном листе, и на нем было помечено, что работа стоит сорок пять франков. Не потому ли вы запросили теперь у меня триста, что разрезали лист на отдельные части?
– Ах, это уже слишком! – воскликнул Мейер, который настолько изумился, что у него выпал из рук один рисунок Вийетта. – Вот негодяй! Он, должно быть, здорово посмеялся, всучив мне за наличные, да еще по такой высокой цене, товар, который купил у меня и еще не успел оплатить! Какой же я идиот! Ну что ж, так мне и надо; это хороший урок для меня: вот что значит оставлять подобные вещи в папке с дешевыми работами! А ведь это товар, полученный от Тапюи! – Посмотрев на рисунки, он добавил: – Лучшие произведения Вийетта… – И, уже обращаясь к жене, сказал: – Надо унести рисунки наверх, в столовую, я их сохраню для себя.
– Простите, – возразил клиент, – но вы только что предложили их мне, я беру их.
– А у вас есть еще какие-нибудь вещи от Тапюи? – спросил другой коллекционер, господин Манци, который тем временем вошел в лавку.
– Да, где-то есть. Вещи, которые я пока не собираюсь продавать… Какой глаз был у этого Тапюи! Когда он сообщил мне, сколько хочет получить за свою коллекцию, я подумал: «Покупать по такой цене – безумие!» Но товар был таким отменным, что я не смог удержаться от соблазна. На другой день в вечерних газетах сообщили, что после заседания на бирже Тапюи покончил с собой. Ах, эта смерть была для меня большой потерей! Кто знает, может быть, утешением для бедняги было то, что он оставил в хороших руках работы, которые так любил.
– А его знаменитый «дега», он по-прежнему находится у вас? – поинтересовался господин Манци.
– Еще бы! Уникальное произведение! – воскликнул Мейер.
И, поднявшись по небольшой винтовой лестнице на антресоль, Мейер спустился оттуда, держа своего «дега» дрожащими от волнения руками. Господин Манци не поскупился на похвалы, но воздержался от каких-либо предложений. С тех пор всякий раз, как они встречались, Мейер спрашивал:
– Ну как мой «дега»?
– Потрясающе! – отвечал Манци и переводил разговор на другую тему. Так что в конце концов Мейер лично явился к Манци и предложил ему картину.
– Главное в нашем ремесле – решимость: надо уметь уловить тот момент, когда товар достиг своей максимальной стоимости, – часто говорил мне Мейер.
Тем не менее и Мейеру случалось ошибаться, как и всем остальным людям. Но в чем ему нельзя было отказать, так это в находчивости. Как-то раз, когда я находился в его лавке, вошел высокий толстый человек, некий Ларандон. Он славился своими вызывающе яркими костюмами и был человеком без определенных источников существования. Всегда жизнерадостный, в тот день он имел хмурый вид.
– Скажите, Мейер, – сказал он ни с того ни с сего, – вы, кажется, считаете меня сутенером?
– Что? Что вы такое вообразили? – изумился Мейер, подняв голову.
– Господин такой-то сказал, что вы всегда говорите: «Этот сводник Ларандон».
– Да нет же, нет, это не так, – сказал Мейер, похлопав его по животу, – я говорю: «Этот толстенький сводник Ларандон!»
– А, ну раз это говорится по-дружески…
* * *
Когда я думаю об улице Лаффит, передо мной возникают не только картины. Я вспоминаю, например, находившуюся напротив Дюран-Рюэля бывшую резиденцию королевы Гортензии; позднее это здание было приобретено Обществом по продаже недвижимого имущества, и на его месте собирались построить жилые дома. В то время как рабочие сносили особняк, газеты, негодуя по поводу разрушения исторического памятника, изобличали этих вандалов, продававших на вес старые деревянные панели, которые украшали стены.
Только это и нужно было, чтобы привлечь внимание антикваров и коллекционеров. Я сам клюнул на приманку: негодование газет обернулось отличным рекламным трюком.
Среди развалин дворца я повстречался с торговцем подержанной мебелью, лавочка которого находилась напротив моей. Он всегда стоял на пороге и глядел то направо, то налево, словно ожидая кого-то.
Наконец я не удержался и спросил:
– Вероятно, улица Лаффит не очень подходит для такого дела, как ваше?
– О, я жду не клиентов, а экспроприации, – ответил он.
Действительно, разговоры об этом шли со времен Второй империи, и разрушение дворца королевы Гортензии наводило на мысль о том, что кирка землекопа вскоре приступит к завершению бульвара Осман. Шло время, ничто не отвлекало торговца мебелью от его ожидания. Но в одно прекрасное утро вместо ангела-экспроприатора к нему ворвался консьерж, которому он постоянно жаловался на то, что не может найти другое столь же удачно расположенное здание, и произнес:
– Вы можете гордиться тем, что родились в рубашке. Я только что видел окончательный проект. Вас не тронут!..
* * *
Сегодня улица Лаффит уже не является улицей картин. Случилось так, что один торговец современной живописью, господин Жос Эссель, которому хотелось обосноваться на этой улице после того, как он покинул авеню Опера, не нашел для себя лавочки. Ему пришлось искать в другом месте, и в конце концов он снял магазин на улице Ла Боэси. Поскольку дела у него шли успешно, туда же перебрались постепенно и другие коллеги, и улица Ла Боэси стала тем, чем была когда-то улица Лаффит, – рынком живописи… Как раньше люди шли на улицу Лаффит, чтобы побывать на выставках Дюран-Рюэля, так сегодня идут на улицу Ла Боэси ради выставок, организованных Полем Розенбергом.
После войны мне тоже пришлось съехать с улицы Лаффит. Здание, в котором я содержал магазин, должно было уступить место банку. С другой стороны, дом номер 28 по улице Грамон, где я жил больше двадцати лет, подлежал сносу. Я принял тогда важное решение – объединить в одном помещении картинную галерею, издательство и жилище. И приступил к поискам соответствующего дома.
Задача на первый взгляд казалась тем более сложной, что в силу какого-то суеверия я хотел найти дом, который имел бы тот же номер, что и прежнее мое жилье. На Реюньоне во времена моего детства не было ничего проще, как при переезде прихватить с собой старую номерную табличку, особенно если она была более красивой, чем новая. Но во Франции, в частности в Париже, нумерация зданий подчинена строгому порядку, и администрация ни за что не потерпит тут никаких случайностей, наподобие тех, что проявляются в распределении выигрышных лотерейных билетов.
Однако вышло так, что первый предложенный мне дом на улице Мартиньяк как раз имел номер 28. Я нисколько этому не удивился. Значит, такова была моя судьба.
Короче говоря, вот уже четырнадцать лет я живу на улице Мартиньяк, и все эти четырнадцать лет я каждый день строю планы относительно выставок в своем особняке. Сегодня я открываю экспозицию Дега.
Речь идет о произведениях, созданных художником в последние годы его жизни, о которых Ренуар говорил: «Если бы Дега умер в пятьдесят лет, он оставил бы о себе славу великолепного художника, не больше; после пятидесяти лет рамки его творчества расширились, и он стал настоящим Дега».
VII. Подвальные ужины
Гости моего Подвала. – Аполлинер и Жарри. – Мои «Академические пальмы»
Подвал моего магазина на улице Лаффит разделяла надвое перегородка: одна часть, проветриваемая с помощью окошка, была переоборудована в кухню, другая служила столовой. В последней, никак не сообщавшейся с улицей, из-за жары конденсировалась влага.
Ренуар, пришедший как-то вечером на ужин, сказал, беря в руки свою трость, которую он вначале приставил к стене:
– У вас утечка воды?
– Утечка воды? Где же?
– Поглядите на мою трость. Она вся мокрая…
Каким бы ни был он неустроенным, мой Подвал не отпугивал гостей. Я часто слышал разговоры и даже читал в зарубежных газетах о том, что у меня устраивались роскошные трапезы. Как правило, меню состояло из одного блюда, которым я немного гордился, – цыпленка, приправленного карри, – национального блюда острова Реюньон. Впоследствии мне довелось отведать его у своих соотечественников, и я вынужден был признать, что моя репутация в этом отношении несколько преувеличена.
Зато какие гости собирались в Подвале! Их имена: Сезанн, Ренуар, Форен, Дега, Одилон Редон, Леон Дьеркс, Эжен Лотье, и я назвал лишь тех, кого уже нет с нами.
В связи с этим вспоминается такой забавный случай. Одна иностранка услышала, как расхваливал Подвал граф Кесслер, который там ужинал. Эта дама, приехавшая из Германии пожить в Париже, отметила у себя в записной книжке: «Ужин в Подвале Воллара». Она подумала, что речь идет о каком-то ночном заведении.
По правде сказать, Подвал на улице Лаффит порой ничем не уступал монмартрскому кабаре. Так, однажды вечером в числе моих гостей оказалась милая женщина, опубликовавшая недавно сборник стихов. После ужина, не дожидаясь, когда ее об этом попросит какой-нибудь любезный сосед, она поднялась и с чувством прочитала стихотворение, после чего стало ясно, что собравшимся теперь придется выслушать весь сборник, если не произойдет чего-либо непредвиденного. К счастью, такое непредвиденное событие произошло. Пока поэтесса читала стихи, моя кошка, которая, устроившись на шкафу, кормила малыша, стала обнаруживать признаки раздражения. Когда дама в какой-то момент замолчала, животное успокоилось и снова принялось вылизывать своего котенка. Увы, пауза длилась недолго. Но стоило женщине опять раскрыть рот, как кошка, выпустив все свои когти, прыгнула на поэтессу, которая в тот вечер уже больше не декламировала.
Один из гостей заранее попросил меня посадить его рядом с Леоном Дьерксом.
– Я обожаю стихи, – сказал он, – и был бы невероятно счастлив, если бы смог побеседовать с избранником муз!
Когда наша поэтесса умолкла, сосед Дьеркса обратился к поэту с такими словами:
– Никак не могу вспомнить, чьи стихи мы только что слышали: Ламартина или Виктора Гюго…
– А не кажется ли вам, что это был Малларме? – предположил Дьеркс.
– Малларме? Но мне говорили, что его невозможно понять без подготовки. – И человек с гордостью добавил: – Кто бы подумал, что я с первого раза пойму произведения Малларме!
В эту минуту к Дьерксу наклонилась его соседка и произнесла:
– Как это, должно быть, упоительно – любовь поэта… Слушать музыку стихов и одновременно забывать обо всем на свете… О мэтр, помните ли вы первую женщину, в которую были влюблены?..
– Да, это была старая негритянка в зарослях сахарного тростника, – невозмутимо ответил Дьеркс.
В тот вечер я пригласил к себе среди прочих полковника в отставке. Он пришел за несколько минут до начала ужина, чтобы извиниться за то, что не сможет у меня присутствовать, так как здоровье жены внушало ему серьезные опасения. Я счел своим долгом проявить некоторую настойчивость, и в конце концов он решил остаться.
Рядом с человеком, которому не давали покоя грустные мысли, надо было посадить веселую женщину. На ужин как раз явилась очень молодая и бойкая дама. Она-то и составила пару опечаленному супругу.
За супом полковник хранил молчание. Но после первого блюда он, похоже, заинтересовался своей соседкой, а за десертом уже вовсю ухаживал за ней. Неподалеку от женщины сидел один из ее друзей, фамилия его звучала как обычное имя, и мнимая непринужденность, с какой дама обращалась к нему, ввела полковника в заблуждение; он вообразил, что этот человек ее супруг. Каких только знаков внимания не оказывал он ему! Когда все вышли из-за стола, полковник подошел к нему и стал всячески демонстрировать свои чувства, даже настойчиво звал его к себе, предлагая принять участие в открытии охоты. Собеседник вежливо его благодарил. И тогда любезный полковник сказал даме:
– Кажется, я покорил вашего мужа.
– Вы знакомы с моим мужем?
– Я только что разговаривал с ним. Очаровательный человек.
– Но мой муж находится в Марселе. Завтра я еду к нему поездом.
И сконфуженный полковник пробормотал:
– Мне, однако, пора вернуться к несчастной жене!
Я всегда ценил преимущества женатого человека. Когда вам предлагают то, что вам не по душе, к вашим услугам прекрасная отговорка: «Моя жена этого не хочет…» На сей раз, так сказать, впустую потратив весь свой порох, полковник мог удалиться под вполне благовидным предлогом, сославшись на то, что дома его ждет жена. Должен заметить, что это была последняя услуга, которую она ему оказала; вскоре образцовый супруг овдовел. На свою беду, впрочем, – ведь теперь не осталось никого, кто бы мог его сдерживать, – старый вояка стал вести себя как юноша и скоро впал в детство.
Хотя Подвал отнюдь не был местом общедоступным, случалось, когда кто-нибудь обращался ко мне с просьбой представить его такому-то господину или такой-то даме, я отвечал: «Право, не знаю, кто их привел сюда… Никак не могу вспомнить фамилию, которую мне называли…» Впрочем, одно имя прочно врезалось мне в память: речь идет о сестре Мари-Луизе, которую я не без гордости представлял своим гостям. В один прекрасный день я узнал, что она лишилась права носить монашеское одеяние, после того как была исключена из общины за неискоренимое пристрастие к горячительным напиткам. Извинившись как-то перед Ренуаром за то, что свел его с лжемонахиней, я услышал в ответ:
– Когда я иду куда-нибудь, Воллар, мне известно наперед, с кем я встречусь и о чем мы будем говорить. У вас, по крайней мере, бывают неожиданности.
На одном из ужинов в Подвале приветливая семидесятилетняя старушка сказала мне, что была бы просто счастлива сидеть рядом с Фореном.
После ужина я спросил у нее:
– Ну как, вы остались довольны своим соседом?
– Он просто душка! Когда я сказала ему: «Мэтр, поговорите со мной о любви…», он ответил, что начиная с определенного возраста любовь – это непристойность. Я где-нибудь обязательно вставлю его остроту.
На одном из ужинов в Подвале речь почему-то зашла о профессиональной тайне. Врач даже настаивал на том, что секреты, которые считаются безобидными, поскольку фамилии заинтересованных остаются никому не известными, на самом деле представляют опасность. Он вспомнил случай с одним аббатом, сказавшим как-то: «На первой в моей жизни исповеди женщина созналась в том, что изменила своему мужу». И через несколько минут в комнату вошла дама, которая произнесла: «Ах, это вы, господин аббат! Помните, я была на вашей первой исповеди…»
– Как бы то ни было, – продолжал врач, – я ничем не рискую, если расскажу о том, что случилось со мной в курортном городе, название которого я, разумеется, от вас утаю. Однажды на прогулке я познакомился с молодой женщиной; разговорившись с ней, я узнал, что она вдова и что собирается вновь выйти замуж… Я начал за ней ухаживать. «Ни за что на свете, – сказала она мне, – я не изменю мужу. Если я слушаю вас, то потому, что пока свободна. Разумеется, когда я снова выйду замуж, ни-ни, с этим будет покончено…» Не кажется ли вам, что здесь мы имеем дело с любопытным случаем утонченной женской психологии?..
Вскоре в дверь магазина постучали. Это был один из моих друзей, явившийся с женой. Едва увидев рассказчика, дама воскликнула:
– Батюшки! Какой приятный сюрприз, доктор! – И, повернувшись к мужу, она сказала: – Знакомься, доктор N. Помнишь, тот самый любезный господин, с которым я познакомилась в Виши!..
Возникла неловкая пауза. К счастью, собравшихся отвлекло появление двух японок – мадам Итахара и ее приемной дочери, мадемуазель Хама; они владели в Париже ресторанчиком, где я впервые попробовал угря с карамелью, фасолевое варенье и другие японские блюда. Я пригласил этих дам для того, чтобы они что-нибудь спели и станцевали. Мы поднялись наверх, в помещение магазина, и не успели сесть, как в дверь постучали. Это был посыльный из «Гранд-отеля», в котором остановился какой-то знатный японский господин. Посыльный объяснил, что сегодня вечером принц желает «побеседовать» с одной из своих соотечественниц. И мадемуазель Хама, жеманничая, извинилась за то, что должна отлучиться на некоторое время. Примерно через час она вернулась, снабженная важным письмом, в котором принц, по ее словам, рекомендовал девушку приличному «чайному дому» в Токио, куда ее примут на работу по возвращении в страну предков.
Госпожа Миссиа Э., вернувшаяся из поездки по Голландии, ужинала у меня одновременно с Ренуаром. От этого путешествия у нее остались не слишком приятные воспоминания.
– Простые люди там грубы и примитивны, – говорила она. – Я ходила в очень скромном наряде. Женщины разглядывали меня, как диковинного зверя. Представляете, некоторые из них смотрели на меня неодобрительно, когда я шла по улице. А кое-кто даже щупал ткань моего платья… Ах эти толстощекие женщины с красными руками! Они будто созданы для вас, Ренуар!
– Но я люблю рисовать нечто другое, а не грубое мясо, – возразил Ренуар. – И потом, вы знаете, Голландия совсем не в моем духе… не считая Рембрандта и четырех или пяти великих голландцев… У Людовика XIV был не такой плохой вкус, ведь он сказал, глядя на работы Тенирса: «Избавьте меня от всех этих страшилищ!» И все же именно в этой стране я нашел самую изумительную из моделей. Внешне это была настоящая девственница. – И, повернувшись к своему соседу, художнику Альберу Андре, Ренуар продолжил: – Вы не представляете, какие сиськи были у этой девушки… тяжелые и упругие… И красивая складка пониже с золотистой тенью… Я был так доволен ее послушанием и так увлечен этой кожей, на которую столь удачно ложился свет, что начал подумывать о том, чтобы увезти голландку в Париж. Про себя я уже говорил: «Только бы ее сразу не лишили девственности и она сохранила бы эту нежно-розовую кожу…» Я сказал ее матери, которая, как мне казалось, держала девушку в строгости, что, если она согласится отпустить дочку со мной, я обязуюсь проследить за тем, чтобы к ней не приставали мужчины… «Но что она тогда будет делать в Париже, если вы не позволите ей „работать“?» – спросила бдительная мамаша… Так я узнал, какого рода «ремеслом» занималась моя «девственница» в свободное от позирования время.
– Иной раз происходят поистине сверхъестественные вещи, – сказала как-то за ужином одна дама. – Вот послушайте! Недавно мой сын, которого я отчитывала за какой-то проступок, начал мне перечить. И в ту же минуту дверь, возле которой он стоял, потряс мощный удар кулаком. Я узнала в нем своего дорогого старого друга Папюса, таким способом возвестившего о своем присутствии. Незадолго до его смерти, когда мы разговорились о загробной жизни, он сказал мне: «Моя крошка, я буду продолжать присматривать за тобой и после того, как умру».
Тогда один из присутствующих гостей повернулся ко мне и произнес:
– В колониях, где есть негры-колдуны, вероятно, творится что-то необыкновенное. Что вы скажете, мсье Воллар, вы, приехавший с Реюньона?
– Честное слово, одно из таких приключений, в которых можно усмотреть вмешательство нечистой силы, произошло со мной именно в Париже, – ответил я. – Как-то я отнес письмо на пневматическую почту. Сразу же вернувшись к себе в магазин, я увидел – что бы вы думали? – это же самое письмо на моем столе!.. Однако я был уверен, что опустил его в ящик. Ладно, я взял его снова и пошел на почту. По возвращении я опять обнаружил письмо на столе! Было от чего прийти в волнение! В этот момент появился один из моих клиентов, и я рассказал ему о том, что со мной случилось. «Не волнуйтесь, мсье Воллар, – сказал он, – я пойду на почту вместе с вами»… Так мы и сделали, на сей раз письмо в ящик опустил сам клиент. И мы спокойно вернулись на улицу Лаффит… «Ах, это уже слишком!» – воскликнул он, когда мы вошли в магазин. Клиент явно нервничал, хотя и старался не подавать виду… Письмо лежало на столе. «Послушайте, мсье Воллар, я пойду на почту один, а вы останетесь здесь. Надо же все-таки узнать, каким образом это чертово письмо попадает обратно!» И он ушел. Когда он возвратился, никакого письма не появилось, и клиент сказал: «Думаю, что теперь оно не вернется»… В ту же секунду дверь отворилась, и я услышал: «Извините за беспокойство». Это было мое пневматическое письмо, которое возвращалось в руках невзрачного телеграфиста. «Вы уже четвертый раз заставляете меня бегать… Неужели вам не известно, что пневматическая почта не имеет сообщения с Мёдоном? Хорошо, что на конверте был ваш обратный адрес».
Мой рассказ был выслушан с вежливым вниманием. Но я не мог не заметить, что слегка разочаровал аудиторию. Безусловно, все ожидали от меня описания какой-нибудь магической сцены, где бы, к примеру, стараниями негра-колдуна душа девственницы переселялась в тело козла для отпущения, и наоборот.
Сезанн редко появлялся в Подвале. Он почти никуда не ходил. Однажды, когда мы обедали с ним вдвоем, я рассказал ему о каком-то происшествии, о котором прочитал в газете. Вдруг он положил ладонь на мою руку и, как только прислуга покинула столовую, сказал:
– Я прервал вас, ибо то, о чем вы говорили, неприлично произносить в присутствии девушки.
– Какой девушки? – удивился я.
– Ну, служанки…
– Но все это для нее не откровение! Вы можете даже не сомневаться, что она знает об этом больше, чем мы с вами.
– Возможно. Но лучше, если мы сделаем вид, будто нам неизвестно о том, что она что-то знает…
Дега же, наоборот, и не заметил бы присутствия служанки. То, что он стремился передать в своих женских этюдах, было определенными жестами. И подобных жестов у служанок он не находил.
Однажды, когда речь зашла о его старой Зоэ, он сказал мне:
– Но ведь у вас, Воллар, кажется, тоже старая прислуга?
– Старая?.. Ей немногим больше двадцати.
– Да что вы!..
Ужин в Подвале запечатлен на полотне Боннара. Там можно увидеть Форена, Редона, графа Кесслера и нескольких дам. На картине изображен также человек строгого вида: это промышленник, имевший дело во Французской Индии.
– Вы чем-то недовольны? – спросил как-то я, заметив его нахмуренный вид.
– Меня здорово обидели. Это может отбить всякую охоту быть республиканцем! Поступить так со мной, старым борцом!..
– Что же вам сделали?
– Что мне сделали?.. Накануне заседания нашего Генерального совета в Индии из двадцати пяти членов, входящих в состав совета, – двенадцать республиканцев, двенадцать реакционеров – двадцать пятый, независимый, еще не определил, чью сторону занять. Мне удалось заручиться его голосом. Реакция тут же потерпела поражение. Но знали бы вы, чего мне стоило сохранить большинство за нашими! Я запер этого человека у себя дома, чтобы он не сбежал и не продался нашим противникам. Но мерзавец изловчился и удрал. Всю ночь с хлыстом в одной руке и фонарем в другой я носился по городу, пытаясь его отыскать. Утром я едва держался на ногах, но поймал беглеца… Вот чем обязана мне Республика! И вот как она мне отплатила! – И промышленник указательным пальцем ткнул в лацкан своего пиджака, украшенный «академическими пальмами».
– На вашем месте, чтобы их проучить, я не стал бы носить эту награду…
– Не носить ее! Эту ленточку, которая обошлась мне в двести рупий….
– Двести рупий за то, чтобы купить один голос! Ничего себе!..
– По-вашему, это дорого? Но тот человек был должен мне двести рупий… Вы понимаете!..
Как-то за завтраком один из моих гостей без конца ерзал и подскакивал на стуле. И вдруг задние ножки стула вонзились в большую картину, приставленную к стене. Невероятно сконфуженный, он стал рассыпаться в извинениях.
– Ничего страшного, – сказал я.
И завтрак продолжился, причем я никак не обнаружил своего настроения.
Уходя, неловкий гость опять начал выражать сожаление по поводу случившегося, и я повторил:
– Право же, ничего особенного.
После того как он удалился, присутствующие дамы сказали мне:
– Вы были великолепны! Как вам удалось сдержаться?
– О, это не потребовало от меня особых усилий… Картина не моя. Впрочем, я предупреждал ее владельца. Когда он попросил меня выставить этот холст, я сказал ему, что его негде повесить. И он, проявив удивительное безразличие, приставил картину к стене. «Ну что ж! – сказал я. – Конечно, теперь можно считать ее выставленной… Но помяните мое слово, с ней непременно что-нибудь случится!» – «Порванный холст!.. – возразил он. – Этого никогда не случится. Сколько шедевров уцелело во время революций, войн, перенесло не одну выставку…»
Когда мой знакомый вернулся, чтобы забрать свою вещь, я показал ему поврежденный холст. Он посмотрел сперва на картину, потом на меня и воскликнул:
– Вот это да! Потрясающе!
– Я вижу, вы относитесь к этому философски.
– Черт возьми!.. Да ведь картина застрахована.
Когда художники рассуждают о живописи, дамы слушают их с ничуть не меньшим вниманием. Подобного рода разговоры, естественно, были обычным явлением в Подвале.
– Моне – это грек! – восклицал, например, художник К.-К. Руссель. – И, отвечая на вопрос, что он подразумевает под этим, добавлял: – Я имею в виду чистоту его искусства. Моне смотрит на природу тем же наивным взглядом, что и современник Праксителя.
– Признаюсь, в некотором смысле я отдаю предпочтение пейзажам Ренуара, – сказал тогда Одилон Редон. – Когда Ренуар рисует деревья, то сразу понятно, что это за деревья. На небольшом холсте, выставленном у Дюран-Рюэля, изображена живая изгородь из шиповника – так и хочется сесть где-нибудь рядышком с ней. Моне же – это прежде всего исследование эффектов, которые создают цвета, помещенные один рядом с другим… Но все эти изменяющиеся тона на его холстах!..
И Редон умолк как бы в смущении… Его скромность не позволяла ему публично выносить суждения о своем коллеге. В разговоре было упомянуто имя Делакруа.
– Вы его знали, мсье Редон? – спросил я.
– Только в лицо. Мне довелось несколько раз встречаться с ним, в частности на одном балу в Ратуше.
– Как же можно любить одновременно Делакруа и Энгра? – удивился кто-то. – Делакруа, переполняемый пылкими чувствами, и такой холодный Энгр!
– Энгр холодный?! – возразил Бенар. – Да Энгр – это сама пылкость, сдерживаемая страсть, которая вот-вот прорвется наружу…
Однажды вечером, прежде чем спуститься на ужин, мои гости осматривали работы Сезанна.
– Этот крестьянин… от его ног воняет! – отрезал Форен.
Дега остановился перед другим полотном художника, на котором был нарисован белый дом в окрестностях Марселя.
– Какое внутреннее благородство! – воскликнул он. – Как это отличается от Писсарро!
– Но помилуйте, Дега, не вы ли подвели меня у Дюран-Рюэля к картине Писсарро «Крестьянки, пересаживающие капусту»? – изумился кто-то. – Тогда она казалась вам прелестной.
– Да, но это было до дела Дрейфуса, – ответил Дега…
Подобные шуточки были привычными для художника. Как-то раз, когда я увидел его на выставке Клода Моне, он надел очки и сказал:
– Отражение солнца в реке меня слепит. Неужели Энгр таскался с мольбертом по большим дорогам?
– Простите, мсье Дега, но разве Ренуар, как и Моне, не работает на свежем воздухе? – возразил я.
– Ренуар может делать все, что ему угодно. Вы уже видели кошку, играющую с клубками разноцветной шерсти?..
Если импрессионисты далеко не всегда пользовались расположением Дега, то, напротив, поиски «молодых» вызывали у него живейший интерес.
Однажды, проходя мимо большого панно К.-К. Русселя «Триумф Вакха», которое только что приобрел у меня господин Морозов из Москвы, Дега остановился и начал гладить холст рукой.
– Чья это работа? – спросил он.
– Ксавье Русселя.
– Это благородно. Давеча я был у Дюран-Рюэля на выставке Альбера Андре. Там были натюрморты с очень красиво нюансированными фонами.
Сезанн также интересовался «молодыми». Листая как-то сборник Верлена «Параллельно», который проиллюстрировал для меня Боннар, он сказал:
– Кто художник? Это нарисовано по всем правилам.
Художники, посещавшие Подвал, обычно были знакомы между собой, но с другими гостями так было не всегда. Однажды я по какой-то причине задержался, и гости собрались без меня. Получилось так, что все они были не знакомы друг с другом. Выражая всеобщее замешательство, Форен показал на двух идолов с Маркизских островов, стоявших по обе стороны от двери, и произнес:
– Эти двое, по крайней мере, знают друг друга…
В тот вечер среди гостей присутствовала одна скандинавка. С карандашом в руке она старательно записывала все соображения, высказываемые собравшимися. И вдруг я увидел, как ее карандаш остановился. Речь шла о новом головном уборе, и Ренуар воскликнул:
– Поразительно, какую чепуху напяливают себе на голову женщины!
Скандинавка наклонилась к соседу и спросила:
– Мэтр сказал «чепуха». Это ведь пишется с буквы «ч»?
На ужин в Подвал зашел однажды и Роден. Как сейчас вижу, с каким вниманием он разглядывал статуэтку Майоля, стоявшую на бортике каминного колпака.
Естественно, благодаря присутствию Родена речь зашла о скульптуре.
– Если бы вас не было, мэтр, – сказал кто-то, – то скульптура сегодня…
– А как же быть с этим? – оборвал собеседника Роден, показав на работу Майоля.
Прослышал о моих ужинах и граф Исаак де Камондо. Подвал привлекал его своим «парижским» духом, которым, по его представлениям, отличалось это место, но граф, вероятно, считал его несколько богемным. Однако ему все же довелось спуститься в Подвал. Повстречав в магазине Клода Моне, знаменитый банкир предложил художнику:
– А не сходить ли нам посмотреть Подвал Воллара?
Не знаю, что он рассчитывал у меня увидеть. Но внимание он обратил только на влажные стены.
И больше никогда не появлялся.
Однажды я имел удовольствие принимать у себя Жерве. Я познакомился с ним у Анри Дюмона, художника, рисовавшего цветы; дело было во время завтрака, который скрашивали воспоминания остроумной актрисы Эллен Андре. Поскольку Жерве, отличавшийся весьма непринужденными манерами, намекнул на Подвал, я подумал, что сделаю ему приятное, если приглашу его к себе на завтрак. За столом он расхваливал скульптуру Дарде, новой звезды Салона на Марсовом поле.
– О нем говорят так же много, как в свое время о Ростане, когда поставили его «Сирано». Все наши скульпторы воротят от него нос…
Таможенник Руссо, присутствовавший у меня в тот день, за весь завтрак не проронил ни единого слова. Под конец он достал из кармана блокнотик и начал рисовать.
– Это превосходно, мсье Воллар! Белые стены и люди, освещенные таким образом. Если бы я мог нарисовать картину, которая передавала бы это ощущение!
Когда Руссо ушел, Жерве спросил:
– Кто это? Я не расслышал фамилию, которую вы называли.
– Это Анри Руссо. – И, увидев, что это имя ему незнакомо, я поинтересовался: – Вы разве не знаете Таможенника Руссо?
Жерве, казалось, распирало любопытство.
– Ну, вы должны знать, это тот самый таможенник, который начал заниматься живописью.
– И он выставляется?
– Да. У «Независимых».
– О, о! – воскликнул Жерве. – В том самом салоне, где показывали полотно, которое нарисовал осел, предварительно вымазавший свой хвост в краске… – И, встав с места, он добавил: – Меня ждут на заседании в академии.
Мы поднялись в магазин. В тот момент, когда Жерве собирался откланяться, его заметила женщина, прогуливавшая собачку на противоположном тротуаре; она пересекла улицу и вошла в магазин. Я сразу узнал ее по несколько мужской осанке: это была мадам Луиза Аббема.
– Со мной только что приключилась занятная история, – сказала она Жерве. – Я узнала, что в отеле Друо продали один из моих холстов, который я особенно люблю: натюрморт с цветами. Я спросила имя покупателя: им оказалась довольно известная певица. Я пошла к ней домой. Меня ввели в гостиную; и что я увидела? Свою картину в роскошной раме, а вместо моей подписи (ее затерли) стояли следующие слова: «Моему толстенькому Жожо от Лины». В ту же секунду появился и сам Жожо… «Я вижу, вам нравится эта работа, – сказал он мне. – Один знаток не далее как вчера заявил мне, что это полотно не уступает работам Луизы Аббема»…
Тут в магазин вошли два моих клиента. Жерве и Луиза Аббема расстались со мной, и я так и не узнал, чем закончилась эта комичная история.
* * *
Когда я переношусь в ту далекую эпоху Подвала, на память приходят два рано ушедших из жизни писателя: Альфред Жарри и Гийом Аполлинер.
Во время войны я навестил в госпитале младшего лейтенанта Аполлинера, получившего ранение. Прежде чем я попал к нему, мне пришлось пройти через общую палату. Мимо рядов незанятых коек вели слепого негра. Возле каждой койки его останавливали, и поводырь произносил короткую речь, которую негр слушал с видимым удовлетворением.
Эта пара меня очень заинтересовала; я навел справки и узнал следующее. Негр был ранен пулей в голову, из-за чего лишился зрения; слепота повергла беднягу в отчаяние, и ничто не могло его успокоить.
Санитар решил, что, рассказав о еще более несчастных людях, он, возможно, сумеет его утешить. Поэтому то, что я увидел, было, так сказать, устроенным для него смотром коек: останавливаясь возле каждой постели с воображаемым больным, провожатый объяснял негру:
– Здесь лежит слепой, потерявший ногу… А вот он лишился руки…
Так, переходя от одного ампутированного к другому, парочка добралась до последней койки.
– А у этого парня, – сказал санитар, – осталось одно туловище.
И негр, пощупав свои руки и ноги, произнес:
– Хорошо…
Соседями Аполлинера по палате были два молодых лейтенанта из его полка. Вошел капрал-санитар.
– Попросите для меня касторовую клизму, – сказал один из офицеров.
– Мне нужен письменный приказ от майора, лейтенант; в противном случае я рискую угодить на гауптвахту. Касторка предназначена для рядового состава.
– Ну, тогда дайте мне фруктовой соли, – сказал офицер.
При словах «фруктовая соль» капрал щелкнул каблуками и, взяв под козырек, отчеканил:
– Фруктовая соль выдается господам генералам. Для господ лейтенантов, капитанов, майоров, полковников предусмотрен слабительный лимонад.
И он выложил на стол книжечку, в которой только что справлялся по данному вопросу. Я машинально раскрыл ее и напал на раздел «Постельные принадлежности»; из него я узнал, что простыни у господ старших офицеров должны меняться каждый месяц. В нотабене отмечалось, что все месяцы, включая февраль, следует считать состоящими из тридцати дней.
В последний раз я увиделся с Аполлинером уже по окончании войны, когда свирепствовала эпидемия испанского гриппа. Он держал под мышкой бутылку рома.
– С таким напитком эпидемия мне не страшна, – сказал Аполлинер.
«Испанка» приняла брошенный ей вызов. Через пару дней она свела поэта в могилу.
Альфред Жарри! Склад его ума произвел на меня такое сильное впечатление, что через двадцать пять лет после появления его пьесы «Король Юбю» я счел своим долгом написать «Перевоплощения папаши Юбю». Среди литераторов не было личности более благородной, чем Жарри. Очень нуждаясь, он никогда не выставлял напоказ свою бедность и даже избегал тех людей, которые, как ему казалось, могли принять участие в его судьбе. И каким он был щепетильным! Помню, что однажды встретил Альфреда Жарри по дороге к подписчику возглавляемого им скромного журнальчика: он собирался вернуть ему полтора франка, которые тот ошибочно переплатил редакции. Жарри не поленился приехать на велосипеде из Корбейля.
В летнее время писатель жил в Корбейле, в построенной им самим хижине, кормясь в основном за счет рыбной ловли. В Париж он приезжал на велосипеде, который вкупе с револьвером был его единственным богатством, оставшимся от скромного наследства, очень быстро и с размахом промотанного. Когда пешеход не слышал ехавшего на велосипеде Жарри, тот, поравнявшись с ним, стрелял из револьвера.
– А что, если, Жарри, это кому-нибудь из них не пришлось бы по вкусу? – спрашивали у писателя.
– О, прежде чем прохожий успевал опомниться, я был уже далеко, и потом, создавая у человека иллюзию, будто он подвергся нападению, я давал пищу для самых разных историй, которые бедняга будет впоследствии рассказывать своим друзьям и знакомым! – объяснял создатель папаши Юбю.
В конце лета Жарри покидал своеобразный домик отшельника, в котором обитал и который не терял надежды превратить когда-нибудь в башню, воздвигнутую собственными руками. Зимовал он в Париже. Впервые я отправился к писателю, жившему на улице, расположенной близ Сен-Жермен-де-Пре, для того чтобы спросить его мнения по поводу одной латинской надписи в связи с готовившимся мной изданием, так как Жарри был отменным знатоком античности. Когда я подошел к двери его жилища, низкой двери в середине лестницы, я позвонил, уверенный в том, что откроется какая-то другая дверь, которую я не заметил вначале. Однако приоткрылась именно крохотная дверца. Верхний край ее створки едва доходил мне до груди.
– Нагнитесь, чтобы я посмотрел, кто вы, – раздался в глубине голос.
Узнав меня, Жарри предложил войти внутрь, посоветовав наклонить голову, чтобы не удариться о потолок. Оказавшись в комнате, куда я проник согнувшись в три погибели, я заметил, что кончики волос у Жарри, которые он стриг в то время ежиком, совсем белые. Я догадался, что источник этой белизны – потолок, достаточно высокий, чтобы Жарри не чувствовал себя стесненным, но и не настолько поднятый над полом, чтобы волосы писателя не терлись о побелку.
Жарри объяснил мне, что домовладелец поделил квартиру пополам в горизонтальном направлении, предназначая ее для низкорослых жильцов. Автор «Короля Юбю» жил там вместе с двумя кошками и совой. Если не ошибаюсь, у птицы верх головы тоже был белым, так как, постоянно сидя на плече хозяина, ходившего взад и вперед по комнате, она подметала потолок своим хохолком.
Выше я упоминал о щепетильности Жарри в денежных вопросах. Подобным же образом, если ему случалось причинить кому-то ущерб, он стремился сразу же возместить потери. Так, однажды, когда он упражнялся в стрельбе из пистолета по изгороди, из-за нее вдруг вышла какая-то женщина и воскликнула:
– Мсье, так вы, чего доброго, пристрелите моего ребенка, который играет там!
На что Жарри ответил:
– Мадам, мы тотчас же сделаем вам другого…
* * *
– Вы бы не хотели получить «академические пальмы»? – спросила у меня как-то за ужином жена одного из моих клиентов. – У моего мужа есть друг, имеющий большие связи в департаменте изящных искусств.
– Я был бы весьма польщен, но мне больше по душе медаль «За заслуги в сельском хозяйстве».
– «Пуаро»?[44] Почему?
– Сейчас объясню. Иногда меня приглашает позавтракать к себе на дачу один друг, у которого, право, прелестная жена. Поскольку там пользуются овощами со своего огорода, я, чтобы сделать хозяйке дома приятное, всегда говорю что-нибудь лестное о подаваемых на стол блюдах; а профессор-агроном, который также бывает там, постоянно меня поправляет. «Это не брюква, а репа», – говорит он. Или: «Это не одуванчик, а овощная валерианница». Короче, он все время меня подлавливает. Будь у меня «Пуаро», я бы мог рассчитывать на его уважение или, во всяком случае, молчание.
– Ну что ж, – сказала мадам Б., – считайте, что медаль у вас в кармане.
Через несколько дней любезная дама позвонила мне по телефону:
– Знаете, с вашим «Пуаро» ничего не получается. В министерстве сельского хозяйства сказали: «Не потому ли Воллар мечтает о получении „Пуаро“, что он продает натюрморты?» Однако, – продолжала мадам Б., – есть другие награды: во-первых, «академические пальмы», которые я вам предлагала. А во-вторых, «Камбоджа» и «Нишам».
Я выбрал «пальмы», и через некоторое время меня пригласили в мэрию моего округа для положенного в таких случаях собеседования. Нас было с десяток кандидатов, сидевших вокруг стола. Приближалось время завтрака. Заместитель мэра быстро задавал нам по очереди один и тот же вопрос: «За кого вы голосуете?» Надо ли говорить, что соискатели называли лишь имена представителей парламентского большинства. Когда подошла моя очередь, я без обиняков ответил, что не принимаю участия в голосовании.
Заместитель был ошеломлен, и я объяснился:
– До сих пор по разным причинам я не мог сделать окончательный выбор. В последний раз, например, один из двух кандидатов был за сокращение вооружений, я же против такового; другой выступил в пользу торговцев вином, тогда как я за их строгое ограничение…
– Но если вы не голосуете, мсье, то как вы осмелились просить «академические пальмы»?
– Это очень просто. Жене одного из моих клиентов захотелось устроить мне получение каких-либо знаков отличия. Я выбрал «Пуаро». Но ей сказали: «Не потому ли Воллар мечтает о получении „Пуаро“, что он продает натюрморты?» И тогда я решил переключиться на «академические пальмы».
– Но почему вы сперва выбрали «Пуаро»? – спросил заместитель, который явно искал повод, чтобы меня засыпать.
– Сейчас я вам объясню. Иногда меня приглашает на завтрак живущий на даче друг, у которого, право, прелестная жена, и т. д.
– Мсье, я поставлю вам хорошую оценку как юмористу, но не скрою от вас, что для получения вашей награды вам придется опереться на кого-нибудь со связями.
Это был именно мой случай, поэтому я не волновался на сей счет.
Какое-то время спустя я получил от художника Пьера Лапрада записку, которую ему прислал один из его друзей, служивший в секретариате министра просвещения. Он сообщал: «Среди просьб о предоставлении „пальм“, оказавшихся в корзине, находилось и прошение мсье Амбруаза Воллара. Вспомнив о том, что недавно он организовал выставку ваших работ, я восстановил его фамилию в списке…»
Когда имена награжденных появились на страницах «Журналь оффисьель», мадам Б. зашла ко мне в магазин и принесла небольшую коробочку, в которой лежали знаки отличия, полагающиеся мне в соответствии с моим новым званием.
– Ну, не говорила ли я вам, что у нашего друга большие связи?! – сказала она с гордостью.
Милые «пальмы»! Какого уважения я добился благодаря вам, и как быстро!
Однажды вечером я провожал домой мадемуазель Мирей К., с которой познакомился незадолго перед тем на улице Нотр-Дам-де-Лоретт. Убедившись в порядочности моих намерений, она тут же рассказала мне о своей жизни. Ее отец занимал какую-то большую должность и был достойнейшим человеком. Умирая, он передал ей свое доброе имя, но, увы, не оставил дочери почти никакого наследства. Девушка призналась мне также, что поступила в театральное училище и специализируется в исполнении ролей инженю. Я обрадовался, что случай свел меня с человеком, возлагающим такие большие надежды на сцену. Единственное, чего я не мог принять, – это некоторого эклектизма, проявлявшегося в суждениях типа: «Я обожаю сигареты и „Цветы зла“» или «Когда со мной мой Расин и мой Доршен, можно больше не беспокоиться о духовной пище». Однако этот эклектизм не распространялся на скульптуру. Она была не из тех, кто заявляет: «Я восхищаюсь Роденом и Пюеком». По правде сказать, она совершенно не разбиралась в ваянии; но этот вид искусства открылся ей, когда я привел ее однажды в музей Гревена[45]. «Они прямо как живые! – воскликнула девушка с воодушевлением. – Ах, когда видишь все это, испытываешь сожаление, что у тебя нет денег. Как было бы здорово окружить себя существами, которых любишь; мой бедный отец и моя мать играли бы в безик под лампой, пока я готовила бы чай!» – «А я?» – робко спросил я. «Вы бы тоже сидели рядом и читали нам Сюлли-Прюдома. Но почему богатые люди не заполняют свои дома дорогими их сердцу мертвецами, воскрешенными магией искусства?.. Посмотрите-ка на эту парочку!.. (Это была композиция „Роден, беседующий с Шере“.) Можно ли представить себе что-то более красноречивое?»
Я рассказал мадемуазель Мирей о том, что один известный социстарий театра «Комеди Франсез», после того как умерли двое его детей, заказал их восковые фигуры; в столовой они занимали то же самое место, что и при жизни. Таким образом, их добрейший отец мог воображать, будто рассуждает с ними о самых разных вещах: если бы они знали, что станут в будущем персонажами композиции!.. «И кто знает, – перебила меня мадемуазель Мирей, – может быть, когда-нибудь благодаря достижениям науки они смогут сами участвовать в беседе… Ах, какая сказочная мечта! Видеть рядом с собой своего отца и слышать его речь!..»
К этим душевным качествам мадемуазель Мирей прибавлялись другие, которые превращали ее в образцовую девушку. Когда я раз сказал ей: «Мадемуазель, какое на вас симпатичное платьице и какая изумительная шляпка!», она ответила: «Это моя собственная работа, мсье; мама говорит, что молодая девушка должна уметь шить себе платья сама».
И при этом она всегда держалась с достоинством, что тоже является отличительной чертой хорошо воспитанной молодой особы.
Итак, в тот вечер, возвращаясь после загородной прогулки с мадемуазель Мирей, я решил сесть в фиакр, чтобы доехать до дому. В те счастливые времена люди еще не были знакомы с автомобилями. «Улица Лепик!» – крикнул я кучеру. «Улица Лепик, ближний свет!» – пробурчал кучер. И на протяжении всей поездки он не переставал ворчать. Поэтому, когда мы подъехали к месту назначения, я дал ему лишь положенные тогда пять су на чай.
– Пять су на содержание! – буркнул он язвительно.
Я ничего не ответил.
– Что он такое говорит? – спросила мадемуазель Мирей, уже взявшись за ручку дверцы.
– Так вот, моя милая дамочка, – продолжил кучер, – я говорю: пять су на содержание!
– Не обращайте внимания, – сказал я, вмешиваясь, – это шутка кучера. Она ровным счетом ничего не значит.
– Это значит, – заговорила она снова, – что вы не заботитесь о том, чтобы ко мне относились с уважением…
И, выйдя из экипажа, она хлопнула дверцей у меня перед носом.
Кучер, по-прежнему ворча, поехал дальше по улице Лепик, пустив лошадь шагом. Туда мне как раз и было нужно. Заметив двух жандармов на велосипедах, я крикнул им: «Остановите его! Остановите его!» Автомедонт был тут же взят в кольцо, и мы поехали объясняться в полицейский участок. Входя туда, я достал ленточку, к счастью оказавшуюся у меня в кармане, и вставил ее в петлицу. Комиссара на месте не было. Нас принял дежурный бригадир. Он спросил у меня, на что я жалуюсь.
– Этот тип, когда я расплачивался с ним и дал пять су на чай, сказал в присутствии находившейся со мной дамы: «Пять су на содержание».
Кучер начал клясться всеми святыми, что он не говорил ничего подобного, а только якобы произнес: «Пять су на удачу».
– Позвольте! – возразил унтер. – Я вам не верю, ибо если вы с таким жаром отрицаете, что произнесли «пять су на содержание», эту ничего не значащую фразу, то, стало быть, вы в чем-то провинились. Ну-ка, покажите ваши документы.
И он влепил ему два штрафа.
Когда кучер ушел, бригадир, который все время косился на мою ленточку, сказал:
– Я сразу увидел, мсье, что вы приличный человек…
VIII. Любители и коллекционеры
Господин Исаак де Камондо. – Король Милан. – Господин Дени Кошен. – Магнаты моды. – Любители смотрят картины. – Американка и старый французский замок
Явившись в мир под знаком полумесяца, предки господина де Камондо, ступив на землю Европы, без колебаний оставили свои туфли без задников и фески ради ботинок и котелка и со временем приобрели дворянскую приставку. Однако у господина Исаака де Камондо его новая деятельность светского человека не ограничивалась фраком, котелком, даже абонементом в оперный театр и скаковой конюшней: он счел своим долгом интересоваться различными направлениями искусства. И, обладая редким чутьем, помогавшим ему в финансовых делах, банкир с улицы Глюк понял, что «любитель», не желающий прослыть отсталым человеком, обязательно должен обратить внимание на импрессионизм. Но, признавая необходимость «заняться» авангардным искусством, господин де Камондо считал, что при этом нельзя вступать в конфликт с традицией. Так что, прежде чем он произносил свое dignus intrare[46], холсты подвергались самому строгому экзамену. Этот экзамен проводился по воскресеньям, по окончании завтрака; на него приглашались художники, картины которых хозяин не покупал, что, по его представлениям, гарантировало беспристрастность оценок. Итак, в час, когда подавался кофе, а также разносились ликеры и сигары, слуги передавали из рук в руки холсты, принесенные для обсуждения.
Однажды я пришел справиться о судьбе «Купальщиц» Сезанна, которых представил на рассмотрение за несколько дней до этого. Меня ввели в комнату, служившую своеобразным «Салоном отверженных», где я увидел свою картину. В соседней комнате двое слуг беседовали друг с другом.
– Ты слышал вчера типа, который говорил, глядя на картину с обнаженными женщинами, находящуюся там, рядом: «Какой прекрасный фарфор!..» Я подумал тогда, что парень слегка не в себе. И что же? Сегодня утром, прогуливая пса, я остановился перед витриной старьевщика на углу улицы, чтобы посмотреть на выставленное там большое голубое блюдо. Это невероятно, старина! Теперь, когда я гляжу на картину, мне тоже кажется, что она ужасно похожа на фарфор…
В этот момент в комнату вошел господин де Камондо в сопровождении высокого молодого человека, которого он подвел прямо к холсту Сезанна.
– Прежде чем отдать это полотно, я хотел показать его вам, – сказал господин де Камондо. – Представляете, не далее как вчера один критик воскликнул: «Какой прекрасный фарфор!» Всем известно, что фарфор расписывал не Сезанн, а Ренуар… – Камондо улыбнулся и добавил: – Поскольку я люблю советоваться, кое-кто может вообразить, что я покупаю картины на слух… Вы сможете сказать всем этим ребятам, что у меня к тому же неплохое зрение.
Тут господин де Камондо заметил меня и произнес:
– А вот и вы, мсье Воллар… – И, показывая на «сезанна», спросил: – Что же все-таки изображено на вашем полотне?
– Как – что? Купальщицы, – изумился я.
– Ха, ха! Купальщицы! Может быть, вы мне скажете, где они купаются? Купальщицы там, где нет ни капли воды!
И, обращаясь к сопровождающему его человеку, он поинтересовался:
– Вы, знающий обо всем, скажите, кому принадлежит эта острота: «Ничто не содержит больше глупостей, чем картина»?
* * *
Как-то ко мне в магазин зашел господин де Камондо вместе с рослым мужчиной, чьи подчеркнуто парижские манеры выдавали в нем иностранца. По тому почтению, какое выказывал ему господин де Камондо, я понял, что посетитель – знатная особа. Я то и дело слышал: «Да, ваша светлость… Нет, ваша светлость…» Вскоре я узнал, что этот человек не кто иной, как его величество Милан, бывший король Сербии.
Последний, желая прослыть знатоком новых веяний, попросил господина де Камондо выступить в роли гида и познакомить его с «передовым искусством». В то время я был занят подготовкой экспозиции Сезанна.
Его величество вспомнил, что несколько дней тому назад заметил в витрине моего магазина большую композицию, и спросил, можно ли посмотреть на нее вблизи.
Это была картина Анри де Гру, на которой были изображены трупы королей, сваленные в корзины; из приподнятых крышек высовывались коронованные головы и торчали руки, судорожно вцепившиеся в скипетры. В центре композиции стояли грузчики, они размахивали знаменем с надписью: «Смерть легавым!»
Его величество вставил монокль и принялся созерцать полотно с исключительным вниманием. Вдруг он нахмурил брови.
Придав своему лицу то же выражение, что и у августейшего спутника, господин де Камондо воскликнул:
– Как можно выставлять произведения таких анархистов!
Король Милан повернулся ко мне и спросил:
– Ваш Анри де Гру, мсье Воллар, назвал картину «Смерть легавым»? Но сколько я ни вглядывался, я не смог увидеть ни одного фараона!
– Но, – ответил я, не понимая смысла знаков, подаваемых мне господином де Камондо, – здесь имеются в виду не полицейские, а короли.
– Занятно! – сказал его величество. – Значит, у меня есть пробелы в знании языка.
Он извлек из кармана брошюрку под названием «Наиболее употребительные французские выражения» и на полях против слова «легавый» написал: «Говорится также о короле». Затем он заявил мне:
– Я эклектик и потому покупаю эту картину.
Через неделю, все так же эскортируемый господином де Камондо, король Милан снова зашел ко мне. За ними следовал посыльный гостиницы, который нес картину де Гру «Смерть легавым».
– Я подумал и пришел к выводу, что королю не следует держать у себя дома такое полотно, – сказал он.
Я решил, что он хочет, чтобы ему вернули деньги. Но мой августейший посетитель не обладал еще самоуверенностью «бывалых коллекционеров». Он всего-навсего предложил мне обменять картину. Выбрав то, что ему нужно, король Милан попросил меня устроить доставку приобретенной работы к нему в отель «Нижний Рейн». Я постарался попасть туда сам, так как мне не терпелось ознакомиться с королевскими апартаментами.
Как только меня ввели внутрь, я заметил слугу, который, стоя возле открытого окна, глядел на улицу. Он дал свисток. Другой слуга побежал к входной двери и приложил к ней ухо. Вдруг он распахнул обе створки, и его величество, в сюртуке и светло-сером цилиндре, соизволил проследовать в покои. После того как дверь была закрыта, король снял шляпу и повесил ее на протянутый кулак лакея, как на вешалку. В эту минуту появился человек в костюме, расшитом золотом, принесший для Милана на серебряном подносе его корреспонденцию. Меня всегда приводили в восхищение галуны, все, что блестит на рукавах и на головных уборах. Поэтому я не мог отделаться от мысли, что, будь я королем, это роскошное позолоченное одеяние носил бы именно я, а сюртук достался бы моему камердинеру.
«Поскольку вы здесь, вам надо посмотреть мою пастель кисти Мане!» – сказал король Милан, заметив меня, и с ловкостью, удивительной для человека его комплекции, вскочил на стул и пошарил рукой на верху шкафа с зеркалом. «Черт побери! – воскликнул он. – Куда же она подевалась?» Король спрыгнул со стула; рукав его сюртука запачкался. Он его снял и, оставшись в одной рубашке, провел рукой под шкафом, откуда извлек бумажный сверток, который тут же и развернул.
– Ах, дьявол! Это же картина Альбера Гийома, которую я считал утерянной!..
Убедившись в том, что бывший монарх ведет себя как простой смертный, Париж в конце концов утратил к нему всякий интерес. Сам господин де Камондо сменил обращение «ваша светлость» на «мой дорогой граф». (Король Милан путешествовал под именем графа де Таково.)
Однажды кто-то сказал мне: «Я присутствовал на обеде у господина де Камондо, там был король Милан. Нам подавали блюдо из яиц – яиц лилового цвета, приготовление которых, кажется, заняло целых два дня». Мой собеседник с восхищением говорил и о паштете, ни с чем не сравнимом кушанье, в его состав входила какая-то птица, которую доставляли из очень далеких мест. Позднее я вновь увиделся с этим господином. За несколько дней до этого он снова обедал в обществе его величества, все у того же де Камондо.
– Ну и как? – спросил я. – Вам опять подавали знаменитые лиловые яйца и тот самый паштет?
– Нет… Мы ели телятину с горошком.
Я, кажется, начинал понимать, что августейший гость решительно пользовался все меньшим уважением и денег тратилось на него все меньше.
После смерти экс-короля его коллекция вернулась в Париж и была отправлена в аукционный зал. Бульварная пресса в очередной раз получила возможность прославить эклектизм короля Милана.
* * *
Господин Дени Кошен представлял собой тип настоящего любителя живописи, который, покупая картину, не рассчитывает на выгоду от ее возможной перепродажи. Словом, он покупал для своего удовольствия. Это удовольствие обходилось ему дорого, ибо стоило ему приобрести картину, как он испытывал соблазн купить другую, и тогда начинались обмены с соответствующей приплатой, разумеется выгодной для продавца. Напоминая ребенка, который, получив вожделенную игрушку, почти сразу же охладевает к ней, чем более страстно господин Кошен стремился завладеть вещью, тем быстрее он увлекался другой.
У меня находилось полотно Сезанна «Интерьер», принадлежавшее любителю, который очень хотел его сбыть, но никак не мог определиться с ценой. Каждый раз, заходя в мой магазин, господин Кошен восхищался картиной.
– Дайте слово, что сообщите мне, как только ваш любитель примет решение, – говорил он.
Наконец однажды я сказал ему:
– Мой клиент просит назначить ему цену. Я увижусь с ним завтра…
– Я дам за картину столько-то… Я собирался уехать сегодня вечером на несколько дней, но теперь отложу поездку.
Спустя два дня, как только открылся мой магазин, я увидел господина Кошена.
– Ну, что с картиной? – спросил он.
– Она ваша.
– Доставим ее сразу же ко мне!
Мы сели в экипаж.
Вдруг господин Кошен сказал:
– Это красивая картина, не так ли?
Мне показалось, что по его лицу пробежала тень. По мере того как мы приближались к его дому, он становился все более озабоченным и время от времени повторял:
– Это действительно красивая картина!..
Пройдя к нему в гостиную, мы стали прикладывать полотно то к одной стене, то к другой.
– Это очень красивая картина, – сказал он опять. – Но посмотрите! Она тут ни с чем не сочетается, ни с моим «делакруа», ни с моим «курбе», а что касается «мане»… Я просто не представляю, куда бы ее можно было повесить. Какая жалость!
– Выход очень простой! Я беру ее обратно…
И я упаковал холст Сезанна.
– Проходя мимо лавки Эсселя, – сказал как-то господин Кошен, – я заметил небольшой холст Ренуара, который показался мне на редкость красивым. Идемте посмотрим картину вместе.
Я сослался на какую-то встречу, опасаясь, что, если дело не получит продолжения после того, как мы посмотрим холст вдвоем, Эссель вообразит, что именно я не оценил его «ренуара». Через некоторое время, в час завтрака, господин Кошен снова появился у меня в магазине. Под мышкой он держал картину Ренуара.
– Я поддался искушению, – сказал он. – Не правда ли, красивая вещь?
– Прекрасное произведение!
– Домой я сейчас не пойду, – продолжил господин Кошен, – моя жена за городом. Может быть, позавтракаем вместе?
По дороге в ресторан он говорил:
– Я очень доволен, Воллар. Этот «ренуар» восхищает меня все больше… Я бы получил огромное наслаждение, если бы мог провести вторую половину дня дома, среди своих картин, но мне надо идти в палату депутатов. Рибо пообещал нам, что там соберутся все. Он должен сделать запрос.
– Господин Рибо выдающийся человек, – сказал я.
– Да, и какая удивительная скромность! Давеча я был в его имении в Лонжюмо. Мы прошли мимо старой скамьи, подпирающей плакучую иву. На земле валялось множество конвертов и бандеролей. «Это мой рабочий кабинет», – сказал председатель.
За завтраком господин Кошен время от времени поглядывал на свое новое приобретение, которое установил на стуле перед собой.
– Красивая картина, не так ли? – спросил он вдруг тоном, в котором, как мне показалось, сквозило легкое беспокойство.
Я уверил его в том, что редко можно встретить произведение, сочетающее в себе такую силу и такое изящество.
Расставшись с господином Кошеном, я вернулся в магазин. Через пару часов он пришел. Под мышкой он держал картину, которая на вид была меньших размеров, чем предыдущая.
– Я заскочил домой, – сказал он. – Поверите ли, с «ренуаром» получилось не лучше, чем с вашим «сезанном». И тогда я вспомнил о том, что видел на днях на улице де Сез небольшой холст Делакруа… Как вы его находите?
– Жемчужина!
– Правда?.. Но я убегаю. Я уже давно должен быть в палате. Я обещал Рибо…
Тут появился господин де Камондо. Кошен показал ему своего «делакруа». Камондо живо похвалил картину. И Кошен произнес:
– А я уже начал задаваться вопросом, действительно ли эта картина, несмотря на то что она великолепна… Но теперь я спокоен… Бегу в палату.
Однако под конец дня господин Кошен появился вновь, и опять с новой картиной.
– Понимаете, Воллар, – объяснил он, показывая мне небольшой холст Мане, – после того как мы с вами расстались, я проходил мимо лавки Дюран-Рюэля и увидел вот это чудо; я получил холст в обмен на своего «делакруа»… который, однако, приводил меня раньше в восторг!..
Кошен замолчал на минуту, любуясь полотном Мане, а потом сказал:
– Вы сочтете меня очень капризным, Воллар; но, вспоминая о картине Делакруа, я не могу сказать, что я совсем о ней не жалею. – Кошен взглянул на часы и добавил: – У Дюран-Рюэля еще открыто… Пойду-ка посмотрю на нее еще раз…
– Вы остались довольны речью господина Рибо? – спросил я.
– Ах, черт возьми! Этот Рибо! Я совершенно о нем забыл… Ну да ладно! Вы знаете, между нами говоря… его речь была мне известна заранее. Конечно, ее встретили аплодисментами. Но она не будет иметь никакого влияния на палату!.. Однако позвольте мне откланяться, иначе я пропущу из-за вас своего «делакруа»…
Во время войны с господином Дени Кошеном произошел забавный случай.
В один прекрасный день полицейские ведомства Франции и Испании не на шутку переполошились. Была перехвачена телеграмма, посланная из Парижа в Мадрид и гласившая: «Согласен на сумму, предложенную за голову королевы». Она была подписана Дени Кошеном. Не идет ли речь о заговоре анархистов и не предпринята ли попытка пустить полицию по ложному следу, для чего преступники воспользовались именем видного государственного деятеля? На самом же деле произошло следующее. Незадолго до этого господин Кошен увидел у одного из моих коллег «Портрет королевы» кисти Гойи и, недолго думая, приобрел его. Но вскоре стало ясно, что «гойя» у него не смотрится. И он отдал картину для последующей перепродажи одному испанскому торговцу; тот увез ее в Мадрид, где и нашел покупателя, о предложении которого немедленно сообщил. Отсюда это недоразумение.
Выше я сказал, что Дени Кошен покупал произведения искусства ради своего удовольствия. Все приобретенные им холсты были первоклассными. Какой великолепный музей можно было бы создать из работ, побывавших у него в руках! Назовем среди них следующие: «Коринна у пастушеских племен» Делакруа; «Служанка с кружками пива» и большое полотно «Казнь императора Максимилиана», ныне находящееся в музее Мангейма (оба кисти Мане); «Вид Рима» и «Церковь в Везеле» Коро (в настоящее время хранится в Лувре); «Голова королевы» Гойи; еще одна работа Мане «Бег быков» (как сказал мне Ренуар, «самая красивая из всех созданных художником»); картина «Игроки в карты» Сезанна, ныне находящаяся в Лувре (дар де Камондо), его же натюрморты и пейзажи; одно из самых выразительных полотен Гогена «таитянского периода»; потрясающий пейзаж Ван Гога, выполненный в его позднейшей манере; «Голова женщины» Дега, напоминающая полотна ван дер Меера. Да, из работ Коро я забыл упомянуть изумительный женский портрет, ставший знаменитым после распродажи коллекции, на которую господин Кошен решился еще при жизни. Он тяжело переживал утрату двоих своих сыновей и зятя, погибших на поле боя, к тому же настолько сдал после болезни, что картины, которые он любил, как ребенок любит свои игрушки, больше его не «забавляли»…
* * *
Заметной фигурой среди любителей искусства был Шошар, владелец больших магазинов «Лувр», – Шошар, «император белья», как называли его в кругу друзей. Я бы никогда не осмелился проситься на прием к этой почти королевской особе. Но вот что я придумал. Когда мне надо было сделать покупки в больших магазинах, я чаще всего отправлялся в «Лувр», надеясь на то, что случай, возможно, сведет меня с легендарным Шошаром. В моем воображении деспот с улицы Риволи рисовался грозным Юпитером, который нисходил с директорского трона и, минуя отделы магазина, отправлялся на поиски какой-нибудь соблазнительной смертной. Я уже представлял, как магнат моды передает мне заказ на работы Сезанна, Ренуара, Гогена… Однажды в отделе пристежных воротничков я услышал чей-то шепот: «Это он…» Действительно, появился сам Шошар. Он шел величественной походкой, но вдруг его лицо, красноту которого приглушало легкое облачко пудры, побагровело. Могущественный хозяин подскочил к заведующему отделом и, показывая пальцем на какого-то работника, приказал:
– Пусть этот парень сейчас же пройдет в кассу и получит расчет!
– Но позвольте, это же один из лучших моих продавцов! – изумился заведующий отделом.
– Вы разве не видите, что он рыжий? Я не потерплю рыжих в «Лувре»!
Напоминая в этом смысле одного из персонажей Андерсена, которому мерещилось, что он видит дьявола, стоило ему оказаться в присутствии ризничего, Шошар панически боялся рыжих людей.
Это был первый и последний раз, когда я искал с ним встречи. Действительно, я стал опасаться, что, если в картине, которую я ему предложу, магнат моды углядит что-то напоминающее ему ненавистный оттенок, в нем опять взыграет его мания, ибо когда вам не дает покоя какой-нибудь цвет… Вспоминается один вечер, когда я сопровождал Дега и Ренуара, возвращавшихся к себе домой. Ренуар, страсть которого к красному цвету известна, показал Дега на ослепительно-белую луну в небе и воскликнул: «Какая там внутри краснота!»
Но если мне не суждено было больше увидеть Шошара, то я узнал об этой необыкновенной личности из рассказов его сотрапезников так много, что не могу не поддаться искушению написать о нем в своих мемуарах.
– Дружище Шошар, вы просто маг! Бог создал времена года, подчинив их неизменному порядку, но стоит вам приказать, как среди зимних заморозков вдруг появляются Флора и Помона, несущие в руках свои прекрасные дары! – такие речи произносили дармоеды, которые толпились вокруг него в столовой-оранжерее. «Император белья» упивался этим фимиамом. Однако иногда случалось и так, что «маг» обращал к льстецам задумчивое лицо, выражение которого не могло их не волновать. Интересно, что бы сказали эти услужливые подпевалы, знай они, что в такие минуты его мысли были заняты именно ими, что в подобные моменты он составлял завещание, касающееся непосредственно их.
В самом деле, мечтая ярко и публично засвидетельствовать свою благодарность друзьям дома за их нерушимую верность, магнат с улицы Риволи придумал, чтобы в день похорон они шли перед гробом и каждый бы нес в руках одну из картин, которыми он собирался обогатить коллекции национальных музеев.
К его единственному наследнику, министру Лейгу, по закону должна была отойти картина Милле «Анжелюс»; ввиду заплаченной им суммы – более пяти миллионов в современных франках – она казалась Шошару, безусловно, самой прекрасной из его картин. Так же и для других услужливых людей – послов, заправил индустрии, даже королей в изгнании – ему предстояло выбрать, в строгом соответствии с протоколом, картины, которые каждый из них понесет в день его похорон.
После того как гости расходились по домам, можно было видеть, как амфитрион с баночкой клея в одной руке и фотографиями завсегдатаев в другой производил смотр своих картин, задаваясь вопросами: «Кто понесет Коро? Кто Жюля Дюпре?..» Однажды, когда, пребывая в мучительных сомнениях, он начал браниться вслух, вдруг раздался гнусавый голос: «Шошар, ты просто дурак!» Это был его попугай, повторивший фразу, которую столько раз слышал от своего хозяина, злившегося на самого себя.
* * *
Как-то я узнал, что в магазинах «Самаритен» в первый день нового года раздавали календари с цветной репродукцией картины Ренуара. Говорили, что эта репродукция получилась очень удачной. Всегда испытывавший интерес к новым способам гравюры, я отправился в «Самаритен», чтобы спросить, нельзя ли приобрести один из этих календарей. Мне обещали поискать. Когда я пришел снова, то узнал следующее: этот календарь распространялся несколько лет назад, но один экземпляр для меня все же нашли. Заведующий отделом добавил, что владелец магазинов «Самаритен», господин Коньяк, желает меня видеть, так как ему хочется знать, зачем мне понадобился этот календарь. В назначенный день я прохаживался по магазину, ожидая приема. Я заметил старого служащего, который подбирал валявшиеся на паркете булавки и обрывки веревки. Пока я рассеянно наблюдал за этой сценой, мое воображение работало. Очевидно, господин Коньяк интересуется Ренуаром, раз он воспроизвел одну из его картин! Передо мной уже открывались заманчивые перспективы. Наконец меня позвали к господину Коньяку и провели в его кабинет. Каково же было мое удивление, когда я увидел за письменным столом старого служащего, только что привлекшего мое внимание! Он был занят сортировкой мелких предметов, составлявших его «улов». Не отрываясь от своего занятия, господин Коньяк – а это был он – спросил, что я намерен делать с календарем.
– Авторское право на его издание принадлежит мне, – заметил он.
Я ответил, что не собираюсь воспроизводить гравюру, а просто интересуюсь способом ее изготовления, который мне очень хвалили.
Он вручил мне календарь, и я убедился, что репродукция Ренуара была не лучше и не хуже тех хромолитографий, которые использовались в рекламных целях.
Я подумал, что сейчас самое время поговорить с ним о своих «ренуарах», «дега», «сезаннах».
– Если речь идет о товарах для моих магазинов, – сказал он, – то обратитесь в отдел предложений; если, напротив, вы имеете в виду мои частные коллекции, то для этих целей у меня есть постоянный агент.
* * *
Разумеется, эта неудача не могла подстегнуть меня в стремлении завязать знакомство с магнатами моды. Позднее я еще раз совершенно случайно столкнулся с одним из самых могущественных крезов. Я имею в виду директора «Галери Лафайетт».
Я купил в этом магазине зонтик, и мне захотелось поменять его на другой, с иной рукоятью. В отделе продавец забросал меня вопросами: в какой день я купил зонт, почему на нем нет ярлыка и т. д. Но вдруг я услышал:
– Как, это вы, господин Воллар?!
Заговоривший со мной человек был не кем иным, как председателем административного совета «Галери Лафайетт», самим господином Бадером.
– Стало быть, вы не испытываете трудностей с финансами, делая покупки в наше кризисное время? – продолжил он.
Из этих слов я понял: вряд ли можно рассчитывать, что господин Бадер окажется сговорчивее, чем господин Коньяк. Мне оставалось только подождать, когда я получу другой зонт. Но с продавцом, который только что показал себя таким формалистом, произошла поразительная метаморфоза: он превратился в обходительнейшего человека. Волнуясь оттого, что он имеет дело со знакомым своего хозяина, этот продавец, поначалу такой дотошный, протягивая мне другой зонтик, сумел выдавить:
– Спасибо, мсье… Имею честь…
* * *
Однажды в гостях у Поля Алексиса я увидел картину «Эффект снега», принадлежащую кисти неизвестного художника, фамилия которого была, кажется, Монтийяр.
Поль Алексис сказал мне:
– Поскольку вы покупаете картины, вам следовало бы приобрести и эту.
– За сколько?
– За двести пятьдесят франков.
– Годится!
Я уже собирался унести свою покупку, как он остановил меня и сказал:
– Подождите, я сниму раму.
– Но именно из-за рамы я ее и покупаю. Я даже могу вам оставить сам холст.
– Дело в том, что я тоже дорожу рамой.
– Но как вы могли заключить подобную картину в такую ценную раму?
– Подобную картину? Но ее автор не первый встречный. Он входит в группу импрессионистов и близко знал Сезанна, Писсарро…
Он начинал вызывать у меня интерес, этот Монтийяр. Человек, знавший Сезанна и Писсарро, возможно, обладал картинами этих художников.
– Что стало с вашим Монтийяром? – спросил я у Поля Алексиса.
– Кажется, он по-прежнему живет в Жифе.
На другой день я отправился в Жиф, где действительно нашел старого художника. Я сказал ему, что узнал от его друга Поля Алексиса о том, что он встречался с художниками, с которыми я тоже был знаком и произведения которых находились у меня: Сезанном, Ренуаром, Гийоменом. Мы разговорились.
– У вас наверняка есть полотна друзей вашей молодости… Работы Писсарро, Сезанна… – заметил я.
– Конечно! У меня есть «сезанны», «писсарро», «виньоны». Вы хотите их посмотреть?
– С удовольствием… А вы не думаете их продавать?
– Господи, да! А вы могли бы стать покупателем?
– Я не говорю «нет».
– Подождите!
Он сходил в соседнюю комнату и принес оттуда с дюжину холстов.
– Дайте мне тысячу двести франков – и можете забрать все!
Я поспешил принять его предложение.
В этот момент художника позвал женский голос. Он прошел в комнату рядом, и я услышал такой диалог:
– Ты получил деньги?
– Да, получил; он не торговался. Это гораздо лучше, чем последняя котировка…
Я был весьма заинтригован. Что это за котировка картин?
Пока Монтийяр свертывал холсты, я продолжил беседу:
– Кстати, нет ли у вас под рукой котировки? Мне хотелось бы получить сведения о работах Сислея.
Он достал из кармана отпечатанный типографским способом листок, напоминающий газетную гранку, и прочитал: «Котировка импрессионистов. „Ренуары“ понижаются. Отсутствие спроса на „сислеев“. Цена нескольких предложенных „писсарро“ и одного „сезанна“ снизилась на 10 %. Никакого рынка для „виньонов“. С трудом идут „моне“».
– Где можно подписаться на эту котировку? – спросил я в полном изумлении.
– Не знаю. Мне передал ее один мой старый друг, газетчик.
По возвращении в Париж я отнес свое приобретение к мастеру по дублированию холста.
– Эти вещи я обнаружил в Жифе, – сказал я.
– В Жифе? Там у меня есть один клиент, журналист. Вот уже пять или шесть лет он твердит мне о картинах Сезанна и Писсарро, которыми владеет один из его друзей. «Я придумал одну штуку, – рассказывал он, – чтобы заполучить их однажды по дешевой цене, и надеюсь, что скоро принесу вам эти картины для подбивки нового холста». Вот забавно, если это и есть те самые вещи!..
Представляю себе, какую мину состроил находчивый друг, когда, явившись к Монтийяру с еще более удручающей котировкой, чем предыдущие, он услышал, как художник с торжествующим видом произнес: «Представьте себе, один дурачок…»
Через несколько недель у одного торговца картинами я увидел человека, находившегося в состоянии крайнего возбуждения; как мне сказали, это был Орельен Шолль.
– Что с вами? – спрашивали у него присутствующие.
– Можете ли вы поверить, что какой-то проходимец выманил у старого художника, моего друга, целую партию работ Сезанна и Писсарро?
* * *
Никогда не надо пытаться направлять любителя искусства. Следует воздерживаться от того, чтобы объяснять ему сюжет, втолковывать смысл картины и т. д. В связи с этим на память приходит случай, когда один коллекционер прислал мне фотографию картины. «Я хотел бы иметь пару к тому кубистскому полотну, которое я когда-то купил у Вас и в котором узнал пейзаж Кастилии, – писал он. – Я никогда не видел, чтобы подобным образом передавали атмосферу этой страны». Не откладывая дела в долгий ящик, я объяснил ему в ответном письме, что на холсте изображен не пейзаж, а «Человек, играющий на гитаре».
Я ждал слов благодарности, но вместо них картину мне вернули обратно.
Приведу еще один пример того, как может влиять на любителя название картины.
Я устроил выставку Сезанна, где фигурировало полотно, написанное на пленэре и изображающее обнаженных женщин рядом с персонажем, своим одеянием напоминающим пастыря. Холст был помещен в раму, с которой забыли снять старую табличку, гласившую: «Диана и Актеон». В газетных отчетах картину описывали таким образом, словно речь действительно шла о купании Дианы. Один художественный критик превозносил даже благородство позы богини и целомудренный вид окружавших ее дев. В частности, он восхищался жестом служанки, которая у входа на поляну простерла руку, будто хотела сказать: «Поди прочь!» «В этом движении узнаешь раздраженный жест оскорбленной невинности», – добавлял критик. Картина очень понравилась одному из моих клиентов:
– Если бы у меня уже не было выдающегося полотна Тассера «Купание Дианы», я обязательно приобрел бы эту картину.
Через некоторое время ко мне обратились с просьбой дать для какой-то выставки «Искушение святого Антония» Сезанна. Я пообещал послать этот холст, но, поскольку его вскоре купили, я отправил вместо него так называемую «Диану и Актеона»; на сей раз на раме не было никаких подписей. Но так как все ждали «Искушение святого Антония», картина была включена в каталог именно под этим названием. Поэтому на страницах одного журнала произведение описывалось таким образом, словно речь шла об «Искушении святого Антония». Там, где раньше восхвалялось благородство Дианы, художественный критик обнаружил колдовскую и в то же время коварную улыбку дочери Сатаны. Негодующий жест служанки превратился в бесстыдный жест обольщения. Лже-Актеон стал исполненным пафоса святым Антонием.
В последний день выставки пришел любитель, отвергнувший картину раньше, когда она называлась «Диана и Актеон». Он держал в руках упомянутый мной журнал и с торжествующим видом говорил:
– Я только что купил «Искушение». Какой потрясающий реализм!
Увидевшись в очередной раз с Сезанном, я рассказал ему о превратностях, случившихся с его картиной.
– Да там ведь нет сюжета. Я всего лишь попытался передать определенные движения, – сказал он.
Следующий пример показывает, до какой степени человек может стать жертвой собственного воображения.
Я показал одному клиенту два этюда Сезанна. И он сразу произнес:
– Мне больше не нужны эти махины, на которых остаются пустоты…
Спустя несколько месяцев этот клиент попросил меня зайти к нему.
– Я приехал из Будапешта, – сообщил он. – Шесть дней по железной дороге – как это утомительно! Но я привез вот эти жемчужины.
Мне не стоило большого труда узнать две картины, которыми он когда-то пренебрег.
Любитель продолжал:
– Они переплюнули ваши, не так ли? В роли посредника выступил один берлинский торговец. Ваш коллега из Будапешта оказался очень сговорчивым. Он взял у меня картину Ренуара «неудачного периода», и надбавка едва ли превысила вдвое ту сумму, которую вы просили за два ваших эскиза! Я знаю, что вы мне скажете. В моих «сезаннах» также есть незаполненные места. Согласен. Но на тех картинах, которые предлагали мне вы, чувствовалась незавершенность, тогда как пустоты на моих работах выглядят сознательными. Впрочем, мы можем сравнить.
– Увы, слишком поздно, – ответил я. – Я послал свои картины за границу, и мне только что сообщили, что их купил парижский коллекционер.
– Вот было бы забавно, если бы речь шла о ком-то, кто видел их у вас и отверг, а затем приобрел, не узнав эти работы.
Я улыбнулся, а мой собеседник тут же спросил:
– Ведь я угадал, не так ли?..
Но я сослался на профессиональную тайну…
Обычно упускают из виду то обстоятельство, что картины могут также исцелять.
Вспоминаю одного коллекционера, во время серьезной болезни впавшего в состояние прострации, из которого врачам никак не удавалось его вывести. Светило медицинской науки, приглашенный в этом безвыходном положении для консультации, не скрыл своих опасений.
– Если бесчувственное состояние продолжится, то надо приготовиться к худшему, – заявил он. – Только потрясение могло бы вызвать у пациента благоприятную реакцию.
– А что, если внезапно сообщить ему о смерти одного из близких ему людей? – предложил лечащий врач.
– Например, можно сказать, что тяжело заболела моя мать, – добавила жена больного. – Он ужасно любит свою тещу.
Наклонившись к пациенту, врач крикнул:
– Ваша теща скончалась… внезапно!
Но больной, казалось, воспринял это известие с полным безразличием.
– Никакой реакции, мадам!
Тогда в дело вмешалась старая горничная:
– Мадам, мне сдается, что больше всего мсье дорожил своими картинами.
– Как? У него есть страсть? – воскликнул врач. – Надо попробовать сыграть на этом… – И, обращаясь к служанке, он спросил: – Вам известно, какая из картин самая любимая у вашего хозяина?
– Вот эта, – ответила она без колебаний, показав на «Подсолнухи» Ван Гога, висевшие напротив кровати. – Мсье всегда говорил, когда видел меня с метелкой из перьев в руках: «Мария, будь повнимательнее с моим „ван гогом“».
– Отлично. Ну что ж, мы сделаем вид, что хотим ее продать.
Пришел торговец, которого посвятили в обстоятельства дела, и стал с серьезной миной рассматривать картину, оценивать ее, рассуждать о ее достоинствах. Наконец он снял полотно со стены… Больной, наблюдавший за сценой со все возрастающим беспокойством, приподнялся на постели, а затем рухнул навзничь, разразившись рыданиями.
– Он спасен! – сказал врач…
Однако бывает, что страсть коллекционера, напротив, оказывает на него губительное воздействие, как в случае с другим любителем искусства, о котором врач говорил его близким: «Неврастеническое состояние вашего родственника вызвано неприятными эмоциями, причина которых – негативное отношение к картинам Клода Моне… Он должен как можно скорее избавиться от своей коллекции».
В другой раз один отец семейства рассказывал в моем магазине о том, как его сын ухлопал на девочек миллион, доставшийся ему в наследство от матери. И тогда присутствовавший при разговоре господин де Камондо заметил, что, если бы вместо того, чтобы распутничать, он стал покупать импрессионистов, ему удалось бы за несколько лет утроить свой капитал.
На что папаша ответил:
– Да, мой мальчик просадил миллион, возможно, он упустил случай заработать три, но, по крайней мере, вместо того чтобы постоянно нервничать по поводу котировки своих импрессионистов, он сохранил веселый нрав…
Как-то раз в дверь моей квартиры на улице Грамон позвонили. Передо мной стоял посетитель, запыхавшийся оттого, что ему пришлось подняться на пятый этаж.
– Я хочу посмотреть живопись, – сказал он. – Но у меня мало времени. Через час я уезжаю в Ниццу. Завтра начинается карнавал…
Мы поспешно отправились в мой магазин. Там без всякого смущения человек сказал:
– Сперва покажите мне, где у вас «удобства», ибо, когда у меня переполнен мочевой пузырь, я не вполне хорошо себя чувствую.
Эти приготовления уже заняли у нас четверть часа. Еще четверть часа требовалось ему для того, чтобы добраться до вокзала. Значит, у нас оставалось полчаса, и за это время посетитель успел приобрести внушительную партию работ Гогена, Домье, Ренуара. Он вручил мне задаток, оставил свою визитную карточку и вернулся к фиакру, покачивая головой в такт музыке. На улице аккордеонист выводил ритурнель. Кто-то зашел в магазин и, показывая на удалявшегося человека, сказал:
– Он наверняка из Вены. Венцы приходят в восторг, когда слушают музыку.
Действительно, посетитель оказался жителем Вены.
Через несколько месяцев, не имея от него никаких известий, я написал ему, что жду его распоряжений об отправке купленных картин. Он ответил на редкость любезным письмом, в котором взахлеб расхваливал очаровательный Париж. Но ни словом не обмолвился о своих покупках. Я напоминал ему о картинах дважды или трижды, и каждый его ответ казался мне ответом человека, старающегося обойти неприятную тему.
Я уже собрался было поехать к нему, чтобы выяснить все на месте, как стоимость картин, проданных мной этому клиенту, заметно возросла. Я поспешил сообщить ему эту приятную новость, попутно дав понять, что он не должен больше откладывать окончательный расчет за сделку, поскольку она оказалась такой выгодной для него. Он ответил, что намерен приехать в Париж и что мы вместе где-нибудь позавтракаем.
Мы действительно прекрасно позавтракали на площади Мадлен. Венца сопровождала очень хорошенькая и необыкновенно любезная женщина. Они даже пригласили меня вечером в театр. После спектакля я вынужден был дать согласие на ужин. Мой радушный хозяин проявлял все большую экспансивность. Вдруг он встал с места и, схватив меня за обе руки, произнес:
– Послушайте, дорогой друг, я не могу примириться с мыслью о том, что причиняю вам ущерб, извлекая выгоду из повышения цен на мои картины. Я настроен расторгнуть наш договор.
Его предложение удивило меня лишь наполовину. Конечно же, он принимал за хитрость торговца подорожание, о котором я ему сообщил.
– Меня будет мучить совесть, если я соглашусь на такое возмещение убытков… – сказал я.
– Пусть она вас не мучает, я решился.
У меня была при себе чековая книжка, и я вернул клиенту уплаченный им задаток. Он положил чек в карман с облегчением, словно освободился от непосильного бремени.
Чтобы ответить на его любезность, я в свою очередь пригласил венца на завтрак. Должно быть, он успел навести справки о том, сколько стоят теперь его картины, так как за десертом он опять взял меня за руки и сказал:
– Дорогой друг, я не хотел бы, чтобы наше знакомство было омрачено недоразумением. Позвольте мне взять мои картины обратно…
– Хорошо!.. Но по какой цене? Я же вас предупредил, что они сильно подорожали…
Мой «клиент» не стал больше настаивать.
Через несколько дней кто-то сказал мне:
– Я только что виделся с одним венцем, он страшно зол на вас и говорит, что вы его здорово «приложили»…
Я находился в своем магазине и читал книгу, когда кто-то вошел. Поскольку посетитель хранил молчание, я продолжал читать. Меня представляли человеком, который то, прячась за дверью, готов наброситься на клиента, то чуть ли не прогоняет взашей смельчака, явившегося с намерением что-то купить. Я не бросаюсь на клиентов и не выставляю их за дверь. Заметив, что вошедший то и дело поглядывает на улицу, я в конце концов поинтересовался, не ждет ли он кого-то.
– Я жду, когда кончится дождь, – ответил незнакомец.
Действительно, как только небо прояснилось, он ушел. Поэтому я был немало удивлен, когда снова увидел его на другой день.
– Не скажете ли вы мне, кто сегодня самый великий художник? – вдруг спросил он. И поскольку я смотрел на него с изумлением, посетитель добавил: – Самый великий художник – это Стейнлен. У вас есть его работы?
Я показал ему несколько пастелей. Он тут же купил их. А потом спросил:
– Не могли бы вы достать для меня и другие его вещи?
– Заходите вечерком. Надеюсь, что я их раздобуду.
После полудня я отправился к Стейнлену. Он курил свою трубку возле папок, заполненных рисунками. Я купил у него все.
Вернувшись на улицу Лаффит, я заметил своего «любителя», который прохаживался взад и вперед перед дверью магазина. Он пошел ко мне навстречу и сразу поинтересовался:
– Ну как, они у вас?.. Давайте их скорее…
На следующий день он вернулся. Теперь у него был озабоченный вид.
– Я сделал важное открытие. Самый хороший художник не Стейнлен, а Морен. Я видел его картину, которая, к несчастью, не предназначена для продажи; он почти не уступает Энгру. У вас есть его полотна?
– Да, несколько работ.
Он торопливо купил то, что я ему показал. И, обнаруживая ненасытность, произнес:
– Я хотел бы иметь еще и другие холсты.
– Думаю, что смогу их достать. Приходите вечером, часам к шести.
Я отправился к Морену и приобрел у художника все, чем он располагал. Когда я вернулся в магазин, клиент меня уже поджидал, он не дал даже развернуть принесенный мной сверток с холстами и поспешил уплатить требуемую сумму.
Через несколько дней ко мне заглянул сам Морен.
– Отныне я могу принимать заказы в любом количестве, – сказал он. – Я только что придумал способ, убыстряющий работу. Я набрасываю контуры и с помощью своеобразного распылителя собственного изобретения наношу на рисунок краску.
Сообщить другие подробности о своем изобретении он не захотел, очевидно опасаясь, что им воспользуются другие.
Некоторое время я ничего не слышал о том любителе искусства, но в один прекрасный день он пришел ко мне весьма взволнованный.
– Определенно Морен не самый великий художник, – заявил он. – Но кто же, в самом деле, лучший?
– По правде сказать, – ответил я, – не существует какого-то одного самого великого художника. Есть величайшие художники: Сезанн, Ренуар, Моне, Дега…
Он прервал меня:
– Когда я слышу сразу чересчур много имен, у меня в голове все путается.
И он впал в задумчивое состояние. Поскольку его молчание затянулось, я предложил:
– В затруднительных ситуациях Рабле советовал обращаться к игральной кости…
– Я дал слово сестре, что никогда не притронусь ни к картам, ни к кости.
– А если положить бумажки с написанными на них именами в шляпу и тянуть жребий? Ведь это не имеет ничего общего с игральной костью или картами!
Моя идея ему понравилась, и на кусочках картона он написал имена художников, которые я ему назвал: Сезанн, Ренуар, Дега, Моне, Гоген. Тщательно перемешав их в шляпе, он, к нашему изумлению, извлек картонку, которую мы туда не клали.
Оказалось, что клиент машинально подхватил лежавшую на столе табличку с фамилией Ван Гога и сунул ее вместе с другими в шляпу. Несмотря на это, ему захотелось, чтобы автор «Подсолнухов» также был учтен в жеребьевке.
– Внутренний голос мне подсказывает, что надо следовать предначертанию судьбы. Моя сестра советовала мне всегда прислушиваться к внутреннему голосу.
И он выбрал некоторые из самых значительных имевшихся у меня произведений Ван Гога.
Он высказал желание продолжить жеребьевку, и на этот раз выпал Сезанн. Посетитель приобрел также более тридцати работ этого художника.
Расставаясь со мной, он пообещал зайти вскоре опять, но я больше его не видел.
Через несколько лет один голландец, находившийся в Париже проездом, сказал мне, когда мы с ним разговорились:
– У нас в Гааге живет один малый, история которого не совсем обычна. Поскольку он сторонился людей и ни с кем не общался, за ним утвердилась репутация глубокомысленного человека. Родители оставили ему наследство, которым он мог распоряжаться по своему усмотрению. После довольно долгого пребывания в Париже он вернулся на родину с ящиками, заполненными картинами, но в кармане у него было не больше нескольких флоринов. Приобретения были представлены на суд экспертов. Последние пришли к единодушному выводу, что если в этой партии картины старых или так называемых старых мастеров обнаруживали попросту полное невежество покупателя, то холсты современных художников мог приобрести только сумасшедший. После консультации с психиатрами коллекционера поместили в лечебницу.
«Батюшки! – подумал я. – Уж не мой ли это голландец?»
В самом деле, это был он. Когда сей чудак умер через десять лет, родственники поторопились распродать коллекцию картин, которую в соответствии с законом нельзя было трогать во время его пребывания в психиатрической лечебнице. На аукционе одна картина Ван Гога была продана более чем за тридцать тысяч франков. «Сезаннов» отложили в сторону из опасения напугать публику. Когда их все же решились показать, самые знаменитые коллекционеры боролись друг с другом за право обладать ими.
Весть об этом аукционе быстро разлетелась повсюду и настолько возбудила умы, что некоторые дошли до того, что стали признавать за сумасшедшими особое чутье на живопись, сулящую большие доходы. Затем – в это трудно поверить – образовалось специальное общество; собрав необходимый капитал, его члены отыскали одного блаженного человека и отправили его в Париж в сопровождении представителя, имевшего поручение приобретать картины, на которые ему укажет этот дурачок. Однако последний проявил к живописи столь полное равнодушие и так упорно сопротивлялся посещениям выставок, галерей или мастерских, что от продолжения эксперимента пришлось отказаться.
Следующий пример показывает, какие представления о «пользующейся спросом» живописи сложились у определенной части людей. На сей раз речь пойдет не о покупке картин, а об их создании.
Я знал одного ребенка, который оставался неразвитым в умственном отношении. Поскольку родители беспокоились о его будущем, кто-то посоветовал им «двинуть» мальчика в живопись. Родители изумились, но им объяснили:
– Ну да, ведь на аукционах выше всего ценятся произведения чокнутых.
Возникло, однако, одно препятствие. Ребенок отличался духом противоречия. Поэтому родители пошли на хитрость: холсты, кисти и краски они положили у мальчика на виду, но при этом запретили ему до них дотрагиваться. Юный строптивец вскоре завладел холстами и начал покрывать их красками. Когда было решено, что он нарисовал достаточно много картин, родители отправились к директору одной так называемой авангардной галереи.
– Мы пришли показать вам живопись сумасшедшего, – заявили они.
Но, взглянув на принесенные работы, торговец воскликнул:
– Вы что, смеетесь надо мной?! Разве это живопись сумасшедшего? Живопись сумасшедшего – это когда невозможно понять, что нарисовано: фигура, пейзаж или натюрморт; а здесь все очень ясно.
Чета была всерьез огорчена.
– Черт возьми! – причитал отец. – Я впустую потратил около полутора тысяч франков на холсты и краски!
Однажды мою квартиру на улице Грамон посетила дама с весьма изысканными манерами.
– Я маркиза де С., – сказала она. – Мне бы очень хотелось увидеть работы Матисса и Пикассо, находящиеся у господина Стайна. Мне сказали, что вы с ним знакомы.
– Мадам, вы не нуждаетесь ни в каких рекомендациях, – ответил я. – Стайны, оба брата и их сестра, мадемуазель Гертруда, самые радушные люди на свете. Двери их дома открыты для всех по субботам начиная с девяти часов вечера.
– Мне об этом уже сказали, но сегодня понедельник, а самое позднее послезавтра я должна сесть на поезд, отбывающий в Рим. Представляете, за чаем в «Рице» все говорили о коллекции Стайна, и я выглядела полнейшей идиоткой. – Она чуть помялась, а затем добавила: – Я состою в тесной дружбе с послом Италии. Не думаете ли вы, что если я попрошу его замолвить словечко послу Америки…
– Подобные попытки подключения послов уже предпринимались, но безуспешно.
– Что ж, ничего не поделаешь! Я подожду.
В следующую субботу я по ее просьбе отправился с маркизой С. к Стайнам.
Мадемуазель Гертруда Стайн, беседовавшая с друзьями, ответила на наше приветствие и жестом показала, чтобы мы чувствовали себя как дома.
Господин Лео Стайн сидел, а точнее, развалился в кресле, закинув ноги на верхнюю полку книжного шкафа.
– Это как нельзя лучше способствует пищеварению, – сказал он, приветствуя меня.
Когда я вспоминаю те далекие времена, то вновь вижу висящие на стенах квартиры Стайнов картины Матисса, Пикассо и Сезанна, портрет сидящей в красном кресле мадам Сезанн, одетой в серое. Когда-то это полотно принадлежало мне, и я отдал его на ретроспективную выставку работ мастера из Экса, организованную в Осеннем салоне 1905 года. Поскольку я часто посещал эту выставку, мне случалось видеть там Стайнов, обоих братьев и их сестру: они сидели на скамеечке напротив портрета. Молча они созерцали картину; но вот Салон закрылся, и ко мне зашел господин Лео Стайн и предложил продать ему полотно за определенную сумму. Его сопровождала мадемуазель Стайн. «Теперь картина наша», – сказала она. Можно было подумать, что брат и сестра только что внесли выкуп за дорогого им человека.
Мадемуазель Гертруда Стайн была очень сложной личностью. Глядя на эту внешне простоватую женщину, одетую в платье из грубого велюра, в сандалиях с кожаными ремешками, ее можно было принять за домохозяйку, чей интеллектуальный горизонт ограничен общением с фруктовщиком, хозяином молочного магазина и бакалейщиком. Но стоило ее взгляду встретиться с вашим, как вы тотчас понимали, что в мадемуазель Стайн таится нечто большее, нежели обывательские представления. Ее живой взгляд сразу выдавал в ней наблюдательного человека, от которого ничто не ускользает. Как было не поддаться ее обаянию, не почувствовать к ней полное доверие, когда вы слышали ее смех – смех издевательский, словно она подтрунивала над самой собой?..
Недавно кто-то сказал мне:
– Я прочитал в «Нувель ревю франсэз» описание мастерской Матисса, сделанное мадемуазель Стайн. Там нет ни малейшего намека на творчество художника. Она просто отмечает предметы, попадающие в ее поле зрения: здесь стул, там мольберт; на стене картина без рамы; статуэтка на консоли…
Я не преминул возразить своему собеседнику, что в тексте мадемуазель Стайн можно обнаружить нечто большее, нежели бесстрастные перечисления. Например, разве мог я, при всей моей неспособности определить имя того или иного персонажа в самом прозрачном романе с реальными прототипами, когда мне попался отрывок из «Мемуаров» Гертруды Стайн, не узнать себя в хмуром персонаже, который стоит на пороге своей лавочки, упершись обеими руками в дверной косяк, и глядит на прохожих с таким видом, будто хочет послать их всех к дьяволу? Сколько раз я сожалел о том, что природа отказала мне в любезном и веселом обхождении с людьми!
Узнав недавно, что переводить «Мемуары» мадемуазель Стайн взялся профессор Коллеж де Франс господин Бернар Фей, я воскликнул: «Профессор Коллеж де Франс! Как повезло мадемуазель Стайн!»
Раз уж я коснулся темы перевода, то расскажу о таком любопытном случае. В статье о Гогене я написал, что отношения художника с колонистами на Таити были для него мучительными. По поводу этой фразы мой переводчик заметил:
– Как это вы, мсье Воллар, ставите слово «colons»[47] во множественном числе? Есть только один «colon»! «Colon» – это часть толстой кишки…
И, видя мое изумление, он добавил:
– Можете не сомневаться, я сверился по словарю.
Теперь о других американских коллекционерах.
К вам приходит господин Барнс. Он просит расставить перед собой двадцать, тридцать холстов. И, проходя мимо них, без колебаний указывает на приглянувшиеся ему вещи. Так господин Барнс собрал для фонда, носящего его имя, около сотни «сезаннов» и более двухсот «ренуаров».
Другим американским коллекционером, которому художники обязаны столь многим, был господин Джон Куинн. Во время войны господин Куинн, не жалея денег, занимался приобретением холстов французских художников для Соединенных Штатов. Будучи известным адвокатом, он поставил им на службу свои знания юриста. В частности, пытался улаживать, и небезуспешно, споры между ними и американской таможней. Одним из примеров подобных тяжб является дело, возбужденное против скульптора-символиста Бранкузи в связи с его бронзовой скульптурой «Птица»: таможня заявила, что это не скульптура вовсе, а всего лишь кусок грубого металла, и усмотрела в стремлении выдать его за произведение искусства уловку, позволяющую обойти налог, которым облагается ввозимый в страну необработанный металл. В другой раз, в американском консульстве, где возникли сложности при определении характера товара (то ли это промышленное изделие, облагаемое пошлиной, то ли произведение искусства, от нее освобожденное), художник Жорж Руо сказал служащему, в кабинете которого он находился:
– Не изволите ли вы встать?
Удивленный чиновник выполнил его просьбу, а Руо продолжил:
– Посмотрите на ваш стул. Деревянная крышка, на которой вы сидите, имеет отверстия, проделанные на равном расстоянии друг от друга и имеющие одинаковый диаметр: это фабричная работа. Если бы отверстия были сделаны вручную, то все стулья отличались бы один от другого. Вот в чем заключается разница между промышленным изделием и произведением искусства.
Американская художница Мэри Кэссетт, которая так много сделала для французского искусства, сказала мне однажды:
– Я говорила о вас господину Хэвемайеру. Отложите для него все, что у вас есть, лучшее… Вам, наверное, известно, кто такой Хэвемайер?
Еще бы я не знал об этом человеке! Хэвемайер, король сахара! Незадолго перед тем я как раз прочитал в газетах, что, когда произошло значительное снижение цен на сахар на американском рынке, господин Хэвемайер, в то время путешествовавший, немедленно возвратился в Нью-Йорк, и его возвращения оказалось достаточно для того, чтобы сахарный курс вновь обрел всю свою стабильность. Король сахара!.. Отбирая картины, которые, на мой взгляд, заслуживали его внимания, я думал: «Если бы я обладал могуществом миллиардеров, то поразил бы мир не богатством, а, напротив, скромностью своего образа жизни. У меня не было бы яхты. Я бы не заказывал специальные поезда. Не содержал бы роскошных дворцов. Не обременял бы себя многочисленной прислугой, подобно магнатам нефти, какао, бумаги и жевательной резинки…» Так размышлял я, когда невзрачный фиакр (а дело было в 1898 году) остановился возле моего магазина. Из него вышел очень скромно одетый господин. Я мысленно обругал незваного гостя. А что, если неожиданно появится господин Хэвемайер и ему придется ждать, пока я продам посетителю какую-нибудь гравюру!.. Но ничего подобного… Незнакомец хотел приобрести работы Сезанна. Он выбрал две из них, а затем вручил мне свою визитную карточку и вернулся к фиакру… Это был господин Хэвемайер!
Когда я познакомился с ним поближе, меня поразила не столько скромная одежда этого могущественного клиента, сколько дух строжайшей экономии, которым были отмечены все его житейские поступки. Как-то мы отправились с ним посмотреть одну картину, а господин Хэвемайер, остановившись перед зданием Комической оперы, сказал:
– Я должен заказать места. Сегодня вечером я иду в театр с женой и одним другом.
Подойдя к кассе предварительной продажи билетов, король сахара попросил три места в партере.
– Все распродано, мсье. Остались одни ложи.
– Тогда дайте мне три билета в ложу.
– Ложи рассчитаны на четыре места, и мы не продаем туда билеты по отдельности.
– Очень хорошо. Я зайду в другой раз.
И, повернувшись ко мне, он сказал:
– Понимаете, нас всего трое. Мне пришлось бы оплатить одно лишнее место.
Однако ему случалось совершать глупости, но глупости, так сказать, обдуманные. Когда я предложил ему как-то купить работу Сезанна, портрет сестры художника, удивительно напоминающий картины Эль Греко, он посчитал, что делать этого не следует. Полотно Сезанна вызвало тогда большой интерес у мадам Хэвемайер.
– Сколько? – полюбопытствовал король сахара.
– Десять тысяч франков.
– Почему десять тысяч франков, если за другой, не менее значительный холст вы просите семь? – спросил господин Хэвемайер.
– Вы правы. Обе картины стоят одна другой. Но согласитесь, что в портрете сестры есть еще что-то необъяснимое, называемое очарованием.
– Значит, вы хотите, чтобы я заплатил за очарование дополнительно? – произнес господин Хэвемайер.
Чуть позднее картину приобрел другой магнат, на сей раз уже французский, король маргарина господин Огюст Пеллерен. Узнав о продаже холста, мадам Хэвемайер не могла не попрекнуть мужа за то, что он упустил «сезанна». Как-то вечером, когда все собирались отпраздновать его день рождения, господин Хэвемайер явился домой с картиной Лоуренса в руках, приобретенной в порядке компенсации.
– Вам действительно нравится эта картина? – спросила у него жена. – Я нахожу, что она гораздо хуже того «лоуренса», которого нам предлагали на днях!
– Я знаю, – ответил король сахара, – но сто тысяч франков за картину – это такая редкая удача…
Однако при всей его рассудительности господин Хэвемайер иногда принимал неожиданные решения.
– Сколько стоит этот «сезанн»? – вдруг спросил он, остановившись перед «Акведуком с приморскими соснами», когда я показывал ему холсты.
– Пятнадцать тысяч франков.
– Я ее беру.
Затем, словно пытаясь объяснить свою внезапную страсть к этой картине, он повернулся к жене и сказал:
– Вы не находите, что фон картины ужасно напоминает фреску, которая привела нас в такое восхищение в Помпеях?
Он еще раз посмотрел на работу Сезанна и пробормотал:
– Что же там такое внутри, что заставляет думать о стольких вещах?..
Это факт, что любая новинка, рожденная французским гением, наталкивается у нас на безразличие, даже враждебность.
Известна подозрительность, с какой у нас в стране относятся ко всякому оригинальному явлению, будь то в литературе, музыке или живописи. Что же касается современной живописи, то я уже говорил, какие трудности приходилось преодолевать мастерам вроде Мане, Сезанна, Дега, Ренуара, Гогена и других, чтобы добиться признания у своих соотечественников. Сложилась парадоксальная ситуация: француз, не отличающийся рассудительностью, оказывается консерватором по отношению ко всякому новому явлению в искусстве – настолько он в глубине души опасается стать жертвой обмана. И наоборот, немец, инстинктивно подчиняющийся всему, что есть коллективная дисциплина, с каким-то воодушевлением становится поборником произведений, которые опередили свое время. К таким людям можно отнести Пауля Кассирера, чья галерея в Берлине казалась продолжением улицы Лаффит; берлинского художника Либермана, украсившего стены своей мастерской лучшими работами наших импрессионистов; директоров немецких музеев, а также всех тех берлинских коллекционеров, которые на аукционах в отеле Друо вздували цены на произведения Мане, Ренуара, Дега, Сезанна, Клода Моне – словом, представителей современной школы.
Однако мне случалось и ошибаться относительно намерений покупателей, когда я судил о них по внешним признакам. Одна немецкая пара, войдя в мой магазин, попросила разрешения осмотреть холсты Гогена. Вдруг дама заметила, что потеряла шляпную булавку, и поинтересовалась, есть ли поблизости лавочка, где можно было бы приобрести подобный товар. «Неподалеку от нас находится базар, – ответил я. – Моя служанка вас туда проводит». По возвращении служанка отвела меня в сторону и сказала: «Мсье, вам следует проявить осмотрительность. Дама нашла булавку, которая ей очень понравилась, но, увидев цену (один франк восемьдесят пять сантимов), сказала, что это для нее чересчур дорого. И купила другую за восемнадцать су».
И что же? Супруги приобрели у меня картин на сумму сто пятнадцать тысяч франков.
Если германские торговцы, любители, самые знаменитые художники становились пропагандистами современного французского искусства, то критики и журналисты, пишущие об искусстве, не обнаруживали никакого желания прославить «передовую» французскую школу. Вспоминаю, как в разгар войны, в 1917 году, в Швейцарии прошла выставка немецких переплетов, Там можно было увидеть изданные мной книги «Параллельно» и «Дафнис и Хлоя» с иллюстрациями Боннара: к ним с почтением отнеслись библиофилы по ту сторону Рейна, тогда как во Франции их еще не оценили. В связи с этим знаменитый немецкий критик Мейер-Грефе написал в «Газетт де Франкфор», что книга, подобная «Дафнису и Хлое», где все так удачно гармонировало – бумага, типографское исполнение, иллюстрации, – никогда не была бы издана в Германии.
Когда я выпустил в 1902 году книгу «Дафнис и Хлоя», другой страстный любитель искусства, немец граф Кесслер, самым энергичным образом расхваливал ее своим друзьям. Он даже настолько увлекся красивыми изданиями, что, в свою очередь, захотел выпускать подобные книги, первой из которых были «Эклоги», проиллюстрированные скульптором Майолем и отпечатанные на бумаге, изготовленной самим Майолем, так называемой монтвальской бумаге (по имени деревушки в Марли-ле-Руа, где находилась мастерская художника). Поскольку Майоль заметил, что бумага, изготовляемая из тряпок, простиранных в хлорированной воде, в конце концов желтеет, граф Кесслер тут же сам отправился на поиски рубашек, которые носят крестьянки, и добрался до самых отдаленных уголков Венгрии, где хлор не употребляется.
Вспоминаю об ужине, на который меня пригласил граф Кесслер. Это было в ресторане «Тур д’Аржан», сохранившем типично французский облик, несмотря на то что его посещало много иностранцев. Правда, надо сказать, что всюду, где есть хорошее вино, чувствуешь себя во Франции; а погреба «Тур д’Аржана» пользовались заслуженной репутацией, равно как и его метрдотель, знаменитый Фредерик. Я испытал что-то вроде страха, когда увидел утку с кровью, составлявшую гордость ресторана, но должен признаться, что блюдо оказалось очень вкусным. Можно сделать только один небольшой упрек: я люблю гладко выбритых и коротко подстриженных метрдотелей, а у Фредерика были длинные волосы и густая борода.
Помню, среди приглашенных была немецкая баронесса редкой красоты. Присутствовали там и Аристид Майоль и, если мне не изменяет память, один знатный немец, барон фон Боденхаузен. Это был высокий и крепкий малый, которого я скорее мог бы представить одетым в офицерский мундир, с саблей в руке, следящим за тем, как маршируют строевым шагом его люди. Граф Кесслер приобщил барона фон Боденхаузена к современному искусству. Поэтому я несколько раз видел его у себя в магазине. Однажды, когда речь зашла о статуе Жанны д’Арк работы Фремье, мой брат вспомнил фразу Мишле о том, что чудо, совершенное Жанной д’Арк, состояло в примирении французов. При этих словах барон фон Боденхаузен, который в тот момент с восхищением рассматривал холст Сезанна, резко обернулся и бросил на моего брата взгляд, в котором сверкнули искорки гнева. Я подумал: «Как он может негодовать по поводу исторического факта, имевшего место пять веков тому назад и даже не затрагивающего честь Германии?» Когда вскоре, в 1914 году, разразилась война, я понял, почему сама мысль о примирении французов перед лицом врага вызвала у барона раздражение.
Два посетителя, пришедшие на организованную мной выставку, говорили на каком-то непонятном иностранном языке. Один из них, купив холст Гогена, удалился. Я спросил у его спутника, оставшегося посмотреть картины, что это за язык, на котором они изъяснялись. «Русский», – ответил он. Я сказал коллеге из Москвы, что один из его соотечественников кое-что купил у меня и заплатил не торгуясь.
– Русский, который не торгуется! Должно быть, вы имели дело с каким-нибудь поляком…
Из этого я заключил, что покупать не торгуясь несвойственно истинно русскому человеку.
По поводу любителей искусства из России один из моих клиентов, которому не откажешь в стопроцентном русском происхождении, поскольку он всегда торговался (он москвич, но фамилию его я забыл, помню только, что она заканчивается на «ев»), сказал мне однажды:
– Один из ваших коллег меня просто потрясает. Когда я имею с ним дело, он всегда уступает мне картину на сумме, которую я наметил в качестве максимально возможной для себя. Честное слово, можно подумать, что он читает мои мысли!
Но, как я узнал позднее, читал торговец не мысли клиента, а из-за плеча его машинистки. Последняя, русского происхождения, записывала секретные переговоры между коллекционером и его соотечественником, которого он всегда брал с собой: они обсуждали друг с другом, до какого предела можно дойти.
Русскому темпераменту свойственна нездоровая импульсивность. Коллекционер из Москвы, господин Морозов, ожидал Мориса Дени. Художник должен был заняться оформлением его квартиры. Младший брат господина Морозова не раз говорил о том, что с большим удовольствием познакомился бы с этим мастером, приход которого был намечен на другой день. Во время разговора брат играл револьвером, лежавшим на столе, и вдруг воскликнул:
– А что, если мне застрелиться!
И, поднеся револьвер к голове, пустил себе пулю в лоб.
Однажды в магазин вошел посыльный из гостиницы. Он сообщил мне, что один клиент ищет «вот такие» картины, и показал на ню Сезанна, выставленные в витрине. И в самом деле, на другой день он вернулся вместе с русским, неким графом Сназиным, который, глядя на «обнаженных» Сезанна, покачал головой и сказал:
– Это очень грубо сделано. Мне нужны хорошо нарисованные ню, очень изысканные «непристойности»…[48] Словом, работы тех художников, которые изображают обнаженные модели так же похоже, как ваш Месонье поля, занесенные снегом. Я хочу приобрести сорок живописных работ, чтобы проиллюстрировать сочиненную мной сказку для детей… Один негритянский принц купил на рынке двух юных мальчиков. Вернувшись во дворец, он облачился в тунику из зеленой кисеи, украшенную красными бантиками. Что касается мальчиков, то одного из них он нарядил болгарским генералом, а другого русским матросом и обучил их этим… как вы говорите по-французски?.. шалостям…
Не пытаясь вникнуть в смысл сказанного, я только сообщил русскому, что подобных художников, удовлетворяющих его вкусу, он найдет в Люксембургском музее.
Через несколько дней он снова зашел ко мне. Граф побывал в Люксембургском музее, где обнаружил восхитительного голого мальчика, картину, не уступающую по тщательности отделки произведениям Месонье: это был «Мертвый ребенок» Бугро. Он обратился ко мне с просьбой пригласить этого художника в магазин вместе с образчиками его самых «изысканных непристойностей». Я объяснил посетителю, что господин Бугро весьма преуспевающий художник и что он не ходит к кому попало.
– Ну что ж, – сказал он, – тогда я пойду к нему сам.
Русский ушел, и я уже думал, что больше с ним не увижусь, как по прошествии некоторого времени он снова появился в моем магазине.
– Я зашел к этому Бугро, чтобы заказать у него сорок небольших картин с резвящимися голыми мальчиками, – рассказывал он. – Я подробно объяснил ему, что мне нужно, а он сказал: «Убирайтесь вон!.. старая…» Как вы говорите? По-английски это «old pig»… Ax да! Вспомнил – старая свинья…
Я счел своим долгом сообщить графу, что не знаю больше никакого другого художника, которого мог бы ему порекомендовать.
– Больше не беспокойтесь, я нашел то, что искал! – воскликнул он. – Когда я еще раз посетил Люксембургский музей и остановился возле ню Кабанеля, очень хорошо нарисованной картины, то увидел самого художника, делавшего с нее копию. Мы познакомились, и он тотчас согласился выполнить мой заказ.
Поскольку он был невероятно доволен, я решил не огорчать его сообщением о том, что настоящий Кабанель давно уже умер.
По правде сказать, мне было очень любопытно узнать, кем же является этот чудаковатый любитель «изысканных непристойностей». Чтобы вызвать его на доверительный разговор, я поведал ему, что среди моих русских клиентов есть промышленники, один известный торговец…
Перебив меня, он сказал:
– Я не торговец, я дворянин… Мой отец занимался благотворительностью, и я продолжаю его дело… Я содержу сиротский дом, который отец основал для мальчиков, оставшихся без семьи.
Сказав это, он пригласил меня поужинать.
– Я обнаружил у вас в Париже маленькое… как вы говорите? Ах, ну да… маленькое бистро.
Я побоялся оскорбить его отказом. И принял приглашение. Но мой амфитрион не помнил адреса этого заведения; мы условились, что он зайдет за мной на следующий день.
– Улица Камбон… – сказал он кучеру, когда мы сели в экипаж. – Я остановлю вас. Это совсем маленькое бистро.
«Совсем маленькое бистро» оказалось не чем иным, как знаменитым кафе «Вуазен», где у моего русского знакомого был заказан по вечерам столик. Ужин был превосходным. За десертом он предложил мне завершить вечер в другом месте и спросил, какой у нас самый известный театр. Я назвал первое, что пришло мне в голову, – «Варьете». Русский подозвал посыльного и велел ему сходить купить три билета. Естественно, я подумал, что он ждет кого-то еще.
Вскоре посыльный вернулся. Свободных мест уже не было.
– И все же мне хотелось бы туда попасть!.. Я заплачу сколько нужно…
Это был решающий аргумент. И посыльный почти тут же принес нам три билета.
Приехав в театр, мой знакомый прошел мимо раздевалки не останавливаясь, и я проследовал за ним. Когда мы усаживались, русский положил свой плащ на кресло между нами и предложил мне сделать то же самое. Это свободное место манило к себе зрителей, сидевших на откидных сиденьях. В начале спектакля они думали, что кресло с минуты на минуту займет обладатель данного билета. Но после первого антракта, поскольку оно по-прежнему пустовало, все зрители, сидевшие в нашем ряду, были вынуждены то и дело вставать, пропуская очередного претендента на это вожделенное место. И всякий раз русский вежливо и в то же время достаточно твердо произносил:
– Это место занято.
– Ваш друг сильно опаздывает, – заметил я вполголоса.
– Но я никого не жду…
И тут я понял, что третье кресло было забронировано для того, чтобы положить туда плащ и опираться на сиденье рукой…
* * *
Я как-то сказал одной американской даме:
– Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем нам придется ездить в Америку, чтобы полюбоваться самыми лучшими картинами европейских художников…
– Indeed…[49] Мы можем покупать…
– Конечно. Но как бы вы ни старались заполнить произведениями искусства все ваши небоскребы, чего у вас никогда не будет, так это до́ма, которому всего каких-нибудь четыреста или пятьсот лет.
Американка на мгновение задумалась, а потом произнесла:
– Иметь старый дом?.. Но это же очень просто: я могу купить его и увезти с собой в Америку…
– Разумеется, вы сможете получить груду камней; но неужели вам удастся забрать с собой и его душу?
– Душа дома… Что это такое?
– Если вам угодно, то это атмосфера, окружающая дом, место, с которым он неразрывно связан, все, что придает ему неповторимость, очарование, в каком-то смысле его лицо; да возьмите хотя бы мох, который каждую весну зеленеет на его крыше… Все это невозможно пересадить на другую почву. У вашего дома всегда будет вид изгнанника.
Через три месяца американка пригласила меня в свое имение под Парижем, где она жила. Мне очень нравилось это место, где с террас дома открывались бескрайние дали. Но каково было мое изумление! Огромное строение, внешне напоминающее старый замок, заслонило собой красивый пейзаж.
– О мадам, какое несчастье – иметь подобное соседство! Вы могли наслаждаться таким прекрасным видом!
Американка улыбнулась и сказала:
– Вы говорили мне о домах, возведенных четыре-пять веков назад, так вот, замку, который вы сейчас видите перед собой, шестьсот сорок лет, что удостоверяется в фактуре. Мне не составило труда его приобрести. Я позвонила по телефону своему поверенному и сказала: «Мне нужен замок, построенный шестьсот лет назад. Купите». И тут же начались подготовительные работы: вырыть здесь, там снести, пронумеровать камни. А еще я сказала, что хочу иметь черепицы, покрытые мхом. Подойдем к нему поближе, и вы увидите…
И она повела меня к замку.
– Не правда ли, мой замок удивительно красив?..
– Очевидно, у него был шикарный вид там, где он стоял раньше. Но не кажется ли вам, что здесь он выглядит, так сказать, чужаком?
– Ах да! Не хватает того, что вы называете… как вы говорите?.. атмосферой? Мы позаботились и об этом. Сняты все планы, и как только замок прибудет в Америку…
– Как? Вы собираетесь перевезти его туда?
– Разумеется… Дело вот в чем: я купила его и намеревалась оставить здесь. В Америку я бы отправила другой, мне предлагали еще более старое строение. Но я должна вам объяснить. Я послала фотографию замка, который вы видите здесь, своему сыну Харри, занимающемуся искусством. Он нашел, что это изумительное здание. Он хочет именно этот замок, и никакой другой! Харри не может приехать во Францию по причине морской болезни. Тогда я сказала ему: «Я отправлю замок в Америку». Сделать это будет так же несложно, как было несложно доставить его сюда; после того как камни пронумеруют и уложат в ящики, этот милый старый замок сможет совершить путешествие вокруг света. Но сначала надо было перевезти его сюда. Я собираюсь устроить праздник, и часть его программы предусмотрено провести в старой усадьбе. Сразу по окончании этого показа его снова разберут, пронумеруют и упакуют; мой архитектор дал письменное обещание, что через пять месяцев замок восстановят в имении Харри, на берегу Мичигана…
Американка помолчала, а затем продолжила:
– А что касается того, что вы называете атмосферой… По распоряжению архитектора был записан ветер, дующий в этих краях, пение соловья, стрекот сверчка, колокольный перезвон…
Она окликнула слугу и велела принести фонограф; из аппарата полились перечисленные выше звуки.
– Ветер получился не очень удачно, – извиняющимся тоном сказала американка, – я уже распорядилась о том, чтобы его записали еще раз…
IX. Перед «Олимпией» Мане в Лувре
Встреча художника Тоше с Мане в Венеции. – Как Мане работал. – Мане и итальянская живопись
Однажды в Лувре мне показалось, что в посетителе, который остановился перед «Олимпией», я узнал художника Шарля Тоше. Я подошел поближе. Это действительно был он. Заговорив с ним, я напомнил ему, что он когда-то обмолвился о своих встречах с Мане.
– Но скажите, как вы с ним познакомились?
– Это было в Венеции. Я зашел в кафе «Флориан», чтобы поесть мороженого. Высокий художник, чей изящный силуэт был мне знаком, устроился за соседним столиком вместе с женой. Величавая осанка мадам Мане произвела на меня сильное впечатление. Когда ее зонтик упал, я нагнулся и поднял его. Мане меня поблагодарил и сказал: «Я вижу, что вы француз… Господи, как я скучаю здесь!» Мадам Мане улыбнулась. Ее розовое и детское лицо просияло под широкополой шляпой. «Эдуар любит шутить, – заметила она, – он, как обычно, строит из себя парижанина».
– Мсье Тоше, скажите, именно во время этого пребывания в Венеции Мане нарисовал свою знаменитую картину «Сваи Большого канала»?
– Да. И как увлекся Мане этим мотивом! Белая мраморная лестница поднималась к бледно-розовым кирпичам фасада, кадмиевым и зеленым цоколям! Игра тени и света на поверхности воды, волнуемой проплывающими лодками, привела Мане в восторг: «Будто всплывают донышки бутылок из-под шампанского!» Как-то я плыл вместе с ним в его гондоле, и сквозь ряд гигантских искривленных свай, голубых и белых, мы любовались куполами несравненной церкви Санта-Мария делла Салюте, которую так ценил Гварди. Мане воскликнул тогда: «Я помещу там гондолу, ведомую лодочником в розовой рубахе, с оранжевым платком вокруг шеи, одним из тех красивых парней, смуглых, как абенсеррахи!»[50] Несколько обитателей виллы Медичи[51] слушали с соседней лодки рассуждения Мане. На последних словах они захихикали. Я услышал, как кто-то выкрикнул: «Какая банальность!»
– В Священной истории я прочитал, что, завидев пророка, дети стали смеяться над ним. Из соседнего леса вышел медведь и сожрал смельчаков. Вот если бы бог живописи, дабы отомстить за Мане, вызвал из глубин канала какое-нибудь морское чудовище!..
– Бог живописи поступил лучше! – перебил меня Шарль Тоше. – Он наслал на них медведя по имени Забвение, поглотившего художников той эпохи со всеми их официальными мэтрами, среди которых Мане чувствовал себя так же, как пес с привязанной к его хвосту кастрюлей.
– Задевали ли Мане насмешки его современников? К примеру, Сезанн, которого однажды толкнул на улице какой-то прохожий, воскликнул: «Что, разве не известно, что я Сезанн?»
– Что касается Мане, – продолжил господин Тоше, – то его супруга рассказывала мне, что один знаменитый художественный критик, друг дома, позволил себе как-то несколько ироничных замечаний на страницах газеты по поводу картины художника; через день после этого Мане ушел рано утром из дома, сказав, что отправляется на этюды в Булонский лес. Вернувшись, он сообщил, что угостил шутника ударом шпаги в плечо… Но вернемся к той картине с венецианскими сваями. Когда она была закончена, я был по-настоящему потрясен. Трудно представить себе что-то более верное и более удачное в смысле композиции. В ответ на какое-то мое замечание Мане сказал: «Умение компоновать картину я приобрел в школе. В первый же день, когда я поступил к Кутюру, мне дали копировать антик. Я поворачивал слепок и так и сяк. Мне казалось, что голова выглядит интереснее внизу. Короче, после двух или трех попыток я перестал что-либо требовать от античности. Но я многому научился во время моего путешествия в Бразилию. Сколько ночей я провел, глядя на игру света и тени в струе за кормой корабля. Днем я не отрывал глаз от линии горизонта, стоя на верхней палубе. Вот благодаря чему я понял, как надо располагать на картине небо».
– Как рисовал Мане? Я очень хорошо помню высказывание Сезанна: «Мане разбрызгивает цвет…»
– В самом деле, он писал не штрихами, а быстрыми мазками набрасывал с удивительной точностью тени, света, рефлексы и завершал холст в общих чертах. Вспоминаю, как мы ужинали вместе в одном ресторанчике напротив Джудекки. Столик стоял в беседке, увитой виноградом. В небольшом отверстии этой беседки вырисовывалась очаровательная церковь Иль Реденторе; вся розовая, она контрастировала с серо-зеленым цветом воды и черными закруглениями гондол. Мане изучал и анализировал различные цвета, в которые окрашивались предметы по мере того, как темнело. Он определял их валёры и говорил о том, как он постарается воспроизвести их обсыпанными этим сумеречным пеплом. Вдруг он поднялся, взял ящик с красками, небольшой холст и побежал к набережной. Там, сделав всего несколько ударов кистью, он набросал в общих чертах далекую церковь…
– Когда смотришь на картину Мане, возникает ощущение мазка, положенного сразу, окончательно.
– Подождите! Я тоже так думал, пока не увидел его за работой. Лишь позднее я узнал, какие, напротив, он прилагал усилия, чтобы получить нужный результат. Взять хотя бы «Сваи Большого канала»: Мане начинал холст снова и снова. Гондола и лодочник заняли у него уйму времени. «Чертовски сложно добиться ощущения, что шляпа хорошо сидит на голове модели, – говорил он, – или что лодка построена из досок, подогнанных друг к другу в соответствии с геометрическими законами!»
Я слушал господина Тоше с неослабевающим интересом.
– В другой раз, – продолжал он, – когда я выразил Мане свое восхищение тем, что на холсте можно соединить поэзию и реальность, он воскликнул: «Если бы вас слышал этот чудовищный Курбе! То, что он называл реальностью… Послушайте, в „Похоронах в Орнане“ он ухитрился зарыть всех: священников, могильщиков, служащих похоронного бюро, членов семьи. Горизонт же скрывается на глубине десяти футов под землей».
– Да, Мане был очень суров к Курбе! А что он думал о своих товарищах-импрессионистах: Моне, Сезанне, Ренуаре?
– Он жаловал только Моне. О Сезанне говорил, что это «каменщик, рисующий мастерком». Что до Ренуара, то Мане считал его добрым малым, которого случайно занесло в живопись.
Через несколько дней мы встретились с Тоше снова. Я сразу же стал опять расспрашивать его об авторе «Олимпии».
– Вы сказали, что вам часто приходилось видеть Мане за работой?
– В Венеции я заходил к нему почти каждый день. Лагуны, дворцы, старые дома, облупившиеся и покрывшиеся налетом старины, служили ему неиссякаемым источником мотивов. Но прежде всего он искал малоизвестные уголки. Я спросил, могу ли я плыть за ним в гондоле. «Сколько угодно! – ответил он. – Когда я работаю, я занят только своим сюжетом». Иногда он делал досадливый жест, из-за которого лодка раскачивалась, и тут же принимался с остервенением скрести своим шпателем. Но вдруг я слышал, как художник принимался напевать песенку или весело насвистывать. Мане кричал мне тогда: «Дело идет, дело идет! Когда все получается, я должен выразить свою радость вслух».
– Как вы объясните, мсье Тоше, что этот ироничный парижанин, этот завсегдатай Больших бульваров, каковым был Мане, увлекся Испанией и Италией?
– По правде сказать, он отдавал предпочтение Испании. Как-то он сказал мне: «Испания, с ее как бы иссушенными камнями и зеленовато-черными деревьями, так проста, так грандиозна, так драматична! В конечном счете Венеция – это всего лишь декорации».
– Но как же великие венецианские художники?
– Послушайте! Однажды утром я смотрел вместе с ним во Дворце дожей «Триумф Венеции» Веронезе. «Это оставляет холодным! – воскликнул Мане. – Сколько напрасных усилий, сколько там внутри неиспользованного пространства! Ни малейшего чувства! Я люблю картины Карпаччо, обладающие наивной прелестью цветных рисунков из молитвенников. Например, выше всех я ставлю полотна Тициана и Тинторетто в скуола ди Сан-Рокко… Но видите ли, я всегда возвращаюсь к Веласкесу и Гойе!»
– А что он думал о Тьеполо?
– Тьеполо его раздражал. «Они нагоняют на нас скуку, – говорил он, – эти итальянцы, с их аллегориями, их персонажами „Освобожденного Иерусалима“ и „Неистового Роланда“, со всем их бьющим на эффект хламом. Художник может сказать все, рисуя одни фрукты, цветы или облака». Я вспоминаю, – продолжал мсье Тоше, – о нашей прогулке вдоль прилавков Пескерия-Веккья, под мостом Риальто. Мане упивался светом. Его переполняла радость, когда он видел этих огромных рыб с серебристыми животами. «Вот что мне хотелось бы нарисовать, если бы муниципальный совет Парижа не отверг мой проект оформления Ратуши! – воскликнул он. – Понимаете, я хотел бы быть своего рода святым Франциском натюрморта!» В другой раз мы отправились на овощной рынок. Мане, изящный, в голубом костюме, соломенной шляпе, сбитой на затылок, переступал через нагромождения всякой снеди и овощей. Вдруг, остановившись возле ряда тыкв особого сорта, выращиваемого на берегах Бренты, он произнес: «Турецкие головы в тюрбанах! Трофеи, добытые в победоносных сражениях при Лепанто и на Корфу…» Когда работа у Мане шла успешно, – продолжал господин Тоше, – он, чтоб передохнуть, отправлялся посмотреть Венецию. Его сопровождала мадам Мане, и они бродили по самым извилистым улочкам или, сев в первую попавшуюся гондолу, исследовали самые узкие canaletti. Мане был без ума от старых лачуг, где развевались на ветру какие-то лохмотья, притягивавшие к себе свет. Он любовался прекрасными взлохмаченными девушками, которые были одеты в цветастые платья с открытой шеей и, сидя на пороге своих домов, нанизывали жемчуг с острова Мурано или вязали чулки из яркой шерсти. В квартале рыбаков на Сан-Пьетро-ди-Кастелло он останавливался перед высокими сваями, увенчанными огромными ивовыми вершами, которые солнечные лучи окрашивали в аметистовый цвет. Приходил в восторг от позолоченных солнцем детей, они резвились на разошедшихся мраморных ступенях и возились друг с другом, перепачканные полентой и арбузным соком. Вторая половина дня заканчивалась посещением убогих лавочек старьевщиков, глядя на которые нельзя было предположить, что на этих же самых местах через сорок лет поднимутся шикарные магазины антикваров. Ничто не доставляло ему большей радости, чем обнаруженное там старое кружево, изящно сделанное украшение, прекрасная гравюра… Он часто назначал мне встречи по вечерам. Венеция производит особенно волнующее впечатление ночью. Поэтому Мане любил выходить также после ужина. Тогда он охотно разговаривал и не стеснялся в моем присутствии подтрунивать над мадам Мане, проходясь насчет ее семьи, в частности ее отца, который был типичным голландским буржуа, угрюмым, ворчливым, скупым и неспособным понять художника. Но как только раздавался голос рыбака, поющего баркаролу, или звуки гитары, Мане тотчас умолкал, захваченный очарованием ночной Венеции. Его жена – она была превосходной пианисткой – всякий раз говорила, что с большим удовольствием исполнила бы в этой обстановке Шуберта, Шопена или Шумана. Условившись с мадам Мане, я подстроил как-то небольшой сюрприз. В один из вечеров, после ужина, я пригласил Мане и его жену на водную прогулку. Я велел направить нашу гондолу к соседнему каналу, где находится «мост Вздохов». Там была пришвартована одна из тех вместительных лодок, что служат для перевозки вещей. Я заранее распорядился о том, чтобы на это судно перенесли пианино, которое накрыли покрывалами. Мадам Мане, как мы и договорились с нею, пожаловалась на то, что нашу гондолу сильно качает. Я предложил своим спутникам пересесть в эту другую лодку, которая гораздо увереннее держалась на волне. Мы поплыли в направлении Сан-Джорджо-Маджоре. Вдруг под пальцами мадам Мане зазвучала мелодия. Это был романс Шумана. Мане признался нам потом, что получил тогда самое восхитительное впечатление за все время пребывания в Венеции.
– Какой это, наверное, был отдых для Мане после суетливой парижской жизни!
– В Венеции он занимался исключительно живописью. Но сколько у него было замыслов, которые он не смог осуществить! В одно из воскресений сентября я отправился вместе с ним в Местре, где в лагуне проводились регаты… Эти соревнующиеся гондолы с гребцами, одетыми в белое и голубое, образовывали как бы сочленения огромной змеи… Развалившись на подушках на нашей лодке, с пледом на коленях, опустив одну руку в воду, Мане, укрывшийся от солнца под зонтиком своей жены, рассказывал нам о картине, которую мечтал написать на тему этих регат. Мане, прослывший в Школе изящных искусств экстравагантным новатором, скомпоновал свой сюжет в таком строгом соответствии с классическими правилами, что сделанное им описание композиции, я думаю, привело бы в восторг Пуссена… Я как можно тщательнее записал преподанный им бесценный урок…[52] Этот день регат был последней радостью, которую подарила Мане Венеция. Через несколько дней утром он постучался в мою дверь и сказал: «Меня вызывают в Париж. Я вел здесь слишком беззаботную жизнь. Интересно, какие неприятности ждут меня там?» Я проводил на вокзал своих новых и таких симпатичных друзей. Пока мы ехали, Мане в последний раз пристально всматривался в Большой канал, в его розовые дворцы, старые, покрытые патиной дома, гигантские сваи, тростниковые дудочки, проглядывающие в легком тумане. До того момента, когда он сел в вагон, Мане не проронил ни слова…
– Но вы ведь увиделись с ним еще раз в Париже?
– Во Францию я вернулся лишь четыре года спустя. Я пошел поздороваться с ним в его мастерскую на Санкт-Петербургской улице. Там царил монашеский аскетизм: никакой лишней мебели, никаких книг, лишь яркие этюды на стенах и мольбертах. В глубине комнаты на камине стоял гипсовый кот и лежала курительная трубка с заостренным мундштуком…
– Не было ли у Мане также мастерской на Амстердамской улице?
– Да, была, и весьма живописная, располагавшаяся в залитом солнцем дворе. Вы входили в прихожую, стены которой утопали в обилии этюдов. На многочисленных маленьких столиках стояли в графинах или обычных стаканах букеты цветов. На мольберте был знаменитый портрет Антонена Пруста. Этюды с женщинами в светлых платьях и в больших шляпах висели друг над другом вдоль выкрашенной в красный цвет деревянной лестницы, которая вела в собственно мастерскую художника. Паркет был усеян листами бумаги с рисунками угольным карандашом или пастелью. На стенах большие начатые картины: черная шляпа амазонки, выделяющаяся на фоне белого полотна; голова лошади с тревожным взглядом; розовый зонтик и т. д. Как в некоторых эскизах Веласкеса и Гойи, я обнаруживал в них то трепетное ощущение жизни, какое не всегда создает законченная картина.
– Виделись ли вы с Мане в последний период его жизни?
– За несколько недель до его смерти я отправился на Амстердамскую улицу. Я увидел одинокого, печального и страдающего художника. «Я работаю, потому что все-таки надо жить», – говорил он. На мои возражения о том, что знатоки по-прежнему не теряют веры в него, он ответил: «Прекрасно! Но, увы, вера, никак себя не проявляющая, разве это искренняя вера? Правда, мой портной – вот кто меня ценит! И потом, есть Фор. Не посмеялись ли вволю над написанным мной портретом, где он изображен в костюме Гамлета? Не говорили ли, что левая нога у него чересчур коротка? Когда персонаж устремляется куда-то, могут ли его ноги быть такими же, как у солдата, стоящего навытяжку? А накренившийся паркет? Черт побери! Хотел бы я знать, каким образом официально признанным мастерам рисунка удалось бы создать иллюзию того, что Гамлет порывается в сторону зрителя…» Мане поднялся. Он пожал плечами, нахлобучил на голову свою шляпу с плоскими полями и сказал мне с улыбкой, от которой топорщились его усы: «Оставим это! Пойдемте выпьем кружку пива у Тортони…» Он пощупал один из карманов. «Ага! – сказал он. – Блокнот со мной. На улице всегда есть что порисовать. Взгляните! – И он показал на приколотый к стене небольшой этюд женских ног. – Гарсон прочищал сифон на террасе кафе. Мимо проходила невысокая женщина. Она инстинктивно подобрала юбку…»
X. От Месонье к кубизму
В мастерской Месонье. – Визит к Жерве. – Анри де Гру. – Клод Моне. – Писсарро. – Сислей. – Гийомен. – Синьяк. – Люс. – Гоген. – Как я впервые увидел работу Дега. – Мэри Кэссетт. – У Сезанна в Эксе. – Как я познакомился с Ренуаром. – В Эсуа у Ренуара. – Альбер Бенар. – Жак-Эмиль Бланш. – Больдини. – Форен. – Сем. – Эллё. – Редон. – Джеймс Макнилл Уистлер. – «Набисты». – Другие «Молодые». – Скульптор Майоль. – Роден. – Жорж Руо. – Таможенник Руссо. – Пикассо и кубизм. – Мои портреты
Я был в гостях у Льюиса Брауна, когда к нему зашел господин, державший под мышкой картину.
– Еще одна находка? – спросил художник.
– Сейчас увидите…
Он распеленал картину и спросил:
– Что вы скажете об этом этюде с лошадьми?
Браун посмотрел на принесенное полотно:
– Держу пари, вы думаете, что это работа Месонье?
– Совершенно верно. И я потерял всякий покой после того, как откопал эту вещь вчера на толкучке. Она не подписана, но все-таки… Моя жена просто потрясена этим холстом.
– Я не знал, что ваша жена интересуется живописью…
– Она в курсе того, какую это имеет ценность. У Жоржа Пти она увидела менее значительную, чем моя, работу Месонье, и за нее просили пятьдесят тысяч… Как жаль, что на холсте, помимо лошадей, не изображены еще несколько персонажей!
– Однако… – пробормотал Льюис Браун. – А если ваша штуковина принадлежит не Месонье?
– Вы это серьезно?
– Я не высказываю окончательного мнения, вот и все. На первый взгляд эта фактура, этот рисунок… Мне очень хотелось бы сказать «да». Но мы это мигом узнаем, Месонье очень славный малый. Если картину нарисовал он, то я попрошу его подписать ее.
Я не скрыл от Льюиса Брауна своего желания побывать в мастерской прославленного художника.
– Это очень просто. Идемте с нами.
Когда мы пришли к Месонье, нас ввели в мастерскую. На мольберте стояла почти законченная картина; снизу висела большая лупа, которая, казалось, приглашала посетителей полюбоваться скрупулезной отделкой произведения.
Скоро мое внимание привлекла необычная работа, которой был занят в углу комнаты один из учеников мэтра. Вооружившись лопаточкой, напоминавшей лопаточку крупье, он пытался разровнять на паркете слой белой блестящей пудры; она была не чем иным, как борной кислотой.
– Я подготавливаю, – сказал он Льюису Брауну, показывая ему набросок, – поле битвы, которое господин Месонье собирается рисовать.
Он открыл коробочку и достал оттуда пушечки, крохотные деревья, ящики, солдатиков и лошадей и все это расставил в боевом порядке на заиндевелом квадрате. Взяв пульверизатор, он нажал на резиновую грушу и выпустил облачко жидкого клея на эту миниатюрную армию, присыпал ее пудрой, белизна которой отличалась от белого цвета борной кислоты, так как имела более матовый оттенок.
С любопытством наблюдавший за его манипуляциями Льюис Браун сказал:
– Как сложно точно дозировать гуммиарабик! Если клей густой, то пульверизатор засорится. Если он слишком жидкий, рисовая пудра не склеится.
– Так это рисовая пудра?
– Конечно, можно было бы всюду насыпать борную кислоту. Это даже проще – иметь один-единственный белый цвет вместо двух его различных оттенков. Но мэтр любит создавать сложности.
Вошел Месонье.
– Брр! – воскликнул он, бросив взгляд на творение рук своего ассистента. – Какой красивый зимний пейзаж! У меня прямо-таки коченеют пальцы… Ах, гнусные твари!
Две крупные мухи, привлеченные этой ослепительной белизной, сели на пушки. Месонье извлек из арсенала что-то вроде револьвера. Он прицелился в насекомых и выстрелил. Распространился аптечный запах.
Художник повернулся к Льюису Брауну и сказал:
– Когда я рисовал картину «Отступление из России», то употребил вместо борной кислоты сахарную пудру. Какой эффект снега мне удалось получить! Но слетелись пчелы из соседнего улья. И я вынужден был заменить сахар мукой. Тогда мое поле битвы разорили мыши. Я уже начал задаваться вопросом: а не придется ли мне ждать до тех пор, пока не выпадет настоящий снег, чтобы изобразить зимний пейзаж?..
– Моне может рисовать только на натуре… – с простодушным видом заметил Льюис Браун.
Месонье оборвал его жестом и сказал:
– Оставьте меня в покое с вашим Моне и со всей этой кликой юнцов! Давеча я видел картину некоего Бенара с фиолетовыми лошадьми… Поговорим о чем-нибудь серьезном…
– Например, о вашем искусстве, мой дорогой мэтр, – подхватил Льюис Браун. – Я как раз пришел к вам по поводу одной картины, которую отыскал мой друг С. и в отношении которой я хотел бы услышать ваше мнение.
Месонье посмотрел сначала на С., затем на картину и произнес:
– Мои поздравления! У вас в руках превосходная вещь. Это даже одно из лучших подражаний Месонье, которые мне известны. Если бы тут было еще что-то неуловимое, я бы наверняка ошибся…
Я робко вмешался в разговор:
– Но именно это «что-то неуловимое» и создает гения.
Мэтр улыбнулся мне. А затем, похлопав сконфуженного С. по плечу, сказал:
– Картина такая, какая она есть, очень хороша. Она, безусловно, не уступает холстам Детайля.
* * *
Жерве хорошо знал крупнейших художников своего времени, в частности Мане. Он также неоднократно подолгу бывал в России, где был допущен ко двору. Сколько интересных воспоминаний, наверное, сохранил он о своей жизни художника и о пребывании в стране царей! Я был, однако, разочарован, когда заговорил с ним об этом. Но Жерве был настолько приятным в общении человеком, что я невероятно обрадовался, когда он предложил зайти к нему еще раз.
Однажды я встретился в его мастерской с награжденным знаками отличия человеком, который принялся пространно рассуждать о «нашем искусстве». По его уверенному тону я сперва подумал, что он тоже имеет отношение к дому возле Пон-дез-Ар[53]. Но когда мне представил его Жерве, я узнал, что это господин Жаке, обычный художник, рисующий доспехи и ткани. Подойдя к мольберту, на котором стоял портрет женщины в натуральную величину, одетой в такое прозрачное кисейное платье, что она казалась почти голой, господин Жаке сказал:
– Какая красивая зернистая кожа! Тот, кто повесит это у себя на стене в спальне…
– Это портрет жены одного из моих покупателей, – продолжал Жерве.
– Надо же! – воскликнул его собеседник. – Должно быть, ему некогда скучать, этому вашему покупателю. И он разрешил ей позировать в таком виде?
– Это не ее тело. Я сделал только небольшой этюд головы; для всего остального позировала натурщица.
– И ваш покупатель остался доволен?
– Думаю, да. Он сразу же спросил у меня адрес натурщицы…
Жерве, казалось, задумался, а затем после паузы сказал:
– Дружище, я вечно разрываюсь между точным воспроизведением натуры и декоративной изысканностью. Так вот, верх всегда берет натура. Когда неукоснительно следуешь натуре, картина вдобавок обретает декоративную ценность.
– Как это не похоже на нашего друга Клерена! Я недавно видел ню, работу над которым он заканчивает…
– Клерен, однако, не лишен способностей… и если бы он не был таким светским человеком…
– Вы знаете, в данный момент он пишет новый портрет Сары Бернар. Позирует ему консьержка, которая одевается в платье актрисы. «Я не способен работать без модели», – сказал он мне.
– Не показывал ли он вам набросок портрета Сары Бернар, который он начал, а потом бросил? – спросил Жерве. – Там Сара изображена в позе, слегка напоминающей позу «Олимпии», с негритянкой, букетом цветов и кошкой; только у Клерена кошка белая.
– Кстати, днями я был в Лувре, – заметил Жаке, – и проходил мимо «Олимпии». Если бы такая женщина вышла на панель, то она не заработала бы и трех франков. Скажите, Жерве, не вы ли подсобили этому типу, попавшему благодаря вам в Салон?
– Надо быть справедливым. Когда Мане начинал, у него были такие серые тона… Конечно, если думаешь о Веласкесе и Гойе…
– Я внимательно рассмотрел картины Веласкеса во время своей последней поездки в Мадрид… Между нами говоря, сегодня можно рисовать и посильнее… Если бы появился художник, который сочетал бы красные тона Каролюса, синевато-белый – Эннера, а в качестве основы имел бы рисунок Жан-Поля Лорана!..
В этот момент появилась мадам Луиза Аббема; после обычных формул вежливости она обратилась к господину Жаке:
– Я прямо от вашего друга Лобра. Он сообщил мне, что вы только что получили крупный заказ от одного из самых богатых фабрикантов шелковых тканей Лиона, господина Л. Поздравляю вас!
– Это повторение картины, за которую я удостоился когда-то золотой медали. Вы представляете, любовница моего клиента считает, что в своих теперешних произведениях я слишком подражаю импрессионистам! И при всем при том это умная женщина…
– Да, есть бабы… – заметил Жерве.
– Короче говоря, – продолжил господин Жаке, – мне придется достать все мои асфальты, весь тот соус, которым я покрывал когда-то свои полотна.
Слушая его, я не мог отделаться от мысли, что Пикассо в подобной ситуации проявил бы бо́льшую щепетильность. Один коллекционер поручил мне как-то обратиться к нему с просьбой сделать копию одной из его старых картин. Это было в то время, когда художник ничего не продавал, и предложенная ему сумма была значительной. Услышав о цене, назначенной коллекционером, Пикассо посмотрел на меня с удивлением и сказал:
– Но мне не доставит никакого удовольствия копировать самого себя. А как я буду рисовать без удовольствия?..
Художник Анри Дюмон, специализирующийся в изображении цветов, рассказал мне о необычном случае, произошедшем с его другом Жерве. Однажды вечером к нему зашла горничная и сообщила, что «кто-то хочет непременно видеть господина».
– Пусть зайдет завтра, – сказал художник.
Но он тут же спохватился, подумав, что это, возможно, какой-нибудь американец, и распорядился провести посетителя в его мастерскую, куда и направился сам.
Прошло двадцать минут. Забеспокоившись, мадам Жерве вошла в мастерскую; она увидела своего мужа, загнанного в угол комнаты, а перед ним незнакомца с дубиной в руках, который говорил:
– Я не уйду отсюда, пока вы не научите меня рисовать.
Сохраняя спокойствие, мадам Жерве сказала своему мужу:
– Почему ты не хочешь научить рисовать этого господина? – И, обращаясь к незнакомцу, добавила: – В любом случае, мсье, вам надо сперва записаться… Книга регистрации находится в комнате консьержа.
Все трое спустились вниз. Мадам Жерве пропустила вперед человека, который стал очень покладистым. Но вдруг он бросился к воротам и исчез.
На другой день с самого утра (о происшествии известили полицию) перед домом дежурил полицейский.
Вечером, поскольку странный незнакомец явился опять, полицейский попытался его задержать, но тому удалось скрыться. За ним бросились в погоню и настигли его в квартире, где находилась какая-то старуха. Она воскликнула:
– Господи! Что он еще такое натворил, господин полицейский? Вы знаете, у моего мальчика не все дома, но он совершенно безобиден; конечно, когда ему противоречат, он выходит из себя.
Заверений матери оказалось недостаточно для того, чтобы успокоить Жерве, и консьерж получил соответствующие инструкции. Так что, когда через несколько дней к мадам Жерве с визитом явился Форен, он услышал: «Если мсье пришел по поводу рисования, то работа курсов временно приостановлена до новых распоряжений».
* * *
С бельгийским художником Анри де Гру я познакомился у Фелисьена Ропса, его соотечественника. Недавно де Гру выставил в Салоне независимых свою удивительную картину «Мародеры, обкрадывающие убитых после битвы при Ватерлоо».
Человек он был на редкость колоритный. Среднего роста и средней комплекции, одетый в редингот, в фетровой шляпе с широкими плоскими полями, красным шейным платком, золотыми кольцами в ушах, он был вылитый персонаж Бальзака. Единственное, что имело для него значение, – это живопись. Но сколько трудностей ему приходилось преодолевать, какие выдерживать схватки с торговцами красок, рамщиками, короче говоря, со всеми коммерсантами, имеющими дело с художниками! Де Гру снабжали красками, холстами, рамами, в которых он нуждался, но, чтобы иметь гарантию, забирали себе его работы. Когда у него возникало желание еще поработать над полотном, отданным в качестве залога, он должен был бежать либо к рамщику, либо к торговцу красками, либо к мастеру, изготавливающему подрамники.
Де Гру обладал наивностью ребенка. Например, когда он слышал разговоры о том, что такой-то покупает картины, художник тотчас мчался к кому-нибудь из своих кредиторов и радостно сообщал ему: «Я нашел покупателя».
И предполагаемый покупатель видел, как к нему входил сияющий де Гру с одним из своих полотен в руках и в сопровождении представителя – то ли рамщика, то ли торговца красками, то ли продавца подрамников.
Если сделка срывалась – а она срывалась почти всегда, – де Гру не проявлял никаких сожалений. Более того, выйдя на улицу, он оборачивался к окнам «покупателя» и, призывая в свидетели своего телохранителя, говорил:
– Хотите, я вам скажу? Этот тип отпетый мерзавец! Мне было бы противно, если бы моя картина находилась у него дома.
Но бранью сыт не будешь. В дни лишений де Гру вспоминал, что у него есть знакомые. Он садился в фиакр и объезжал друзей. И был счастлив, когда по окончании сбора пожертвований он мог расплатиться с кучером, не оставляя ему в залог трость с серебряной рукоятью.
Кстати, об этой трости. Однажды я подумал, что художник сошел с ума. Встретив его возле Пале-Рояля, я увидел, как он вдруг бросился на прохожего и выхватил у него из-под мышки трость. Человек пустился наутек, преследуемый де Гру, стегавшим его по спине и икрам. Вскоре де Гру вернулся, тяжело дыша:
– Этот негодяй украл у меня трость. Но я был уверен, что найду ее!
Его никогда не покидал оптимизм. Находясь в Марселе без гроша в кармане, он в восторге остановился перед порталом старого особняка.
– Вы глядите на мою дверь? – спросил у него человек, выходивший из дома. – Я хозяин. Не хотите ли зайти внутрь?
Де Гру так понравился хозяину, что тот оставил его у себя на несколько месяцев. Когда они расстались, слегка утомившись от общения друг с другом, художник обосновался на старом корабле.
– Я был уверен, – сказал он, – что в итоге все образуется.
В одно прекрасное утро, когда я находился в его парижской квартире, ему захотелось показать мне большую пастель. Он приставил ее к двери.
– Будьте осторожны! – воскликнул я. – Вдруг эта дверь откроется!..
– Нет никакой опасности. Она заколочена.
В ту же секунду дверь внезапно распахнулась. Пастель рухнула на пол, и перед нами предстала совершенно озадаченная дочка художника.
– Как мне повезло! – сказал художник, поднимая картину. – Поглядите! Только стекло разбилось…
* * *
В первый день моей выставки работ Сезанна ко мне вошел бородатый человек крепкого телосложения, который выглядел как настоящий «землевладелец». Не торгуясь, этот покупатель приобрел три холста. Сперва я подумал, что имею дело с каким-нибудь провинциальным коллекционером. Но это был Клод Моне. Позднее я виделся с ним еще несколько раз, когда он бывал в Париже. В этом столь знаменитом художнике поражала его удивительная простота и то неуемное восхищение, с каким он относился к своему старому товарищу по героическим временам импрессионизма Сезанну, еще пребывавшему в безвестности. Впрочем, непонимание тогдашней публики распространялось даже на общепризнанных мастеров, в том числе и на Моне. Во время его выставки, на которой были показаны «Белые кувшинки», один посетитель сказал мне:
– Мсье, я только что был у вашего соседа Дюран-Рюэля, и выставленные там картины привели меня в восторг. Я не смог увидеться с художником. Мне сказали, что он в Америке. Но вы, возможно, знаете этого господина Клода Моне?
– Я в самом деле с ним знаком.
– Он меня очень интересует. И вот почему. Я поставляю раскрашенные вручную ткани самым знаменитым ателье модной одежды Нью-Йорка. Поэтому я ищу настоящие таланты. Господину Моне, конечно же, не хватает кое-каких мелочей, но с моим большим опытом он сумел бы быстро достичь совершенства. Вы знаете его адрес?..
Вот и все!
Я удостоился чести быть приглашенным в Живерни, к художнику «Белых кувшинок». Я заранее предвкушал удовольствие оттого, что смогу полюбоваться всеми картинами Моне. Однако я увидел лишь некоторые из них.
Дом был просторный, но стены утопали под холстами, написанными друзьями художника. В ответ на мое замечание, что картины такого отменного качества не часто увидишь даже у самых прославленных коллекционеров, Моне сказал:
– И тем не менее я беру только то, что хотят мне отдать! Большинство холстов, которые вы видите здесь, валялись на прилавках торговцев. В каком-то смысле я приобрел их в знак протеста против безразличия публики.
Я остановился перед картиной «Семья Моне» кисти Ренуара.
– Однажды Мане захотел нарисовать мою жену и детей, – объяснил мне Моне. – При этом присутствовал Ренуар. Он также взял холст и стал работать над тем же сюжетом. Когда Ренуар закончил картину, Мане отвел меня в сторону и сказал: «Моне, поскольку вы дружите с Ренуаром, вам бы следовало посоветовать ему сменить профессию. Вы же видите, что живопись – это не его призвание!»
* * *
На первый взгляд в Писсарро поражал его вид доброго, чуткого и в то же время безмятежного человека; это была та безмятежность, которую рождает весело выполняемая работа. Однако не было жизни тяжелее, чем жизнь Писсарро, с тех пор как он покинул свой остров Сен-Тома и обосновался во Франции! Семья была многочисленной. Мадам Писсарро смело взялась за возделывание участка, окружавшего их дом, и превратила его в картофельное поле. Наступил «ужасный год», события Коммуны. Художник, изгнанный из своей мастерской, нашел ее разоренной, когда вернулся назад. Его холсты, на которые было потрачено столько труда, пропали! Но Писсарро не поддался отчаянию, и произведения стали вновь рождаться одно за другим. Глядя на эти пейзажи, источающие запахи полей, на этих спокойных крестьянок, склонившихся над капустой или невозмутимо пасущих гусей, мог ли кто подумать, что бо́льшая часть картин была написана в самые тяжелые для художника времена?
Покидая Дюран-Рюэля, Писсарро охотно заходил ко мне. С какой широтой ума судил этот старик о своих молодых товарищах! Он интересовался всеми поисками, увлекавшими тогда живописцев, – так любопытен он был ко всяким формам искусства. В одну из последних моих встреч с ним Писсарро поделился со мной тем, в какой восторг привела его страница одной древней книги. Он в подробностях рассказывал мне о ней, словно был наборщиком, но наборщиком той эпохи, когда еще не существовало линотипа.
Его сыновьям (все они тоже художники) было в кого пойти. Старший, Люсьен, позднее увлекся книгами. Он стал печатником, иллюстратором, издателем. Совершенство первой книги «Королева рыб», отпечатанной в его типографии, поражало, но она подействовала на меня как возбуждающее средство, заставив проявить упорство на издательском поприще.
* * *
Из всех тех, кого называли великими импрессионистами, наименее удачливым был Сислей, чьи полотна пользуются сегодня таким большим спросом. В определенные периоды своей жизни все испытывали жесточайшие лишения; но мэтр из Море никогда не знал даже относительного благополучия. В первый раз я увидел Сислея, придя к нему, чтобы попросить сделать цветную литографию для готовившегося мной альбома художников-граверов. Он с большой охотой принял мое предложение и нарисовал «Пасущую гусей».
Жизнь он кончил в страшных мучениях: Сислей умер от рака горла. Болезнь он переносил с мужеством, всех восхищавшим, и до последнего момента сохранял оптимизм, который ничто не могло поколебать. Подвергшись последней операции, одному из тех хирургических вмешательств, которые врачи предпринимают, как говорится, ради семьи, он писал кому-то из своих друзей: «Я страдаю еще больше, чем раньше, но я знаю, что это путь к исцелению. Я вижу розовых бабочек…»
* * *
Гийомен – один из тех импрессионистов, кто продолжает «плестись в хвосте», с точки зрения «цен» разумеется. Ибо если холсты Сислея после смерти художника выросли в цене, то полотна Гийомена и по сей день лишены спроса, что было уделом стольких живописцев. И тем не менее какие прекрасные произведения оставил нам художник из Крёза!
Вынужденный, прежде всего ради куска хлеба, занять административную должность, Гийомен посвящал живописи все остававшееся у него после работы свободное время.
Вижу его сидящим перед мольбертом в его мастерской на улице Сервандони. Когда я сказал, что собираюсь привести к нему покупателей, он спросил:
– Надеюсь, что, по крайней мере, это не те люди, которые покупают лишь для того, чтобы завесить стены?
Я стал убеждать его в обратном. Лицо художника прояснилось, и он произнес:
– Тогда я жду их. Это уже друзья.
* * *
Мне понадобилось много времени, чтобы понять Синьяка. Поскольку я слышал об определении пуантилизма как «живописи маленькими точками», я представлял себе что-то напоминающее женское вышивание и проходил мимо полотен Сёра и Синьяка не задерживаясь. Вникнув же в суть «разделения тона», я тоже оценил значение Синьяка. Вот воспоминание, связанное с художником из Сен-Тропе.
Я только что продал один из его холстов. Когда клиент собрался уходить, взяв покупку, я сказал ему о своем удивлении, что он купил работу, которую всегда рассматривал с изнанки.
– Ну что ж, посмотрим, как она выглядит, если ее перевернуть.
Картину поставили как надо, и покупатель воскликнул:
– Как интересно! В таком виде она нравится мне меньше.
Я лишний раз убедился на собственном опыте в том, что клиента не следует учить. Но не был ли прав покупатель Синьяка, утверждавший, что картина, если на нее смотреть с изнанки, выглядит лучше, чем с лицевой стороны? Однажды я увидел, как Льюис Браун перевернул картину «Псовая охота», которую только что закончил.
– Это лучший способ оценить живопись, потому что так видишь одни валёры, – сказал он.
* * *
Максимильен Люс – какой любопытный художник и какой славный человек! Несмотря на то что он ничего не делал для своего продвижения и вдобавок было известно, что он исповедует самые крайние анархистские убеждения, буржуа охотно покупали его полотна.
Дело в том, что покупатель вспоминает о художнике, вызывающем у него интерес, даже если последний отпугивает его как личность.
В то время, когда Люс начинал пользоваться спросом, в витрине моего магазина была выставлена картина с изображением собора. Проходившая мимо дама задержалась перед нею и спросила у меня:
– Сколько она стоит?
– Восемьсот франков.
– Восемьсот франков! По такой цене настоящих мастеров не продают!..
И она удалилась, говоря – достаточно громко, чтобы я мог ее услышать, – сопровождавшей ее подруге:
– Как жаль! Картина мне понравилась, но если все начнут покупать вещи, написанные кем попало…
Однажды приятели жаловались в его присутствии на то, как сложно добиться успеха.
– Черт возьми! – вскричал Люс. – Рисуют не для того, чтобы преуспеть, рисуют для собственного удовольствия.
* * *
Увидев Гогена, рослого, могучего, с властным лицом, в меховой шапке, в шубе, наброшенной на плечи, да еще в сопровождении миниатюрной яванской метиски, одетой в какие-то яркие лохмотья, его можно было принять за какого-то восточного принца. Вот история этой цветной девушки, прибывшей прямо с островов.
Оперная артистка мадам Нина Пак была знакома с богатым банкиром, имевшим деловые связи с коммерсантами, которые жили на островах. Как-то певица сказала в присутствии одного из них: «Я очень хотела бы иметь маленькую негритянку». Через несколько месяцев полицейский привел к мадам Нине Пак юную метиску (наполовину индианку, наполовину малайку), подобранную на улице. На шее у нее висела табличка с надписью: «Мадам Нина Пак, улица Ларошфуко, Париж. Посылка с острова Ява». Девочке дали имя Анна. Через некоторое время, вследствие какого-то домашнего происшествия, ее уволили. Тогда она заявилась ко мне и, поскольку я бывал в гостях у ее хозяйки, попросила подыскать ей другое место. Я подумал, что, раз она не обнаружила особых способностей как горничная, девушке, возможно, повезет больше в качестве натурщицы. Я рассказал о ней Гогену.
– Пришлите ее ко мне. Я ее испытаю, – сказал он.
Анна понравилась художнику. Он оставил ее у себя. И она стала причиной той памятной битвы, в которую Гогену пришлось вступить, защищаясь от бретонских крестьян, бросавших камни в маленькую яванку, поскольку они принимали ее за колдунью.
Редон был поражен разнообразием способностей Гогена. Однажды, когда рабочие чинили у него дома печь, Редон, показав на кусок жести, сказал мне:
– Дайте эту штуку Гогену, и он сделает из нее маленький шедевр.
Обшарпанное здание, где помещалась мастерская художника, сильно смахивало на какой-то амбар. Но стоило войти внутрь, как у вас возникало ощущение, что вы попали во дворец: это впечатление чуда возникало благодаря полотнам, которыми он украсил стены. Самое почетное место Гоген отвел двум своим наиболее любимым художникам: Сезанну и Ван Гогу. В частности, я запомнил трех «ван гогов», висевших над его кроватью: посередине располагался пейзаж в сиреневых тонах; справа и слева «Подсолнухи» – я полагаю, те же самые, что привели всех в такое восхищение на распродаже коллекции Дега, – а напротив них натюрморт Сезанна, тот, который возмутил Гюисманса, написавшего о «покосившихся фруктах в пьяных горшках».
Около 1898 года, когда Гоген, находившийся на Таити, так нуждался в деньгах, его друг Шоде предложил продать эту же картину за шестьсот франков. Она не соблазнила ни одного коллекционера. Наконец кто-то все же отважился, но попросил, чтобы ему отдали в придачу раму из резного дерева. Впоследствии этот холст попал к принцу Ваграмскому. Сейчас он входит в состав коллекции Пеллерена.
Дега очень высоко ставил Гогена. Он упрекал его лишь за то, что тот отправился рисовать на край света. «Разве в Батиньоле нельзя создавать такую же хорошую живопись, как на Таити?» – говорил он.
Подобно Сезанну, Гоген вначале думал, что сломит безразличие своих современников, если ему удастся попасть в официальные салоны. Как и Сезанна, его постоянно проваливало жюри. Лишь благодаря уловке своего друга, мастера-керамиста Шапле, Гоген наконец увидел одно из своих произведений выставленным в Салоне. Вот как это произошло. Шапле обжег у себя в печи глиняную скульптуру Гогена, знаменитую «Овири», и выставил ее в своей витрине. Но чтобы имя Гогена фигурировало в разделе терракоты – этого «официальные» мэтры перенести не могли! И «Овири» была показана только после того, как Шапле пригрозил отказом от участия в выставке.
Нетрудно догадаться, на какой прием мог рассчитывать Гоген у хранителя Люксембургского музея господина Бенедита, который, имея свое представление о профессиональном долге, не позволял себе ни малейшей слабости по отношению к искусству, не отмеченному печатью Института. Дважды Гоген становился жертвой щепетильности господина Бенедита: в очередной свой приезд с Таити, когда он явился к нему, чтобы предложить музею самое красивое полотно с выставки у Дюран-Рюэля; и когда при поддержке Дега художник хлопотал о предоставлении ему заказа на фресковую живопись.
В последний раз Бенедит вспылил:
– Фресковая живопись! Ведь она требует стены!
В представлении высокопоставленного чиновника это означало: «Стену ведь не отправишь на чердак, как обычное полотно, когда умрет покровитель художника».
Гоген все-таки взял реванш, но лишь через тридцать лет после своей смерти. По случаю установки памятной доски на доме, где родился художник, в честь живописца с Таити собрались хранитель музея в Фонтенбло, председатель муниципального совета Парижа, господин Морис Дени, представлявший Академию изящных искусств, наконец, министр просвещения господин де Монзи. Вспомнив высказывание одного критика о том, что когда-то против искусства Гогена ополчился весь свет – женщины, коллекционеры, музеи, – господин де Монзи констатировал, что сегодня музеи и коллекционеры гордятся возможностью обладать пусть самым незначительным произведением Гогена и что сами женщины начали подкрашивать лицо охрой, с помощью которой художник изображал плоть своих таитянок…
В связи с реабилитацией Гогена любопытно отметить, как по-разному реагируют на явления искусства во Франции и в других странах. В приобретение картины Мане музеем Мангейма даже рабочие почли за честь внести свою лепту. У нас же открытие памятной доски Гогена оставило простой люд равнодушным. По соседству с домом художника находился магазин модных товаров; две продавщицы стояли на его пороге и, как мне показалось, с некоторым любопытством наблюдали за торжественной церемонией. Я подошел в тот момент, когда какая-то женщина поинтересовалась у них, что здесь происходит. Молоденькие продавщицы переглянулись, а потом одна из них сказала: «Не знаю… Кажется, выступает какой-то министр…» Вскоре после этого я услышал диалог двух почтенных буржуа:
– Кто, собственно говоря, этот Гоген?
– Ты разве не слышал, это моряк.
– Но не говорили ли они о том, что он также был маклером?..
Начало церемонии было отмечено забавным происшествием. Когда выступал первый оратор, проходивший мимо уличный торговец со связкой ремней, переброшенной через плечо, вообразив, что перед ним его коллега, расхваливающий свой товар, подошел поближе и спросил у кого-то из собравшихся: «Что он им хочет всучить, старина?» Но, заметив полицейских, торговец решил поскорее ретироваться.
* * *
Мне было около десяти лет, когда я впервые увидел лошадей Дега. И вот при каких обстоятельствах. Хранитель музея естественных наук на Реюньоне получил из Франции ящик, в котором лежало яйцо, снабженное этикеткой «Яйцо эпиорниса»; оно показалось мне непомерно большим, хотя это была сильно уменьшенная копия яйца гигантской доисторической птицы. Я находился в музее, когда вскрывали ящик. Среди вороха бумаг, которыми был обложен предмет, я приметил страницу, вырванную из иллюстрированного журнала и изображавшую мчащихся галопом лошадей. Они поразили мое детское воображение; эти лошади казались мне такими же живыми, как и те, которыми я любовался каждый год у нас на скачках. Ах эти скачки Реюньона! Многолюдная толпа прибавляла им столько блеска! Лошади мчались по долине, на склонах которой громоздились друг над другом люди: китайцы, индийцы, арабы, негры, одетые в разноцветные одежды, еще более ослепительные в лучах солнца. Я сохранил такие яркие воспоминания о великолепной обстановке скачек, что ипподромы Франции всегда оставляли меня равнодушным. Волею случая (в то время я изучал право в Монпелье), листая как-то вечером «Журналь дез артист», я наткнулся на рисунки лошадей, которые произвели на меня когда-то на Реюньоне столь сильное впечатление. Кто бы мог подумать, что позднее я познакомлюсь с самим художником и даже окажусь в числе его близких друзей? Вот как это получилось.
Меня всегда занимал вопрос окантовки картин. Я передал своему рамщику Жаке несколько образцов экзотической древесины с Выставки 1889 года, попросив его сделать из них рамы. Когда я вновь увиделся с Жаке, он сказал: «Вы знаете, что мсье Дега любит помещать свои пастели в рамки из натурального дерева. Он видел образцы древесины с островов и поручил мне спросить у вас, не уступите ли вы их ему». Это была прекрасная возможность завязать знакомство с «несносным» Дега. Я ответил, что денег с него не возьму, но буду счастлив принять от него взамен любой самый незначительный набросок. Художник согласился. Так я попал в его мастерскую.
– Что бы вам дать? – спросил у меня Дега. – Может быть, рисунок танцовщицы, по которому я слегка прошелся пастелью?
– О, всего за каких-то несколько деревяшек?! – воскликнул я опрометчиво.
Дега слишком хорошо расслышал мои слова, ибо, даже не открыв папку, которую вначале пододвинул к себе, он тут же взял другую и дал мне небольшую монотипию.
В то время Дега только что покинул улицу Баллю, где занимал два этажа небольшого особняка, и переехал на улицу Лаваль, названную впоследствии улицей Виктора Массе. Здесь у него также были два этажа и мастерская.
Можно было подумать, что при переезде вещи увеличиваются в объеме. Как бы то ни было, оба этажа вскоре были заполнены до отказа. Все, чему не нашлось места там, подняли в мастерскую. Поэтому в ней находились самые разнородные предметы. Рядом с ванной стояла складная кровать, а в углу комод без ящиков. Я помню также высокий пюпитр, вроде тех, на которые в церкви ставят сборники антифонов; на нем художник рисовал стоя. Тут и там были мольберты, неоконченные полотна. Стоило какому-нибудь предмету попасть в мастерскую – и он уже не только не покидал ее, но и не изменял своего положения.
– Я люблю порядок, – повторял Дега посреди этого хаоса.
Однажды я принес ему картину, которую он просил показать.
Когда я развертывал пакет, крохотный кусочек бумаги, размером не больше конфетти, выпал из него и угодил в один из пазов паркета. Дега сразу всполошился:
– Постарайтесь, Воллар, не создавать в мастерской беспорядок.
Мы стали встречаться чаще, и я рискнул пригласить Дега на ужин.
– С удовольствием, Воллар, – сказал он, – только выслушайте меня хорошенько. Придется приготовить для меня блюдо без масла. Никаких цветов на столе. Минимум света… Свою кошку вы запираете, я знаю, но пусть никто не приводит собак. А если будут женщины, то попросите их не душиться… Духи! На свете столько вещей, которые так хорошо пахнут! Например, жареный хлеб… И за стол надо сесть ровно в семь тридцать.
– Вы знаете, мсье Дега, если мы садимся за ужин все позже и позже, то потому, что каждая из приглашенных дам стремится прийти последней, чтобы ее появление не осталось незамеченным.
И я осмелился высказать несколько соображений по поводу требований моды.
Дега взял меня за руку и сказал:
– Прошу вас, Воллар, не говорите плохо о моде. Вы когда-нибудь задавались вопросом, что бы произошло, если бы моды не существовало? На что тратили бы свой досуг женщины? О чем бы они говорили? И какой бы невыносимой стала жизнь для мужчин! Иными словами, если бы женщины захотели освободиться от предписаний моды, то в таком случае правительству следовало бы навести порядок…
Жизнь Дега была размеренной, как ход часов. Мастерская утром, мастерская вечером. Когда работа клеилась, он обычно напевал какой-нибудь старый мотивчик; на лестничной площадке можно было слышать обрывки песни: «Я скорее соглашусь стеречь сотню баранов на лугу без собаки и посоха, чем сердце девушки влюбленной».
Дега вел себя раскованно со своими моделями. «Ты очень редкий случай, у тебя ягодицы имеют форму груши», – говорил он одной красотке, и та, возгордившись, шла всюду показывать свой зад.
Но несмотря на раздававшиеся в адрес художника обвинения в том, что он обращается с натурщицами почти как с животными, ему случалось проявлять по отношению к ним подлинное благородство.
– Меня уверяли, что одна из ваших бывших моделей, танцовщица из «Мулен Руж», владеет портретом, нарисованным вами, – сказал я ему как-то.
– Это не совсем портрет, – ответил Дега. – Я изобразил ее в момент пробуждения. Сквозь приоткрытый полог кровати видны лишь ее ноги, которые пытаются нащупать на восточном ковре тапочки. Я даже помню этот ковер, его красные и желтые тона. А также отчетливо вижу зеленые чулки. Я хотел оставить этот холст у себя, но он так понравился бедной девушке, что я, признаться, отдал картину ей. Позднее мне сказали, что она занялась рисованием и стала ученицей Жозефа Байля.
Я принялся расспрашивать Дега об обладательнице картины, и он произнес:
– Я вижу, куда вы клоните, Воллар. Вы хотите эту картину купить. Думаю, что сделать это будет непросто. Она так ею дорожила! И потом, мне сказали, что теперь она живет в полном достатке.
Дега не ошибся относительно моих намерений. Но все же надо было узнать адрес бывшей танцовщицы. Я взялся за это и в конце концов добыл ее адрес. При моей привычке до бесконечности носить одну и ту же одежду изношенное пальто, которое было надето на мне, отнюдь не говорило в мою пользу, и, когда я позвонил в дверь, служанка не пустила меня дальше прихожей. Я как мог объяснил ей цель своего визита. Должно быть, я недостаточно внятно изложил суть дела, так как с того места, где мне было разрешено остановиться, я услышал, как она сказала своей хозяйке: «Этот человек производит неприятное впечатление… Он говорит, что пришел из-за ножек и чулок мадам». – «Выставь его за дверь, Анжела!» – последовало в ответ.
Я не стал возражать, когда горничная вернулась и сообщила, что мадам принять меня не может. Но, вернувшись к себе домой, я написал бывшей модели Дега письмо, в котором объяснил ей свой поступок. На другой день она зашла в мой магазин.
– Так, значит, «дега» продаются? – спросила она в упор.
– Ну конечно, да!
– Ах, черт! Что же делать?
– Разве картина не у вас?
– Когда мне надо было сделать копию «Поваренка» Жозефа Байля и под рукой не оказалось холста, я взяла эту картину и стала рисовать поверх нее.
– У вас еще сохранился «Поваренок»? – спросил я.
– Нет, я его продала… Не помню кому. Но я кое-что захватила с собой, это будет для вас хорошей заменой. Правда, предупреждаю вас, что я хочу получить серьезную сумму.
Она открыла свою сумочку и достала из нее маленькую школьную тетрадь – тетрадь по чистописанию, поля которой были испещрены каракулями, где с трудом можно было разобрать фигурки солдат и лошадей.
– Это рисунки Детайля! Вы его знаете? Он дал мне эту тетрадь сам, сказав при этом: «Мне было девять лет, когда я сделал эти рисунки. Я берег тетрадь как зеницу ока. Даже отказался подарить ее кузине царя, и мои друзья взяли с меня слово, что я завещаю ее Лувру. Поскольку ты была так любезна со мной, я дарю ее тебе».
Когда я сообщил бывшей подруге Детайля, что за своего «дега» она получила бы кругленькую сумму и что ее «детайль» не стоит теперь и ломаного гроша, она сказала:
– Это меня не удивляет… С художниками всегда сплошное невезение. Один даже не предупреждает о том, что за его картину когда-нибудь будут давать деньги, а другой, с которым я вела себя как дурочка…
Встретившись с Дега в очередной раз, я умолчал о том, что его картина гуляет теперь по свету под видом «Поваренка» в духе Жозефа Байля.
В один из своих визитов я застал художника работающим над одной из тех пастелей, изумительных по цвету, которые сравнивали с пестрыми крылышками бабочек. Когда я заговорил о них в беседе с художником Латушем, последний обратился ко мне с просьбой:
– Не могли бы вы попытаться выведать у Дега, где он покупает пастели, благодаря которым ему удается получить такие необыкновенные тона?
Когда я увиделся с Дега, он как раз раскладывал те самые пастели на дощечке перед окном.
– Я стараюсь приглушить краску, выставив ее на солнце, – объяснил художник.
– Но как же вы добиваетесь таких ярких тонов?
– Глухим тоном, мсье!
Однажды, когда я пришел к Дега вместе с художником Дювалем, мы нашли великого живописца в очень скверном настроении. Только что состоялся аукцион, на котором одно из его произведений получило колоссальную надбавку в цене.
– Подумать только, мсье Дега, возможно, вы когда-то продали этот шедевр всего за несколько сот франков, – сказал я простодушно.
– Почему шедевр? – неожиданно спросил Дега и, обратившись к художнику Дювалю, произнес: – Если бы вы знали, как я сожалею о том времени! Может быть, уже и тогда я был скаковой лошадью, на которую делались ставки, но, по крайней мере, я об этом не знал… И если мои «изделия» начинают продавать по таким ценам, то что будет с Энгром!
Дюваль рассматривал полотно Энгра, стоявшее на мольберте; это был портрет господина де Пасторе.
– Я попросил Аро прислать мне на несколько дней эту картину для ознакомления, прежде чем окончательно решиться, – объяснил Дега. – Но я был уверен в том, что стоит ей попасть сюда, и она уже не покинет стен этого дома.
– Вы были знакомы с Энгром, мсье Дега? – спросил Дюваль.
– Я видел его трижды, и вот при каких обстоятельствах… Как-то я навестил старого друга моей семьи господина Вальпинсона, который владел одной из самых знаменитых картин Энгра, «Купальщицей», ныне находящейся в Лувре. «Отгадай, кто только что вышел от меня?» – спросил он. Я в недоумении посмотрел на него. «Твой бог… господин Энгр. Он заходил, чтобы попросить у меня свою „Купальщицу“ для зала, отведенного ему на Всемирной выставке (1855). Разумеется, я не согласился. Помещение, которое дали Энгру, представляет собой скверный деревянный барак; я испугался за свою картину». – «Неужели вы смогли в чем-то отказать Энгру?» – спросил я у Вальпинсона, и правильно сделал, потому что в конце концов он произнес: «Ты прав, завтра мы отправимся к Энгру и сообщим ему, что он может рассчитывать на свою картину». На другой день карета Вальпинсона действительно доставила нас на набережную Вольтера, где располагалась мастерская Энгра. В нее вела низенькая лестница. В дверь мы заходили прямо с последней ступеньки. Вальпинсон постучал, и нам открыла «знаменитость». «Этому молодому человеку, – сказал Вальпинсон, показывая на меня, – я обязан тем, что понял, что не имею права в чем-либо вам отказывать. Извините меня за мое первое побуждение. Я отдаю „Купальщицу“ в ваше распоряжение». Разговаривая, мы пересекли что-то вроде прихожей и вошли в мастерскую. Энгр благодарил Вальпинсона, низко кланяясь и приложив руку к груди. Вдруг мы увидели, как он закачался; я подбежал к нему, вытянув руки, но не смог его удержать: он рухнул на пол. С Энгром случился обморок. Он был очень бледен, на лбу у него был небольшой кровоподтек, так как, падая, он обо что-то ударился. У входа я заметил рукомойник и смочил ему виски водой. Понемногу он приходил в чувство. Тогда я оставил его с Вальпинсоном, кубарем скатился с лестницы, на бегу предупредил консьержа и помчался к мадам Энгр, жившей на улице Лиль, в доме номер 4… Я был настолько взволнован, что не догадался сесть в карету Вальпинсона, ждавшую нас у подъезда. Я прошел к мадам Энгр и деликатно сообщил ей о происшествии. Она быстро надела шляпку, и я подставил ей руку. Мы спустились вниз и поспешили в мастерскую. В тот момент, когда мы прибыли на набережную Вольтера, Энгр стоял внизу лестницы, поддерживаемый Вальпинсоном и консьержем. Энгр и его жена сели в карету Вальпинсона, и она доставила их домой… Так состоялась моя первая встреча… После выставки я получил записку от Вальпинсона, находившегося в отъезде: он просил меня проследить за возвращением «Купальщицы»… На другой день я отправился к Энгру. Я постучал. Дверь открыл он сам. Я вручил ему письмо, полученное мной от Вальпинсона, но предназначавшееся Энгру, в котором была изложена цель моего визита. Художник только что отправил «Купальщицу» ее владельцу. В мастерской я заметил голову Юпитера (мне удалось приобрести ее позднее) и картину с изображением Гомера, поддерживаемого пастухом и спасающегося от грозы. На фоне была изображена молния… Молния, нарисованная Энгром! Вы ее можете представить… Набравшись смелости, я сказал Энгру: «Простите меня за то, что я пользуюсь этим случаем, другого, возможно, больше не представится. Я тоже хотел бы стать художником. Я без ума от искусства и т. д.». Энгр снисходительно произнес: «Рисуйте линии, молодой человек, много линий, с натуры и по памяти». Каково, Дюваль! По памяти!.. Некоторое время спустя Энгр устроил выставку в своей мастерской. Я побывал там, но не стал напоминать о себе. Один господин, вращавшийся в мире искусства, завладел вниманием художника, и тот с серьезным видом кланялся на каждый его комплимент. Глядя на портрет мадам Муатесье, господин говорил: «Юнона!.. Это так же прекрасно, как античное произведение!.. И вместе с тем так современно!» Остановившись перед «Гомером», он сказал: «Античность!.. Страна муз!.. Ваша стихия…» А возле картины «Турецкие бани» воскликнул: «Ах, ах!.. Наслаждение… Великолепие плоти… Само сладострастие!..» Тогда Энгр, прижав руку к груди, произнес: «Мсье… У меня ведь несколько кистей». Больше я Энгра никогда не видел…
Когда Дега рассказывал о том, как он подхватил лишившегося чувств Энгра, я подумал: какой прекрасный сюжет для картины на соискание Римской премии! Энгр на руках у Дега! Встреча двух поколений: эпохи, последним представителем которой был Энгр, и нового искусства, которое только зарождалось.
* * *
Сколько раз в самом начале моей карьеры Мэри Кэссетт, словно посланная судьбой, находила для меня выход из затруднительного положения.
– У вас найдется картина для Хэвемайеров? – спрашивала она.
С каким-то самозабвением великодушная Мэри Кэссетт делала все, что могло способствовать успеху ее товарищей: Моне, Писсарро, Ренуара, Сезанна, Сислея… Но какое удивительное безразличие обнаруживала она, когда речь заходила о ее собственной живописи! Какое отвращение питала к тому, чтобы, как говорится, проталкивать свои произведения! На одной из выставок импрессионистов, где Мэри Кэссетт рьяно вступилась за своих товарищей, кто-то, обратившись к ней и не зная, с кем он говорит, сказал:
– Но среди тех, кого вы назвали, нет художника, которого Дега ставит очень высоко…
– Кого же? – спросила она удивленно.
– Мэри Кэссетт, – последовало в ответ.
Без ложной скромности и притворства она воскликнула:
– Ну вот еще!
– Эта женщина, наверное, сама художница: она ревнует, – пробормотал, уходя, ее собеседник.
Мэри Кэссетт владела в Уазе, в Месниль-Бофрене, имением, где проводила лето. Там она и умерла в 1926 году. Вся деревня участвовала в похоронной процессии. Только старой Матильде, ее преданной горничной, и нескольким близким друзьям были известны истинные размеры ее щедрости, ибо Мэри Кэссетт совершала свои благодеяния почти тайком, словно стыдилась делать добро.
На кладбище, когда были произнесены последние молитвы, пастор, согласно протестантскому обычаю, раздал присутствующим розы и гвоздики с венков, чтобы люди бросили их на могилу. Я представил, как Мэри Кэссетт, увидев этот цветочный ковер, побежала бы за холстом и кистями.
* * *
В книге о Сезанне я рассказал о том, как посетил этого художника в Эксе, его родном городе, после того как в моем небольшом магазине на улице Лаффит состоялась выставка его картин.
Как мне не поделиться еще раз воспоминаниями о том времени, таком далеком и таком близком! Как не рассказать о чувстве восхищения, которое я испытал по дороге из Марселя в Экс, когда мимо окна моего купе проплывали все эти пейзажи, которые я узнавал по картинам Сезанна! Как не вспомнить еще раз одержимость художника, стоявшего с кистью в руке перед холстами, которые он, иногда не колеблясь, уничтожал в минуты раздражения, вроде его «Крестьянина», изрешеченного ударами шпателя, или того выброшенного натюрморта, что висел на ветке вишневого дерева и был виден из окон мастерской!..
Всякий раз, когда я думаю о Сезанне, я вновь вижу его мастерскую, где приколотые к стенам репродукции свидетельствовали о любви художника к старым мастерам: Луке Синьорелли, Эль Греко, Тинторетто, Тициану и более близким к нам Делакруа, Курбе, кончая Фореном… Скверные репродукции, грошовые картинки, но их было достаточно художнику, чтобы воссоздать музейную атмосферу.
Я также не могу устоять против соблазна вспомнить о прекрасном классическом образовании мастера из Экса, о его страстном увлечении Бодлером, о приступах гнева, которые случались с ним, стоило ему встретить хулителя одного из своих кумиров; а когда его принимали за крайне необузданную личность, он вдруг обнаруживал уязвимость и простодушие ребенка. Как, например, в тот раз, когда, призывая меня в свидетели, он поносил покойного Золя, осмелившегося упрекнуть Коро за то, что тот изображал на своих пейзажах нимф, а не крестьянок, но вдруг, достигнув высшей степени негодования, сказал мне с дрожью в голосе: «Простите меня, мсье Воллар, я так люблю Золя!..»
Раз уж я заговорил об Эксе, позвольте мне вспомнить некоторых его обитателей, с которыми я познакомился, – в частности, семью Ж., владевшую великолепнейшими «сезаннами», сваленными как попало на лестничной площадке, где они соседствовали с самыми разными предметами: птичьими клетками, продавленными стульями, выщербленным ночным горшком – со всеми теми вещами, которые принимали участие в жизни дома и, в силу этого, были возведены в ранг богов домашнего очага… А еще я вспоминаю графиню, не соглашавшуюся расстаться с «сезаннами», отправленными на чердак.
– Я не торговка, мсье, – говорила она.
– А если на чердаке есть крысы?
– Ну и что? Это мои крысы…
И наконец, могу ли я забыть всех этих глупцов, которые, ничтоже сумняшеся, верили, что если Париж, казалось, увлекся Сезанном, то лишь для того, чтобы посмеяться над провинцией, и которые принимали за чистую монету все, что их соотечественник говорил им о самом себе, жалуясь на свое бессилие «воплотить» или заявляя экской акварелистке, домогавшейся его советов: «Но, мадам, если бы я был таким же умелым, как вы, меня бы уже давно приняли в Салон».
Поэтому не стоит удивляться, что все эти люди упрекали Сезанна в недостаточной скромности, когда он послал два полотна на выставку Общества художников-любителей Экса. Но в своем искусстве он черпал силу, позволявшую ему переносить насмешки обывателей и огорчения, которые причиняла художнику его живопись.
– Послушайте, мсье Воллар. Я думаю, что живопись – это, несомненно, то, чего я стою, – сказал он мне однажды, говоря о «претенциозности кретинов, интеллектуалов и чудаков».
Нужно ли говорить, что он избегал всяких контактов с этими людьми, иначе говоря, с «другими». Так велика была его подозрительность к ним, что, повстречав в Эксе приятеля, с которым он не виделся тридцать лет и который после первых излияний радости спросил у него адрес, художник ответил: «Я живу далеко, на одной улице!..»
Приехав в Экс, я остановился в гостинице на бульваре Мирабо. Когда я вспоминаю о городе фонтанов, перед глазами у меня встает этот бульвар Мирабо, весь залитый солнцем; пробиваясь сквозь ветви платанов, солнечные лучи создавали на земле изумительную по красоте игру света и тени. Помню, в частности, «Кафе де дё гарсон», где я провел столько приятных часов вместе с поэтом Иоахимом Гаске, вдохновителем интеллектуальной молодежи Экса. Именно в этой среде я впервые услышал разговоры о движении за автономию. Но экский автономизм не имел ничего общего с тем, который проявляется во взрывах бомб. Провансальский автономизм отличался добродушием; его крайности не шли дальше вылитой на голову короля Рене[54] чернильницы. Молодые экзальтированные люди ставили последнему в вину то, что, отдав Франции свое герцогство, он низвел до уровня банального департамента древнейшую провинцию, гордившуюся своим прошлым.
Какое чудесное воспоминание оставил у меня один завтрак у Гаске! Войдя в столовую, я оказался перед тремя «сезаннами». Это были «Старуха с четками», вошедшая позднее в состав коллекции Жака Дусе; «Пшеничное поле», которое я увидел вновь, если не ошибаюсь, на распродаже Бернстайна; и наконец, знаменитая «Гора Сент-Виктуар», приобретенная впоследствии Курто, известным лондонским коллекционером. Именно эти два великолепных холста, «Пшеничное поле» и «Гора Сент-Виктуар», Сезанн, желая любой ценой «вывеситься», послал на экспозицию группы любителей, в которую входил. Отвергнуть картины было невозможно, так как, согласно положению, каждый член группы имел право прислать две работы. Но организаторы выставки сочли своим долгом извиниться за дискредитацию, которой подверглось таким образом это художественное мероприятие.
На завтраке присутствовали Демулен, молодой экский литератор, которого ценил Гаске, и другой молодой человек (имени его я не запомнил). За десертом хозяин удостоил нас первым прочтением одной из своих последних поэм.
Когда мы уже собирались выйти из-за стола, служанка доложила: «Мсье Сезанн». Художника сопровождал отец Гаске, бывший булочник, убежденный роялист. Сын шокировал его, но в еще большей степени беспокоил. Он испытывал примерно те же самые опасения, что и отец Сезанна, говоривший своему сыну: «Дитя, подумай о будущем: обладая талантом – умирают, а имея деньги – едят». Слушая, как его Иоахим восторгается столькими давно умершими писателями, бывший булочник считал неразумным выбирать ремесло, где приходится выдерживать конкуренцию со стороны не только живущих, но и мертвецов. Восторги юного поэта по крайней мере не были неприятны для Сезанна, несмотря на то что художник, по сто раз бравшийся за одно и то же полотно, наверное, желал, чтобы юношеский задор, с каким Иоахим декламировал свои стихи, подобно заливающейся трелями птице, поубавился.
Войдя, Сезанн бросил взгляд на журнал по современному искусству, где в начале статьи о провансальских мастерах были помещены портреты Пюже и Домье, и сказал:
– Знают ли они там, в Марселе, что Пюже и Домье их земляки?
– Так же, как и Сезанн, родом из наших мест! – воскликнул кто-то из гостей.
Сезанн строго посмотрел на перебившего его человека. Конечно, комплимент, высказанный одним из его соотечественников, о которых он имел обыкновение говорить, что они «пошловаты», не особенно ему польстил.
Когда через какое-то время Сезанн встал, чтобы уйти, и Гаске произнес имя, дорогое также и для мастера из Экса, – имя Бодлера, художник принялся декламировать:
Над безднами моря, над тихой равниною, Над облаком – тучей, за гранью миров – В подсолнечной сфере – в стране дивных снов. Где звезды текут вереницею длинною…[55]Когда Сезанн умолк, наступила тишина – тишина, которую никто не осмеливался нарушить. Мадам Гаске проскользнула на цыпочках к пианино, осторожно открыла его и сыграла сонату Бетховена. Сезанн удостоил ее аплодисментами, хотя предпочтение он отдавал военной музыке и шарманке.
Платон советовал увенчивать поэтов розами и отводить их к воротам Республики; это потому, что он недооценивал роль, которую призван играть поэт в критические периоды, когда защитники Града нуждаются в поднятии духа. Фронтовой приятель Гаске рассказывал мне: «Когда появился этот парень, мы утопали в грязи, у нас было гнусное настроение… Он прочел нам стихи из „Календаля“, и к нам тут же вернулось мужество. Мы перестали видеть черное небо; поистине мы услышали пение цикад».
Сезанн нарисовал портрет Гаске, находящийся сегодня в Пражском музее. Вспоминаю, как бывший учитель поэта, преподававший ему философию, господин Дюмесниль, долго рассматривал это полотно в моем магазине, а затем воскликнул:
– Как это странно! Я думал, что хорошо знаю Гаске, но, глядя на его портрет, я понял, что настоящий Гаске – это не тот простодушный паренек, каким я его себе представлял.
Пылкость экской молодежи не находила отклика в старых аристократических домах города, у потомков древних родов – потомков обедневших, но более всего озабоченных сохранением своего положения, тех господ, которые, надев цилиндры и белые галстуки, шли рано утром купить булочку за пять сантимов. Они жили среди последних остатков своего былого могущества: редкой мебели, портретов предков, старинных деревянных панелей, которые понемногу переходили к антикварам и старьевщикам. Но покуда у них еще оставались паркет, крыша, окна, они устраивали друг другу приемы. Обходясь без разожженного камина и слуг, супруга и ее дочери наливали гостям чай в старые разрозненные чашки в строгом соответствии с церемониалом, когда отсутствие пирожных чаще всего восполнялось манерами «великого века».
Итак, проходя мимо одного из таких старых особняков Экса, я услышал, как дама, вставляя ключ в замочную скважину, сказала молодой девушке, собиравшейся ее покинуть:
– Жанна, приходи к нам завтра вместе со своей сестрой; у нас будет арльская колбаса в двойной оболочке.
«Ах! Значит, все-таки есть дом, откуда не совсем еще изгнан достаток!» – подумалось мне. Некоторое время спустя случай свел меня с этой самой девушкой.
– Ну и как! Хороша ли была арльская колбаса? – полюбопытствовал я.
– Колбасы вообще не было! Как объяснила нам моя кузина, она запамятовала, что это пятница. Чтобы хоть как-то нас вознаградить, кузина распахнула настежь окна гостиной, и мы дышали воздухом, веющим из сада.
Заодно я узнал, что экские дамы никогда не выходят в сад. Я спросил почему.
– Чтобы соседи не подумали, будто им не на что поехать за город, – ответила моя собеседница.
Однако допускаются, причем без всякого ущерба для приличий, прогулки в парке, при условии соблюдения сдержанности.
В связи с этим одна молодая артистка, родом из этих мест, мадемуазель Реймон, рассказывала мне, что ее бабушка каждый день встречалась в парке своего родного города с престарелой дамой, к которой часто присоединялась ее бывшая подруга по пансиону. Последняя, после того как старая дама на несколько дней куда-то исчезла, написала ей письмо, в котором, обращаясь к ней «моя дорогая подруга», справилась о ее самочувствии.
– Вы представляете, – сказала бабушке актрисы чопорная обитательница Экса, – она смеет называть меня «своей дорогой подругой»!..
Какая изумительная природа в Эксе! Я открыл ее для себя, когда поехал к Марселю Провансу. Известно, сколько усилий прилагает этот деятельный человек, писатель-регионалист, влюбленный в эти края, для сохранения всего того, что осталось от местных традиций… В частности, я вспоминаю «Сантоны». Очаровательные фигурки, рожденные фантазией средневекового ремесленника, обязаны своему страстному пропагандисту тем, что они незаметно добрались до лавочек на парижских Больших бульварах.
Какой приятный день я провел у Марселя Прованса в его родовом имении, где стены обтянуты старым ситцем из Жуи: старомодные и почти трогательные сюжеты рисунков на ткани воскрешали «сладость жизни» в добрые старые времена! С каким изяществом принимала гостей сестра поэта! И какой изысканный завтрак был нам подан! Я был поражен тем, как достойно и одновременно уважительно работники фермы, которые катили по вечерам тележки с сеном, мимоходом приветствовали своих хозяев.
Но славные крестьяне из окрестностей Экса не принадлежали бы к роду человеческому, если бы между ними не возникали мелкие ссоры и они никогда не испытывали бы враждебности к своим соседям.
Прогуливаясь как-то в нескольких километрах от города, я спросил дорогу у крестьянки, гнувшей спину на своем огороде так, словно она разговаривала с землей. Желая показать ей, что я интересуюсь жизнью «местных», я похвалил ее огород, а также грядки ее соседки.
– О, мсье, этой женщины надо остерегаться. Она таится от людей. – И вполголоса, словно доверяя мне какой-то секрет, крестьянка добавила: – Она засеяла свой огород еще до того, как все проснулись, чтобы никто не увидел, что она посадила. И потом, у нее нет ни стыда ни совести. К нам прилетали птички, они пели для меня, так вот, мсье, она заманила их к себе на огород лошадиным навозом…
– А что, если вместо семян, которые они находят в навозе, вы будете кормить их хлебом? Может быть, это понравится им больше?
– Хлеб, знаете ли, стоит денег, с какой стати тратиться на чужую живность?..
* * *
Как я познакомился с Ренуаром?.. Я горел желанием узнать, кто позировал для картины Мане, которая находилась у меня. Это был портрет человека, стоявшего посреди аллеи Булонского леса и одетого в лиловый фрак, желтый жилет, белые брюки, в лакированных туфлях на ногах и в серой шляпе; чуть было не забыл – в петлице у него была роза. Мне сказали: «Ренуар должен знать, кто это». Я разыскал художника, он жил на Монмартре, в старом строении, называемом «Замок туманов». В саду я увидел похожую на цыганку няню с ребенком на руках; не успела она сказать мне, чтобы я подождал в коридоре дома, как появилась молодая дама с округлыми формами и добродушным видом; это была мадам Ренуар.
– Как, мсье, вас оставили здесь? Габриэль!
Няня оправдывалась:
– Но на улице так грязно!..
Проводив меня в столовую, где я мог полюбоваться несколькими великолепными полотнами Ренуара, мадам Ренуар пошла предупредить своего мужа.
Скоро появился и сам художник.
Рассказав о том, что меня привело к нему, я услышал:
– Заинтересовавший вас человек – это мсье Брен, друг Мане. Но не хотите ли вы подняться в мастерскую? Там нам будет удобнее беседовать.
Ренуар ввел меня в самую обычную комнату: мольберт, два или три разрозненных предмета обстановки, ворох тканей, несколько соломенных шляп, которые художник любил комкать в руках, перед тем как усадить свои модели для сеанса позирования. Тут и там были холсты, приставленные один к другому. Возле стула, предназначенного модели, я заметил стопку номеров авангардного журнала «Ревю Бланш» с еще сохранившимися бандеролями.
– Вот весьма интересное издание! – сказал я.
– Право же, да! Его мне присылает мой друг Натансон.
Но, заметив, что я потянулся к журналам, Ренуар всполошился:
– Ничего не трогайте, они положены там, чтобы натурщица могла поставить на них ногу.
Усевшись перед мольбертом, Ренуар открыл коробку с красками. Я был восхищен безукоризненным порядком, который увидел. Палитра, кисти, тюбики с краской, сплющенные и закручиваемые с концов по мере того, как они опустошались, производили впечатление почти женской опрятности.
Я сказал Ренуару, что два ню, висящие у него в столовой, привели меня в восторг.
– На этих этюдах мои служанки. Некоторые из них были великолепно сложены и позировали просто божественно. Однако следует добавить, что я не слишком придирчив, главное – чтобы кожа не отталкивала свет. Я не представляю, как другие ухитряются рисовать светских женщин!.. Вы когда-нибудь видели светских дам с руками, которые было бы приятно рисовать? И однако, это такое удовольствие – рисовать женские руки, но руки, занимающиеся домашним хозяйством. В Риме на вилле Фарнезина есть картина Рафаэля, на которой изображена Венера, умоляющая Юпитера; руки у нее… просто прелесть! Чувствуется, что эта добродушная толстушка сейчас вернется к себе на кухню; именно это заставило Стендаля сказать, что женщины Рафаэля вульгарны и тяжеловесны!
Беседа была прервана появлением модели. На этом я раскланялся, попросив у художника позволения прийти к нему еще раз.
– Как вам будет угодно! Но желательно – с наступлением сумерек, когда я заканчиваю работу.
Понятно, что я поспешил воспользоваться его разрешением.
Уже на следующей неделе я вновь посетил Ренуара. Это было вечером, после ужина. Он уже улегся.
– Сегодня вечером я остался один и потому лег раньше обычного. Габриэль почитает мне что-нибудь. Я приглашаю вас на маленький праздник.
– Вы видели, мсье Ренуар, в газете пишут, что господин N был награжден орденом Иностранного легиона, – заметила Габриэль.
– Почетного легиона, Габриэль!
– Ах, ну да!..
– В соседней комнате лежат книги, принесите их.
Как только Габриэль вышла, Ренуар сказал:
– Мне нравится в этой девушке то, что она всегда говорит забавные вещи, не подозревая об этом. Человек, которого она наградила орденом Иностранного легиона, – француз, и еще вчера он был румыном или, может быть, поляком, он сам точно не знает. Вот вам еще одна черта Габриэль. Прошлым летом мы снимали в деревне дом, расположенный возле форта. Моя жена застала Габриэль в тот момент, когда та сквозь зарешеченное окно кухни кормила с ложки поочередно супом и вареньем двух солдат. «Но им станет плохо от вашей смеси, моя бедная Габриэль», – сказала жена. «Да, вы думаете?» – произнесла Габриэль, и ее вдруг охватило беспокойство… Но, услышав, как кто-то из пришедших в этот момент вспомнил, что в Лионе ему подавали суп после варенья, Габриэль тут же успокоилась: «Вот именно. Они сказали, что их полк переводят в Лион…» Так вот, понимаете, – продолжал Ренуар, – я с гораздо большим удовольствием буду слушать весь этот вздор, чем разглагольствования какой-нибудь «мыслительницы». Послушайте! Мне однажды позировала жена трактирщика, красивая девушка с пухлыми румяными щеками. Мне казалось, что она все время что-то обдумывает, какие-то мысли роились под ее нахмуренным лбом. Я не выдержал и спросил: «Что-то не так сегодня? Интересно, о чем вы так сосредоточенно думаете?» – «Я думаю, мсье Ренуар, что, пока я здесь, у меня сгорит рагу…»
Габриэль вернулась. Положив на стол принесенные книги, она принялась читать их заглавия:
– «Жестокая загадка», «Господин де Камор», «Госпожа Бовари».
– В этом случае мне придется одолеть триста страниц, и все из-за того, что какой-то аптекарь стал рогоносцем! – перебил ее Ренуар. – Это вроде «Саламбо» того же автора, которого мне все время подсовывают. На мой вкус, уж лучше «Роман мумии». Все только и твердят о том, что он фальшив от начала до конца; но может быть, именно поэтому я нахожу книгу такой приятной для чтения.
– «Цветы зла»… – продолжила Габриэль.
– Одна из тех книг, которые я ненавижу больше всего! – воскликнул Ренуар. – Не знаю, кто мне ее принес!.. Если бы вам, как мне, довелось слышать Муне-Сюлли, декламировавшего «Падаль»[56] в салоне мадам Шарпантье в присутствии всех этих идиоток, которые распускали слюни…
Габриэль возобновила перечисление:
– «Жермини Ласерте», «Госпожа Хризантема», «Песня нищих», «Легенда веков»…
Ренуар, слушавший безразлично, как бы с отвращением махнул рукой при последнем названии.
– Но у Виктора Гюго очень красивые стихи…
– Очень может быть, что Гюго гениален, но меня удручает в этом человеке то, что он отучил французов говорить просто… Габриэль, непременно сходите завтра в магазин и купите мне «Графиню Монсоро». – И, обращаясь ко мне, Ренуар добавил: – Какой шедевр!.. Помните главу, где Шико благословляет процессию…
– Мсье! – вдруг вскрикнула Габриэль. – Вот книга Александра Дюма!
Лицо Ренуара просияло. И Габриэль торжественно объявила:
– «Дама с камелиями»!
– Никогда! – возразил Ренуар. – Терпеть не могу все, что создано сыном, а эту книгу особенно. У меня всегда вызывала отвращение эта сентиментальная шлюха!
В Эсуа, на родине его жены, у Ренуара был небольшой дом, в котором он проводил самые жаркие летние месяцы. Какие прекрасные мгновения подарило мне это жилище, представлявшее собой старый крестьянский дом с толстыми стенами, окруженный фруктовым садом!
Один из его друзей удивлялся, что с наступлением осени художник не спешил возвращаться в Париж, откуда он должен был ехать на юг, где из-за своих недугов проводил зиму.
– Что вы хотите? – отвечал ему Ренуар. – Сидя возле доброго очага, я не испытываю потребности вновь вернуться к центральному отоплению. Здесь у меня отличные масло и хлеб, каких не сыщешь в Париже. И потом, приятное местное вино…
Я до сих пор помню это вино, а также коньяк, который не уступал старым маркам арманьяка.
Что мне особенно нравилось в Эсуа, так это река Урса, которая придавала ландшафту столько очарования. Ренуара, когда он уже не мог ходить, часто относили на ее берег.
Во время своего пребывания там я справился о местных достопримечательностях. Мне тут же стали расхваливать могилу бывшего владельца магазинов «Лувр», майора Эрио. Последний страстно мечтал всю жизнь о роскошной и оригинальной могиле. Майор Эрио, который претендовал на то, что у него есть воображение, колебался между двумя проектами: пирамидой и усеченной колонной. Но он умер прежде, чем успел принять окончательное решение, и семья почла себя обязанной исполнить его желание. По зрелом размышлении родственники решили соединить в одно целое оба проекта усопшего: пирамида была урезана в середине, и на этой глыбе установлено что-то вроде обелиска. В надписи на одной из граней перечислялись основные достоинства майора и сообщалось о том, что его брат, благодаря которому воздвигнут сей мавзолей, является кавалером ордена Почетного легиона. В тот день, когда мне показали это произведение искусства, я увидел пожилую крестьянку, преклонившую колени перед могилой. Поднявшись, она прошла мимо меня, и я спросил у нее:
– Майор Эрио был вашим родственником?
– О нет, мсье, что вы!
– Тогда почему вы молились на этой могиле?
– Видите ли, никто сюда не ходит, поэтому, закончив собирать траву для кроликов, я читаю здесь «Отче наш» и «Богородице»…
Как могло случиться, что такой богатей был всеми забыт?!
* * *
Я хорошо знал Альбера Бенара. Это было время, когда импрессионисты боролись за свое место под солнцем – и какое скромное место! Это была эпоха, когда Теодор Дюре, одним из первых выступивший в их защиту, обратился к официальным художникам с нижайшей просьбой поддержать его друзей:
– Вы гости, сидящие за большим столом, мы не просим, чтобы вы посадили нас за него; позвольте нам только поставить рядом небольшой столик…
Бенар сразу же завоевал расположение публики. Надо признать, что он обладал незаурядным даром композиции, и благодаря его жизнерадостному сочному цвету и кажущейся смелости художника приняли те, кто считал отсталыми официальные салоны, но кого пугала чрезмерная свобода импрессионистов. Последние, в свою очередь, считали себя вправе обвинять Бенара в том, что он слишком ловко воспользовался их открытиями. Дега выразил это остроумной шуткой: «Он летает на наших крыльях».
Верно, что Бенар был донельзя скованным в искусстве. Однажды, находясь в его мастерской, я остановился возле «Поцелуя» Родена.
– Вам это нравится? – спросил у меня Бенар и, поскольку я замялся, добавил: – Создается ли у вас впечатление, что эти люди занимаются любовью?
– Еще бы!..
– Ну-ну! Вы же видите, что это модели, застывшие в определенных позах…
Я дважды удостоился чести принимать у себя за завтраком Бенара.
В первый раз – по случаю моей «Премии художников» (Бенар был одним из членов жюри). Его кандидатом был Поль Валери, за которого, впрочем, проголосовали все. Во второй раз – в связи с выдвижением кандидатуры Жоржа Руо в академики.
Последнего задержала в Швейцарии болезнь, и я пригласил самых разных людей, чтобы показать им некоторые из его произведений. После того как я выставил перед ними определенное количество картин, Бенар отвел меня в сторону и сказал:
– Покажите мне поскорее работы Руо, так как я должен уйти.
– Но именно «руо» вы только что видели!
– А, прекрасно!..
Надо сказать, что в этот день Бенар выглядел очень озабоченным. За столом его соседка, желая пробудить в нем приятные воспоминания, заговорила о женщине, которую мэтр знал уже сорок лет и к которой, как было известно, испытывал особую привязанность.
– У нее очень красивый нос, – сказала дама.
На что Бенар ответил:
– Вы думаете, женщине достаточно иметь красивый нос?
Несколько раз я навещал Бенара в день его приемов, в воскресенье после полудня. Я заставал художника сидящим в кресле в окружении дам, которые оказывали ему всяческие знаки внимания. Другие гости тихо беседовали, сбившись в небольшие группы. Создавалось ощущение, что перед вами старый вельможа, окруженный своей немногочисленной свитой. В центре мастерской на мольберте стояла большая картина – портрет кардинала Мерсье в полный рост. Кто-то сказал: «Удивительно, что это полотно до сих пор не приобрел ни один из наших музеев». Бенар скромно ответил: «Люксембургский музей отказался его принять, мне сказали, что холст чересчур велик. Когда-то все места отдавали старикам, а сегодня – молодежи».
Бенар весьма охотно согласился написать предисловие к моему изданию «Неведомого шедевра» Бальзака с иллюстрациями Пикассо. В связи с этим могу сказать, что кое-какие композиции Пикассо, который, как и Энгр, должно быть, «обладал несколькими кистями», на сей раз как нельзя полно отвечали представлениям о чистой классике. Когда я пришел к Бенару, чтобы поблагодарить его за сотрудничество, меня провели в небольшую комнату, где он был один. Я не обнаружил там того своеобразного сияния, которое художник излучал в мастерской в окружении своих почитателей. Передо мной был человек, выглядевший на свои годы и сам себе казавшийся в тягость. В тот момент, когда я вошел, он, сдерживая зевоту, отложил книгу, которую держал в руке. Я выразил ему свое восхищение работой Тьеполо, висевшей на стене, он посмотрел на меня с довольным видом, но, кажется, я уловил в его взгляде что-то вроде насмешки. Когда после его смерти коллекция художника была выставлена на аукционе, я понял причину той легкой иронии. Картина, которой я, впрочем, продолжал восхищаться, действительно принадлежала кисти Тьеполо. Но это был не знаменитый автор «Поклонения волхвов», а его сын – Джандоменико.
* * *
Несмотря на то что музеи выставляют его картины на видном месте, а его книги стоят на полках всех библиотек по искусству, могло бы показаться, что господин Ж.-Э. Бланш стал жертвой заговора молчания. От одного умного человека я услышал объяснение этому факту, словно бы заимствованное из «Тысячи и одной ночи». Когда художник родился, у его колыбели стояли две феи. Одна сказала: «Ты будешь художником». Другая добавила: «Ты будешь также писателем». Появилась и третья фея: «А я дарю тебе язвительный ум». Конечно, крестный сын фей более всего гордился не этим последним даром. Если бы не язвительный ум, укусы которого в равной степени достигали и художников, и литераторов, последние, возможно, могли бы сказать: «Зачем он пишет? Он так хорошо рисует!», тогда как художники, в свою очередь, могли бы заявить: «Его так интересно читать, к чему он продолжает рисовать?» В итоге и те и другие избрали наиболее действенный способ защиты – они стали делать вид, что его не замечают.
Когда Институт принял Бланша в свои ряды, его новые коллеги заявили: «Теперь нас не смогут обвинить в том, что мы отталкиваем молодежь». И каждый подумал про себя: «Сейчас, когда он примкнул к нам, наше заведение приобрело тем самым надежный зонтик».
Итак, вскоре после его избрания, на вечере у ван Донгена, двое «бессмертных» откровенничали друг с другом по поводу кандидатов, которые метили на вакантное место в Академии изящных искусств.
– Я буду голосовать за господина N., – сказал один из них. – Талант господина X. я ставлю выше, но я больше не хочу молодых…
– Как? – удивился его коллега. – Не вы ли агитировали за омоложение Института?
– Да, но это привело к тому, что среди нас оказался Жак Бланш.
И я понял тогда, что господин Ж.-Э. Бланш отнюдь не стал тем надежным зонтиком, под которым Академия рассчитывала укрыться.
* * *
Больдини, по отношению к которому коллеги считали себя выполнившими свой моральный долг, ибо назвали его «художником модного стиля» – «модного стиля» образца 1890 года, – так вот, однажды я увидел, как Дега задержался перед полотном Больдини, где был изображен художник Льюис Браун с семьей: Льюис Браун смеялся всеми своими длинными желтыми зубами, а позади него стояли его жена и дочь. Дега погладил холст рукой, не говоря ни слова, – это было для него одной из форм проявления восторга. Однако Дега порой сурово обходился с этим «коллегой», виртуозность которого, а также какая-то двусмысленность в его живописи были ему не по душе. Помню другой случай, когда он рассматривал у меня рисунки Шарля Серре; оттененные легкими штрихами пастели, они напоминали произведения некоторых малоизвестных мастеров дореволюционной эпохи. На тех, что я предложил вниманию Дега, были изображены резвящиеся девочки.
– Как хороши эти дети, – сказал Дега. – Насколько они отличаются от девочек Больдини с их порочным видом!..
* * *
Форена я увидел впервые лет пятьдесят назад. В то время я изучал право, но все, что имело отношение к искусству, уже вызывало у меня интерес. Мой поручитель в Париже, плантатор с Реюньона, как-то сказал мне:
– Возьми луидор. Ты ведь без конца рассказываешь о картинах, так вот, найди для меня гравюру, небольшой рисунок… что тебе приглянется, ну, в общем, понимаешь…
Если бы я покупал для себя, я бы на такое не отважился, но, поскольку речь шла о другом человеке, я решил рискнуть и отправился к Форену, рисунками которого, публиковавшимися на страницах «Курье Франсэ», я любовался каждую неделю. Я рассказал ему о данном мне поручении. Он улыбнулся, открыл папку и вручил мне раскрашенный акварелью рисунок с изображением женщины, которая, казалось, подстерегала невидимого клиента.
– Потрясающе! – воскликнул мой поручитель, когда я передал ему рисунок. – Но я спрашиваю себя: как этому негоднику удалось подглядеть? Клянусь, что женщина – та самая, с которой я встречался как-то вечером на улице Нотр-Дам-де-Лоретт. Однако я был уверен, что мы одни…
Я объяснил, что суть искусства заключается именно в том, чтобы создать впечатление реального, подсмотренного в жизни случая. Мой собеседник таращил глаза.
– Ты не находишь, – доверительно сказал он, рассматривая своего «форена», – что человек, наверное, получает чертовское удовольствие оттого, что может передавать подобные вещи?! Если бы я мог начать жизнь сначала, я бы обязательно научился рисовать…
Дега очень высоко ценил Форена. Уважение, с каким он относился к его таланту, не позволяло ему сердиться, когда Форен опаздывал на ужин. Но Дега оставался непреклонным, когда дело заходило о цветах. Мирясь с ними где-нибудь в саду, художник безжалостно изгонял их из квартиры.
Однажды, придя на завтрак к Форену и не застав никого в гостиной, Дега вошел в столовую. В середине стола находился букет цветов. Рассвирепев, он взял букет и, пройдя через всю квартиру, поставил его в какой-то угол. Кузина супруги Форена вошла в столовую и воскликнула:
– О, мы забыли цветы! А ведь сегодня у нас будет мсье Дега!
Горничная обыскала весь дом и наконец обнаружила букет, который тотчас же водворила на место. Когда все пошли к столу, Дега, подавший руку мадам Форен, вдруг высвободился и покинул комнату, не произнеся ни слова. За ним побежали. Он согласился вернуться, но только после того, как ему пообещали, что на столе больше не будет никаких цветов.
Как и Дега, Сезанн с большим почтением относился к Форену. В его мастерской на улице Эжезипп-Моро на стенах висели самые разнообразные рисунки карикатуриста, автора «Милой страны».
Разумеется, я не берусь оценивать творчество Форена. Творчество колоссальное: тут и живописные работы, и рисунки, и офорты, и литографии. А как не вспомнить небольшие композиции бистром, которые очень напоминали Фрагонара и которые он ревностно хранил в своих папках!
В достигшем мастерства художнике поражают упорство и трудолюбие, о чем свидетельствуют двадцать, тридцать этюдов, нарисованных для того, чтобы точно запечатлеть какую-то позу или жест. Среди прочих персонажей художника я вспоминаю одного, которому он сумел придать удивительную жизненность: под воздействием оплеухи персонаж этот словно вращается вокруг собственной оси.
Жертвы Форена – люди, в которых он с удовольствием пускал стрелы, целясь то в одних, то в других, – очень редко обижались на него. Дело в том, что его остроты, даже самые безжалостные, произносились с присущей только ему одному улыбкой; какой бы саркастической она ни была, эта улыбка тем не менее свидетельствовала о душевности Форена. Это были шутки, о которых можно сказать, что они срывались с губ, но шли не из сердца.
Мало кто знал Форена как землевладельца. Я побывал у него в имении в Шесне. Он разглядывал быка, которого вел работник.
– Вы собираетесь нарисовать этюд с этого великолепного животного? – спросил я.
– Отнюдь! Я покажу его на сельскохозяйственной выставке. Мой управляющий уверяет меня, что мы получим первый приз.
* * *
Другим рисовальщиком, в свое время очень знаменитым, был карикатурист Сем. Грозный, с карандашом в руке, он производил жалкое впечатление из-за невысокого роста и неказистой внешности. Но этого столь невзрачного на вид человека не так-то легко было привести в замешательство. Однажды ему позвонили по телефону от имени его друга Больдини и сообщили, что художник тяжело заболел и что он настоятельно просит Сема к себе. Карикатурист тотчас поспешил к нему.
Больдини придумал целую мизансцену, чтобы заставить его поверить в свою кончину. Вокруг постели горели свечи, сам он лежал совершенно неподвижно, сложив руки на груди поверх покрывала. Дверь была умышленно оставлена открытой. Глубоко взволнованный, Сем, полагая долгом благочестия в последний раз запечатлеть черты друга, достает блокнот и приближается к усопшему. В этот момент Больдини, отбросив покрывало, вскакивает на постели совершенно голый. Тогда Сем, абсолютно невозмутимый, обращается к весьма смущенному шутнику: «Не шевелитесь, у вас превосходная поза».
Когда наступал сезон Довиля[57], Сем вместе с Больдини и Эллё объединялись в трио, которое заседало на знаменитой улице Парижа. Эллё выглядел настоящим джентльменом. У него были английские манеры, тогда как по своему таланту он был ближе всего к нашим художникам XVIII века. При этом он отличался большой скромностью. И хотя, стремясь запечатлеть столь переменчивые женские силуэты, художник рисовал беглыми штрихами, его рисунки тем не менее отнюдь не обнаруживали той торопливости, которую позволяла предположить острота Дега: «Эллё – это паровой Ватто»[58].
Однажды Сем пришел ко мне на ужин. До этого я побывал в его мастерской и увидел там на полке внушительную батарею бутылок, имевших этикетки самых разных спиртных напитков: виски, джина, кюммеля, дорогого «Наполеона».
Я, в свою очередь, выставил все, что нашлось у меня в погребе. Я извинился перед гостем за не слишком богатый выбор, на что художник сказал:
– О, вы знаете, я пью одну воду.
– Но что тогда означают все те бутылки, которые я у вас видел?
– Это образцы, я использую их в работе, когда рисую афиши.
* * *
Я уже рассказывал о том, как художник Латуш поручил мне спросить у Дега, где он покупает пастель. Позднее уважаемый критик господин Роже-Милес тоже поделился со мной своим недоумением:
– Как этот чертов Редон добивается таких глубоких черных тонов на литографиях и бархатистости в рисунках углем?
Когда я сообщил об этом Редону, он рассмеялся:
– Скажите Роже-Милесу, это потому, что я ем хорошие бифштексы и пью настоящее вино.
Редон был представителем той эпохи, когда к вину относились без пренебрежения. Он был родом из Бордоле, где его семья владела виноградниками. Ужиная у меня как-то, он сказал:
– У вас хорошее вино! Вы сами его выбирали?
– Разумеется!
– Я не думал, что вы такой знаток…
– Диплом знатока, которым вы меня наградили, я получил еще раньше от одного квалифицированного гастронома. Когда последний поздравил меня с моими покупками, сделанными во время распродажи в погребке «Гран Вефур», я сказал ему: «В этом нет ничего удивительного. Я стоял у вас за спиной и наблюдал за вашими манипуляциями с серебряной чашкой и небольшими кубиками сыра и потом взял два или три ящика того же самого вина, которое приобрели вы».
Казалось, Редон завязал тесное знакомство со своими покупателями: он считал себя как бы их должником. В отличие от Дега, Редон не утверждал, что картина – это жизненная потребность. «Те, кто покупает мои работы, – говорил он, – друзья моей мысли». Отсюда был один шаг до того, чтобы убедить себя, будто его любят как человека. Однажды я заказал Редону альбом литографий под названием «Апокалипсис». Он попросил меня предоставить ему десять экземпляров после выхода книги в свет, добавив не без гордости:
– Для своих покупателей я всегда откладываю с десяток гравюр. Мне очень хочется, чтобы у них были полные коллекции.
– Ради бога, – сказал я. – Но не хотите ли вы, чтобы я взялся продать им эти гравюры? Я вам гарантирую, что вы получите тогда вдвое больше.
– Они огорчатся, узнав, что я продаю свои литографии не сам и что цены изменились. Впрочем, мне грех жаловаться. Если вспомнить о бедном Бредене, который не мог получить и пяти франков за один из своих рисунков… Мне же платят за литографии по семь с половиной франков за штуку.
Именно вследствие того, что я назвал бы его простодушием, цены на произведения Редона долго оставались такими низкими. Сто франков за великолепный рисунок; семь с половиной – за литографию! Один из меценатов, плативших Редону скорее словами восхищения, чем звонкой монетой, знаменитый торговец галстуками с улицы дю Сантье, нашел способ извлечь дополнительные преимущества из своих отношений с художниками. Купив у Редона за сто франков его работу, он сказал:
– Не могли бы вы прийти за деньгами ко мне домой?
И назначил ему встречу на тот день, который был приемным у его жены.
– Чашку чая? – спросила у Редона супруга хитроумного торговца галстуками.
Таким образом последний мог без дополнительных затрат удовлетворить тщеславие «мадам», мечтавшей об артистическом салоне.
Все изменилось для художника в тот день, когда торговец картинами с улицы Ла Боэси, купивший несколько «редонов», решил выставить их в витрине и назначить цену более высокую, чем та, к которой привык художник до сих пор. Едва пастели были выставлены, как их приобрели. Этому примеру тут же последовали коллеги, к величайшему разочарованию постоянных клиентов художника. Так, граф де П. поведал мне, когда мы с ним встретились:
– Вы представляете, на днях я рассматривал в магазине на улице Ла Боэси один из тех натюрмортов с букетами цветов, которые Редон уступал мне за две сотни франков. И вот в лавочку вошел какой-то инострашка и нисколько не удивился, когда у него запросили полторы тысячи!
Редон был также скорее удивлен, чем обрадован ростом цен на его произведения.
– Поверите ли, теперь мне предлагают такие суммы, что я задаюсь вопросом: а удобно ли их брать? – говорил он мне. – И потом, все эти нынешние покупатели… действительно ли им нравится то, что они приобретают? Иногда я испытываю тоску по своим старым «клиентам». Они, конечно, кормили меня обещаниями, но зато так сладко говорили!.. В общем, чтобы купить гвоздики, моей жене теперь не приходится экономить на чем-то другом…
Цветы! Даже в те времена, когда супругам приходилось отказывать себе во всем, в мастерской всегда можно было увидеть букет. По правде сказать, Редон не мог довольствоваться одними цветами; не меньшее удовольствие ему доставляла возможность полюбоваться приятными лицами. Поэтому мадам Редон всегда старалась собрать у себя в гостиной красивых женщин.
Редон придавал большое значение культуре ума. Он считал ее необходимой для человека вообще и особенно для художника.
– Однажды я пошел навестить одного из своих друзей в «Улей» – вы знаете, это район художников – и остановился возле мастерской на первом этаже, – рассказывал мне Редон. – Через открытую дверь можно было увидеть ослика, служившего художнику моделью. Рядом с животным находилась молодая женщина, которая занималась вышиванием. Это была прямо-таки картина из эпохи до Ренессанса. На столе стояли тюльпаны и лежала книга в потрепанной обложке, свидетельствовавшей о том, что ее часто читают. Я подумал тогда: «Вот прелестная сценка!»
* * *
Не без колебаний я постучался в дверь мастерской Уистлера, у которого жаждал получить литографию для своего альбома художников-граверов. Знаменитый мастер слыл нелюдимом. Тем не менее я нашел у него прием, бесконечно тронувший меня, молодого неизвестного человека, пришедшего с предложением о сотрудничестве к мэтру, любая, самая незначительная гравюра которого так высоко ценилась.
В его мастерской нельзя было увидеть ни одной картины. Я сделал несколько робких намеков в надежде на то, что художник мне их покажет. Но в тот день все его мысли были поглощены возбужденным против него делом. Уистлер затребовал за один портрет цену, которую, поразмыслив, счел недостаточной. Заказчик отказался от какой бы то ни было надбавки. И Уистлер уничтожил холст. Мэтр считал, что он вправе это сделать, так как он оплатил чек, врученный ему в качестве гонорара; но заказчик ссылался на то, что, прежде чем вернуть ему сумму, проставленную в чеке, художник его взял, что означало, по мнению клиента – и, вероятно, по мнению суда, – согласие на предложенную первоначально цену. Короче говоря, Уистлер был взбешен. Он подробно изложил мне причины, которые, на его взгляд, давали ему право уничтожить свое произведение, если такова была его воля. Я собирался уже уйти, когда художник спросил:
– Не хотите ли вы остаться на завтрак? Я поделюсь с вами своей котлетой.
Я с радостью принял его предложение. Я ждал какого-то чуда от завтрака у Уистлера! Я слышал, что слуга у него индус, а повар китаец. Рассказывали о роскоши, какой он окружал себя в Лондоне, и о стремлении художника все привести к гармонии, даже цвет блюд с цветом положенных в них кушаний. Я уже представлял, как подадут омлет на голубом блюде, лангуст на зеленом. Вдруг в дверь постучали. Вошла старая женщина и принесла корзину, где лежали обещанная котлета, тарелка со шпинатом и несколько яблок. Она положила салфетку на низкий круглый столик, и художник, сдержав слово, поделился со мной котлетой. Шпинат был холодным.
– Надо его подогреть, – сказал Уистлер служанке.
Она поставила тарелку перед камином. Когда художник хотел ее взять, он обжег себе пальцы.
– Это уж чересчур! – воскликнул он. – Блюдо раскалилось, а шпинат все еще холодный!
– Фаянс плохой проводник тепла… – осмелился вставить я.
Уистлер снова позвал служанку.
– Я только что обжегся о вашу чертову тарелку, а шпинат холодный. Уверен, что вы не знаете почему.
Старуха ошеломленно глядела на своего хозяина.
– Я вам сейчас объясню, – продолжил Уистлер. – Шпинат остался холодным, потому что фаянс плохой проводник тепла. Вы поняли?
Сбитая с толку служанка посмотрела на меня недобрым взглядом, как бы говоря: «Это еще что за тип, который учит меня уму-разуму!»
* * *
Боннар, Дени, Ибель, Пио, Рансон, Руссель, Вюйар сошлись в мастерской Жюлиана. Древнееврейским словом «наби», что означает «пророк», назвал эту группу один из их приятелей, некий Казалис, который посещал курсы древнееврейского языка профессора Ледрена. Само собой разумеется, что никто из этих молодых художников не считал себя пророком. Однако, несмотря на тягу к импрессионизму, их одолевало страстное желание найти свою собственную живописную манеру. Не они одни испытывали потребность в таком обновлении. Другие молодые художники, мечтавшие разработать в некотором смысле научную технику, пытались применить в живописи последние открытия Шеврёля в области изучения законов света (отсюда теория дополнительных цветов, предвосхищенная уже Делакруа). По их мнению, цвета смешиваются в глазной сетчатке; поэтому они будут класть на холст чистые тона. Так родился неоимпрессионизм. Предшественники новой школы – художники, подобные Сёра и Синьяку, – не теряли надежды, что им удастся заручиться поддержкой своих прославленных старших коллег. Как-то Дега все же уговорили подойти к картине «Натурщицы», которую Сёра выставил в Салоне независимых. Но изложение теорий об эволюции живописи быстро ему наскучило; Дега неожиданно обернулся и, ткнув наугад в какое-то полотно, воскликнул:
– А может, вот он и станет художником будущего?!
Это была картина Таможенника Руссо.
«Набисты» каждый месяц собирались у мелкого торговца вином в проезде Бради. Забавная подробность была сообщена мне одним из завсегдатаев этого бистро. Поскольку ключ от туалета часто терялся, хозяин привязал его к мозговой кости. То и дело раздавались возгласы «Мозговую кость!», что вызывало взрывы смеха. В конце концов ужин в бистро окрестили «ужин у мозговой кости». На пирушках там говорили в основном о живописи. Теоретиком группы был Серюзье. Отправившись на каникулы в Бретань, в местечко Понт-Авен, Серюзье вернулся оттуда в невероятном воодушевлении.
– Я встретил там, – объявил он своим товарищам, – гениального человека по имени Гоген. Он открыл мне, что такое настоящая живопись: «Если вы хотите изобразить яблоко, рисуйте круг».
И Серюзье с торжествующим видом показал картинку, которую он нарисовал в соответствии с принципами «мэтра из Понт-Авена». По правде говоря, «набисты» поначалу прохладно отнеслись к этому произведению, названному Серюзье «Талисман». Но если Гоген и не окажет на них прямого влияния, то, по крайней мере, новые идеи, вынесенные учеником из бесед с мэтром, будут давать «набистам» пищу для размышлений до тех пор, пока каждый из них не обретет свой собственный путь в искусстве.
Около 1893 года Морис Дени, обративший внимание на небольшую, организованную мной выставку рисунков Мане, рассказал о ней своим друзьям. Так я познакомился с некоторыми из группы «Наби» – Боннаром, Русселем, Вюйаром – и получил от них сперва картины, а позднее, когда я увлекся издательским делом, иллюстрации для книг.
Другие художники, в частности Вальта и Аристид Майоль, не принадлежавшие к группе «Наби», выставлялись, однако, вместе с ними.
С Вальта я познакомился через Ренуара.
– Находясь в Бретани, – сказал мне Ренуар, – во время прогулки я заметил молодого художника, рисовавшего этюд. Я был удивлен удачным сочетанием тонов, которыми он покрывал холст. Это был Вальта.
Что касается Аристида Майоля, который, как известно, станет впоследствии выдающимся скульптором, то начинал он как живописец. Но поскольку ему не хватало средств для покупки холстов и красок, он увлекся скульптурой. Вначале он вырезал статуэтки из дерева, потому что этот материал стоил дешево. Одновременно Майоль занимался гобеленами. Некоторые из них просто изумительны; краски для шерстяных тканей изготовлял он сам.
Не могу не вспомнить молодого швейцарского художника Феликса Валлоттона, присоединившегося к группе «Наби». Перочинным ножиком он вырезал гравюры на дереве, которые воспроизводились на страницах «Ревю Бланш» вместе с рисунками его товарищей.
Впоследствии, не отказавшись вовсе от гравюры, Валлоттон занялся живописью. Благодаря точности и искренности рисунка художника прозвали «маленьким Энгром». И эта искренность, ставшая отличительной чертой его творчества, передавалась и моделям художника. Однажды, рисуя портрет одной из своих соотечественниц, он заявил, что художник никогда не должен «приукрашивать правду». «Смейтесь, я хочу видеть ваши зубы», – сказал он даме. На что та ответила: «Это не мои зубы» – и, вся покраснев, вынула изо рта вставную челюсть.
Я приобрел одно из ранних произведений Валлоттона, его «Швейцарскую баню», которую у меня попросили для выставки ню. Когда выставка закрылась, обстоятельства помешали мне сразу же забрать работу назад, и я зашел в галерею лишь через три месяца. Там мне сообщили, что у холста теперь другой владелец. «Но все картины, разумеется, были возвращены», – заверили меня. Я уже считал своего «валлоттона» пропавшим, но однажды кто-то сказал мне:
– Так вы, значит, нашли покупателя для «Швейцарской бани»?
– В смысле?
– Проходя по улице де ла Рокетт, я через открытое окно увидел холст, очень похожий на вашего «валлоттона».
Я сумел разыскать этот дом. Хозяином квартиры оказался грузчик. Мой «валлоттон» находился у него. Он объяснил, что после выставки в галерее должен был начаться ремонт и ему предложили забрать всякий хлам, несколько сломанных стульев, разрозненную посуду и, наконец, это большое полотно, которое у всех вызывало смех.
– Моя жена, – добавил он, – сперва хотела заменить им клеенку на столе у нас в столовой, но холст оказался чересчур жестким. Теперь нет никакой возможности избавиться от него даже за пять франков: в квартале никто на него не позарился. Тогда, поскольку в одной из комнат сыровато и обои отклеились, мы повесили холст на стену, пока сын не выкроит время для того, чтобы покрасить его в тон комнаты.
Я дал грузчику десять франков и забрал картину.
Серюзье был как бы связующим звеном между художниками группы «Наби» и Гогеном; и с какой убежденностью он излагал свои теории!
Однажды кто-то окликнул меня на Больших бульварах. Я обернулся: это был Серюзье.
– Вы один? – спросил он. – Не возражаете, если мы немного пройдемся вместе? – И тут же добавил: – Вы видите впереди эту женщину в фиолетовом манто? Когда я заметил рядом с ней вас, в вашем пальто кирпичного цвета, вы не поверите, до какой степени сочетание этих двух цветов резало глаз. Право же, мне стало нехорошо.
Преданность, с какой Серюзье относился к Гогену, проявлялась при любых обстоятельствах. Однажды, когда Морис Дени сказал, что ищет, с кого бы нарисовать Кастора для «Дочерей Левкиппа», Серюзье, который был прекрасен, как юный бог, вдруг воскликнул:
– Если хочешь, я послужу тебе моделью. Те пять франков, что я получу за сеанс, можно будет послать Гогену, который подыхает с голоду.
Приведу один мелкий факт, показывающий, насколько люди не понимали вначале живопись Гогена. На именины Гоген подарил мамаше Глоанек, хозяйке отеля, в котором он проживал, одну из своих работ, редкий по красоте натюрморт. Муниципальный советник Парижа, член комиссии по изобразительному искусству, находившийся в отеле, услышав имя Гогена, недвусмысленно заявил, что удалится, если холст «этой свиньи» украсит зал. Чтобы мамаша Глоанек могла повесить картину, не потеряв при этом клиента, Гоген подписал полотно именем Мадлен Б. Мадлен – так звали сестру Эмиля Бернара, которая проживала в отеле вместе со своим братом, совсем молодым художником, совершившим путешествие пешком из Парижа в Бретань. Все виды изобразительного искусства увлекали Эмиля Бернара: живопись, резная мебель, гравюра по дереву, ковры. Картина Гогена, подписанная «Мадлен Б.», в настоящее время находится у Мориса Дени.
Когда через несколько лет я отправился в Понт-Авен с намерением приобрести кое-что из полотен Гогена, я сперва не нашел никаких работ художника. Но как только я обосновался в гостинице мамаши Глоанек и стало известно о моих планах, сведения о холстах начали поступать ко мне непрерывным потоком. Мне советовали обратиться и к владельцу замка, и к должностному лицу, и даже к рыбаку; все они были знакомы с Гогеном, и мне посчастливилось обнаружить у них его холсты. Я совершал бесконечные пешие прогулки по самым немыслимым дорогам. Несомненно, только еще зарождающаяся в Париже слава художника докатилась до Бретани многократно раздутой, так как при тех ценах, которые у меня запрашивали за малейшие работы Гогена, любые сделки были невозможны. Поэтому я вернулся в Париж с пустыми руками. Но однажды, проходя по бульвару Монмартра, я заметил в витрине у Буссо и Валадона «Распятие» Гогена, холст не менее значительный, чем те вещи, за которые в Бретани у меня требовали пятьсот франков. Я спросил, сколько стоит эта картина, и услышал в ответ: «Триста франков».
* * *
После великих импрессионистов стали говорить: «Живописи пришел конец!» То же самое говорили и после Ван Гога, и после Гогена. Но появились художники вроде Боннара, Мориса Дени, Русселя, Вюйара. И тогда послышалось: «Постойте! Мы ошиблись. Но на сей раз уж точно наступил конец».
Однако бог живописи, словно для того, чтобы показать, что в искусстве развитие никогда не прекращается, подарил новое созвездие художников – Дерена, Марке, Матисса, Вламинка (ограничимся здесь только этими именами).
Случай свел меня с Вламинком, причем я даже не подозревал об этом. Однажды на улице Лаффит я столкнулся с рослым и крепким парнем, которого из-за красного платка, повязанного вокруг шеи, можно было принять за какого-нибудь активиста-анархиста. Он держал в руках большое полотно, изображавшее, если мне не изменяет память, заход солнца, написанный так, будто тюбики с краской яростно выдавливались прямо на холст. Эффект был потрясающим. Человек с красным платком вокруг шеи имел добрые, спокойные глаза, но вы почему-то ждали, что он вот-вот взорвется и скажет: «Тем, кто будет смеяться над моей живописью, я набью морду»… Действительно, подобное полотно вызывало некоторый протест, однако в нем было что-то волнующее, благодаря чему я почувствовал желание познакомиться с его автором. Каково же было мое удивление, когда Матисс привел меня в мастерскую Вламинка! Я оказался в гостях у художника с красным шейным платком. На этот раз на нем красовался деревянный галстук его собственного изобретения, цвет которого он мог изменять по своему усмотрению. Висевшие на стенах пейзажи были вызовом, брошенным ограниченным обывателям, которые признают лишь тщательно приглаженную природу. Однако подобная крайность отнюдь не оттолкнула меня, и я закупил все, что было в мастерской. Так же я поступил и у Дерена. Но, уступая мне холсты, украшавшие стены, Дерен сделал исключение для одной работы, которую он не стал включать в партию: это была копия полотна Гирландайо. Какое изумительное переложение! Помню, как разгневался Дега, увидев замечательную цветную литографию с одного из своих произведений, исполненную Огюстом Кло: «Как он только посмел!..» Но художник тут же добавил: «Однако он чертовски силен, негодяй, сделавший это!» Думаю, что Гирландайо тоже испытал бы подобное чувство восхищенного удивления, глядя на копию своей картины.
Позднее я попросил Вламинка и Дерена нарисовать виды Лондона. Меня упрекали в том, что я «сбил с толку» этих художников, вынудив их отвлечься от своих обычных тем. Сейчас, когда время уже сделало свое дело, сравнивая холсты, нарисованные во Франции, с теми, которые были привезены из Англии, можно убедиться в том, что, если художнику «есть что сказать», он всегда остается верным себе, даже меняя обстановку.
Откровенно говоря, если кто и озадачил людей, ждущих от художника верности однажды избранной манере, так это Матисс. Отказавшись от серых тонов, так понравившихся любителям искусства, он вдруг обратился к яркому колориту, который отличает картину «Женщина в шляпе». Выставленная в Осеннем салоне 1905 года, она ознаменовала новый этап в развитии его таланта. Хотя смелость художника не выходила за рамки чистого классицизма, его светлые тона вызвали подозрения в том, что он вступил в сделку с фовистами.
Этого было вполне достаточно, чтобы насторожить председателя Осеннего салона господина Франца Журдена. Последний охотно демонстрировал свою приверженность исканиям новой живописной школы, но, будучи осмотрительным руководителем, он старательно избегал чересчур открытого разрыва с академическим искусством, которое все еще пользовалось благосклонностью подавляющего большинства людей. Поэтому, постоянно опасаясь оказаться скомпрометированным дерзкими выходками одного из своих «подопечных», Журден полагал, что Матисс, с его «Женщиной в шляпе», чересчур увлекся модернизмом. И хотя сам он отстаивал интересы Матисса, ему не удалось убедить жюри не выставлять это полотно, дабы не нанести величайшего вреда его автору. После того как картина была допущена к выставке, господин Журден с горечью произнес:
– Бедный Матисс, а я-то думал, что у него здесь одни друзья!
Среди тех, кто держался в стороне от молодых художников, искавших общения друг с другом, необходимо назвать Шарля Дюлака.
Я имел случай познакомиться с Шарлем Дюлаком в 1890 году, когда господин Анри Кошен, талантливый переводчик и комментатор Данте, организовал в моем магазине выставку произведений этого молодого художника-мистика, которого очень высоко ценил Гюисманс. Особенно мне запомнилась картина с изображением пруда, по бледной поверхности которого плыли лебеди. Для францисканца Дюлака произведение искусства было как бы порывом к Богу. Поэтому, следуя примеру Фра Анджелико, прежде чем взяться за кисти, он произносил молитвы, ожидая вдохновения. Впрочем, знатоки полагали, что общим у этих двух художников был лишь этот акт благочестия.
Выставку открыл директор департамента изящных искусств господин Ружон – честь, которую ему оказал Анри Кошен. Похвалив, как это принято, выставленные произведения, высокопоставленный чиновник отвел меня в сторону и сказал:
– Мне говорили, что на вашей выставке я увижу господина Кошена…
– Но вы же только что с ним разговаривали!
– Как? Я прекрасно знаю господина Дени Кошена.
– Но выставку Дюлака организовал не Дени Кошен, а его брат Анри.
– Ах вот оно что! – воскликнул Ружон.
Наблюдавший за нами господин Анри Кошен, несомненно, подумал, что директор департамента изящных искусств намерен приобрести какую-нибудь работу Дюлака для Люксембургского музея. Он подошел к нам и, показав Ружону на один из холстов, спросил:
– Не правда ли, вот вещь, достойная музея?
– Конечно, я бы не колебался, если бы это зависело только от меня, – ответил Ружон.
– В любом случае, – продолжал Кошен, – поскольку вы цените талант Дюлака, мы надеемся, что он найдет в вас поддержку.
– Увы! – произнес Ружон. – Во мне уживаются два существа: художник и чиновник. – И, ткнув пальцем в пейзаж, где бледно-розовое небо отражалось в зеркале мертвенно-серой воды, он сказал: – Как художник я, конечно, воспринимаю смелый колорит, отличающий произведения, которые вы мне только что показали. Но директор департамента изящных искусств должен следовать вкусам публики, а не опережать их.
* * *
– Однажды, приехав к Майолю в Марли-ле-Руа, – рассказывал мне Ренуар, – я нашел его в саду возле каменного блока с резцом и долотом в руках. В то время как столько современных скульпторов думают сравниться с древними, копируя их работы, Майоль от природы принадлежит к потомкам этих древних мастеров, поэтому, когда я наблюдал за тем, как он извлекает нужную ему форму, мне казалось, что передо мной грек.
Однако одному Богу известно, занимает ли Майоля его происхождение. Когда он закончил фигуру обнаженного молодого человека с безукоризненными формами, которую окрестил «Велосипедист», кто-то удивился такому названию, на что Майоль сказал:
– Ну что ж, этот юноша занимался велосипедным спортом, поэтому нет ничего странного в том, что я назвал его «Велосипедистом». И потом, я не хотел, чтобы думали, будто я собирался изобразить какого-нибудь Антиноя.
С приходом зимы Майоль покидает свою мастерскую в Марли-ле-Руа и, чтобы захватить солнечные дни, уезжает к себе на родину в Баньюльс-сюр-Мер. Он любит этот суровый край, где порой с какой-то яростной силой дует ветер. Один типограф испытал это на себе, когда я послал его взять у художника медные доски, которые тот выгравировал для моего издания «Шалостей» Ронсара.
– Я не нашел господина Майоля в самом Баньюльсе, – сказал по возвращении мой посланец. – Пришлось идти пять километров до его хутора; эти пять километров я преодолел согнувшись пополам, почти на четвереньках, дабы меня не унесло ветром.
Когда я рассказал об этом Майолю, он заметил:
– Да, в тот день действительно было ветрено.
К счастью, в Баньюльсе ветер дует не каждый день. Господин Эспенуолл У. Бредли, который отправился с визитом к великому скульптору, поведал мне о приятных минутах, проведенных в его обществе, когда они сидели в тени деревьев на террасе небольшого кафе. Увидев молодую женщину с пышными формами, скульптор сказал:
– Меня часто спрашивали, почему я никогда не изображаю худых женщин. Вы теперь видите, я изображаю своих землячек.
Ренуар также любил рисовать женщин с весьма округлыми грудями, ягодицами, руками – словом, такую плоть, которая хорошо отражает свет.
Живописца и скульптора – я чуть было не написал «обоих скульпторов» (как известно, Ренуар, помимо всего прочего, создал «Прачку», «Триумф Венеры», «Суд Париса») – объединяла еще и другая черта: они совершенно не знали знаменитых современных писателей или мыслителей.
Однажды, просматривая газету, Ренуар сказал мне:
– Опять Искусство с большой буквы. Прочтите мне это, Воллар.
Прервав меня в середине чтения, художник раздраженно заметил:
– Эта их дурацкая привычка поручать художественную критику тем, кто ведет рубрику про раздавленных собак…
Статья, однако, была подписана Анри Бергсоном, но это имя ни о чем не говорило Ренуару. Мне рассказали, что, когда один из друзей скульптора приехал к нему в Баньюльс, Майоль произнес:
– Кто-то тут наведывался из Парижа, чтобы посмотреть мастерскую. Дюамель… Жорж… кажется, так его зовут. Он сказал мне, что сочиняет…
Одна вещь оставляла Майоля абсолютно равнодушным – головокружительные скорости, которые являются бедствием современной жизни. Однажды кто-то в его присутствии расписывал ни с чем не сравнимое зрелище автомобильных гонок.
– Я лично, – заметил скульптор, – больше люблю смотреть на то, как соревнуются друг с другом в беге улитки.
Долгое время, чтобы познакомиться с самыми красивыми произведениями Майоля, надо было ездить за границу. В частности, я хочу упомянуть здесь «Женщину, присевшую на корточки» из музея в Винтертуре; «Сидящую женщину», великолепную мраморную скульптуру из бывшей коллекции Кесслера, ныне украшающую парк господина Оскара Рейнхарта в Цюрихе; «Четыре времени года» из музея Морозова в Москве. Но сегодня нам больше некому и нечему завидовать, поскольку в саду Тюильри находится «Памятник Сезанну», в Сен-Жермене – «Памятник Дебюсси», в Сере – «Памятник павшим»… Да, я чуть было не забыл о «Памятнике Бланки».
Рассказывают, что председатель комитета по увековечению памяти Бланки, которым был не кто иной, как господин Клемансо, спросил у Майоля:
– Каким вам видится этот памятник?
На что скульптор ответил:
– Ну что ж! Мне видится прекрасный женский зад.
Но – сколь ненадежны «исторические» анекдоты! – когда Майолю напомнили об этом высказывании, он возразил:
– Я никогда этого не говорил. Я ответил тогда: «Ну что ж, я создам статую!»
Как бы то ни было, памятник Бланки представляет собой фигуру пышной обнаженной женщины со скованными за спиной руками; в этом образе почитатели Бланки усмотрели символ «плененной мысли».
Со статуей, которую заказал Майолю граф Кесслер, произошло весьма необычное приключение. Во время наступления немцев на Париж в 1914 году граф Кесслер, опасавшийся, что соотечественники, которые далеко не все были ценителями искусства, отнесутся к мастерской Майоля без должного уважения, послал художнику следующую телеграмму: «Закопайте статую». В лихорадочном возбуждении, которое овладело умами в связи с объявлением войны, эта фраза, вскоре ставшая известной, показалась деревенским патриотам крайне двусмысленной. Распространился слух, чему способствовала шпиономания, будто в особнячке, где граф Кесслер, большой любитель дорогих изданий, производил под руководством Майоля опыты по изготовлению различных сортов бумаги, спрятана железобетонная платформа, заранее сооруженная для того, чтобы разместить на ней орудия противника, нацеленные на Париж.
В одно из моих недавних посещений Майоля скульптор трудился у себя в саду над статуей в натуральную величину, изображающей женщину, целиком скрытую под покровами. На лице, отмеченном печатью грусти, можно было все же уловить что-то вроде трепета жизни.
– Это заказ для надгробия, – объяснил мне скульптор. – Вдова умершего захотела позировать сама.
– У нее такой вид, будто она начинает жизнь заново, у этой вашей вдовы, – сказал я скульптору.
– Не знаю, я ведь передаю только то, что вижу… Правда, эти мерзавцы, которые формовали глину, доставляют мне уйму хлопот: у них получился чересчур тонкий слой гипса, и я то и дело натыкаюсь своим инструментом на проволоку, образующую каркас. Приходится делать двойную работу, но успокаивает мысль о том, что однажды это будет отлито в свинце! Свинец – какой прекрасный материал!..
В этот момент пришла упомянутая вдова в сопровождении какого-то господина, ей-богу, весьма смазливого парня. Это был ее жених, которого она привела полюбоваться памятником.
* * *
Я никогда не забуду завтрак у Ренуара в Канне, на котором присутствовал Роден. Меня сразу поразило здравомыслие скульптора, сочетавшееся с редкостным остроумием.
Когда мы заговорили о «Венере Милосской», Роден сказал:
– Думаю, что я раскрыл секрет греческих ваятелей. Он заключается в их любви к жизни. Лишь заимствуя все из жизни, я сумел создать лучшие свои произведения. Моего «Идущего человека» часто упрекали за то, что он лишен головы. Но ходят разве головой?
Роден посмотрел на картину с обнаженной моделью, которая озаряла столовую, и заметил:
– Как вы были правы, Ренуар, сделав правую руку этой женщины крупнее, чем левая! Правая – это рука действия.
Младший сын Ренуара Клод вдруг встал из-за стола со словами:
– Ах, черт! Я опять пропущу муравьев!
Мадам Ренуар строго посмотрела на него:
– Большой тринадцатилетний мальчик, а занимается тем, что наблюдает за муравьями!
– В его возрасте я был таким же, – добродушно произнес Роден. – Между двумя слепками – а лепил я с самых юных лет – мне нравилось наблюдать за нравами этих насекомых.
Простота мэтра не мешала ему осознавать свое значение. Кто-то вспомнил, что в Академии изящных искусств одно место остается вакантным.
– Сколько людей не хотят, чтобы я был принят в Институт! – воскликнул Роден. – Они постоянно твердят мне: «Мэтр, человек с вашим гением…» Мой гений! Разве он мешает какому-нибудь Сен-Марсо на официальных приемах, на похоронах – словом, везде, где только можно, иметь передо мной преимущество? Если бы я был членом Института, неужели Клемансо заставлял бы меня по пятнадцать раз переделывать его бюст и в итоге оставил скульптуру мне вместо гонорара?!
Чтобы отвлечься от неприятной темы, мадам Ренуар поднялась и сказала:
– Я должна выйти, чтобы дать одно поручение.
– Мы могли бы пройтись по саду: я так люблю природу, – сказал Роден. Но, посмотрев на свои лакированные туфли, он покачал головой и добавил: – В конечном счете можно смотреть на цветы и отсюда.
Вошедший в эту минуту выездной лакей доложил:
– Карета графини подана господину мэтру.
После того как Роден уехал, Ренуар, казалось, погрузился в размышления. Вдруг, нарушив тишину, он сказал:
– Все эти светские женщины, которые увиваются за Роденом, понимают ли они, что это за скульптор?
– Мсье Ренуар, я слышал, будто Сезанн ставит «Бальзака» выше всей современной скульптуры.
– И не только современной, – подхватил Ренуар. – Этот «Бальзак» отличается такой цельностью и такой декоративностью!.. Неудивительно, что у Родена столько противников…
– Я никогда не видел Майоля более разгневанным, чем в тот день, когда в его присутствии кто-то попытался принизить талант Родена…
– Должен вам сказать, – перебил меня Ренуар, – что, выбирая между Майолем и Роденом, я все же, в силу своего личного вкуса, отдаю предпочтение Майолю, так же как если говорить о Микеланджело и Донателло, то по душе мне больше Донателло.
Я вновь увиделся с Роденом в его мастерской на складе изделий из мрамора, куда я пришел, захватив для него статуэтку Майоля. Позвонив в дверь, я услышал женский голос, который умолял:
– Мэтр! Пощадите эту прелестную голову.
Другой голос (он принадлежал мужчине) изрекал с сильным тулузским акцентом:
– Родейн! Великий Родейн!..
В этот момент подошел еще один посетитель, не кто иной, как господин Дюжарден-Бометц, заместитель директора департамента изящных искусств, и решительно позвонил в дверь. Нам открыл сам Роден. В руке у него была огромная сабля. На полу в мастерской валялись обломки статуй, руки, отрубленные головы, на весь этот хаос растерянно взирали присутствующие, среди которых мне указали на господина Камиля Фламмариона, артистку Лои Фуллер и мадам де Теб, знаменитую ясновидящую.
– Какое преступление! – стонала предсказательница.
Южанин продолжал выкрикивать:
– Родейн! Великий Родейн!..
Эти восклицания исторгал невысокого роста человек с бородой полукольцом. Это был Бурдель, любимый ученик мэтра.
Роден посмотрел на одну из статуй, единственную оставшуюся нетронутой и, несомненно, вызвавшую прозвучавшие только что мольбы о пощаде. Он взмахнул своей саблей, и голова упала.
– Такая прекрасная голова! – вскричал Дюжарден-Бометц.
– Это не голова! – прогремел Роден.
Мы глядели друг на друга в изумлении. Роден подобрал с пола ногу и показал ее заместителю директора:
– А вот это что?
– Гм… нога.
Взглядом олимпийца Роден созерцал голову и ногу. Все молчали, даже Бурдель.
– В настоящий момент, – произнес великий скульптор, – я не нахожу или, скорее, нахожу слишком много символических названий для ноги. «Утренняя надежда», «Мужество», «Страдание»… Надо дать мыслям отстояться, и они заявят о себе в свое время. Недавно я был у себя в подвале. Вдруг меня осенило. Я нашел название для шара, символизирующего Землю, – «Роженица».
Кто-то вошел. Это был парикмахер. В руках он держал небольшой мешок из «чертовой кожи», откуда извлек накидку, к которой булавкой была приколота ленточка кавалера ордена Почетного легиона. Роден надел накидку на себя и уселся перед зеркалом. Парикмахер открыл свою сумку с набором инструментов. Присутствующие почтительно образовали круг.
– Сегодня, Жюль, – сказал мэтр цирюльнику, – вы пострижете мне бороду.
Присутствующие издали возглас изумления:
– Мэтр без бороды!
Бурдель снова завыл:
– Родейн! Великий Родейн!..
Парикмахер закрыл сумку и произнес:
– Я на такое преступление не пойду, пусть мэтр обратится к кому-нибудь другому!
– Славный Жюль! – воскликнул Роден. – Я пошутил, дружище.
Присутствующие с облегчением вздохнули.
– Ах, моя борода! – вскричал Роден. – Я дергаю за нее, когда вдохновение слишком долго не приходит. Некоторые стучат по дереву, я же трогаю свою бороду.
Дверь отворилась, и вошла женщина, державшая на руках младенца. Она встала на колени перед Роденом. Это была русская, делегированная группой политических эмигрантов. Она сообщила, что приехала из Сибири, чтобы передать мэтру слова благодарности от имени его почитателей в этой стране. В дороге у нее родился ребенок.
– Благословите его, мэтр…
Роден возложил руки на мать и на ее ребенка.
Между тем как парикмахер раскладывал свои инструменты, Роден поднялся, чтобы встретить еще одну посетительницу. Последняя предложила его вниманию бронзовую статуэтку.
– Какая великолепная отливка! – воскликнул скульптор.
И, взяв с полки похожую скульптурку, он поставил ее рядом с принесенной.
– Они обе безукоризненны. Однако, – добавил он, приняв задумчивый вид, – одна из них подделка. Но какая? – Роден помолчал и объяснил: – Подлинным мое произведение является в том случае, если я дал разрешение на его отливку. Оно поддельное, если его отлили без моего позволения. Итак, здесь я разрешил сделать одну-единственную отливку… Их же сделали две!.. Так какая же из них подлинная, а какая поддельная?.. – Размышляя, Роден дергал свою бороду.
– Какой замечательный урок преподносит нам мэтр! – воскликнул господин Дюжарден-Бометц.
– Родейн! Великий Родейн!.. – опять повторил Бурдель.
Господин Дюжарден-Бометц подобрал одну из отрубленных голов.
Взяв голову у него из рук, Роден произнес:
– Насколько она красивее без тела! Я вам раскрою один из своих секретов. Все эти произведения, которые вы здесь видите, являются результатом увеличений. Однако если некоторые части сохраняют свои пропорции при увеличении, то другие выбиваются из масштаба. Суть в следующем: надо знать, в каком месте рубить!
– Родейн! Великий Родейн!.. – забубнил Бурдель.
В этот момент появился выездной лакей в богатой ливрее. Он принес завернутое в бумагу растение. Когда бумагу развернули, мы увидели небольшой кустик, весь покрытый цветами. К его стеблю была прикреплена табличка, на которой Лои Фуллер прочитала: «Акация карликовая, без запаха…»
– Это еще один знак внимания от «доброй подруги», – сказал растроганный Роден. – «Акация карликовая, без запаха»! Какая прекрасная вещь наука! Повелевать природой!..
– Где же остановится прогресс?! – воскликнул Камиль Фламмарион. – Сегодня утром я прочитал, что изобрели более ста способов приготовления яиц. Когда я думаю о том, что греки…
– Мы обязаны им столькими шедеврами! – заявила мадам де Теб. – Но надо признать, что кулинарами они были не ахти какими. Их трапезы, состоявшие из олив, куска черного хлеба, козьего молока…
– Греки! – перебил ее Роден. – Ах, если бы можно было обрести их потрясающую простоту! Увы, мы не эллины! Послушайте! Например, если бы я посмел явиться, я не говорю: к президенту Республики, но хотя бы на прием в муниципальном совете в костюме современника Фидия, сколько бы я ни твердил: «Это я, Роден», меня все равно выставили бы за дверь!
И, перекрывая негодующие возгласы, Бурдель крикнул:
– Родейн! Великий Родейн!..
– Больше не желаю быть великом Роденом, – глухо произнес скульптор, – хочу, чтобы меня любили просто как человека…
– Но как человека мы вас и любим, мэтр!
Последние слова были произнесены совсем миниатюрной молодой особой, в которой угадывалась бывшая модель.
Роден улыбнулся:
– Вы заставляете меня вспомнить, баронесса, что по меньшей мере два года назад я пообещал вам сделать что-нибудь с вас. – Роден взял фригийский колпак и надел его на женщину. – Мне нужен какой-нибудь атрибут для статуи Республики…
С комком глины в руке Роден принялся за работу. Вокруг него раздавался восхищенный гул. Господин Дюжарден-Бометц взял на себя роль представителя собравшихся и спросил:
– Знаменитый друг, где вы черпаете всю эту жизнь, трепетание которой ощущается в малейших деталях ваших творений?
– В самой жизни… Я творю с помощью жизни!
Глядя на мастера, ставшего жертвой тех, кого принято называть светскими людьми, я невольно вспомнил Гулливера, плененного лилипутами. Но для скульптора страшнее было то, что, скованный цветочными цепями, он оказывался куда более крепко привязанным и лишенным возможности когда-либо спастись бегством.
Пробило полдень. Мы вышли из мастерской и столпились вокруг Бурделя, которого одна дама принялась расхваливать за то, что он читает лекции с таким лиризмом.
Бурдель скромно ответил:
– Я согласен, что иногда поддаюсь воодушевлению. В такие минуты я переживаю восторги, которых не найдешь в тексте стенограммы. Надо думать, не существует знаков для их передачи.
– Как вы стушевываетесь перед природой, мэтр, – сказал я.
– Да, – произнес Бурдель, – я благоговею перед ней, но если природа оказывает мне сопротивление, я ее укрощаю.
* * *
На первых своих выставках на улице Лаффит я заприметил молодого человека с короткой рыжей бородой, одетого в пелерину с капюшоном, украшенным двумя крупными пряжками из посеребренного металла в виде застежек. Как я позднее узнал, это был Жорж Руо, любимый ученик Гюстава Моро, о котором последний сказал: «Сразу видно, что это мой ученик: он носит драгоценности».
Я не помышлял о знакомстве с этим посетителем, который смотрел, останавливался, а затем уходил, не произнося ни слова. Эта молчаливость поразит тех, кто знает теперешнего Руо; я же рассказываю о Руо, каким он был лет сорок назад, тогда его учитель говорил о нем: «Он отвечает только словами „да“ или „нет“. Но в это „да“ и в это „нет“ он вкладывает столько страсти; если он будет рисовать так же, как говорит, он пойдет далеко».
Немного погодя я увидел акварели молодого художника, настолько блестящие, что в голову мне пришла мысль попросить его расписать гончарные изделия. Так я получил вазы, тарелки, блюда, словно изготовленные на каком-нибудь фаянсовом заводе эпохи Ренессанса.
Однажды я сказал Руо:
– Эти интенсивные желтые цвета, огненные коричнево-красные, редкостные голубые ультрамарины, придающие вашим картинам вид старинных витражей…
Он перебил меня:
– Мне уже говорили, что моя живопись напоминает витражи. Очевидно, это идет от моей первой профессии. Когда я получил свидетельство об окончании начального учебного заведения, родители отдали меня в ученики к художнику по стеклу. Мне платили десять су в неделю. Я должен был следить за обжигом и прежде всего сортировать маленькие кусочки стекла, выпадавшие из витражей, которые нам приносили для починки. Так я почувствовал настоящую страсть к старинным витражам, которую всегда испытывал и продолжаю испытывать по сей день. Меня спрашивали, в каком возрасте у меня проявилась склонность к живописи. С самого раннего детства я уже возился с красками. Мои тети расписывали фарфор и веера. Я подбирал валявшиеся повсюду огрызки карандашей, старые кисти, тюбики и тоже пытался рисовать.
Жорж Руо родился в Париже в 1871 году, когда начались события Коммуны, в погребе, где пришлось укрыться его матери. В соседнем доме разорвался снаряд. Пережитое мадам Руо волнение предопределило в новорожденном необычайную слабость сердца. Позднее врачи всегда будут советовать Жоржу Руо избегать физических нагрузок и всяческого переутомления. Странные рекомендации, если учесть, каким неутомимым тружеником был наш художник! Его привлекали все области изобразительного искусства: керамика, скульптура, литография и офорт. Я не говорю о живописи, являвшейся для него такой же естественной потребностью, как и потребность дышать. Впрочем, Жоржу Руо было в кого пойти. Его отец, краснодеревец, работавший у Плейеля, был одним из тех старых ремесленников, которые гордились своей профессией. Мебель с плохо подогнанными частями причиняла ему настоящие страдания.
Руо очень гордился своим ремесленным происхождением. Накануне свадьбы одна дама, принадлежавшая к семье, в которую он собирался войти, и питавшая к нему глухую враждебность, спросила у него с наигранным интересом:
– Чем же занимался ваш отец, мсье?
– Он был рабочим у Плейеля.
– Вы хотите сказать «служащим».
– Нет, мадам, рабочим.
Бестактная дама состроила пренебрежительную гримасу.
– Вы христианка? – спросил у нее с насмешкой художник.
– Что за вопрос?!
– Тогда вы должны почитать моего отца, поскольку вы почитаете святого Иосифа, плотника, и его подмастерья, младенца Иисуса.
Дама удалилась в оскорбленных чувствах, бормоча:
– Я теперь понимаю, почему у этого юноши такая уродливая живопись.
Уродливая, если хотите – да, но какой она обладала над людьми властью! Я не знаю более яркого подтверждения этой доминирующей черте творчества Руо, чем то, которое я получил как-то от одной американской пары; живопись Руо оказывала на нее прямо-таки колдовское воздействие. Супруги жили в Гонолулу, и когда я позавидовал им, что они могут наслаждаться великолепием Тихого океана, американка заметила:
– Да, но еще бо́льшим великолепием обладает для нас дивный Руо, которого мы забираем с собой.
* * *
В одно прекрасное утро ко мне в магазин вошел какой-то посетитель – я принял его за рассыльного. Развернув сверток, который он нес под мышкой, человек извлек из него два или три небольших холста.
– Я художник, – сказал он.
Это был Анри Руссо, прозванный Таможенником из-за его бывшей профессии.
Он не ограничивался одним только рисованием. Руссо сообщил мне, что открыл музыкальные курсы. «Мои ученики», – напыщенно говорил он о нескольких молодых служащих из квартала Плезанс, где художник жил.
Нравилась вам его живопись или нет, но, познакомившись с ним, нельзя было не полюбить этого человека, который был сама любезность.
Именно вследствие его доброты с ним однажды случилась неприятность, и он был арестован. Один из «учеников», посещавших его музыкальные курсы, злоупотребив доверчивостью Руссо, попросил художника сходить вместо него в банк и получить деньги по поддельному чеку. Когда виновный, ждавший Руссо на некотором расстоянии от банка, увидел, что тот вышел оттуда в сопровождении двух полицейских, он понял, что мошенничество обнаружилось, и тут же скрылся. «Ученика» не нашли, и вместо него перед судом предстал «учитель». Дело его казалось уже безнадежным, когда адвокат попросил показать присяжным одну из картин Таможенника, которую он захватил с собой.
– Сомневаетесь ли вы и теперь, – спросил адвокат у суда, – в том, что мой клиент «невинен»?
Несомненно, суд получил достаточное представление о художнике и человеке. Руссо, осужденный для вида, воспользовался законом об отсрочке исполнения приговора. И дабы не остаться в долгу перед судьями, он, покидая скамью подсудимых, сказал председателю, что с удовольствием нарисует портрет его супруги.
Но если Руссо нашел снисхождение у правосудия своей страны, то господин Франц Журден, президент Осеннего салона, будет к нему неумолим. Однажды кто-то сказал ему по поводу картины Руссо: «Это напоминает персидское искусство», и господин Журден вздрогнул от этих слов: «Персидское искусство здесь! Меня же обвинят в том, что я несовременен».
Все это не шло на пользу делам художника, который, полагая, что «стабильное» положение куда лучше, чем непредвиденный риск, таящийся в ремесле живописца, попросил у господина Журдена место сторожа в Осеннем салоне. Господин Журден усмотрел в его просьбе происки фовистов, которые, как ему казалось, всегда были готовы над ним подшутить.
«Я не возьму вас на эту должность, которая могла бы выставить вас в смешном свете, – сказал он „мэтру из Плезанса“. – Я желаю вам добра… Я позаботился о том, чтобы на вернисаже присланную вами картину завесили шторой. Вы понимаете…»
– Я все прекрасно понимал, мсье Воллар…
– О, мсье Руссо, вот так взять и упрятать картину!.. Вы, наверное, что-то не так поняли.
– Во всяком случае, – продолжал Таможенник, – я был начеку. Но как-то раз, сидя на скамеечке перед своей картиной «Битва льва с ягуаром», я заснул, и мне приснился такой сон. Вместо своей картины я увидел небольшую шкатулку, которая принялась двигаться… Вдруг крышка распахнулась, и оттуда выскочил чертик, вылитый господин Журден. В этот момент мимо проходила группа художников: Дерен, Вламинк, Руо, Матисс, Марке. Тогда чертик, размахивая зонтиком, стал изо всех сил стегать их по икрам. Я проснулся. Чертик исчез, картина висела на прежнем месте… В нескольких шагах от меня находился господин Журден во плоти, он поигрывал карандашиком, прикрепленным к цепочке.
– Вы говорите, мсье Руссо, у него в руке был карандаш?
– Так точно, мсье Воллар, уверяю вас, что в руке он держал карандаш.
Так я убедился, с какой осмотрительностью надо относиться даже к рассказам серьезных людей: покойный архитектор Фива, говоря мне о своем коллеге, сообщил: «Самое удивительное для архитектора – это то, что никто никогда не видел Журдена с карандашом в руке».
Говорили, что Руссо срисовывает свои картины с журнальных гравюр. Однажды утром, стоя перед одним из его холстов, который многие критики назвали увеличенной почтовой открыткой и на котором была изображена обнаженная женщина, спящая на красном диване посреди девственного леса, я спросил:
– Скажите-ка, мсье Руссо, как вам удалось передать ощущение воздуха между этими деревьями?
– Дело в том, что я следовал природе, мсье Воллар.
Как-то раз после полудня Руссо подкатил к моему магазину в открытом фиакре. Он держал перед собой полотно высотой метра в два. Как сейчас вижу, с каким усилием художник сопротивлялся напору ветра. Внеся картину в лавку, он принялся глядеть на нее с каким-то благоговением.
– Кажется, вы довольны своей работой, мсье Руссо, – сказал я.
– А вы, мсье Воллар?
– Это достойно Лувра!
Его глаза блестели.
– Раз вы цените мою живопись, не могли бы вы, мсье Воллар, выдать мне справку, удостоверяющую, что я делаю успехи?
– Вы шутите! Из-за подобного свидетельства мы оба станем всеобщим посмешищем… Но что вы намерены делать с моей справкой?
– Должен вам признаться: я собираюсь жениться… На таможне я занимался тем, что нес караульную службу… Мой будущий тесть служил там в конторе. Вы понимаете, эти господа с презрением относятся к простым таможенникам. И потом, выдавать свою дочь за человека, который сам относит свои картины клиентам…
– Пусть это вас не беспокоит, мсье Руссо! Я буду приходить за ними к вам на дом, если это доставит вам удовольствие.
– Да. Но вот какая штука: если семья моей будущей жены узнает, что меня перестали видеть на улице с картинами под мышкой, она вообразит, что я остался без работы… Я подумал, что свидетельство, выданное владельцем магазина… полученное у человека уважаемого… Мое положение осложняется. Отец невесты угрожает мне, так как ему известно, что я продолжаю встречаться с его дочерью, несмотря на запрет.
– Будьте осторожны, мсье Руссо. Если ваша невеста моложе шестнадцати, ее отец может подать на вас в суд за совращение малолетней.
– О, мсье Воллар! Ей пятьдесят четыре года…
Однажды Руссо прочел мне стихотворение собственного сочинения, в котором речь шла о призраках.
– Призраки, мсье Руссо? – удивился я.
– Вы разве в них не верите, мсье Воллар?
– Право, нет, я в них не верю.
– Ну а я верю. Один из них даже преследовал меня довольно длительное время.
– Как он выглядел, этот ваш призрак?
– Это был человек, как и все. Ничего примечательного. Он насмехался надо мною в мою бытность чиновником налогового управления. Он знал, что я не имею права покидать пост. Он высовывал язык или показывал мне нос, а однажды даже громко пукнул…
– Но что заставляет вас верить в то, что это было привидение?
– Мне сказал об этом господин Аполлинер.
* * *
Около 1901 года ко мне пришел молодой, одетый со вкусом испанец. Его привел в мой магазин один из его соотечественников, которого я немного знал. Последнего звали, кажется, Манаш[59]. Он был промышленником из Барселоны. Помню, что, когда я проезжал через этот город, он показал мне свою фабрику. У входа в мастерские перед статуей святого горела лампада. «И заметьте, масло для нее приносят сами рабочие, – объяснил он. – Пока горит эта лампадка, я могу не опасаться забастовок».
Спутником Манаша был не кто иной, как художник Пабло Пикассо. Хотя ему было лет девятнадцать-двадцать, он успел нарисовать около сотни холстов, которые принес мне для предстоящей выставки. Выставка не имела никакого успеха, и еще долго Пикассо не находил признания у публики.
Несмотря на то что я запретил себе вторгаться в область художественной критики, позвольте сказать несколько слов о «кубистском» периоде художника, относящемся к тому времени, когда обыватели, коллекционеры, критики, да и сами художники – словом, все – еще не соглашались признать, что в природе можно видеть лишь сочетание геометрических форм. Как бы то ни было, кубизм, который окажет столь заметное влияние на декоративное искусство и на целую группу молодых живописцев, прежде чем он заставит признать себя Париж, покорил Германию, как известно жадную до всяких новинок, а вскоре и Скандинавские государства и Америку… В связи с этим один житель Нью-Йорка, которого увлекали споры о кубизме, желая познакомиться с главой новой школы, совершил путешествие в Париж. Звезда привела волхвов к яслям в Вифлееме; однако таковой не нашлось, чтобы направить американца к неприметной мастерской, где рождалась новая доктрина. Знал он только, что искать следует на Монмартре. Поэтому он принялся исследовать все углы и закоулки Холма, задавая прохожим, шоферам, разносчикам газет, консьержкам, стоявшим на пороге домов, рабочим в спецовках один вопрос: «Кубизм? Кубизм?» Это было единственное слово, которое он знал по-французски. И поскольку никто не мог ему ответить, американец скоро убедился, что кубизм прекратил свое существование. Бросив поиски, он отказался от намерения проникнуть в тайны новой живописи и сел на пароход, отправлявшийся обратно в Нью-Йорк.
Можно представить, насколько он был бы ошеломлен, если бы позднее узнал, что столкнулся тогда на улице с создателем кубизма, самим Пикассо, молодым человеком в спецовке, который возвращался от молочника, держа в руках ящик из-под молока…
* * *
Позировал я не один раз. В частности, Ренуар нарисовал несколько моих портретов, один из них – в костюме тореадора. В то время Ренуару было семьдесят пять лет. Разбитый ревматизмом, он продолжал работать с юношеским задором. Как сейчас вижу его отправляющимся на пейзаж: художника несли в кресле Большая Луиза и садовник Батистен. Кисть приходилось привязывать к его пальцам. Да, в таком вот состоянии он изобразил меня в расшитой куртке, черной шляпе и тореадорских туфлях-лодочках. У этой картины своя история.
Когда я сообщил художнику, что должен ехать в Испанию, Ренуар сказал:
– Мне уже давно хочется нарисовать тореадора. Один из моих натурщиков имеет такое же крупное телосложение, что и вы; поэтому постарайтесь привезти оттуда костюм тореадора вашего размера.
Но нигде, ни в Севилье, ни в Мадриде, ни в Толедо, я не мог найти костюм, который был бы мне впору. Поэтому пришлось сшить его на заказ. По возвращении в Париж таможенник, осматривавший багаж, насторожился, заметив красивый костюм.
– Это моя рабочая одежда, – уверенно сказал я.
– А-а-а, вы тореадор? Ну что ж, примерьте-ка.
Мне пришлось подчиниться. Я выглядел великолепно в расшитой золотом и серебром куртке и не менее роскошных штанах. Однако вокруг меня начали собираться зеваки. Я скрылся от любопытной толпы, впрыгнув в такси и велев доставить меня к Ренуару.
– Браво! – воскликнул художник, когда я вошел к нему. – Вы и будете мне позировать!
Я машинально взял розу со стола.
– Вы будете тореадором с розой, – сказал Ренуар, а затем добавил: – Нет. Роза будет сковывать меня, когда я возьмусь за ваши руки. Бросьте ее. Она будет цветовым пятном на ковре.
Я спросил у Ренуара, не надо ли мне побриться.
– Неужели вы думаете, что вас и бритого примут за настоящего тореадора?! – воскликнул Ренуар. – Единственное, о чем я вас прошу, – это не спать во время сеанса.
Позировать Ренуару было неутомительным занятием для модели: можно было разговаривать, даже шевелиться. Как-то раз, 14 июля, когда я позировал в Канне, толпа людей проходила под окнами мастерской, распевая во всю глотку:
Вперед, свобода дорогая, Одушевляй нас вновь и вновь…[60]Ренуар в раздражении сказал:
– Вы их слышите? Так вот, если бы вы знали, какое отвращение они питают в глубине души к этой «свободе», которая не сходит с их уст! Я раз спросил у одного человека: «Что же вам так не нравится в моей живописи?» – «Мне не нравится, – ответил он, – что вы рисуете с такой свободой…»
Ничто не могло отвлечь Ренуара во время сеанса с моделью. Люди входили и выходили. Однажды в мастерскую заявилась чета немцев. Они пришли, чтобы заказать художнику портрет супруги. В этот момент Ренуар рисовал натурщицу, на которой было платье с глубоким вырезом.
– Тля матам, – сказал с акцентом немец, показывая на свою жену, – я попросил бы, чтобы фы сделали более индимно.
– Вот так? – спросил Ренуар, приложив к груди натурщицы шарф и тем самым уменьшив ее декольте.
– Нет. Я же говорю фам: более индимно.
Тогда Ренуар приподнял шарф еще выше.
– Да нет же, нет! – возражал немец. – Софсем индимно, говорю я фам… Чтобы была фидна по крайней мере отна грудь…
Когда немцы ушли, Ренуар сказал:
– Откройте окно, Воллар, пусть в мастерской будет побольше солнца. Вы видите вон те розовые кусты возле фонтана? Не правда ли, это вызывает в памяти статую Майоля? В первый раз я увидел Майоля в Марли. Он работал у себя в саду над «Венерой». Он находил нужную ему форму без всякой предварительной подготовки. Я впервые видел такое. Другие художники полагают, что они приближаются к античному искусству, копируя его… Майоль же, ничего не заимствуя у древних мастеров, настолько их продолжатель, что, наблюдая за тем, как «растет» его камень, я невольно искал глазами вокруг оливковые деревья. Мне почудилось, что я перенесся в Грецию.
В дверь постучал почтальон. Он принес письмо. Ренуар принялся его читать.
– Вот это называется – друг! Он даже беспокоится о том, нашлась ли собака Жана. Его дочери заняты сейчас тем, что вяжут для меня одеяло. – Вдруг лицо Ренуара омрачилось. – А я-то думал, что меня любят просто как человека… Но оказывается, любят мою живопись. Он пишет мне о картинах, которые ждет. – И с грустью в голосе Ренуар добавил: – Я «преуспел»! Почести мне воздаются со всех сторон. Должно быть, мое положение вызывает зависть! А я не могу похвалиться тем, что у меня есть хотя бы один настоящий друг!
«Не засыпайте», – говорил мне Ренуар во время сеансов. То же самое я пытался делать, когда позировал Сезанну.
В центре мастерской на небольшой платформе, поддерживаемой четырьмя столбиками, был поставлен табурет; Сезанн предложил мне на него влезть. Видя, с какой подозрительностью я отнесся к этому сооружению, Сезанн сказал мне с очаровательной улыбкой:
– Я сам подготовил стул для позирования. Только постарайтесь сохранять равновесие. Впрочем, позируют не для того, чтобы шевелиться.
Однако едва я забрался на эту тумбу, как на меня навалился сон. Голова склонилась к плечу. Равновесие тут же нарушилось, и платформа, стул и я сам – все рухнуло на землю.
Сезанн набросился на меня чуть ли не с кулаками:
– Несчастный! Вы испортили позу! Позировать надо так же, как это делает яблоко. Разве яблоко шевелится?
Несмотря на неподвижность этого фрукта, Сезанн тем не менее, случалось, оставлял неоконченным этюд с яблоками, потому что они успевали сгнить. Иногда он даже предпочитал им бумажные цветы. Но в конце концов бросал и их, ибо хотя они и не гниют, зато «выцветают, сволочи…». За неимением лучшего художник был вынужден вдохновляться картинками из иллюстрированных журналов, которые получали его сестры, или гравюрами из «Магазен питтореск» (у него находились разрозненные тома этого издания). Было ли это важно для него, ведь рисовать не означало для Сезанна копировать предметы, но «воплощать свои ощущения»? По правде сказать, чтобы удовлетворить всем требованиям Сезанна, заставить его поверить, что сеанс в мастерской будет удачным, требовалось совпадение целого ряда условий: обязательно светло-серая погода; отсутствие у художника поводов для огорчений, например таких, как прочитанное им в газете (а читал он «Круа») сообщение о том, что англичане вновь одержали победу над бурами, раздавшийся собачий лай или шум подъемной машины по соседству, который художник приписывал «фабрике пневматических молотов».
Несмотря на то что внешние обстоятельства редко складывались в пользу Сезанна, он всегда брался за кисти с неизменным оптимизмом. Но по отношению к модели он вел себя самым требовательным образом: он обращался с вами как со своей вещью. И когда сын Сезанна говорил отцу: «Ты в конце концов утомишь Воллара, заставляя его приходить снова и снова!», художник слушал его, не понимая, так как, будучи поглощенным своим упорным трудом, он и не предполагал, что другой человек может нуждаться в отдыхе. Только после настойчивых предупреждений сына: «Но ты же его утомляешь, Воллар будет плохо позировать» – художник спускался с небес на землю и говорил: «Ты прав, сынок, надо щадить модель».
Наконец, после ста пятнадцати сеансов, Сезанн с удовлетворением сообщил мне: «Я не могу сказать, что недоволен передом рубашки…»
Кроме Ренуара и Сезанна, я позировал также другим художникам, в частности Боннару, нарисовавшему два моих портрета. У него я никогда не засыпал, так как на коленях у меня сидел котик, которого было трудно удержать на месте.
Художник по имени Рафаэль С. попросил разрешения нарисовать мой портрет в технике офорта. Он хотел опубликовать альбом с портретами знаменитых людей. Тщетно я пытался уклониться, отговариваясь тем, что не обладаю титулами, необходимыми, чтобы фигурировать в этом издании. Но, видя настойчивость художника, я понял, что он думал обо мне как о возможном издателе его книги.
В одно прекрасное утро С., держа под мышкой медную доску, вошел в мастерскую Ренуара, с которым он не был знаком.
– Мсье Ренуар, – сказал он, – я пришел, чтобы нарисовать ваш портрет.
– Ну что ж! – ответил Ренуар, застигнутый врасплох. – Садитесь вон там. Пока я буду работать, вы займетесь своим делом.
С. пришел и на другой день.
– Мсье Ренуар, вот оттиск. Я хотел бы, чтобы вы написали мне посвящение.
Не раздумывая, Ренуар написал: «Господину Рафаэлю С., благодаря которому я сохранюсь в памяти потомства».
Тот же гравер остановил свой выбор и на Дега и настоятельно просил меня представить его художнику. И вот однажды С. находился в моем магазине одновременно со старым господином, который сидел на стуле, опершись обеими руками о набалдашник своей трости. Когда господин ушел, С. спросил у меня:
– Когда же вы познакомите меня с Дега?
Он так никогда и не узнал, что только что видел его, как не узнал и того, что пришлось бы пережить нам обоим, имей я неосторожность сказать: «Мсье Дега, познакомьтесь: господин Рафаэль С., он хочет нарисовать ваш портрет».
Что до моего портрета, то на первом же сеансе я разочаровал С., поддавшись власти сна помимо своей воли. Мне действительно не было оправдания, ибо прелестная мадам С., чтобы не дать мне уснуть, принесла маленькую механическую канарейку. В конечном счете, возможно, именно пение птицы и повергло меня в сон.
Пикассо нарисовал с меня весьма незаурядный портрет. Этот холст, относящийся к периоду кубизма, ныне находится в московском музее. Разумеется, глядя на картину, люди, претендовавшие на звание знатоков, упражнялись в легковесных шутках и спрашивали, что изображено на холсте. Сын одного из моих друзей, четырехлетний мальчуган, увидев это полотно, приложил к нему пальчик и не колеблясь определил:
– Это Вуайар.
Дега как-то сказал мне: «Я попробую вас нарисовать». Но это было под конец его жизни, когда художник действительно почти совсем лишился зрения. Он, так долго повторявший, что больше ничего не видит, теперь, когда глаза окончательно отказали, не хотел с этим смириться. Его натурщица, которая допустила бестактность, заметив во время перерыва в сеансе: «Но, мсье Дега, на картине моя голова сидит как-то криво», вынуждена была одеваться на лестничной клетке, куда художник в гневе вышвырнул ее одежду.
Короче, когда я пришел к нему в назначенный день, он говорил только о состоянии своего мочевого пузыря; это стало у него навязчивой идеей. Услышав звонок в дверь, он, держа в руке чашку с отваром из листьев вишни, пошел открывать. Молодая женщина пришла предложить себя в качестве модели. Прежде чем она успела произнести хотя бы слово, Дега, которому не давал покоя его недуг, спросил у нее:
– Вы хорошо писаете? Я писаю очень скверно, и мой друг Р. тоже!
Так закончилась наша встреча, которую Дега назначил мне, чтобы нарисовать мой портрет.
XI. Некоторые знаменитые люди, с которыми мне довелось общаться
Малларме. – Эмиль Золя. – Теодор де Визева. – Родственник Ротшильда. – Марсель Самба. – Сар Пеладан. – Мирбо. – Господин Дени Кошен, государственный министр. – Господин Артюр Мейер. – «Тигр»[61]. – Этьенн Клемантель. – Эжен Лотье[62]
Как-то раз я гулял с другом в Вальвенском лесу. Нам повстречался невысокий седеющий господин, который при помощи трости с закрепленным на ее конце гвоздем подбирал с земли бумажки и складывал их в корзинку.
– Батюшки, Малларме! – воскликнул мой друг. – Что вы здесь делаете?
– Я пригласил нескольких гостей завтра на полдник и готовлю зал для трапезы.
Малларме, чьи произведения слыли непонятными, был поистине волшебным рассказчиком. Принимая близких друзей у себя дома на Римской улице, поэт всегда беседовал, стоя возле «своего» кресла, куда никто не посмел бы сесть. Однако случилось так, что один иностранец, которого привел друг дома, увидев пустое кресло, устроился в нем как ни в чем не бывало. Можете себе представить, какой разразился скандал.
Вот случай, показывающий, каким великолепным рассказчиком был поэт. Однажды, находясь на империале омнибуса, директор «Фигаро» Франсис Маньяр разговорился со своим соседом. Когда они проезжали мимо цветочного рынка, что на площади Мадлен, незнакомец нашел такие оригинальные образы, описывая этот импровизированный сад, что Маньяр не смог удержаться от того, чтобы не сказать ему:
– Мсье, я директор «Фигаро». Если вы пожелаете изложить на бумаге то, о чем вы мне только что рассказали, я с удовольствием это опубликую.
Некоторое время спустя Маньяр, обращаясь к одному из своих сотрудников, заметил:
– Я получил статейку о цветах, подписанную Малларме. Он, конечно, сумасшедший.
* * *
К Золя я отправился с рекомендательной запиской от Мирбо в надежде увидеть несколько картин, написанных Сезанном в юности, являвшихся собственностью автора романа «Нана».
Попав в дом к романисту, вы уже в прихожей как бы невольно задерживались возле внушительной композиции Деба-Понсана «Истина, выбирающаяся из колодца». Два витража, на одном из которых был изображен почтенный анахорет, а на другом персонаж романа «Западня»[63], дополняли убранство комнаты.
Соседняя гостиная, куда меня ввели, была настоящим музеем. Здесь находились: ваза, на которой был нарисован китаец под зонтиком; рядом портрет девочки, отогревающей у себя на груди воробья; чуть подальше полотно с изображением обнаженных женщин. Я уж не говорю о предметах в витринах: миниатюрах, изделиях из слоновой кости и т. п.
Я задержался перед ангелом с распростертыми крыльями, подвешенным к потолку с помощью невидимого крепления. В этот момент вошел Золя, и едва я успел его поприветствовать, как он, показывая рукой на заинтересовавший меня предмет, сказал:
– Мирбо его очень любит. Он находит, что в этом произведении, принадлежащем резцу неизвестного мастера пятнадцатого века, есть размах, предвосхищающий Родена. – Затем со свойственным ему добродушием Золя принялся расхваливать мне свои сокровища: – «Девочка с птицей» – картина Грёза, созданная в последние годы жизни художника; это диван старинной работы; китайская ваза…
– …времен династии Мин, – сказал я наугад.
– Нет, это Жакоб Пти… Обнаженные женщины, закованные в серебряные цепи, что по замыслу художника символизирует участь куртизанки, принадлежат кисти Ари Шеффера, я откопал эту вещицу на улице Лепик.
Хотя я старался не пропустить ни одного слова, произнесенного великим романистом, мой взгляд был прикован к безобразной собачонке, которая ерзала на руках у своего хозяина и, казалось, хотела наброситься на меня. Тогда Золя, поглаживая это мерзкое животное, сказал:
– Он очень любит своего хозяина, мой маленький Пенпен…
Повод поговорить о холстах Сезанна мне подал сам Золя, который взял японское изделие из слоновой кости.
– Какое большое влияние оказали японцы на импрессионистов, – осмелился я заметить. – На всех, кроме Сезанна, не правда ли?
– Сезанн!.. Наша совместная жизнь в Эксе и Париже!.. Наши восторги!.. Ах, почему мой друг так и не создал произведение, которого я ждал от него? Сколько раз я говорил ему: «У тебя есть гениальность великого художника, так имей же мужество стать им». Увы, он не признавал никаких советов.
Золя расхаживал взад и вперед по комнате, по-прежнему держа на руках своего дорогого Пенпена. Я отважился заговорить с ним об имеющихся у него полотнах Сезанна. Мэтр остановился и, хлопнув ладонью по бретонскому шкафу, сказал:
– Я держу их запертыми здесь. Я говорю нашим бывшим товарищам: «У Поля была гениальность великого художника…», и в то же время если бы я им показал эти полотна!..
В этот момент проходившие под окнами особняка мальчишки принялись выкрикивать: «Долой Дрейфуса! Освистывайте Золя!»
– Ох! – воскликнул я, проявляя вежливое неодобрение.
– Это заблудшие, – добродушно произнес мэтр. – Я их прощаю.
Я спросил у Золя, какую из своих книг он любит больше всего.
– Писателю больше всего нравится книга, над которой он работает, но признаюсь, что питаю известное пристрастие к «Разгрому»…[64] Его тираж достиг уже двухсот тысяч экземпляров.
В своей книге о Сезанне я подробно рассказал о визите к Золя. Я старался дословно воспроизвести суждения мэтра. Однако через несколько дней я получил от «Курье де ля пресс» вырезку из «Бонне руж». Это была статья господина Франца Журдена, который обошелся со мной сурово: «Если шавка задирает лапу на Нотр-Дам, то это ни в коем случае не оскверняет собор…»
Между тем мне нанес визит бывший генеральный прокурор острова Реюньон, слывший весьма образованным человеком.
– Мой дорогой Воллар, – сказал он без предисловий, – как это вы, чей отец был таким достойным человеком, проявили столько подобострастия по отношению к Золя?
– Но господин Франц Журден упрекает меня как раз в противоположном, – возразил я.
– Этот Франц Журден может говорить все, что ему угодно, слова налицо.
Когда я передал этот разговор господину Альберу Бенару, один из друзей архитектора «Самаритен» заметил:
– Слова налицо!.. Он их нашел, ваш генеральный прокурор. Замечательно!
– Однако… – попробовал возразить я.
– Полноте, Воллар, не пытайтесь убедить меня в обратном, – произнес тогда Бенар, улыбаясь…
Ну и везет же мне всякий раз, когда я хочу навести справки… Я спрашиваю у крестьянина, как пройти на ферму, и слышу в ответ: «Но даже куры находят к ней дорогу без посторонней помощи, а уж вы, мсье…» В другой раз, когда в гостиной господина Пьера Миля я услышал рассказ известного географа, господина Готье, о событии, происшедшем в Дарданеллах во время войны, мне подумалось: «Наконец-то я узнаю, что это за Дарданеллы, о которых я так часто слышал». Однако знаменитый географ оставил мой вопрос без ответа, ограничившись лишь улыбкой. На другой день, в гостях у друзей, я познакомился с блестящим лицеистом, призером олимпиады по истории; я задал ему тот же самый вопрос. Он без колебаний ответил:
– Мне знакомо это имя, но его нет в программе предпоследнего класса.
Тут один завсегдатай дома, об эрудированности которого я не раз слышал самые лестные отзывы и который, сидя в углу гостиной, читал «Тан», поднял голову и спросил:
– Дарданеллы? Так называется пьеса, сыгранная в театре «Эвр».
Назревал спор уже на другую тему, когда невысокая дама внесла свои коррективы:
– Пьеса называется «Дардамель», и это имя человека; а Дарданеллы – это пролив, отделяющий европейскую Турцию от азиатской.
– Откуда вы знаете? – послышалось со всех сторон.
– Я родилась в Трапезунде.
При этих словах эрудит произнес, поправляя очки:
– Вы смеетесь над нами, сударыня, с вашим Трапезундом; Трапезунд – это название ревю, поставленного на бульваре Капуцинок.
В этот момент кто-то вошел, и дискуссия прекратилась.
Однажды, зайдя к господину Полю Галлимару, знаменитому библиофилу, я посвятил его в существо научного спора. «Оставь нас на минутку», – сказал он своему внуку, который, когда я вошел, разбирал отрывок из «De Viris»[65]. После того как ребенок удалился, Галлимар сказал: «Понимаете, если мальчик увидит, что человек нашего возраста не знает, что такое Дарданеллы, это будет ужасно». Затем он, не подавая виду, подверг меня самому настоящему экзамену: «Предположим, вы стоите перед базиликой Святой Клотильды; известно ли вам, кто ее архитектор?.. При каком короле был построен Лувр?..» И он задал мне кучу других вопросов в том же духе. Убедившись в моем невежестве, он не удержался и сказал мне: «Вы не знаете ничегошеньки… А еще собираетесь писать мемуары!»
Я честно поделился угрызениями совести, которые мучили меня после этого нагоняя, со своим американским издателем.
– Don’t trouble you[66], – сказал он. – Я жду от вас не исторических или каких-то иных сведений… Когда мне нужно узнать нечто подобное, я вызываю секретаря и говорю: «Пришлите мне специалиста по такому-то вопросу».
Впрочем, позже я убедился, что даже крупный специалист может знать далеко не все в своей области. Отправившись за билетом на поезд в бюро Кука, в одном из стоящих в очереди людей я узнал учителя географии, преподававшего в парижском лицее. Так вот, поскольку ему предстояло совершить путешествие, он пришел туда затем, чтобы получить разработку маршрута.
* * *
Через Ренуара я познакомился с Теодором де Визева, который был не только знатоком иностранной литературы, публиковавшимся на страницах «Ревю де дё монд»: столь ценимый талант критика сочетался у него с подлинным чутьем к живописи. Когда в 1886 году у Жоржа Пти состоялась выставка Ренуара, он был одним из немногих, если не единственным публицистом, кто выступил в защиту художника. По этому случаю и познакомился с ним Ренуар.
Визева был бесподобным собеседником. Поляк по происхождению, он обладал удивительным знанием французской литературы. Как-то один из его друзей, профессор Сорбонны, потерявший накануне своего дядю, пребывая в подавленном состоянии, не смог подготовиться к лекции, которую должен был прочитать на другой день.
– Какова тема вашей лекции? – спросил Визева.
– Я должен говорить о Теофиле Готье.
– Садитесь и пишите…
Визева с ходу продиктовал текст лекции, покорившей на следующий день студентов Сорбонны.
Он строго придерживался установленного распорядка дня. Проснувшись в полдень, завтракал в постели, затем приступал к туалету, при котором часто присутствовал кто-нибудь из его друзей, пришедших с ним поболтать. «Поскольку я выхожу редко, – говорил он мне, – любой визит для меня – это что-то вроде открытого окна в мир». В два часа пополудни он принимался за работу: покуривая сигареты, он диктовал своей секретарше до пяти часов, после чего обходил квартальные лавочки, где мог без больших затрат удовлетворить свою страсть к книгам и гравюрам. Визева возвращался домой к ужину, состоявшему из супа, который он ел, пристроившись в углу стола, и опять диктовал до полуночи.
Старый слуга Дюпарши никогда не покидал квартиру. То и дело слышалось: «Дюпарши, подайте мне туфли! Дюпарши, огонь погас!» И, всегда торжественный, неизменно одетый в редингот, при белом галстуке, Дюпарши появлялся, держа в руках обувь или с поленом под мышкой.
В первый раз придя в гости к Визева, я услышал в глубине квартиры женский голос, который привел меня в восхищение. Показалась молодая девушка, вся в белом. Мне почудилось, что это фея. Однако это была дочь писателя, мадемуазель Мими.
Визева не был чужд юмора. Вспоминаю историю, рассказанную им однажды, когда я заговорил о Леоне Блуа. Поскольку в одном из томов «Дневника», принадлежавшего перу автора «Неблагодарного нищего», несколько раз можно было прочесть одну и ту же фразу: «Жанна сказала мне» (так звали жену литератора), Визева в письме, подписанном «Старый англичанин», сообщил Леону Блуа: «Самое интересное в Вашем „Дневнике“ – это то, о чем говорит Ваша супруга». И уже в следующем томе Жанна перестала высказывать свои мнения. Но о ней можно прочитать там следующую запись: «Некий старый англичанин написал мне очень важное письмо, имеющее отношение к мадам Блуа. Прошу моего корреспондента соблаговолить назвать свое имя».
* * *
Будучи в гостях у одного из моих друзей, я позволил себе сказать: «Ах, если бы я был Ротшильдом!» И меня тут же спросили:
– И что бы вы тогда сделали?
– Я начал бы с того, что оборудовал бы в Париже ферму, чтобы иметь настоящее масло, настоящие яйца, настоящее молоко. Из родника я брал бы настоящую воду. Я имел бы хлеб, выпеченный из настоящей пшеницы. Я велел бы задубить кожу для своей обуви так, как ее дубили когда-то, то есть употребляя дубильную кору, а не химию, как это принято сегодня…
– Ах! – перебил меня один из гостей. – Вы думаете, что, имея деньги, можно приобрести все, что пожелаешь? Я родственник Ротшильда. Так вот, знаете ли вы, какая одна из основных его забот? В путешествии всегда питаться только «кошерным» мясом. Для этой цели сопровождающий его повсюду повар обходит бойни в поисках мяса животных, заколотых в соответствии с предписаниями Талмуда. Разумеется, все мясники посылают его куда подальше. Следовательно, каким бы Ротшильдом он ни был, он вынужден ограничиваться бифштексами и эскалопами, приготовленными из мяса животных, которых забивают для гоев.
* * *
Вот как я познакомился с депутатом Марселем Самба. Ренуар сказал мне: «У одной учительницы в моей деревне возникли неприятности из-за того, что она отказывается спать с мэром. Самба не раз предлагал мне свои услуги, если я в чем-либо буду нуждаться. Не возьмете ли вы на себя труд сходить к нему и сказать от моего имени, что я настоятельно прошу его сделать все возможное для того, чтобы бедную девушку оставили в покое?»
Я отправился к господину Самба. Мне сказали, что он находится на своем избирательном участке. Там меня ввели в тесное, обшарпанное и насквозь прокуренное помещение на первом этаже. Господин Самба, вооружившись кузнечным мехом, раздувал огонь в очаге, который никак не желал разгораться. Я изложил депутату-социалисту цель своего визита. Он сразу же сказал мне:
– Этот мэр, должно быть, из реакционеров. Я попробую уладить это дело через моего друга Бриана.
Некоторое время спустя Самба явился к Ренуару и как ни в чем не бывало сообщил:
– Вашей учительнице никак нельзя помочь! Мэр из наших.
Позднее я виделся с Самба уже по другому поводу. На этот раз он принял меня в своем особняке. После того как я выразил свое восхищение полотнами, висевшими на стенах гостиной, господин Самба провел меня в столовую, чтобы показать работы Матисса. Хозяин дома ждал к обеду своего коллегу из правой партии, насколько я помню – приятеля Станисласа. Вошла горничная и поставила на стол бутылку розового вина.
– Что вы делаете? – спросил он. – Принесите бутылку нюи. Вы должны знать, что обычное вино подается к приходу господина Кошена.
На улице Коленкур, напротив дома Ренуара, находился участок земли в полгектара, принадлежащий Парижской ратуше, где стояли многочисленные дощатые домишки.
– Вот увидите, – сказал мне Ренуар, – когда снесут эти лачуги, на их месте построят семиэтажные дома, и это на улице, где и так уже нечем дышать.
Вспыхнул пожар, уничтоживший бо́льшую часть хибарок. Муниципальный советник квартала воспользовался этим для того, чтобы предложить своим коллегам переоборудовать в гигиенических целях возникший пустырь в сквер. В связи с чем среди местных трактирщиков возник переполох. Советника вызвали на своеобразное судилище под председательством аптекаря, поддержанного тремя владельцами бистро.
– Уже пятнадцать лет мы ждем, когда на этом участке нам построят доходные дома, – сказал ему аптекарь. – Вы издеваетесь над нами с вашим сквером. Вы прекрасно знаете, что ждет вас на следующих выборах, если ваше предложение пройдет в совете!
Нетрудно догадаться, что советник, получивший взбучку, поспешил взять обратно свое предложение.
Я передал об этом случае Самба, который являлся депутатом от этого округа. Я думал, что поставлю его в неловкое положение.
– Режим хочет этого! – просто ответил мне депутат-социалист. – Когда-то музыку заказывал маркиз. Сегодня власть принадлежит бистро.
* * *
Когда я открыл свой магазин на улице Лаффит в 1894 году, торжествовал импрессионизм. Однако уже тогда некоторые художники искали свой путь в искусстве. Дело в том, что живопись не есть что-то незыблемое.
Может ли она не испытывать потребности в обновлении, не претерпевать той бесконечной эволюции, что проявляется во всех формах искусства? Безусловно, разные формы искусства оказывают друг на друга взаимное влияние. Но то одна, то другая из них становится преобладающей и сообщает импульс всем остальным. Как правило, во главе движения оказывается литература. Она дает теорию и одновременно пример, которыми поочередно будут вдохновляться музыка и пластические искусства. В эту эпоху, о которой рассказываю я, преобладала музыка. Но что такое музыка? Своего рода колдовство. Она не предлагает нам определений. Ни показ, ни описание не являются ее непосредственными целями. Она пленяет нас как раз тем, что есть в ней смутного, зыбкого, неопределенного. Она питается тайной, мифом, легендой и тем, что заимствует из этих источников; музыка создает умонастроение, атмосферу, благоприятную для страстей или грез. Под воздействием ее колдовских чар, но, впрочем, восставая также против грубости реализма, против холодного совершенства парнасцев, писатели и прежде всего поэты пытались обрести почти бесплотное очарование, которое заключено в неопределенности сюжета; вызвать состояния взволнованности, приподнятости, в которые повергала их музыка с ее повышенной эмоциональностью. Отныне они перестанут описывать – они начнут создавать образы. Будут излагать, отказавшись от точных определений. Поэт возложит на себя миссию открывать лишь перспективы. Поэма получит свое продолжение в свободных и взволнованных размышлениях читателя. Обаяние творчества Вагнера порождает таким образом эзотеризм поэтов типа Малларме и Верлена (с его «за музыкою только дело»). Это пора символизма.
В изобразительном искусстве, особенно в живописи, мы наблюдаем воздействие тех же причин. Там тоже сказалось влияние символов, мифов – всего, что может дать легенда, что питает гениальные творения Вагнера. Влияние, которое испытала на себе часть художников непосредственно, а подавляющее их большинство – через литературу и критику. В мои задачи не входит оценивать эту своего рода учрежденную над живописью опеку. Ограничусь напоминанием о том, что эта опека привела к возникновению художественной школы «Роза и крест», которая наряду с другими проявлениями символизма, казалось, с большей очевидностью находила источник вдохновения в религиозной тематике.
Ряд художников продемонстрировали эту новую эстетику на выставках, отличавшихся некоторой беспорядочностью. Должен признаться, что меня не привели в восторг все эти изображения утонченных и бескровных женщин, а также зеленые, голубые или желтые Офелии, словно побывавшие у красильщика. Дега весьма остроумно отозвался о влиянии, которое литература может оказывать на живопись. Его подозвали к одной из подобных картин, ожидая от маэстро выражений восторга. «Не правда ли, господин Дега, в этом полотне чувствуется влияние Метерлинка?» – «Мсье, – ответил Дега, – голубую краску берут из тюбика, а не из чернильницы».
Все вышеизложенное заставляет меня рассказать о том, каким образом я познакомился с вдохновителем школы «Роза и крест» господином Жозефеном Пеладаном.
Мне понравились не только его произведения; на меня произвел к тому же большое впечатление титул «cap», то есть маг, которым он украсил свою фамилию. В раннем детстве я слышал от тетушки Ноэми столько прекрасных историй о волхвах! Короче говоря, я рискнул написать письмо автору «Высшего порока». Я сообщил ему, что являюсь одним из его самых безвестных почитателей и умоляю оказать любезность и принять меня. Он ответил, что сделает это с удовольствием. И вот однажды, испытывая невероятную радость, я позвонил в его дверь.
Как только прозвенел звонок, я услышал в глубине чей-то возглас: «Зажгите свечи!..» Затем дверь отворилась. Я увидел человека с черной как смоль бородой, одетого в какой-то домашний халат из красного кумача.
Сар – а это был он! – ввел меня в комнату, где находилось несколько очень молодых людей; все они были облачены в халаты из той же материи. Мэтр и его ученики встретили меня необычайно радушно. Я сразу же понял смысл фразы, услышанной из-за двери. На картине, перед которой горело семь свечей, была изображена черная лилия, из цветка показывалась голова женщины. Один из молодых людей листал журналы по искусству и остервенело вырывал из них гравюры с изображениями сюжетов, которые члены «Розы и креста» считали запретными для живописи, например натюрморты. Я взял предложенную мне одним из этих господ сигарету. Сар удостоил меня чести принять от него огонь, но, не найдя спичек, он запустил руку в корзину для бумаг, куда его ученик бросал приговоренные гравюры. Он схватил одну из них, свернул в трубочку и зажег от свечи, что горела в ряду других перед алтарем.
Мой визит слишком затянулся, и я, наверное, к радости моих хозяев, ибо мистическая общность была нарушена из-за присутствия на собрании непосвященного, удалился восвояси. В передней я услышал: «Потушите свечи!» Так состоялась моя первая встреча с Саром.
Позднее, в Ниме, где я был проездом, мне довелось присутствовать на лекции Пеладана. У него была все та же красивая черная борода; но оттого, что одет он был в обычный пиджак, его облик показался мне не столь магическим. Я поделился этим наблюдением со своей очаровательной соседкой. С большой живостью она возразила, что, если бы он был в красном халате, люди подумали бы, что мсье Жозефен – как она фамильярно его называла – стал продавцом средств от мозолей и напитков для влюбленных и что с ним мог бы произойти такой же неприятный случай, что и с человеком в красном халате и заостренном колпаке, который гадал по ладони… «Это случилось на прошлой неделе, – начала дама, – на церковной площади…» Я так и не услышал историю о человеке в красном халате, ибо в этот момент внимание собравшихся привлекли… нет, что я говорю… приковали следующие слова Сара: «Жители Нима, мне достаточно лишь произнести заклинание – и земля разверзнется и поглотит вас…»
Зрители переглядывались, подшучивая друг над другом. Я подозреваю, однако, что в душе им было несколько жутковато. Спешу добавить, что добродушный Сар не произнес роковых слов. Выходя из зала, я сказал кому-то:
– А если бы ему крикнули: «Чепуха! Ну давай, произноси свое пресловутое заклинание»? Вы полагаете, что тогда стряслось бы несчастье?
– Кто знает? Жозефен славный малый, но если его раззадорить…
Я хорошенько запомнил этот способ устрашения и дал себе слово, что в крайнем случае испробую его на деле.
Спустя некоторое время я увидел в окне кондитерской весьма аппетитные сладкие пирожки. Войдя, я услышал, как кондитерша сказала клиентке, что если бы та пришла чуть пораньше, то увидела бы, как эти пирожки вынимались из печки. Я купил один пирожок и, едва откусив его, сразу убедился в том, что он совершенно черствый.
– Мадам, – сказал я продавщице, – знаете ли вы историю об Анании и Сапфире?
Она смотрела на меня округлившимися глазами.
– Это люди, живущие в нашем квартале?
– Нет. Это христиане времен апостолов, муж и жена. Однажды они пришли к апостолу Петру и сказали ему, что продали все свое имущество и теперь принесли вырученные деньги для нищих. «Вы оставили часть себе, лжецы! – возмутился глава апостолов. – В наказание за ваш обман…» Он махнул рукой. И земля разверзлась и поглотила обманщиков. А вдруг и ваш паркет, мадам, тоже разойдется и вы будете наказаны за то, что решили сбыть лежалые пирожки?
Женщина слушала меня в изумлении. Но когда речь зашла о ее паркете, раздался голос:
– Ну что ж, можете испытать, крепок ли мой паркет…
Внушительного вида, весь перепачканный мукой, из пекарни вышел ее муж.
– Что этому типу от тебя нужно? – грубо спросил он, показывая на меня.
– Оставь! Он мелет всякий вздор, – ответила кондитерша.
Я счел благоразумным поскорее убраться, так как пекарь держал в руках скалки и готов был меня огреть. Позднее подобную сцену я увидел в фильме Чарли Чаплина и от души посмеялся: на этот раз я был в роли зрителя.
* * *
Иногда я встречался с Мирбо, вечно пребывавшим в возбужденном состоянии: то он проклинал кого-нибудь, как правило художника или общественного деятеля, то кого-то превозносил, иногда того же самого человека, которого бранил накануне. Кажется, люди не могли долго злиться на него за эти поношения. Что касается друзей, то они не переставали нахваливать его доброту и великодушие… «Правда, – объясняли они, когда кто-нибудь напоминал о его вспыльчивости, – Мирбо склонен к преувеличениям». Никогда не забуду, как он пришел ко мне в сопровождении Динго, очаровательной собачки, которую держал на поводке.
– Вы не представляете, Воллар, насколько необыкновенны эти дикие собаки! Я видел, например, как Динго перегрызла глотку теленку. А какой у них нюх! Когда Динго заходит в курятник, она безошибочно распознает несушек… Не могу забыть, как она наваливалась им на животы и наружу выходило целое яичко. Для меня Динго больше чем друг… она вроде родного человека… Я боюсь даже думать, что могу ее потерять… Впрочем, собака признает только меня. Ах, проклятье!..
В этот момент Динго вырвалась и побежала по лестнице, ведущей на антресоли, не обращая внимания на окрики хозяина.
– Может быть, вам сходить за ней? – спросил я.
– Видите ли, я боюсь, что она меня укусит. Вы ведь не знаете, что Динго, стоит ее только спустить с поводка, перестает признавать даже своего хозяина…
Я вдруг с тревогой вспомнил, что на антресолях находится моя домработница. Однако она появилась в ту же секунду, держа вилявшую хвостом собаку за ошейник.
– Какое ласковое животное! – сказала она. – Но мне надо готовить завтрак… Ну, иди отсюда, песик!
– А, что я вам говорил?! – произнес Мирбо.
Я увиделся с Мирбо еще раз незадолго до его смерти. Это было во время войны. Я застал его сидящим в кресле возле окна в квартире на первом этаже по улице Вожон.
– Что пишут в прессе? – спросил он.
– Ей-богу, ничего особенного… Правда, в одной из газет я прочел, что в ресторанах собираются ввести нормы обслуживания клиентов. Отныне посетитель будет иметь право лишь на одно мясное блюдо и на одно овощное.
– Но ведь дефицита нет!.. У торговцев есть все… даже прекрасные маленькие устрицы. – (Он говорил «нустрицы».)
И в глазах Мирбо вспыхнул огонек чревоугодия.
Однако в этот момент в комнату вошла мадам Мирбо, проявлявшая подозрительность всякий раз, когда ее муж оставался с кем-нибудь наедине; писатель приложил палец к губам, призывая меня хранить молчание. После того как она ушла, Мирбо сказал тоном обиженного ребенка:
– Она нелюбезна со мной. Она не хочет давать мне маленькие «нустрицы», она говорит, что это слишком дорого. – И автор «628-Е8»[67] продолжал: – Странные вещи творятся в доме напротив… Все время входят и выходят какие-то люди… Вообще, в жизни можно увидеть столько необычного!.. Однажды в деревне я наблюдал за комаром, он нес осу, но ему мешали ее раскрытые крылышки. Так вот, комар просто-напросто положил ее на газон и отпилил ей крылья…
И Мирбо принялся рассказывать мне, да так, будто это случилось с ним на самом деле, о некоторых странных событиях, происходивших в его книгах с героями, которых он хотел высмеять. Я слышал, что подобный феномен самовнушения наблюдался под конец жизни и у Флобера.
Вновь увидеться с Мирбо мне больше не довелось. К тому же жена охраняла его все более бдительно. В день смерти писателя я встретил одну из ее подруг.
– Я только что от Мирбо, – сказала она. – На сей раз жена оставила меня с ним наедине.
– Каким образом? Сегодня утром я прочитал в газетах, что он умер.
– Вот именно поэтому, узнав о печальной новости, я поспешила к мадам Мирбо. «Вы желаете видеть Октава?» – спросила она. Открыв дверь комнаты, погруженной в темноту, она зажгла свет. Мирбо лежал на своей постели, одетый в костюм. «Мне надо сделать кое-какие распоряжения, – сказала она. – Я на минуту вас оставлю». Когда мадам Мирбо вернулась, я попрощалась с ней; она потушила свет и закрыла дверь.
* * *
В бытность господина Дени Кошена государственным министром он как-то сказал мне:
– Вы, кажется, едете в Эвиан на следующей неделе?
– Так точно…
– Я тоже, послезавтра вечером. В мое распоряжение предоставлено специальное купе. Поедемте вместе.
Я охотно согласился. Однако мне все же пришлось заплатить за свой билет. Гость министра имел полное право разделить с ним места в официальном вагоне, но попасть туда он мог, только приобретя билет первого класса. Это объяснил мне контролер, впрочем весьма обходительный. Столько говорилось о ненужных расходах, о грабеже, чинимом железнодорожными компаниями, что я хочу доказать на конкретном примере, что эти компании умеют блюсти интересы своих акционеров. Честно говоря, в данном случае я только выиграл оттого, что ехал вместе с министром; но я заработал также прострел из-за сквозняка, который устроил господин Кошен, думая сделать мне приятное. По прибытии он тоже жаловался на боли в пояснице; но мы ехали в Эвиан, где как раз лечат ревматические заболевания.
Как только мы вышли на перрон, мой высокопоставленный спутник стал расхваливать мне отель: он останавливается там в течение двадцати пяти лет, к тому же гостиницу содержат славные люди. Я последовал за ним. Через несколько часов я убедился в неудобствах, доставляемых отелями, которые содержат «славные люди».
– Вы действительно считаете, что нам здесь будет хорошо? – спросил я у господина Кошена.
– Ах! – ответил он. – Я рассчитывал…
Чтобы оказать честь министру, хозяин гостиницы организовал особую церемонию. Сверху лестницы лакеи кричали на кухню: «Подать господину министру!» И метрдотель собственной персоной принимал блюда у повара и относил их на стол. Тем не менее министра обычно обслуживали последним, так как несчастного метрдотеля рвали на части и его никогда не оказывалось на месте в нужный момент.
Я часто выходил на прогулку с господином Кошеном. Поскольку возле нас постоянно крутился какой-то довольно изящно одетый господин, я решил, что это полицейский, которому поручена безопасность министра. Я показал его господину Кошену.
– Это генерал. Уверен, что он хочет поговорить со мной о каком-нибудь деле, связанном со шпионажем. Двое его коллег уже приходили ко мне с подобными вопросами, – сказал министр.
Как известно, господин Кошен питал явную симпатию к нации эллинов. Как-то вечером… один грек рассуждал в нашем присутствии о художественных сокровищах и великих людях своей страны с гордостью, не уступавшей его красноречию. Я хотел показать рассказчику, что все имеющее отношение к Греции вызывает у меня живейший интерес, и потому сказал:
– Я обожаю даже разбойников, чертовски романтичных, которых описал Эдмон Абу в «Короле гор».
Услышав это, грек вздрогнул:
– «Король гор»! Эти истории о разбойниках – нелепая выдумка литератора! Поверьте мне. Вы можете бродить у нас в горах днем и ночью, чувствуя себя в полнейшей безопасности.
Господин Кошен поспешил переменить тему разговора. Через несколько дней один из присутствовавших при той сцене сказал нам:
– Вы помните того грека? Так вот, он срочно отбыл в Афины. Его брат и жена брата, гулявшие в горах, были захвачены разбойниками, которые требуют за них выкуп…
На следующей неделе я возвращался в Париж.
– Не окажете ли вы мне услугу? – спросил Дени Кошен за два дня до моего отъезда. – У меня есть срочное письмо для Ластери, главы кабинета. Я вручу это письмо вам. Прошу вас, не сочтите за труд и лично доставьте его в министерство.
– Но если вы пошлете его сегодня по почте, то господин Ластери успеет получить письмо еще до моего приезда в Париж.
– Воллар, я должен вам сказать… Мои коллеги относятся ко мне с подозрением. Все, что я пишу, попадает в теневой кабинет… Письмо, если я отправлю его по почте, дойдет до Парижа неизвестно когда. Например, письмо от моей жены шло в Эвиан четыре дня.
Я был ошеломлен. Господин Кошен продолжал:
– Коллеги постоянно опасаются, что я совершу какую-нибудь бестактность по отношению к Ватикану…
– Но почему в таком случае председатель совета взял вас в свое правительство?
– Потому что я, по их мнению, все-таки представляю некую силу. С другой стороны, правительству выгодно иметь кого-то, кто вращается в свете, но все-таки они меня сторонятся. Поэтому я вынужден спрашивать у всех, с кем общаюсь: «Что нового? Что намерено предпринять правительство?» Кстати, я еще не читал утренних газет. Есть что-нибудь новенькое?
– В «Эксельсиоре» я прочитал, что фунт сала стоит семь франков.
– Это дорого или нет?
– «Эксельсиор» не дает никаких комментариев. Я, однако, думаю, что это, скорее, дорого.
– А что вас заставляет сделать такой вывод?
– До войны фунт сала стоил примерно полтора франка.
– Вы полагаете?..
Но мне не давало покоя пресловутое письмо, которое надо было доставить в Париж.
– Послушайте, – сказал я после паузы, – а что, если меня обыщут на таможне в Бельгарде?
– Что? Вы разве везете сало? – машинально спросил господин Кошен.
– Нет, я все о том письме, которое вы хотите мне доверить. В военное время строго воспрещается перевозить почту.
– Вы думаете? Черт! Что же делать?
– Кажется, есть один способ… Поскольку мы отправимся сегодня в Тонон, представьте меня супрефекту и скажите ему, что я ваш чрезвычайный курьер.
Так он и сделал. На другой день, прибыв на пограничный вокзал, я увидел специального комиссара, предупрежденного обо всем по телефону, который бегал взад и вперед по перрону и выкрикивал: «Чрезвычайный курьер господина государственного министра Дени Кошена!» Я назвался. И он поставил на моем чемодане какой-то каббалистический знак.
Я ждал отправления поезда, следующего в Париж, когда ко мне подошел некий господин и сказал:
– Разрешите представиться. Поскольку вы вхожи к господину Дени Кошену, я хотел бы попросить вас напомнить ему обо мне. Без его поддержки мне не продвинуться по службе. Я виконт де Р., консул в X.
– Я непременно это сделаю, – ответил я.
– Премного вам благодарен, но боюсь, что господин Дени Кошен не очень хорошо меня помнит. Соблаговолите сказать ему, что я тот самый мальчуган, которого он лет тридцать назад во время псовой охоты у герцогини Юзесской потрепал за ухо, сказав при этом: «Он очень славный, этот малыш».
Вновь увидевшись с господином Кошеном, я выполнил данное мне поручение.
– Очень хорошо помню, – сказал он. – Это сын Бедняка. Такое прозвище мы дали его отцу, потому что у него никогда не было денег. Правда, если он рассчитывает на меня, то сильно ошибается. Мне ни разу не удалось чем-либо помочь хотя бы одному человеку. Я даже не в состоянии выхлопотать «академические пальмы» часовщику, который является одним из самых преданных моих избирателей. Только однажды я одержал верх. Я порекомендовал клерка нотариуса, который имел все титулы для того, чтобы получить контору, и которому в этом отказывало министерство юстиции. Тогда я подал запрос по его поводу министру, и тот сделал соответствующие распоряжения.
– Почему ваш протеже был им неугоден?
– Потому что он был председателем организации «Католическая молодежь» в своем департаменте. Министр юстиции опасался, что я раскрою его тайну, ведь он, в свою очередь, когда-то был главой братства Пресвятой Девы[68].
* * *
В ту ночь вой сирен возвестил о том, что немецкие самолеты приближаются к Парижу. Я вместе со всеми спустился в подвал и там, чтобы скоротать время, разговорился с соседями. Один из них оказался редактором в «Голуа».
– Какого вы мнения о нашей газете? – спросил он.
– Разумеется, самого хорошего!
– А как вы относитесь к ее директору господину Артюру Мейеру?
– Это на редкость умный человек!..
Через несколько дней я получил письмо от господина Мейера. Он писал, что его сотрудник сообщил ему о том лестном мнении, которое я высказал о газете и о нем самом. Господин Мейер благодарил меня за это и приглашал зайти к нему в гости. Письмо оканчивалось следующим образом: «Не исключено, что при случае мы сможем оказать друг другу небольшие услуги».
Так оно и вышло. Мне удалось достать рисунок Боннара для его экземпляра книги «Король Юбю».
Каждая из книг библиотеки директора «Голуа» обогащалась оригинальным произведением художника. Его выбор всегда обнаруживал самый безупречный вкус. Так, рассчитывая приобрести иллюстрацию для «Заведения Телье», он вспомнил о Дега и показал мне письмо художника, в котором тот обещал ему рисунок. Спустя некоторое время, находясь у Дега, я увидел рисунок на его пюпитре.
– Это для книги из библиотеки Артюра Мейера, – сказал он мне.
– Неужели? Вы, который терпеть не может евреев!..
– Да, но этот еврей отстаивает правильные принципы.
Ренуар, напротив, пришел в гнев, получив от директора «Голуа» письмо с просьбой сделать рисунок для одной из его книг.
Но, побушевав, Ренуар обратился к своей модели со следующим вопросом:
– Что вы там делаете, Габриэль?
– Я заворачиваю книгу, мсье, чтобы отослать ее обратно.
– Не надо… Оставьте ее здесь.
И он нарисовал акварель на форзаце.
Что касается Дега, то он так и не закончил рисунок, и можно сказать, это произошло из-за его чрезмерной добросовестности. Поскольку он все время пытался улучшить свое произведение, делая многократные копии с помощью кальки, и вышел за рамки первоначального наброска, эскиз, предназначавшийся для господина Мейера, в конце концов превратился в большую картину метровой высоты. Это означало, что библиофил мог поставить крест на обещанной иллюстрации. Но он не пожелал смириться с неудачей и приобрел для «Заведения Телье» монотипию Дега, изображавшую двух женщин на диване, куда больше подходившую к повести Мопассана, чем рисунок с танцовщицей. На распродаже библиотеки директора «Голуа» украшенная таким образом книга вместе с прилагавшимся к ней письмом Дега, в котором он обещал прислать рисунок, была продана по весьма высокой цене.
Я мог наблюдать любопытную черту характера господина Мейера. Зайдя как-то в редакцию «Голуа», я застал его с книгой в руках. Прощаясь с директором газеты, я поинтересовался названием книги, думая извлечь для себя пользу из круга чтения столь просвещенного человека.
– Это «Одиссея торпедированного транспортного судна», – сказал он, предварительно взглянув на обложку.
– А кто автор?
Он снова посмотрел на обложку и сказал:
– Произведение анонимное.
– О чем книга?
– Не имею представления. Вы понимаете, я слишком много думаю. Я беру книгу в руки, чтобы отвлечься от своих мыслей; но поскольку, читая, я все-таки не могу от них отвлечься, получается, что я не знаю, о чем в книге идет речь.
– Постойте! – заметил я. – Подобную мысль высказал Ксавье де Местр…
– Да? Ксавье де Местр тоже говорил об этом?
И господин Мейер приосанился и погладил бакенбарды.
* * *
Я ждал прихода одного из своих друзей у него на квартире на улице Франклина. Я увидел голубя, ударявшего клювом по стеклу окна, возле которого я сидел. Я открыл окно. Голубь впрыгнул в комнату в сопровождении еще одного голубя, державшего в клюве соломинки. Последний сел на карликовую пальму, что украшала пианино, и осторожно положил соломинки между двумя ветками. Тем временем его сородич ворковал, распуская хвост. Вдруг обе птицы вспорхнули и улетели, Но вскоре появились опять. На этот раз они принесли обрывки шерстяных ниток и уложили их рядом с соломинками.
Между тем в комнату вошел сын моего друга, семилетний мальчуган.
– Это ваши голуби? – спросил я у него.
– Нет, соседские.
– Но что они делают на этой пальме?
– Они ищут место, где можно свить гнездо.
– Вот тебе на! Почему бы им не устроиться в голубятне, которую я заметил в саду?
Ребенок ничего не ответил.
Вернувшись к окну, я увидел кошек, бродивших по ограде двора. И не они одни нагоняли страх на голубей, им приходилось остерегаться еще и других хищников. Действительно, когда камердинер вынес диким голубям корм, едва он повернулся к ним спиной, как появились две огромные крысы и моментально все сожрали. Я подумал, что надо бы предупредить хозяина сада; но им был не кто иной, как господин Клемансо, и я бы не отважился с ним заговорить.
Из окна я приметил старичка, который вечно гнул спину над грядками; ему тоже я не решился сообщить о проделках крыс, настолько он казался безразличным ко всему, что не имело отношения к его кустам роз. Но вечером, уходя домой, я вдруг столкнулся нос к носу со старым садовником; на сей раз он был во фраке и в котелке. И я узнал в этом человеке господина Клемансо.
Позднее, когда разгорелась дискуссия о политической деятельности бывшего председателя совета, один человек сказал:
– Он спас Францию.
– Да. Но его послевоенная политика… – возразил другой. – Оставить англичанам нефтяные поля в Мосуле!..
– Ну и что тут такого?! – парировал сын хозяев дома. – Сегодня утром помощник бакалейщика сказал няне: «Дорогая, мы можем поставить вашим хозяевам столько керосина, сколько им заблагорассудится».
* * *
Однажды вечером я услышал возгласы продавцов газет: «Специальный выпуск!.. Новое правительство…» Землекоп, возвращавшийся домой после рабочего дня, сказал своему приятелю самым естественным тоном: «Новое правительство… Ну уж конечно! Знаем мы этих мерзавцев, которые целыми днями развлекаются с потаскушками и пьют шампанское…»
Так представляет себе простой народ работу министра. Те же, кому довелось познакомиться с ней поближе, придерживаются иного мнения.
Во время войны, когда я находился в Канне у Ренуара, он сказал мне, протягивая письмо от своего сына, служившего в авиации: «Вот, Воллар, почитайте, что пишет Жан. Он жалуется на то, что им дают самолеты, на которых можно только сломать себе шею. Поэтому разыщите Клемантеля и расскажите ему об этом!..»
По возвращении в Париж я позвонил господину Клемантелю и попросил его о встрече, сославшись на Ренуара.
– Заходите в министерство, – сказал он. – Вы расскажете о том, чем занимается сейчас Ренуар, это меня отвлечет от дел. Я буду ждать вас послезавтра, в воскресенье. Итак, приходите к половине восьмого утра, мы сможем спокойно побеседовать.
В условленный час я увидел министра сидящим перед чашкой чая; он просматривал бумаги, лежавшие у него на письменном столе.
– Прошу вас подождать всего одну минуту, – сказал он.
В этот момент вошел секретарь и принес письмо, которое нужно было срочно отправить.
Прочтя и подписав послание, господин Клемантель произнес:
– Я в вашем распоряжении.
Но дверь снова отворилась, и появился служащий с визитной карточкой в руке.
– Ах да! – воскликнул министр. – Это майор авиации, который непременно хочет со мной поговорить, хотя он относится к военному министерству. Поскольку визит может затянуться, не зайдете ли вы ко мне в полдень? Мы поедем и пообедаем у меня дома в Версале, там, по крайней мере, нас никто не побеспокоит.
В полдень господин Клемантель беседовал во дворе министерства с двумя господами; чуть поодаль стоял майор авиации, все еще дожидавшийся своей очереди. Министр отпустил штатских, а затем сказал офицеру:
– Я забираю вас с собой в Версаль, где мы сможем поговорить.
Когда наш автомобиль тронулся с места, подбежал секретарь. В руках у него была папка, которую он передал министру.
– Да, действительно, я совсем забыл. Мне надо изучить эти материалы.
Министр с головой ушел в досье, которое занимало его внимание, пока мы ехали в Версаль. Когда мы входили в дом, в прихожую ворвался повар.
– Соус для лангуста приготовил я! – выкрикнул он. – Вы расскажете мне о последних новостях.
Сказав это, он сорвал с себя атрибуты шеф-повара и предстал перед нами в качестве «господина». Клемантель познакомил его с нами. Повар оказался художником Дюмуленом, которого я сначала не узнал из-за его необычного одеяния.
После завтрака, когда майор авиации решил, что господин Клемантель наконец-то сможет уделить ему несколько минут, пришли другие посетители, у которых также была назначена встреча с министром. Чтобы вывести своего мужа из затруднительного положения, мадам Клемантель сказала:
– Мой друг, дети хотели бы показать нам свое кино.
И в луче проектора «Пате-Беби» замелькали кадры «Красной Шапочки», «Кота в сапогах», «Спящей красавицы», и все это продолжалось до тех пор, пока не объявили, что чай подан.
Скоро министр попросил разрешения удалиться в свой рабочий кабинет. Впрочем, посетителям уже пора было отправляться в Париж.
Когда мы уходили, министр, обращаясь к майору авиации, сказал:
– Вы убедились, майор, что у меня не было ни минуты свободного времени. Изложите на бумаге все, что вы хотели мне сказать, так будет лучше: я сам передам ваше письмо в военное министерство.
До вокзала мы добирались пешком.
– Я уже второй раз берусь исполнять обязанности повара, – сказал человек, приготовивший соус для лангуста, – и мне не удалось побыть с министром наедине хотя бы пару минут. Каждое воскресенье повторяется одна и та же история, а уж чтобы заполучить Клемантеля на неделе…
Мы сели в поезд. Майор авиации по-прежнему имел озабоченный вид. Я спросил у офицера, каково положение нашей авиации.
– Все, что я думаю по этому поводу, мсье, вы найдете в этой книжечке.
И, достав из кармана доломана брошюрку, он сунул мне под нос… моего «Юбю в авиации»!
– Сущая правда! – воскликнул он. – Нам сбагривают аппараты, которые ломаются как спички, и это называется «надежными самолетами»; впрочем, они приносят немалые доходы конструкторам, поднаторевшим в своем ремесле. Господам парламентариям нет никакого дела, что мы там гробимся! Да здравствует Франция и барыши!
Пассажиры уже косились на нас. К счастью, поезд подъехал к парижскому вокзалу…
Как-то раз, когда мы встретились с ним после разделения палат, господин Клемантель сказал мне:
– Бернхейм хочет, чтобы я выставился у него. Через несколько дней я уезжаю в Овернь. Вот край, созданный для живописца! Холсты, кисти… Какие чудесные каникулы меня ожидают!
Ибо для Клемантеля взять отпуск значило опять же работать.
Через несколько недель, оказавшись в Виши, я получил от него записку, в которой он приглашал меня на завтрак. Таким образом я смог познакомиться с Овернью, чем-то напомнившей мне юг.
Приехав к министру, я заметил на террасе, поднявшейся над виноградниками, кресло, над которым возвышалась огромная соломенная шляпа.
– Это мсье Бурдель, – сказала сопровождавшая меня горничная.
Я хотел к нему подойти, но услышал:
– Он спит…
В этот момент появился господин Клемантель и повел меня в свою мастерскую. На стенах висели совсем свеженькие холсты, количество которых свидетельствовало о том, что «трудяга» – художник ничуть не уступал в работоспособности министру.
Моего хозяина позвали. Я снова вышел на террасу. Великий скульптор все еще спал. Я не решался его разбудить, но вдруг с ближайшего дерева сорвался каштан и угодил ему в руку. Он проснулся и, потягиваясь, сказал:
– Батюшки, это вы, Воллар!..
Бурдель распростер руки.
– Какой красивый пейзаж, вы не находите? Вблизи этих гор в голове у меня созревает, рождается то, что потом мои руки вылепят в глине. Этот час, который я только что провел в общении с природой, дал мне гораздо больше, чем восемь дней, проведенных в мастерской…
XII. Амбруаз Воллар, издатель и автор
I. Мои издания: эстампы, фаянсовые изделия, бронзовые изделия, книги. – II. Книги, написанные мной. – III. Альманах «Папаша Юбю»
1
Я всегда любил эстампы. Когда около 1895 года я обосновался на улице Лаффит, моим самым большим желанием было начать их издание, но заказывая эстампы художникам. «Художник-гравер» – это термин, которым злоупотребляли, применяя его по отношению к профессиональным гравировальщикам, отнюдь не являющимся живописцами. Я же хотел получать гравюры от художников, которые не были профессиональными граверами. То, что могло показаться рискованным предприятием, обернулось большой художественной удачей. В частности, Боннар, Сезанн, Морис Дени, Редон, Ренуар, Сислей, Тулуз-Лотрек, Вюйар, впервые пробуя себя в этом жанре, создали прекрасные гравюры, пользующиеся сегодня таким успехом.
Сезанн выполнил две гравюры с изображениями «купальщиков»; Редон – одну, под названием «Беатриче»; Боннар – «Маленькую прачку» и «Катание на лодке»; Вюйар – «Сад Тюильри» и «Детские игры»; Морис Дени – «Видение» и «Девушку у источника»; Сислей – «Гусей»; Тулуз-Лотрек – «Английскую коляску».
Помню, как Лотрек, маленький хромой человек, сказал, устремив на меня свои удивительно наивные глаза:
– Я нарисую для вас «женщину из заведения».
И в итоге он выгравировал «Английскую коляску», которая считается сегодня одним из его шедевров.
Перечисленные мной гравюры были цветными. Но в черно-белой гравюре успех был не меньшим. Уистлер передал мне «Чашку чая»; Альбер Бенар – «Шелковое платье»; Каррьер – «Спящего ребенка»; Редон – «Старого рыцаря»; Ренуар – «Мать и дитя»; Эдвард Мунк – «Интерьер»; Пюви де Шаванн – повторение своего «Бедного рыбака»…
Все эти эстампы, как цветные, так и черно-белые, вместе с несколькими другими, здесь не упомянутыми, составили коллекцию произведений, с которых было отпечатано два альбома «Художники-граверы», тиражом по сто экземпляров каждый. Первый альбом я оценил в сто франков, второй, содержавший большее количество работ, – в сто пятьдесят. Оба альбома расходились плохо. Я предпринял еще и третью серию, оставшуюся незавершенной.
Однако если этот способ самовыражения оставлял любителей равнодушными, то художники, напротив, проявляли к нему все больший интерес. Некоторые из них даже подготовили для меня по целому альбому. Так, я получил от Боннара серию цветных литографий «Виды Парижа». Рассматривая их однажды, Эллё воскликнул: «Батюшки! Да ведь на этой литографии „Возвращение с прогулки по лесу“ нарисованы моя жена и дочь!» Изображая кишащую парижскую толпу, Боннар не преминул передать сходство своих персонажей. Вюйар создал цикл литографий «Интерьеры»; К.-К. Руссель – серию «Пейзажи»; Морис Дени – серию, озаглавленную «Любовь»; Редон – альбом черно-белых литографий под названием «Апокалипсис».
Несмотря на скромные цены, любители продолжали «капризничать», и даже через двадцать лет эти альбомы оставались нераспроданными. Но впоследствии на аукционе в отеле Друо за «Английскую коляску» Тулуз-Лотрека давали пятнадцать тысяч франков. Помимо «Купальщиц», Сезанн сделал для меня черно-белую литографию, представлявшую собой портрет. Как всегда проявляя по отношению ко мне редкую благосклонность, Ренуар тоже выполнил определенное количество литографий, в частности «Шляпку с булавкой», которую выгравировал в черно-белом и цветном вариантах, использовав на одной из гравюр акварель, а на другой – карандаш. Во время работы он вывихнул себе правую руку. «А что, если попробовать рисовать левой?» – сказал Ренуар, обращаясь ко мне. И он как ни в чем не бывало продолжил работу над гравюрой. Вскоре Ренуар создал другие литографии, как черно-белые, так и цветные: «Девочки, играющие в мяч», «Ребенок с бисквитом», «Мать и дитя». Я забыл упомянуть его изумительные портреты Родена, Сезанна, Вагнера.
Вот как мне удалось получить последнюю гравюру. Я зашел к Ренуару в сопровождении рассыльного, который нес литографский камень, в тот момент, когда он собирался идти в мастерскую. Заметив камень, живописец всплеснул руками:
– Ах, мой бедный Воллар, в настоящее время я просто завален работой!..
Мы вместе спустились вниз, но, пройдя совсем немного, наткнулись на полицейский кордон, перегородивший улицу, которая вела к мастерской. И Ренуар, и я забыли, что это день 1 Мая и что рабочие отмечают «праздник труда», создавая уличную толчею. Полицейские предупредили нас, что движение будет восстановлено не раньше чем через пару часов.
– Что ж, вернемся ко мне домой, – сказал Ренуар. – Раз такое дело, я вырежу эту вашу литографию.
Позднее он выполнил альбом из двенадцати небольших черно-белых литографий. Среди них есть и мой портрет, и портрет художника Вальта. Альбом содержит в основном изображения обнаженных женщин. Однажды, когда Ренуара спросили, что из женской моды ему больше всего нравится рисовать, он без колебаний ответил:
– Обнаженную женщину.
Что касается Фантен-Латура, то по моей просьбе он создал одну из самых лучших своих гравюр. Автор «Рейнских девушек» проявил большой интерес к моим попыткам привить публике вкус к эстампу, хотя мои «смелые» взгляды его пугали. Как-то раз, находясь у него в мастерской, я рассказал ему о своем намерении сходить в Лувр и сопоставить натюрморт Сезанна с натюрмортом Шардена. Услышав это, художник вдруг поднялся и воскликнул:
– Не играйте с Лувром, Воллар!..
* * *
Посетив выставку декоративного искусства, я сделал для себя открытие: я никогда не думал, что фаянс может быть настолько красивым. С тех пор я почувствовал сильнейшее желание выпускать вазы, тарелки, блюда. Мне посоветовали обратиться к мастеру-керамисту Андре Мете. Я попросил его предоставить свои печи в распоряжение молодых художников Боннара, Мориса Дени, Дерена, Пюи, Матисса, Лапрада, Майоля, К.-К. Русселя, Руо, Вальта, Вламинка… На формах, вылепленных Мете на гончарном круге, они создали для меня множество красивых произведений, которые, несмотря на все мои усилия, не были оценены публикой. Однако впоследствии они оказали огромное влияние на современное декоративное искусство.
Привлекали меня не только фаянсовые изделия. Однажды, когда Майоль нанес последний удар резцом по деревянной статуэтке, я сказал скульптору:
– А что, если отлить ее в бронзе?
– Бронза? – удивился он.
– Доверьте мне статуэтку. Я возьму это дело на себя.
Так я отлил первую бронзовую скульптуру Майоля. Позднее я получил от него еще несколько весьма удачных моделей.
Как-то раз Боннар разминал пальцами хлебный мякиш. Понемногу он приобрел очертания собачки.
– Скажите мне, Боннар, ведь это скульптура? – спросил я.
– …
– А что, если вам вылепить для меня статуэтку?
Боннар не сказал «нет» и после нескольких проб вылепил вазу. И вот как-то раз во второй половине дня из подвала моего магазина донеслись звуки, подобные тем, что раздаются в мастерских.
– У вас там внизу рабочие? – спрашивали у меня посетители.
Это был Боннар, который чеканил бронзу.
Я не думал, что мне так же повезет и с Ренуаром. Как только я заговорил с ним о том, чтобы он занялся скульптурой, художник сказал:
– Полноте, Воллар! Вы прекрасно знаете, что руки мне отказали. Может быть, удастся сделать маленькую голову… Однако я с удовольствием вылепил бы большую фигуру.
«Но так ли уж нужны руки? – подумалось мне. – Разве не видел я, как ученики Родена увеличивали статуэтки мэтра, в то время как он безмятежно поглаживал свою бородку?» Я описал эту сценку Ренуару.
– Ваш рассказ напомнил мне о гравюре из книги «Жизнь художников в древности». На ней была изображена мастерская, где формовщик с молотком и резцом в руках обрабатывал камень, а какой-то человек, чья голова была увенчана розами, полулежал на кровати: это был скульптор.
Некоторое время спустя я вновь увиделся с Ренуаром.
– Ваше предложение, которое вы сделали на днях, – сказал он, – весьма заманчиво.
Он принялся за работу и спешно завершил свое маленькое ню «Венера с яблоком».
– Видите! – воскликнул он, трудясь над моделью. – За пятьдесят лет, что я вкалываю, у меня должен был накопиться колоссальный опыт. И что же? Я старался придать статуэтке бо́льшую стройность, но, сколько ни пытался сделать ее тоньше, все получалось не то. Пришлось расширить ей таз. Теперь остается только ее увеличить.
Но поскольку при увеличении случается так, что некоторые части скульптуры выбиваются из масштаба, Ренуар, отличавшийся скрупулезностью, предпочел заново сделать рисунки ввиду предстоящего перевода «Венеры» в большой размер. Как сейчас вижу художника под оливковыми деревьями у себя в саду перед статуей, постепенно обретавшей законченный вид. Длинной палочкой художник постукивал по глине, указывая формовщику необходимые объемы.
– Видите, Воллар? На конце этой трости словно бы находится моя рука… Чтобы работать как следует, вовсе не обязательно находиться чересчур близко. Разве можно отдать себе отчет о том, что ты делаешь, уткнувшись носом в глину?
Когда статуя была закончена, Ренуар сказал:
– Недурно. Но все равно чего-то не хватает…
Когда я зашел к Ренуару в другой раз, он произнес с чуть лукавым видом:
– Кажется, я понял, чего недоставало моей «Венере». Надо приподнять ей груди.
После того как это было сделано, Ренуар воскликнул:
– Теперь что надо!
С подобным же предложением я рискнул обратиться и к Дега. В его мастерской находилось множество восковых фигурок, которые свидетельствовали о том, что ему не чуждо ремесло скульптора. Я спросил у художника, не хочет ли он отлить одну из них.
– Чтобы я занимался отливками! – воскликнул он. – Бронза предназначена для вечности. А мне доставляет удовольствие постоянно начинать все сначала. Вот так… смотрите!
Он взял с подставки почти законченную «Танцовщицу» и, размяв руками, превратил ее в восковой шар.
* * *
Во время одной из своих прогулок по набережным я принялся листать несколько томиков, лежавших в ящике у букиниста. На титульном листе объемистого тома в одну восьмую листа я прочел: «Издатель Амбруаз Фирмен-Дидо».
«Издатель Амбруаз Воллар… звучит тоже неплохо», – подумал я.
Постепенно эта мысль укоренилась у меня в голове. Я не мог смотреть на красивую бумагу, не говоря себе при этом: «Как хорошо выглядели бы на ней типографские знаки!» И если я еще испытывал какие-то колебания, то они касались лишь выбора между прозаиком и поэтом.
Посетив Национальную типографию, в то время еще не переехавшую из роскошного особняка на улице Вьей-дю-Тампль, я остановил свой выбор на поэте. Меня сопровождал друг, которому хотелось посмотреть на известный «Салон обезьян». Пока он внимательно изучал каждую деталь знаменитого интерьера, я раскрыл книгу, изданную фирмой, и залюбовался «гарамоном», великолепным и, как говорят, изготовленным по приказу Франциска I шрифтом, курсив которого, казалось, был создан для того, чтобы печатать им произведения поэта.
Но какого поэта выбрать?.. Все решил случай.
Через несколько дней, сидя на империале омнибуса, я увидел поблизости плохо одетого человека. Шейный платок скрывал отсутствие пристежного воротничка. Обеими руками он держал картину. Насколько я мог судить, она принадлежала кисти Каррьера, и, как мне показалось, на ней был изображен человек с повязанным вокруг шеи платком. Это полотно мешало кондуктору, ходившему взад и вперед и принимавшему деньги от пассажиров.
– Нет, кроме шуток! – в конце концов воскликнул он. – Вы бы еще захватили свой зеркальный шкаф!
– У меня его нет! – парировал пассажир.
– Это Верлен, – прошептал кто-то из сидевших со мной рядом.
В самом деле, это был Верлен. На остановке он вышел, и я увидел, что он направился к лавке торговца картинами. Услышав имя Верлена, один из пассажиров обернулся и спросил:
– Кто такой этот Верлен?
– Поэт, и при этом величайший, вроде Стефана Малларме.
Ответ был дан другим пассажиром, который держал под мышкой толстый портфель. Рядом с ним находился молодой человек, именовавший его «мой дорогой учитель». Все это не могло в моих глазах не придать вес высказанному им мнению. Так я приобрел уверенность в том, что крупнейшими поэтами современности являются Малларме и Верлен. На другой день на прилавке магазина Фламмариона я увидел книгу Малларме и прочел его «Дар поэмы». Признаться, очарование этой тонкой словесной музыки оставило меня тогда равнодушным. Затем я принялся листать сборничек Верлена «Параллельно», и мне показалось, что его стихи более соответствуют тому представлению о поэтическом произведении, которое сложилось у меня в то время. Я подумал, что это как раз то, что мне нужно.
Но кому предложить проиллюстрировать эту книгу, такую нежную и одновременно такую чувственную? Поразмыслив, я обратился к Боннару и попросил его выполнить для меня литографии.
Что касается полиграфического исполнения, то я первым же делом подумал о Национальной типографии. Там мне сказали, что сперва надо получить разрешение у министра юстиции. Разумеется, я не знал, что некоторые пассажи «Параллельно» навлекли на себя гнев судебных инстанций, поэтому меня нисколько не удивило, что я получил требуемое разрешение. Изумление, напротив, вызвала реплика начальника производственного отдела типографии: «Какая странная идея – переложить стихами книгу по геометрии!»
Должен сказать, что его мнение отнюдь не разделял один пожилой рабочий с внешностью старого фавна (она наверняка понравилась бы Верлену) – стоя возле своего станка, он читал вполголоса:
Невинности избытком опьяняясь, Красотка с огненными волосами…Когда печатание сборника «Параллельно» закончилось и я получил готовый тираж, один экземпляр послали, как было принято в то время, министру юстиции.
Но через день ко мне вдруг явился атташе министерства юстиции, имевший весьма озабоченный вид.
– Министр просил передать, – сказал он, – что вам надлежит отправить обратно в Национальную типографию все экземпляры сборника «Параллельно». Не подобает, чтобы книга, осужденная за оскорбление нравственности, была переиздана в обложке, на которой красуется изображение Республики, и с уведомлением на титульном листе «По особому разрешению министра юстиции».
Некоторое количество экземпляров книги я уже успел распространить. Для оставшихся Боннар нарисовал обложку, более соответствующую духу произведения.
Инцидент получил освещение в прессе, и весть о нем достигла палаты депутатов. Но спор, разгоревшийся между парламентариями, не помог мне продать ни одного дополнительного экземпляра книги, которая впоследствии стала такой знаменитой.
Позднее я узнал, что тогдашний министр юстиции, господин Монис, отнес свой экземпляр книготорговцу, кажется господину Блезо, вероятно заметив при этом, что у книги приличная обложка…
Через два года после выхода в свет «Параллельно» я выпустил «Дафниса и Хлою», и мне опять-таки посчастливилось получить от Боннара согласие на исполнение иллюстрации. Так же как и «Параллельно», книга «Дафнис и Хлоя» в то время пользовалась весьма скромным успехом: оба этих издания упрекали, в частности, за то, что они содержали литографии; единственным способом воспроизведения иллюстрации, который ценился библиофилами того времени, была гравюра на дереве.
«Раз у библиофилов такие пристрастия, – подумал я, – то почему бы мне не предложить им гравюры на дереве?»
Что я и сделал, издав «Подражание Иисусу Христу», для которого Морис Дени выполнил всем известную прекрасную серию рисунков. Затем он проиллюстрировал по моей просьбе «Мудрость», где на сей раз гравюры были не черно-белыми, как в «Подражании», а цветными.
Несмотря на то что я пошел на уступку библиофилам, отказавшись от литографии ради гравюры на дереве, ни одна из этих двух книг не нашла у них сочувствия. Когда я сказал одному почитателю Мориса Дени: «Есть ли в вашей библиотеке „Подражание Иисусу Христу“ и „Мудрость“?», он резко ответил: «Я состою в обществе „Сто библиофилов“, и мы пока еще соблюдаем правила. Живописцы – не иллюстраторы. Вольности, которые они себе позволяют, несовместимы с тщательностью отделки, составляющей главное достоинство иллюстрированной книги».
Я до сих пор слышу голос другого библиофила, который, бурно выражая свое восхищение гравюрой, где на драгоценном камне перстня, что украшал палец изображенного на ней персонажа, можно было разглядеть тело женщины, воскликнул: «Представляете, мсье, вы могли увидеть, что она беременна!»
Из этого я заключил, что мне надо предложить не просто гравюры на дереве, а гравюры настолько проработанные, чтобы книголюбы могли изучать малейшие детали с помощью лупы. И тогда я вспомнил об Армане Сегене, который, как я знал, был способен основательно «отделать» рисунок. Я поручил ему проиллюстрировать «Гаспара из Тьмы» – небольшие стихотворения в прозе, сочиненные Алоизиюсом Бертраном в манере Рембрандта и Калло.
Когда книга была отпечатана в Национальной типографии, сотворившей настоящее чудо полиграфии, книготорговец показал ее одному из своих клиентов, королю библиофилов, самому господину Беральди. Сперва он принялся расхваливать книгу на все лады, но потом вдруг спросил:
– Кто издатель?
– Воллар.
– Тот, который выпустил «Параллельно» и «Дафниса и Хлою»? Ну нет! Это значило бы впустить дьявола в мою библиотеку…
После очередного щелчка, полученного от библиофилов, я говорил себе: «Все-таки последнее слово останется за мной». И на их враждебность я ответил изданием новой книги.
Чтобы проиллюстрировать «Цветы зла», я обратился к Эмилю Бернару. Томик стихов, для которого художник выполнил большое количество гравюр на дереве, также был отпечатан в Национальной типографии. Работа над ним началась в конце июля 1914 года. В связи с этим одна газета, сочувственно относившаяся к художественной литературе, похвалила Национальную типографию за то, что она, несмотря на нехватку рабочих, вызванную войной, ни на один день не остановила ручной печатный станок, выделенный под моего Бодлера. По этому поводу, сообщалось в другой газете, парламентарии обратились к министру юстиции с письменными просьбами предоставить им по одному экземпляру книги, которая, как они полагали, печаталась за государственный счет. Немного погодя «Фигаро» поведала, что все эти прошения, за исключением трех, содержали орфографическую ошибку в написании фамилии Бодлера…
После «Цветов зла» Эмиль Бернар проиллюстрировал, опять же по моей просьбе, Вийона и «Любовные стихотворения» Ронсара. Работая над последней книгой, он добавил к гравюрам на дереве несколько офортов. Для книги Вийона он подобрал типографские шрифты, которые так удачно сочетались с его рисунками, что можно было подумать, что эти шрифты создал сам Эмиль Бернар. Не столь успешной оказалась работа художника над «Любовными стихотворениями». Не найдя ничего, что подходило бы к иллюстрациям, он решил переписать страницы текста каллиграфическим почерком, гармонировавшим с его рисунком, а затем гравировал их.
«Это не книга», – заявили любители.
Небольшой инцидент, о котором я вам сейчас расскажу, показывает, до какой степени догматизм, навязанный библиофилами в области книгоиздания, оставался непоколебимым. Роден, находившийся тогда в зените своей славы, создал цикл литографий, которые должны были послужить иллюстрациями к «Саду пыток» Октава Мирбо. Разумеется, я и не предполагал, что стану издателем этой книги. Слишком много могущественных конкурентов, думал я, должны были оспаривать друг у друга изумительные композиции Родена. Поэтому я был крайне удивлен, равно как и обрадован, когда удостоился визита Мирбо, предложившего мне издать его книгу. Оказалось, что ни один издатель не польстился на литографии скульптора.
Я опять решил воспользоваться услугами Национальной типографии, но потерпел неудачу.
– Ну нет! – воскликнул министр юстиции, когда к нему поступила моя просьба разрешить издание книги. – Я не хочу влипнуть в такую же историю, что и Монис со сборником «Параллельно».
Тогда я решил печатать книгу у Дидо, которому отнес еще и поэму Малларме «Удача никогда не упразднит случая». Когда я пришел в назначенный час, меня принял сам директор.
– Мсье, мы не будем печатать «Сад пыток», – сказал он без всяких предисловий. – В этом старом заведении мы привыкли нести ответственность за людей – как за наших рабочих, которые все являются почтенными отцами семейств, так и за наших учеников, которые станут таковыми в один прекрасный день.
В итоге книгу напечатала типография Ренуара.
Не менее категоричным был также отказ фирмы Дидо принять поэму «Удача никогда не упразднит…». «Это написал сумасшедший» – столь безапелляционный приговор не мог заставить меня отказаться от намерения опубликовать произведение Малларме; но из-за моей скверной привычки все откладывать на потом с тех пор прошли годы. Однако я бережно храню литографии, выполненные Одилоном Редоном для этой книги, и надеюсь, что придет время, когда «Удача никогда не упразднит…» увидит свет. Я также рассчитываю, что судьба окажется благосклонной и к другой поэме Малларме – «Иродиада», которую должен был проиллюстрировать Вюйар и которая была отложена в долгий ящик не по моей вине.
Действительно, поэт в своем бесконечном стремлении к совершенству не мог решиться на публикацию произведения, не вполне его удовлетворявшего. «Получился диптих. А мне хотелось бы сделать из этого триптих», – говорил он.
Наконец настал день, когда он счел свою поэму законченной. Вот письмо, которое Малларме написал мне из Вальвена:
12 мая 1898 года
Дружище, я рад, что мое произведение будет издано торговцем картинами. Пусть Вюйар не уезжает из Парижа, пока не даст Вам положительный ответ. Скажите ему, чтобы его подбодрить, что я доволен дописанной поэмой. Это действительно так…
Тем временем Стефан Малларме умер. И когда я стал добиваться у его зятя, господина Боннио, продолжения «Иродиады», тот заявил мне: «Она осталась незавершенной, поэтому издание поэмы могло бы повредить памяти моего тестя».
Я не успел помочь доктору Боннио избавиться от странной щепетильности, ибо он тоже умер. Теперь дело за его наследниками, которые должны позволить опубликовать произведение Малларме, согласно воле поэта.
Госпожа Комманвиль, племянница Флобера, очевидно, проявила щепетильность иного свойства. Мне захотелось издать «Искушение святого Антония» с иллюстрациями Редона. Однако наследница великого романиста не забыла, что демон, искушая Антония, являл перед ним образы обнаженных женщин; она опасалась, что иллюстрации к произведению ее прославленного родственника будут содержать чересчур вольные сцены. Поэтому в контракте, который я написал под ее диктовку, оговаривалось, что я обязан представлять на ее рассмотрение рисунки художника. Цикл иллюстраций Редона включает более двадцати оригинальных литографий (иллюстрации помещаются вклейкой) и около пятнадцати композиций, задуманных для гравюры на дереве. Эти композиции я сперва потерял. Но мне удалось их разыскать, и книга в скором времени все-таки выйдет. Что касается литографий, то следует заметить, что ими уже завладели некоторые избранники. Во время тиражирования Редон оставил себе определенное количество оттисков, и их тотчас принялись оспаривать друг у друга его почитатели.
После «Сада пыток» я издал другую вещь Мирбо – «Динго». Помню, с какой радостью воспринял автор мое сообщение о том, что Боннар дал согласие проиллюстрировать его произведение.
Следующей книгой, которую мне посчастливилось издать, была «Милая девочка» Эжена Монфора.
По числу глав в этой книге можно судить о количестве шмуцтитулов, вклеек, концовок, которые надо было выполнить художнику. Но это не напугало Дюфи: он вырезал для меня около сотни медных досок, проявив к тому же редкую добросовестность! В самом деле, после того как он совершил несколько поездок в Марсель – тот Марсель, который уже исчезал, – и когда ему оставалось сделать одну из последних гравюр, изображающую знаменитый «салон Алины», художника вдруг одолели сомнения. Ему показалось, что его рисунок не передает нужной атмосферы. Он пытался отыскать ее в Париже, в подобных же «заведениях», но это никак ему не удавалось. Тогда он решил снова отправиться в Марсель и теперь, вернувшись оттуда, наконец почувствовал в себе силы изобразить весьма знаменитый «салон», испытывая от этого удовлетворение.
Решив обратиться к Лапраду за иллюстрациями к «Галантным празднествам» Верлена, я услышал со всех сторон: «Как! Вы собираетесь издать форматом 50 × 65 см в четвертую долю листа такой небольшой по объему текст? Но получится тонюсенькая брошюрка!» Замечание было бы обоснованным, если бы медальоны, занимающие почти всю страницу перед каждым стихотворением, и многочисленные вклеенные иллюстрации не позволили сделать книгу достаточно объемной.
Надо было избежать и другой опасности. Не будет ли выглядеть как бы придавленным текст под медальонами, который сводился таким образом лишь к трем или четырем стихотворным строчкам? Этого, однако, не случилось – настолько рисунки Лапрада были легкими и изящными.
Одновременно с поэмой Верлена я выпустил «Одиссею» Гомера с гравюрами на дереве Эмиля Бернара. Он только что проиллюстрировал для меня «Фиоретти»[69]; как и в изданиях, оформленных им раньше, в этой книге были помещены черно-белые иллюстрации. Для «Одиссеи» ему захотелось создать цветные гравюры. Но ни одна из предпринятых попыток его не удовлетворила.
– А что, если нам отказаться от цветных гравюр? – сказал мне Бернар. – Я раскрашу сепией каждый из штриховых оттисков. А вы отпечатаете книгу тиражом всего в сто пятьдесят экземпляров.
– Но вы ведь создали пятьдесят с лишним гравюр…
– В общей сложности это составит не более восьми тысяч оттисков, требующих доработки.
Он так и поступил…
У Дега есть малоизвестная, но весьма существенная для его творчества серия работ: сценки из жизни «закрытых заведений». По этому поводу Ренуар говорил мне: «Когда касаешься подобных сюжетов, часто выходит порнография, но всегда исполненная безысходной тоски. Надо было быть Дега, чтобы придать „Именинам хозяйки“ праздничный вид и одновременно величие египетского барельефа».
Все эти «дежурные блюда», как называл их сам Дега, он выполнил жирными чернилами на медной пластине. Поскольку она не протравливалась, художник, положив пластину под пресс, получал лишь один хороший оттиск. Дега работал над этими монотипиями, иногда оттеняя их пастелью, как правило, после обеда, обосновавшись у типографа Кадара.
Когда готовилась распродажа мастерской Дега, его брат Рене из чувства уважения к памяти художника уничтожил около семидесяти маленьких шедевров подобного рода, которые могли бы показать, и с таким блеском, сколь многим был обязан своему старому учителю Тулуз-Лотрек. Что касается сценок из жизни «закрытых заведений», избежавших печальной участи, то мне удалось добиться того, чтобы обладатели этих работ извлекли их из папок, где они ревностно хранились. Таким образом, я сумел проиллюстрировать «Заведение Телье» Мопассана и «Разговоры гетер» Лукиана, столь удачно переведенные Пьером Луисом. Читая «Разговоры гетер», поражаешься тому, насколько эти «простые женщины» не изменились; сам Пьер Луис говорил по поводу диалогов Лукиана, что порой кажется, будто слышишь разговоры современных мидинеток.
Для того чтобы воспроизвести все эти композиции, нужно было найти художника, способного проникнуться эмоциональностью рисунка и цветовой изощренностью Дега. Я обратился к художнику-граверу Морису Потену, который совершил чудо. Он не пожалел ни времени, ни сил, а ведь для воспроизведения одной подобной монотипии, даже черно-белой, требовалось гравировать до трех медных пластин!
Можно было подумать, что Дега создал эти работы специально для «Заведения Телье». Но было ли это справедливо и в отношении «Разговоров гетер»? Согласно распространенному в «заведениях» обычаю, на женщинах, изображенных Дега, не надето ничего, кроме чулок. Чулки! Носили ли их античные женщины? Не обвинят ли меня в анахронизме? Я поделился своими сомнениями с доцентом по древнегреческой литературе. Последний свел меня с пожилым археологом, в котором я узнал господина Саломона Рейнака. Я поведал ему о мучивших меня вопросах. Ученый немного подумал, а потом произнес:
– Дега, вероятно, прав. Как это часто бывает, художники интуитивно постигают то, что остается загадкой для ученых мужей. Лично я склонен думать, что греческие гетеры носили чулки. Ибо в противном случае куда бы они прятали свои бабки?
Последний довод показался мне решающим. В тот момент меня не удивила осведомленность члена Института об обычаях этих «дам». Но теперь я, признаться, испытываю некоторые сомнения относительно личности моего собеседника.
Трудно себе представить, какие чувства мне довелось испытать, когда началась работа над воспроизведением монотипий Дега.
Лично у меня было всего несколько монотипий. Бо́льшая часть других произведений, в частности известные «Именины хозяйки», были собственностью издателя книг по искусству господина Экстенса, любезно согласившегося доверить мне своих «дега» при условии, что я верну их ему в случае необходимости. Таким вот образом, как всегда вынужденный быть начеку, я ввязался в эту авантюру. По прошествии трех лет, когда работа была в разгаре, господин Экстенс сообщил мне, что представитель одного американского музея хотел бы посмотреть имеющиеся у него произведения Дега. Я их тут же ему отдал, испытывая, как нетрудно догадаться, беспокойство, потому что завершить воспроизведение монотипий было невозможно, если бы мы лишились оригиналов. Но боги проявили ко мне благосклонность. Будучи скорее любителем, чем торговцем, господин Экстенс так и не смог решиться на продажу монотипий. И он оставил мне эти вещи еще на три года – срок, необходимый для того, чтобы довести дело до конца.
Но что значат эти шесть лет в сравнении с тем отрезком времени, который понадобился К.-К. Русселю для создания подготовительных этюдов к «Вакханке» и «Кентавру» Мориса де Герена? Проиллюстрировать эти два маленьких шедевра я предложил художнику около 1910 года. С тех пор он часто говорил мне: «Вы знаете, я работаю над ними…»
Должен признаться, что я перестал на них рассчитывать, когда в один прекрасный день он показал мне целую стопку рисунков.
– Ну вот! Теперь мне остается только перенести их на камень.
И едва он склонился над гравировочным камнем, как уже больше не оставлял эту работу.
Каким бы опьяняющим ни было буйство красок, присущее таланту Русселя, черно-белые гравюры показались ему более подходящими для «Вакханки» и «Кентавра».
Книга стихотворений мистика Фрэнсиса Томпсона, переведенная для меня женой Мориса Дени, впоследствии вдохновила самого Мориса на создание цветных иллюстраций. А Рауль Дюфи готовит по моей просьбе цветные литографии для «Нормандии» господина Эдуара Эррио.
Я давно лелеял мечту опубликовать «Басни» Лафонтена, снабдив их достойными иллюстрациями. Ребенком я чуть было не возненавидел Лафонтена. Благодаря стараниям тетушки Ноэми, которая заставляла меня в наказание переписывать его басни, я почувствовал к ним отвращение. Позднее многие строчки поэта всплывали в моей памяти, и постепенно мне открылось их очарование. Став издателем, я дал себе слово выпустить книгу Лафонтена.
Иллюстрации я попросил сделать русского художника Марка Шагала. Людям было непонятно, почему я выбрал русского художника в качестве иллюстратора самого французского из наших поэтов. Однако в силу того, что творчество баснописца имело восточные корни, я подумал о художнике, для которого, благодаря его происхождению и культуре, был близок этот роскошный Восток. И я не обманулся в своих ожиданиях: Шагал создал около сотни великолепных гуашей. Но когда пришло время перенести их на медные пластины, возникло такое множество технических сложностей, что художник был вынужден заменить их черно-белыми офортами.
Шагалу я поручил также иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя. Для этого произведения он выполнил примерно сотню офортов для вклейки и большое количество разнообразных шмуцтитулов, концовок и орнаментов. Шагал сумел на редкость достоверно передать немного «луи-филипповский» облик России гоголевских времен.
Эта трудоемкая работа отнюдь не истощила вдохновения художника. Оно проявилось столь же щедро и позднее, когда я попросил его проиллюстрировать Библию.
Одна дама как-то пожаловалась мне на то, что роскошные издания стоят очень дорого.
– Но, мадам, ведь вы покупаете драгоценности?.. – спросил я.
– О! Нельзя же украсить себя книгой, как драгоценностью, – ответила она резко.
Майоль, проиллюстрировавший по моей просьбе «Шалости» Ронсара, позднее опроверг утверждение этой дамы.
– Что касается «Шалостей», – сказал он мне, – то я представляю их в виде маленькой книжечки, которую можно положить в карман.
Книгами, которые, напротив, читатель не сможет «положить в карман», являются «Мизерере» и «Война», обе ин-плано, над которыми Руо трудится уже более десяти лет. Увидев размеры «Перевоплощений папаши Юбю», также проиллюстрированных Руо, библиофилы воскликнули: «Жаль!» Как же возмутятся они, когда из печати выйдут «Мизерере» и «Война», имеющие шестьсот пятьдесят миллиметров в высоту и пятьсот в ширину?
Это вызвало у меня тревогу. Но я подумал: «В конце концов библиофилам ничего не останется, как установить издания Руо на церковных пюпитрах».
«Мизерере» и «Война» должны были содержать более пятидесяти гравюр.
Однажды утром я встретил Руо со всем его багажом из напильников, скребков, резцов, наждачной бумаги.
– Что вы собираетесь делать с этим скарбом?
– Это все для ваших чертовых гравюр!
– Офорты? Акватинта?
– Называйте как хотите… Мне дают медную пластину… и я царапаю по ней иглой…
Из всех выпущенных мной книг более всего заинтересовал библиофилов после объявления о предстоящем его выходе в свет «Неведомый шедевр» Бальзака – с оригинальными офортами и гравюрами на дереве, выполненными Пикассо, – где кубистские творения соседствовали с рисунками, воскрешающими в памяти Энгра. Но каждое новое произведение Пикассо кажется шокирующим, пока удивление не уступает место восхищению.
Готовятся к изданию другие книги: «Теогония» Гесиода с офортами Брака; «Цирк и страсть» Суареса, проиллюстрированная Руо; «Цирк падающей звезды» (текст и иллюстрации Руо); «Естественная история» Бюффона с оригинальными офортами Пикассо; наконец, «Георгики» с офортами Сегонзака, первые пробы которого уже свидетельствовали о том, как поразительно точны выразительные средства художника, вдохновившегося «вергилианским» обликом ландшафта Сен-Тропе. Поскольку я должен был использовать все возможности, я обратился к Дерену, и он создал серию восхитительных литографий для «Сказок» Лафонтена. Опять же по моей просьбе Дерен согласился проиллюстрировать «Сатирикон», обратившись на сей раз к медным пластинам, на которые он наносил рисунок непосредственно резцом.
2
Одной только издательской деятельности мне было недостаточно; я мечтал еще стать автором, полагая, что мне тоже есть что сказать. Кроме того, мое пристрастие к лучшим сортам бумаги и роскошным изданиям, вероятно, сыграло не последнюю роль, так как мне предстояло не только написать книги, но еще и позаботиться об их издании.
Первая моя книга, «Поль Сезанн», вышла в 1914 году, сперва в большом формате. Я организовал на нее подписку по цене шестьдесят пять франков за экземпляр. Подписчики были немногочисленными, но и те в последний момент передумали, ссылаясь на начавшуюся войну. Тогда я поднял цену до ста франков. «Уклонившиеся» тотчас вернулись ко мне; другие последовали их примеру, и книга, что называется, имела успех. Впоследствии она была переведена на немецкий, английский и японский языки.
Пребывая в приподнятом настроении оттого, что меня печатают, я постоянно ошивался возле печатных станков. И оказалось, что совсем не напрасно! Владелец типографии расхваливал мне своего корректора Лелона: «Это ас! Даже если автор сделает ошибку, можно быть уверенным, что она не ускользнет от Лелона». Но однажды этот самый Лелон сказал мне:
– У вашего художника нет никакой последовательности в мыслях. Вот послушайте: «Женщина – существо божественное, будь она матерью, супругой или сестрой…», а чуть дальше читаем нечто совершенно противоположное: «Женщины ленивы и расчетливы».
Истинным убеждениям Сезанна отвечало последнее высказывание, но не предыдущее. А произошло вот что: одновременно с моим «сезанном» набирали работу убежденного феминиста и одна из строчек каким-то образом попала в мой текст.
В другой раз Лелон окликнул меня и произнес:
– Теперь ошибку допустили вы, мсье Воллар. Вы написали «Кабане» вместо «Кабанель». – И, повернувшись к своим помощникам, добавил: – Чего вы ждете? Печатайте!
Можно сказать, что я оказался там очень кстати. Речь шла не о художнике, создавшем «Русалок», а именно о Кабане, неприметном провинциальном музыканте, который в определенном смысле приобрел известность благодаря своим остроумным репликам. Однажды у него спросили: «Могли бы вы передать тишину в музыке?» И он без колебаний ответил: «Конечно, но для этого мне понадобилась бы помощь трех военных оркестров».
А едва перебравшись из провинции в столицу, он сказал: «Я не знал, что так знаменит в Париже; когда я шел по улице, все меня приветствовали».
Кабане не заметил, что оказался на пути следования похоронной процессии, перед которой прохожие обнажали головы.
К тому же он был напрочь лишен тщеславия. Когда друзья хвалили его музыкальные способности, Кабане скромно отвечал: «О, я останусь в истории прежде всего как философ».
Сезанн считал, что в вопросах живописи Кабане обладал чутьем знатока. Однажды мастер из Экса вышел из дому, прихватив с собой большое полотно «Купальщики», являющееся ныне одним из украшений коллекции Барнса.
– Дома не осталось ни гроша, – сказал он, встретив по дороге Ренуара. – Попробую найти покупателя.
Немного погодя Сезанн, снова повстречавший Ренуара, произнес:
– Я доволен, я нашел человека, которому понравились мои «Купальщики».
Этим человеком оказался не кто иной, как Кабане. Увидев Сезанна, он попросил показать ему картину. Художник прислонил ее к стене, Кабане пришел в восторг, и Сезанн со слезами на глазах подарил ему полотно.
О Сезанне я пытался писать простым, доступным языком, не вторгаясь к тому же в область художественной критики. Но сколько осталось за пределами этой книги! Я мог бы еще рассказать о его непреодолимом стремлении стать художником, которое вызывало недовольство отца Сезанна, чуждого искусству: «Дитя мое, обладая гениальностью – умирают, имея деньги – едят»; однако мать Сезанна осаживала тех, кто высказывал сомнения относительно призвания ее сына: «Что вы хотите! Его зовут Поль, так же как Веронезе и Рубенса!» Я мог бы поведать о том, как он приехал в Париж, с каким прилежанием и упорством изучал старых мастеров в Лувре, о его удивительной жажде творить, о неудаче на вступительном экзамене в Школе изящных искусств, где он представил холст, вызвавший следующее замечание одного из членов жюри: «У Сезанна есть темперамент колориста, но в живописи у него, увы, отсутствует чувство»; о дружбе с Золя, который относился к Сезанну с участием: «Много и упорно работай над рисунком, не создавай картин ради заработка». Я мог бы рассказать о работе Сезанна, полной лихорадочного воодушевления и бесконечных попыток начать все сначала. Наконец, о романе «Творчество», в котором создатель Ругон-Маккаров вывел своего друга в образе художника, кончающего жизнь самоубийством, потому что он не способен реализовать себя. По этому поводу Сезанн скажет: «Черт возьми! Когда картина не удается, ее бросают в огонь и приступают к следующей!»
Я мог бы рассказать о том, как Сезанн не раз предпринимал попытки попасть в Салон французских художников, он был убежден, что, сравнивая его полотна с полотнами «других», публика увидит в нем великого художника, которым он в глубине души себя считал. Поэтому выставиться в Салоне Бугро означало для Сезанна «дать пинок под зад» Институту.
Наконец, я мог бы привести и другие, не менее важные подробности из жизни художника, например рассказать о том, как поддержали его ободряющие слова господина Шоке – любителя живописи, опередившего своих современников; о выставке произведений мастера из Экса, которую я организовал у себя в лавочке на улице Лаффит; о поездке к Сезанну в Экс; о сеансах позирования, когда он рисовал мой портрет; и о скольких еще эпизодах его непростой биографии! Но я, по крайней мере, попытался извлечь из жизни Сезанна, истинного донкихота живописи, великий урок трудолюбия и скромности, преподанный художником, который в минуты сомнений отправлялся в Лувр и покидал его настолько укрепившимся в своей правоте, что на обратном пути заходил в мой магазин и, весь сияя, говорил: «Думаю, сеанс завтра будет успешным».
Мою книгу восприняли очень по-разному. В «Оз Экут» так высказывались о Сезанне на основании созданного мной портрета: «Эта книга оставляет довольно тягостное впечатление: перед нами примитивный грубиян, интеллектуальный уровень которого примерно такой же, что и у Таможенника Руссо». А господин Пьер Миль из газеты «Тан» заявлял: «На страницах этих воспоминаний Сезанн предстает милым и удивительно простодушным человеком…» В «Кайе д’ожурдюи» говорилось: «Господин Воллар написал книгу, чтобы убедить нас в том, что художник из Экса был слабоумным». Совершенно иную оценку дал господин Ж. Пеллерен на страницах «Ж’э вю»: «Мы видим живого и энергичного мастера из Экса; его жизнь, исполненная борьбы, описана верно, с ироничной и доброжелательной наблюдательностью, изумительным и весьма своеобразным юмором. Глава „Сезанн и Золя“ – почти шедевр». По поводу этой же главы господин Франц Журден высказал диаметрально противоположное: «То, что господин Воллар изображает автора сборника критических статей „Что я ненавижу“ этаким маразматиком, мелющим всякий вздор… это сущие пустяки». В свою очередь, Ж.-А. Рони-старший написал мне в письме: «Вы обладаете даром наблюдательности и остроумия. Ваш герой, осмелюсь сказать, очень живое лицо, равно как и Эмиль Золя, которому Вы посвятили целую главу». В статье, опубликованной в «Меркюр де Франс», Гюстав Кан отмечал: «Интеллектуальная исключительность Сезанна предстает перед нами на тех страницах, где господину Воллару очень часто удается возвыситься над уровнем Верде, достигая силы Эккермана. Он смотрел на свою модель очень трезвым взглядом, что непросто по отношению к человеку, овеянному легендами». Однако в брюссельской «Ар либр» можно было прочитать следующее: «Господин Воллар доказал нам, что он не разглядел и не понял мэтра…» Сын Поля Сезанна писал мне: «В Вашем исследовании о моем дорогом отце Вы сумели верно воспроизвести некоторые контрастные черты: простодушие и иронию, лучше всего характеризующие тонкую и восторженную натуру Вашего персонажа». Наконец, Жозефен Пеладан заметил в письме, где рассказывал мне о Сезанне: «Вы изобразили его личность в блеске порядочности и в ореоле невезения».
Когда я выразил одному критику удивление противоречивыми оценками его коллег, он ответил:
– Все только и говорят о вас, а вы недовольны! Уж не жалуетесь ли вы на то, что невеста чересчур красива?
* * *
В моей книге о Ренуаре живопись, напротив, занимает большое место: ремесло, теория искусства, музейные шедевры. Спешу заверить читателя, что в ней я привожу только суждения Ренуара. Я стремился рассказать о личности и жизни художника со всеми подробностями, которых они заслуживают. В самом деле, можно ли было не описать детально судьбу, похожую на сказку: безвестный оформитель, расписывающий фарфоровые тарелки, достигает в искусстве несравненных вершин, о чем свидетельствуют картины «Ложа», «Мулен-де-ла-Галетт», «Танцовщица», «Гребцы» и удивительные ню, созданные на закате жизни художника? И какой бесценный урок преподал молодым художникам этот мэтр, в пору своих самых больших успехов убеждавший себя в том, что он не владеет мастерством живописи и рисунка, и, в то время как другие призывали «сжечь» Лувр, вновь обращавшийся к полотнам старых мастеров!
В «Истории художников» я прочел, что Плиний Старший жаловался на молодежь, которая хотела ввести в живопись новые краски. Я рассказал об этом Ренуару.
– Новые краски?.. – переспросил он.
– Но разве импрессионизм не стремился к чему-то подобному? – добавил я.
– Хорошо, поговорим об импрессионизме! – раздраженно воскликнул Ренуар. – Подумать только, ведь именно я настоял на том, чтобы за нашей группой сохранилось то определение, которое ей дала в насмешку публика, когда увидела полотно Моне под названием «Впечатление». Тем самым я хотел всего лишь сказать публике: «Вы найдете здесь тот род живописи, который вам не нравится. Если вы все же придете, пеняйте на себя, вам не вернут обратно десять су, уплаченных за билет».
– Но разве не утверждалось, что в послужной список импрессионистов следует занести одно открытие: они получили черный цвет путем смешения голубой и красной красок?
– Вы называете открытием то, что слоновую чернь заменили смесью голубой и красной?.. Видите ли, в живописи не существует какого-то одного приема, способного стать некой универсальной формулой. Я пытался точно дозировать масло, которое добавляю к краске на своей палитре. Мне это не удалось. Всякий раз я должен брать масло на глазок.
С каким удовольствием Ренуар рассказывал о временах, когда художник не мечтал о новой цветовой гамме и употреблял все свои усилия на то, чтобы постоянно совершенствоваться в ремесле, опираясь на традицию! Счастливая пора, когда живописные работы свидетельствовали о душевной гармонии художника и его безмятежности.
В первую очередь Ренуара отличало его аристократическое происхождение, которое чувствовалось у него во всем: в благородстве его искусства, во вкусах, суждениях, вплоть до шуток. Ренуар тяготел ко всему, что было отмечено печатью французского гения: к композиционной стройности и уравновешенности произведения, ясности мыслей, естественности стиля; как мы уже убедились, он даже предпочитал Александра Дюма Виктору Гюго – настолько раздражал его поэт, отучивший французов изъясняться простым языком.
Однажды кто-то сказал Ренуару: «Ведутся переговоры о том, чтобы вам заказать портрет герцогини X.». На что художник резко ответил: «Но вы же знаете, я довольствуюсь первой же попавшейся грязной задницей, если только у моей модели кожа не отталкивает света».
И если вспомнить, что это достоинство было единственно важным для Ренуара в домашних работницах, становившихся скорее моделями, чем прислугой, то можно удивляться царившему в доме порядку, тому, что его дети были всегда ухоженными, а на стол подавали вовремя. Однако все это сразу находило объяснение, стоило вам увидеть, как мадам Ренуар следит за любой мелочью, даже за тем, чтобы кисти были тщательно вымыты, и сама расставляет цветы в покрытых глазурью горшках – красивых горшках, которые она, с ее безупречным вкусом, обнаруживала в витринах магазинов. Ренуар говорил: «Если букет составлен моей женой, мне лишь остается его написать».
В Канне, в Эсуа, где я часто бывал у него в гостях, перед сеансом с моделью, выпив кофе с молоком и покуривая сигарету, Ренуар листал небольшие музейные каталоги, которые я сам – надо ли об этом говорить – не без умысла оставлял на столе, пристроившись с другой его стороны и делая вид, что пишу письма. На самом деле я записывал все, что произносил Ренуар, пробегая глазами названия картин, напоминавшие ему о том времени, когда он мог свободно передвигаться куда захочет. Теперь же он был обречен сидеть в кресле: ноги отказали ему совершенно, руки были поражены ревматизмом, пальцы почти ничего не чувствовали – к ним приходилось привязывать либо кисть, либо палочку, которой живописец, в последние годы жизни превратившийся в скульптора, пользовался, чтобы указать формовщику необходимые объемы своей «Венеры».
Однажды, когда я перечитывал свои записи, мне пришла в голову мысль их опубликовать. Закончив рукопись, я отдал ее на суд Ренуара.
– Ну что ж! – сказал он, возвращая рукопись назад. – Вы можете гордиться тем, что подловили меня. Я прекрасно видел, что вы что-то царапаете на клочках бумаги, пока я говорю… Но кому это может быть интересно? К счастью, я не наговорил вам слишком много глупостей…
Интерес ко всему, что имело отношение к личности Ренуара, гарантировал успех книги. В рецензиях на нее меня благодарили за то, что я помог читателю проникнуть в частную жизнь мастера. Не могу сказать, что эти похвалы были мне неприятны; но я вспомнил остроту Альбера Вольффа, которого один автор упрашивал написать рецензию:
«Хвалебная статья обойдется вам в двадцать пять луидоров. Разнос будет стоить пятьдесят».
Разнос моей книги! Недолго мне пришлось его ждать. Депутат-социалист, отчасти дилетант, который с тех пор прослыл государственным деятелем, господин Поль-Бонкур, в статье, опубликованной в «Эр нувель» и озаглавленной «Некрофаги», сравнил меня с человеком, обворовывающим мертвецов.
Встретившись с одним из приятелей члена парламента, я не мог удержаться от того, чтобы не спросить у него:
– Что нашло на вашего друга?
Мой собеседник расхохотался:
– Неужели не ясно? Ренуар говорит у вас о том, что ему куда больше по душе кюре, чем социалист, потому что кюре соответствующим образом одет и его видно издалека, тогда как невозможно распознать социалиста в господине, который носит такой же пиджак, как и все, и что, если вы попадетесь к социалисту в сети, он нагонит на вас смертельную скуку. Бонкур не мог обрушиться на Ренуара, поэтому, естественно, досталось вам.
* * *
В книге о Дега я попытался передать некоторые черты личности этого человека – личности, сочетающей в себе внешнюю жестокость и скрытую ранимость. Эта ранимость всю жизнь причиняла ему страдания. Он был представителем другой эпохи, в которой еще существовал этикет, осознание иерархии и порядка.
Так, Дега считал себя оскорбленным, когда первый встречный протягивал ему руку и при этом говорил: «Здравствуйте, мэтр».
Все же один раз Дега не нашелся что ответить. Как-то он повстречал Таможенника Руссо, и тот простодушно спросил:
– Ну что, мсье Дега, вы довольны тем, как идет распродажа?
Впрочем, если речь не шла о живописи и принципах, не было человека более любезного, чем Дега. В том, что он говорил, едва ли можно было уловить издевку; например, когда Бонна подвел его в Салоне к картине одного из своих учеников «Охотник, стреляющий из лука» и спросил: «Он хорошо целится, не правда ли, Дега?» – «Да, он целит на медаль», – ответил Дега.
Дело в том, что в основе его суждений было добродушие. Когда, гуляя по парку Монсо, он запутался ногами в проволоке, окружавшей газоны, кто-то воскликнул: «Это сделано нарочно, чтобы люди падали!» На что Дега мягко возразил: «Да нет, разве вы не видите, это сделано для того, чтобы помешать устанавливать статуи на газонах».
И если Дега случалось пустить одну из тех стрел, которые превращали человека в подобие бабочки, пришпиленной булавкой, то его остроты, казалось бы весьма язвительные, были не столько колкостями, сколько суждениями, из которых люди, чувствовавшие себя задетыми, могли бы извлечь пользу. Так, глядя на картину Ж.-П. Лорана, где изображена королева Хильдеберта, спасающаяся бегством из дворца, кто-то спросил: «Но почему она бежит?» И Дега небрежно ответил: «Потому что она чувствует себя не в ладу с фоном».
Естественно, люди не были признательны Дега за его бесценные советы. Вспоминаю одну даму, которую как-то встретил в его доме.
– Мой сын рисует, – сказала она художнику, – ему еще нет пятнадцати, но он пишет с натуры, и с такой искренностью!..
– Пятнадцать лет – и уже искренне пишет с натуры! – воскликнул Дега. – Ну так вот, мадам, ваш сын погиб для живописи.
Когда дама удалилась, весьма разгневанная, я спросил:
– Однако, мэтр, может ли художник обходиться без натуры?..
– Он должен копировать и копировать мастеров, прежде чем ему будет позволено срисовать с натуры редиску. И потом, написать хороший пейзаж можно и не покидая мастерской!
– Но, мсье Дега, а эскиз женщины на пляже, который вы мне показывали на днях, этот морской воздух, которым словно бы дышишь, этот влажный песок…
– Ну так вот, я расстелил на полу в мастерской свой фланелевый жилет и усадил на него натурщицу…
Разумеется, я когда-то видел этот влажный песок; но я нарисовал его в мастерской. Картина создается для того, чтобы ее повесили на стене квартиры. Разве атмосфера внутри точно такая же, как и снаружи?.. И неужели нельзя нарисовать какие угодно пейзажи на свете, воспользовавшись отваром трав и воткнутыми в него тремя старыми кистями?
– Послушайте, мсье Дега… Однажды в Варанжвиле я видел, как в облаках пыли подкатил небольшой экипаж. Из него вышел Моне, он поглядел на солнце, сверился с часами и произнес: «Я опоздал на полчаса, вернусь сюда завтра».
В этот момент появился художник Робер.
– Я только что посмотрел серию Моне «Тополя» у Дюран-Рюэля.
– Я видел его там вчера, – заметил Дега. – Я сказал ему: «Я ухожу, мне кажется, что здесь полно сквозняков. Еще немного, и мне придется поднять воротник пиджака».
Кто-то сказал Дега:
– Мсье Дега, вы порой суровы с людьми.
– Это бывает тогда, когда я не могу поступить иначе, мсье! Но, обороняясь от людей, я вынужден совершать над собой усилие, так как по природе я человек застенчивый.
В застенчивости Дега убедился позднее художник Вибер.
Однажды он сказал известному мастеру: «Вам стоит посмотреть нашу выставку в обществе акварелистов… – И, бросив взгляд на старую крылатку художника, добавил: – Возможно, вы найдете наши рамы, наш ковер чересчур богатыми, но разве живопись не является, в сущности, предметом роскоши?» На что Дега ответил: «Ваша – может быть, мсье. А наша – предмет первой необходимости!»
Но далеко не все могли признаться в том, что они любуются этими предметами первой необходимости… Как-то, когда я находился в гостях у Дега, доложили о господине Лои Дельтее…
– У него славное лицо, – произнес Дега. – Он наверняка не дрейфусар. Пусть войдет!
Господин Лои Дельтей пришел, чтобы попросить у Дега разрешения взглянуть на одну литографию Делакруа, которая, как ему было известно, являлась собственностью художника. После легкого замешательства и очередного испытующего взгляда, брошенного на посетителя, Дега подошел к стеллажу, достал оттуда папку, открыл ее и, продолжая поиски, наклонился над ней, чтобы заслонить от господина Дельтея, подошедшего поближе, содержимое папки.
– Вы ведь позволите мне, мсье Дега, прислать к вам фотографа, чтобы переснять эту литографию?
– Вы хотите сфотографировать моего «делакруа»? Но с какой целью?
– А чтобы опубликовать его репродукцию в журнале!
И, пытаясь найти аргумент, который сломил бы несговорчивость Дега, Дельтей сказал, несмотря на то что художник вдруг принял не слишком любезный вид:
– Известны только два оттиска этой литографии, ваш и еще один, но последний не сохранился.
– Так вот, мсье, я потратил двадцать лет, чтобы отыскать эту работу Делакруа. Пусть другие сделают то же самое. – И, даже не показав господину Дельтею литографию, извлеченную им из папки, Дега убрал ее обратно.
– Но, мсье Дега, – возразил Дельтей, – все имеют право наслаждаться искусством.
– Плевать я хотел на право, которым вы наделяете всех людей, Мой «делакруа» останется лежать в этой папке.
Когда Дельтей удалился в полной растерянности, Дега произнес:
– Вот увидите, Воллар, дело дойдет до того, что картины Рафаэля и Рембрандта будут брать из музеев и возить по казармам, ярмаркам, тюрьмам под тем предлогом, что все имеют право на красоту!
Подобные эпизоды лишь подтверждали сложившееся представление о Дега как о неуживчивом человеке.
Способствовала этому и нетерпимость, которую он проявлял, придя в мастерскую, где его ждала модель, уже приготовившаяся к сеансу.
– Одевайся и проваливай отсюда… – вдруг говорил он.
– Но, мсье Дега!.. В чем я провинилась?
– В том, что ты протестантка, а протестанты вместе с евреями устраивают демонстрации в поддержку Дрейфуса.
А вот пример противоположного поступка Дега.
Подходя к его дому, я столкнулся в воротах с одним известным евреем – если не ошибаюсь, господином Эрнестом Меем. Обратившись ко мне, он спросил:
– Вы идете к Дега? Я только что от него. – И, заметив удивление на моем лице, он добавил: – Да… «дело» развело нас по разные стороны… Но, узнав о смерти моей бедной жены, он написал, что просит меня зайти к нему. Как выяснилось, для того, чтобы вернуть мне ее портрет, который он когда-то нарисовал.
Войдя к Дега, я увидел, что он убирает женский портрет в папку.
– В воротах я повстречал господина Мея. Он выглядел весьма взволнованным…
– Вот оно что! Я показал Мею портрет его жены, который собираюсь ему подарить… Он требует небольшой доработки… Как было бы приятно, Воллар, делать подарки, если бы не надо было выслушивать слова благодарности!..
Я передал эти слова господину N.
– Что бы вы мне ни говорили, мсье Воллар, я никогда не поверю в душевную доброту Дега. На днях, когда мы сидели за столом, одна маленькая девочка принялась стучать вилкой по тарелке, и он посмотрел на нее таким недобрым взглядом, что девочку стошнило и весь ее обед оказался на столе.
– Не говорите мне, что Дега не любит детей! Позавчера я видел, как он выходил с базара, неся в одной руке игрушечное ружье, а в другой – полишинеля…
– Если он такой, как вы говорите, мсье Воллар, то почему тогда Дега бьет свою старую служанку?
– …
Однако немного погодя, придя к Дега в час обеда, когда его почти наверняка можно было застать дома, я услышал, как он сказал грубовато:
– Зоэ, сегодня вечером за ужином у меня будет гость.
– Нет, мсье, вы пойдете в ресторан с вашим другом! Сегодня вечером я хочу от вас отдохнуть.
Лицо Дега приобрело суровое выражение, и, вспомнив о его репутации злого человека, я подумал: «Он поколотит Зоэ!»
Служанка продолжала как ни в чем не бывало:
– Я собираюсь заняться приготовлением варенья и не хочу, чтобы мне мешали!..
– Ладно, ладно, – согласился Дега.
Когда Зоэ удалилась на кухню, я спросил:
– Мсье Дега, вам известно о том, что вас считают злым человеком?
– Я и хочу, чтобы меня считали злым!
– Но вы же добрый, ведь так?
– Я не хочу быть добрым.
Друзья дома стремились воспользоваться этой затаенной добротой, которую Дега не удавалось скрыть.
– Дега, мы очень рассчитываем, что вы придете на эту выставку.
– Я больше не вижу; мои глаза, мои бедные глаза!.. – Подобная фраза обладала еще и тем преимуществом, что избавляла произносившего ее художника от необходимости узнавать людей.
– Мсье Дега, – говорил ему один художественный критик, – я как-нибудь зайду к вам в мастерскую.
– Когда стемнеет, мсье.
– Дега, вы знаете, мадам X. обидится на вас, если вы не придете на ее музыкальный вечер.
– От музыки у меня кружится голова…
– Ах, Дега! – вступала в разговор супруга одного из его давних друзей. – Завтра, когда вы будете у меня в гостях, не сердитесь, увидев на столе совсем маленькую корзинку с цветами… Будьте благоразумны, я не могу поступить иначе, в числе приглашенных генерал Мерсье.
– Ну что ж, генерал Мерсье обойдется и без меня, вот и все!
Не меньше, чем цветы, Дега ненавидел домашних животных. Поэтому, ожидая его прихода, друзья предусмотрительно запирали всякую живность. Если же хозяева забывали это сделать и в прихожей вдруг раздавались удары зонтиком, а затем следовал лай собаки, которая проявляла слишком большое рвение, добиваясь ласки от гостя, все восклицали: «А вот и Дега!»
Таким образом, многие, стремясь обезопасить себя от разного рода неприятностей, зачисляли Дега в категорию неуживчивых людей.
Как бы то ни было, иного мнения придерживался Мирбо, который, встретив как-то вечером Дега в моем магазине, сказал мне, после того как художник ушел:
– Какой замечательный человек этот Дега! Вы заметили, как он обрадовался встрече со мной?
Тем не менее через несколько дней Дега спросил:
– Кто этот человек, Воллар, которого я видел у вас на днях вечером?
– Да это же Мирбо!
– Мирбо? Он, кажется, что-то пишет?..
– Но, мсье Дега, вы были так любезны с ним, что я подумал, вы его знаете…
– Боже мой, Воллар, я учтив со всеми, если только меня не слишком допекают.
В конце концов Дега начал ощущать, что человек не создан для одинокой жизни. Однажды он вдруг сказал мне:
– Воллар, вам надо жениться…
– Мсье Дега, – осмелился спросить я, – почему же тогда не женитесь вы?
– О, я совсем другое дело. Наверное, я боюсь, закончив картину, услышать от жены: «Это очень мило, то, что ты нарисовал».
Когда речь заходила о картине коллеги, надо было видеть, как усердствовал Дега, чтобы поместить ее наиболее выигрышным образом. Однажды я заметил у него гипсовую скульптуру, изображающую обнаженную женщину в половину натуральной величины, подаренную одним из его друзей, скульптором Бартоломе.
– Я заказал для нее витрину… – сказал Дега.
В этот момент зашли Форен и Мэри Кэссетт. Дега старался показать им, как высоко он ставит талант Бартоломе.
– Не затрудняйте себя так, Дега, – сказал Форен. – Вы же знаете, что я всегда питал отвращение к серьезной порнографии.
– Полноте, Дега, – произнесла в свою очередь мадемуазель Кэссетт, – в сущности, ни для кого не секрет, как вы относитесь к Бартоломе на самом деле.
Тут Дега простодушно заметил:
– Но я никогда ему об этом не говорил!..
Дега боялся только одного: что не сможет работать до последнего дня своей жизни. Когда врач сказал ему: «Надо делать передышки… Развлекайтесь», Дега произнес: «А если развлечения нагоняют на меня тоску?»
В молодости художник совершал летом прогулки на кабриолете вместе с Бартоломе, который управлял экипажем. Вместе они ездили также в Монтобан, чтобы посмотреть работы Энгра. Об одном из таких посещений писала местная газета: «У нас находится великий мастер Бартоломе; его сопровождает один из друзей, господин Дега, монмартрский художник».
Дега не удивляло то, что его имя неизвестно в провинции. Но вероятно, он полагал, что порой это заходит слишком далеко. В Сен-Валери-сюр-Сомм он заметил в витрине шляпника фуражку необычного фасона и захотел ее приобрести.
Однако в тот момент ждали приезда труппы, которая должна была показать спектакль «Сирано». Когда Дега примерял головной убор, торговец тихо сказал:
– А-а-а, понимаю… вы исполняете роль Сирано!
Только в Кё-ан-Бри, у Руаров, в Сен-Валери, у художника Бракаваля, отдыхал Эдгар Дега. Мадам Бракаваль рассказывала мне, как однажды Дега приехал в Сен-Валери в ужасную погоду и она сказала ему: «Идите скорее к очагу, мсье Дега, не хватает, чтобы вы подхватили грипп…» Дега всполошился: «Грипп! Сегодня же вечером я уезжаю, мой врач советовал мне остерегаться провинциальных гриппов».
– Мне кажется, – торжествующе произнес как-то Бракаваль, – я наконец нашел свою манеру.
– А я бы умер от скуки, если бы нашел свою! – ответил Дега.
Под конец жизни Дега обратился, а точнее, вернулся к скульптуре, так как ему всегда нравилось лепить. Помню, Ренуар говорил мне о бюсте Дзандоменеги: «Это было так же прекрасно, как античное произведение».
Когда мы встретились с Дега в лавке его торговца красками, у которого он уже заказал пластилин, художник сказал мне:
– Из-за своего слабеющего зрения я вынужден теперь взяться за ремесло слепого.
Однажды, когда я зашел к нему в мастерскую, он уничтожал восковую статуэтку, над которой корпел несколько месяцев.
– Как, мсье Дега? Вы ее разрушаете?
– Даже если бы вы, Воллар, предложили мне шляпу, доверху наполненную бриллиантами, это не помешало бы мне сделать то же самое, чтобы иметь удовольствие начать все сначала.
Тридцать лет Дега прожил на улице Виктора Массе, когда владелец дома объявил о его продаже. За него просили триста тысяч франков.
– Это ужасно! Я буду вынужден уехать отсюда, – сказал мне художник. – Что со мной будет при переезде?
– Но, мсье Дега, купите себе дом… Вам достаточно приоткрыть ваши папки, чтобы получить эти триста тысяч франков…
При моих словах Дега вздрогнул:
– Разве художник может вот так просто уплатить триста тысяч?
Когда дом был продан, новый владелец решил его снести и на его месте построить современное здание. Дега пришлось оставить квартиру, и в итоге он очутился на шестом этаже одного из домов по бульвару Клиши. Переезд занял достаточно много времени, так как вещи из мастерской перевозили на ручной тележке два пожилых приказчика магазина в сопровождении прихрамывавшей Зоэ. После вынужденного переезда, потеряв охоту к уничтожению своих восковых скульптур ради страстного желания вылепить их заново, которое он когда-то испытывал, художник проводил дни, бесцельно слоняясь по Парижу. С котелком «верди» на голове, закутавшись в свою неизменную крылатку, он вынужден был, из-за того что зрение его день ото дня ухудшалось, опираться на руку полицейского, переходя улицу.
Постоянно пребывая в состоянии какого-то полусна, он спрашивал: «Ну, как дела на войне?» – точно таким же тоном, каким говорил Зоэ: «Ну, что там с отваром из ромашки?»
В этот последний период его жизни в фигуре Дега, бродившего по улицам, многие склонны были видеть этакого короля Лира. Но скорее он напоминал одного из персонажей, что собирались вокруг фонтана на площади Пигаль. Будучи итальянцем по происхождению, Дега с возрастом становился все более похож на неаполитанца. Однако, испытывая ностальгию по своему прежнему дому, он приходил на то место, где раньше стоял дом, но теперь здесь расчищали площадку рабочие. У забора, возведенного вокруг участка, можно было часто видеть старика, который сквозь щели между досками смотрел туда, где была теперь голая земля.
В памяти у меня остался голос торговца скобяными товарами, обращавшегося к своей жене с порога лавки:
– Взгляни на этого бедного старика… Не правда ли, его можно принять за господина Дега?
* * *
Во время войны я, как и многие другие, почувствовал необходимость высказаться о происходящих событиях; именно это и привело меня к написанию книги «Перевоплощения папаши Юбю».
Кем же был этот Юбю?
В реннском коллеже, где Альфред Жарри учился в предпоследнем классе, был преподаватель по имени Эбэ. Ученики находили его нелепым, потешались над ним по любому поводу и высмеивали своего учителя на страницах журнала, в работе которого принимал участие каждый. Ученический шарж позднее превратился в социальную сатиру, где реальный Эбэ уступил место персонажу, рожденному фантазией Жарри и названному Юбю. Это была гениальная находка Жарри – заменить гласную «э» в фамилии Эбэ на «ю», звучание которой усиливает комизм его героя.
Юбю Альфреда Жарри возник из глубокого презрения к человечеству. Вспышки гнева, чувство горечи, отвращения, пережитые им самим, Жарри воплотил в образе, который обладал такой жизненной силой, что нас отнюдь не коробили его намеренно преувеличенные и карикатурные черты; мы видели в этом персонаже одно лишь правдоподобие.
Каждому из нас были понятны разочарования и обиды Жарри, даже если мы их не разделяли, поэтому, получив распространение, Юбю стал героем, образ которого не переставал обогащаться, его сделали своего рода козлом отпущения, наделив всеми изъянами, пороками и подлостями человечества. Другими словами, Юбю превратился в «тип», подобно Панургу, Журдену, Омэ, Жозефу Прюдому.
Я позаимствовал у Жарри имя Юбю, но назвал им персонаж, который не мог претендовать на подобное символическое значение. Создавая его, я отнюдь не рассчитывал написать сатиру настолько обобщенную, что в итоге она становится в некотором смысле абстрактной. Наоборот, мой Юбю действует всегда в сугубо конкретных обстоятельствах. Так что собирательный образ воплощает уже не все мерзости человечества, а наиболее очевидные недостатки, изъяны, пороки определенной среды, а именно мира политиков.
Однако воскрешенный Юбю имеет нечто общее со своим предком: они оба сочетают в себе нелепое и отвратительное, возможно, разными способами, которые, однако, сближают их при всем кажущемся различии. Словом, «король Юбю» Альфреда Жарри может показаться прежде всего воплощением безмерного себялюбия, крайнего индивидуализма, тогда как мой Юбю является, скорее, проявлением коллективного безумия и тирании. «Король Юбю» – деспот, ему присущи лишь низменные инстинкты, он не отступает ни перед чем ради получения удовольствий, и его нисколько не беспокоит, что в этом своем стремлении он противоречит самому себе. В «Перевоплощениях» у Юбю нет ни одной собственной мысли: он продукт, отражение определенной группы, коллектива, которому обязан всем. Он является собой лишь в той мере, в какой воплощает «партию», ее идеи, программу, лозунги, формулировки, предрассудки, заблуждения, ненавистные для нее явления, он цепляется за них как за последнюю надежду, как за спасательный круг. Именно этим объясняется тот факт, что в самых его нелепых поступках, кажется, есть неумолимая логика[70].
Впоследствии я выпустил два иллюстрированных издания «Перевоплощений». Первое содержало лишь одно произведение – «Юбю на войне» – и было начато во время военных действий. Тогда, столкнувшись со сложностями при подготовке так называемого роскошного издания, я был вынужден ограничиться способом печати, применявшимся до тех пор при иллюстрировании дешевых книг, – я имею в виду воспроизведение рисунков с помощью фотогравюры. Основной его недостаток состоит в том, что он не создает того ощущения живой вещи, которое достигается только при ручной работе. Однако я подумал, что, вероятно, можно выжать из механического способа больше, чем это делалось до сих пор. Чтобы осуществить свою идею, я обратился к художнику Жану Пюи. Он выполнил серию рисунков кистью; будучи воспроизведенными на цинке, они сохранили мягкость и некоторую жирноватость штриха, что сближало их с гравюрами на дереве.
Поскольку дело происходило во время войны, надо было считаться с требованиями цензуры, касающимися как текста, так и рисунков. Поэтому я был вынужден получить разрешение на публикацию иллюстраций у военных властей. И я получил его, но при условии, что носы у генералов и у папаши Юбю будут укорочены. «Чересчур они длинные, – сказал капитан-цензор. – В этаких здоровенных придатках непременно усмотрят непристойный намек». – «Но это же вражеские генералы», – возразил я.
Действие в самом деле разворачивалось за пределами наших границ.
«Но это все-таки генералы, – сказал цензор. Видя мое разочарование, он добавил: – Не так уж трудно вашему иллюстратору укоротить носы…»
В итоге я отказался от тех рисунков, где носы слишком выдавались вперед.
Должен сказать, что одновременно с «Папашей Юбю на войне» Пюи создал литографии для книги, которую я в настоящее время готовлю к изданию. Речь идет о «Цветочном горшке мамаши Юбю».
После «Юбю на войне», проиллюстрированного Пюи, я намеревался расширить рамки, в которых действовал мой персонаж. По моей воле он попадает поочередно в колонии, в авиацию, в министерство связи, в Лигу Наций, в Страну Советов; в итоге получился томик ин-фолио, мастерски оформленный Руо. Иллюстрации включают двадцать два офорта на вклейках и более сотни гравюр на дереве; самое большое место занимает часть, где рассказывается о пребывании Юбю в колониях. Руо передал негритянскую душу, трогательную и печальную, такими штрихами, которые придают ей какой-то эпический характер. Когда я показал Теодору де Визева гравюру с изображением негритянок, устроившихся в гнезде, среди ветвей кокосовой пальмы, и негра, воспевающего их прелести («Милашка, нет слаще меда, чем ваши губки…»), Визева воскликнул: «Это поразительно! Ваш Руо, конечно, видел лишь негров с Монмартра. Так вот, смею утверждать, что вряд ли можно отыскать более типичного негра, чем тот, которого он изобразил. Это не какой-то конкретный негр, а негр вообще».
Работая над этой книгой, я столкнулся со всевозможными сложностями. Прежде всего надо было подобрать типографский шрифт, который сочетался бы с рисунками Руо. После многочисленных проб я остановился на шрифте Плантена.
Оставалось выбрать бумагу и напечатать гравюры на дереве.
Одна часть тиража была отпечатана на веленевой видалонской бумаге, а другая – на монвальской бумаге верже, той самой великолепной бумаге, которой мы обязаны скульптору Аристиду Майолю. Когда однажды кто-то бросил в его присутствии, что сегодня невозможно получить бумагу, не уступающую по качеству старым образцам, поскольку древние секреты ее приготовления утрачены, скульптор категорически заявил: «Никаких секретов не существует. Бумага делается из холста».
Он разорвал старую простыню, погрузил куски материи в известковый раствор и превратил их в кашицу, которую выложил и разровнял на мраморной доске комода. Так появился первый образец бумаги, ставшей впоследствии знаменитой среди библиофилов и получившей название монвальской бумаги (по имени деревушки, где находилась мастерская скульптора).
Что касается печатания гравюр на дереве к книге «Перевоплощения», особенно крупноформатных, сложность состояла в том, чтобы найти печатный станок, который мог бы обеспечить максимальное давление при минимальном накате. Я видел, как в типографии «Журд, отец и сын» (ей я и доверил издание книги) тискальщик Анри Журд наваливался всеми своими ста тридцатью килограммами на рычаг станка. Тем не менее полученный оттиск оставался серым, а если добавляли больше краски, получалась сплошная грязь. Попробовали сугубо механический печатный станок, но ничто не сравнится с ручной работой: чтобы передать в гравюре на дереве глубокие черные тона, нюансы серого тона, ее надо, так сказать, «потискать» руками. И тогда для печатания «Перевоплощений» Журд-отец велел сконструировать станок собственного изобретения, приводимый в движение электрическим мотором, но управляемый вручную; он обеспечивал достаточно плотный накат, при этом сохранялась такая деликатность исполнения, что штрихи, какими бы они ни были тонкими, получались очень четкими.
Один американский инженер, встретившись со мной как-то на выставке, сказал:
– Вы жалуетесь на то, что издание книг требует от вас огромных усилий. Что же тогда говорить мне, который строит дома, целые кварталы?
– Дело в том, что издать книгу сложнее, чем возвести квартал, даже город вроде Нью-Йорка, Чикаго или Филадельфии!
– …
– Ну разумеется. Представьте себе, что надо добиться того, чтобы автор, иллюстратор, изготовитель бумаги, специалист по типографской краске, печатник, гравер, издатель, кто там еще, некоторым образом составили единое целое. И, приступая к очередной книге, я должен каждый раз все начинать заново, добиваясь все той же гармонии, того же согласия. А что с вашими городами? Возьмем улицы. Это линии, прямые как стрелы. Дома? Кубы, поставленные один на другой. Предстоит ли возвести один такой геометрически правильный город, или десять, или сто… серийное строительство вполне обходится механизацией.
– Любопытно, – произнес американец. – Стало быть, вам, чтобы закончить работу над одной из книг, требуется много времени… А сколько вы еще планируете их издать?
Я перечислил ему некоторые свои проекты.
– Indeed![71] Значит, вы рассчитываете прожить до ста лет?
– Черт возьми! Надо постараться.
* * *
Мне шел пятнадцатый год, когда однажды отец попросил меня принести «Курс литературы» Ламартина из библиотеки. Там я застал тетушку Ноэми; заметив меня, она спрятала под пелерину какую-то толстую брошюру. По обложке светло-розового цвета я догадался, что это «Ревю де дё Монд», журнал, который я часто видел в руках у отца. Мне уже случалось раскрывать некоторые его книги вроде «Разысканий истины» Мальбранша, «Логики» Пор-Рояля, «Речи о методе»… Все эти труды настолько меня разочаровали, что с тех пор я воздерживался совать нос в издания, которые отец удостаивал своим вниманием. Но, заметив смущение тетушки, я подумал: «Там, должно быть, какие-то женские истории». Слабый пол, к которому она принадлежала, не внушал тетушке Ноэми доверия: по ее мнению, женщина служила поводом, если не причиной, для большинства наших грехов. С самым невинным видом я покинул комнату, дав себе слово туда вернуться. Через несколько минут моя тетушка, надев шляпу с завязками, сказала мне, уходя: «Не бери лестницу, у нее непрочные ступеньки». Едва она удалилась, я первым делом решил внимательно обследовать полки с книгами и на самой верхней, едва ли не касавшейся потолка, увидел собрание «Ревю де дё Монд». Помня о тетином предупреждении относительно ненадежности лестницы, я попросил забраться на нее маленького слугу-негра, и он благополучно спустил вниз все номера журнала. Во втором или третьем просмотренном мной номере я наткнулся на историю молодого парижанина, ставшего наследником своего дяди восточного происхождения. Этому парижанину почтенный евнух передал четырех роскошных девственниц, купленных им в Константинополе на деньги покойного. Всю ночь я провел за чтением, и передо мной возникали чарующие картины Востока. Рукой я прикрывал зажженную свечку, опасаясь, что полоска света под дверью привлечет внимание мамы, чья комната находилась рядом с моей. И, увлекшись, я поспешил изучить страница за страницей все номера «Ревю де дё Монд». Но другие статьи, напечатанные в этом журнале, на первый взгляд показались мне скучными. Однако, без долгих размышлений, я пришел к выводу, что журнал, опубликовавший такую вещь, как «Мой дядя Барбасу», может помещать лишь незаурядные статьи, хотя и не всегда доступные моему пониманию. Благодаря этой простодушной убежденности мое восхищение журналом только усилилось. Однажды, когда преподаватель похвалил меня за французское сочинение, я осмелился спросить у него, какими титулами надо обладать, чтобы попасть на страницы «Ревю де дё монд».
– Что? Занять место рядом с великими исследователями человеческого духа, такими как Жюль Леметр, Поль Бурже, Тэн, Альбер Дельпи, Жорж Оне!..
При упоминании этих блистательных имен я почувствовал, как улетучиваются все мои мечты. Нет, никогда я не войду в эту прославленную когорту.
Когда много позже я написал несколько эссе, которые были опубликованы в журнале, мной опять овладела безумная мечта получить признание в знаменитом издательском доме на Университетской улице. Прежде всего мне показалось, что под шумок войны там теперь задули вольные ветры либерализма. Не постановило ли руководство, что «в целях священного единства» слова, оканчивающиеся на «ant», вроде «enfant», «elephant», «amant», отныне будут печататься на страницах журнала с буквой «t», которая до сих пор ревностно изгонялась из слов во множественном числе в соответствии с орфографическими нормами XVIII века? Однако этого изменения в правописании было недостаточно, чтобы я осмелел до такой степени, что решил бы переступить порог «священного ковчега». Но однажды меня словно озарило. «Разве в „Ревю“ нет отдела объявлений? – подумал я. – И разве мне возбраняется передать свою прозу для опубликования в одном из приложений, являющихся по существу своеобразными дополнениями к статьям, подписанным именами самых выдающихся литераторов?» Поэтому я составил объявление, в котором не только расписал достоинства своей книги «Перевоплощения папаши Юбю», но и познакомил читателей этого журнала с последним изобретением папаши Юбю – Парусом-Сетью, иначе говоря, парусом с проделанными в нем многочисленными отверстиями – тем самым он не создавал никакого препятствия для ветра и позволял парусным судам вступать в схватку с самыми жестокими аквилонами. Кроме того, Парус-Сеть обладал тем бесценным преимуществом, что в него попадались летучие рыбы, такие как киты, треска, морские змеи, даже черепахи, морские ежи и другие существа, пригодные для пополнения запасов корабельной кладовой…
Объявление было принято без замечаний. Через несколько дней, гордо покидая контору «Ревю», куда я относил исправленные мной гранки, под козырьком над входной дверью я повстречал одного литератора, сказавшего мне с уважением, чего за ним раньше я не замечал (причем к уважению, как мне показалось, примешивалась зависть): «Черт возьми! Вы здесь теперь бываете?» Я небрежно ответил, что приносил разрешение к печати, которое у меня срочно потребовали. Но уже через день я получил из редакции «Ревю» письмо с прилагавшимся к нему чеком. До моего сведения доводилось, что, не вынося окончательного суждения относительно литературной ценности моего труда, редакционный совет пришел к выводу, что как само объявление, так и включенный в него отрывок представляются ему несовместимыми с духом издания. В чеке была проставлена сумма, уплаченная мной за объявление.
Но позднее я все-таки взял реванш. Мое имя было упомянуто рядом с именем знаменитого писателя, фигурировавшего среди подлинных звезд журнала, автора «Полудев»[72]. Конгрегация священной канцелярии указала парижскому церковному суду на два недавно вышедших в свет произведения, пагубных для веры и нравов; это были «Ангелы-хранители» Марселя Прево и… «Святая Моника» Амбруаза Воллара. На страницах «Смен релижьез» совет надзирателей епархии предостерегал правоверных христиан от этих двух книг.
Справедливости ради добавлю: ознакомившись с уведомлением епархиальных властей, один из наших известных литературных критиков, покойный Поль Судэ, выразил возмущение по поводу того, что имя писателя такого высокого уровня, как Марсель Прево, поставлено в один ряд с именем весьма легковесного писателя-дилетанта, каковым является автор «Святой Моники».
* * *
«Святая Моника»!.. Мое самомнение действительно не знало границ: сперва я мечтал попасть на страницы «Ревю де дё монд», теперь вознамерился написать историю жизни святого. Но почему я выбрал святую Монику?
Однажды, открыв наугад «Святого Августина» Луи Бертрана, я наткнулся на пассаж, где Августин приходит к заключению, что его мать повела себя не как истинная христианка, даже проявила жестокость, прогнав из дому любовницу, которую так долго терпела, но которую сочла неугодной теперь, когда решила женить своего сына. В этом я усмотрел сходство между карфагенянской матерью и многими современными «мещанками». Кроме того, действие книги разворачивается на земле Африки, что воскресило у меня в памяти мой родной и далекий остров с его цветами, птицами, пейзажами, короче, с его атмосферой, отчасти напоминающей ту, в которой жили Августин и его мать. И вот мало-помалу я обнаружил поразительные аналогии между необычайно придирчивой матерью, вечно искавшей повода для ссоры, каковой была вдова Патриция, и моей тетушкой Ноэми; последняя, пребывая в постоянном страхе перед кознями дьявола, бдительно надзирала за племянниками, готовая в любой момент подрезать крылья всякому проявлению фантазии, веселья, радости жизни.
Я почувствовал непреодолимое искушение написать обо всем этом!
И какую я испытал впоследствии радость, узнав, что чтение моей книги, где мать Августина, находясь при смерти, просит прощения у любовницы своего сына, расположило в пользу святой несколько человек, которых отвратила от нее «Исповедь»! Я даже почувствовал некоторую гордость. Однако в рецензии на мою книгу иезуит, преподобный отец Донкер, назвал ее «холодной непристойностью». Столь голословная оценка, высказанная в грубой форме, так плохо согласующейся с обычной учтивостью представителей этого ордена, не могла меня не удивить. Я рассказал об этом одному священнослужителю, который пользовался большим уважением за истовость своей веры.
– Нет ничего удивительного в том, что сын святого Игнатия предал анафеме вашу книгу. Неужели вы думаете, что иезуит мог не найти возмутительной снисходительность, проявленную вами по отношению к любовнице Августина? Слушайте! Я знаю автора, который оказался хитрее вас. Он поставил пьесу «Святая Моника» (на представлении присутствовали «приличные» люди), где любовница Августина, ставшая смиренной монахиней, бросается в ноги его матери и умоляет ее о прощении. В вашей же книге прощения просит Моника… Я, как человек, не пытающийся отыскать здесь злой умысел, говорю себе: «Вот поступок настоящей святой». У отца Донкера, напротив, не могло не вызвать глухого раздражения то, что безвестная мирянка преподала великий урок христианского смирения и милосердия, который сын святого Игнатия, обязанный оберегать свою паству, состоящую из светских женщин, не может привести в пример благовоспитанным кающимся грешницам, не рискуя увидеть, как пустеет его исповедальня.
Я хотел, чтобы книгу проиллюстрировал Боннар, но не решался с ним об этом заговорить. Мне было известно, что после работы над «Параллельно» и «Дафнисом и Хлоей» к нему много раз обращались с подобными предложениями, но всегда безрезультатно. В частности, немецкий коллекционер граф Кесслер, так и не сумевший его уговорить, пообещал Боннару заказать особые типографские шрифты и бумагу, изготовленную по старинным рецептам, если он даст согласие на иллюстрации.
Но однажды за завтраком один из гостей попросил меня прочитать несколько страниц из моей книги, и я исполнил его просьбу. Присутствовавший при этом Боннар сказал:
– Ну-ну. Это довольно любопытно.
– Вы считаете, что это хорошо написано? – спросил я, польщенный в своем авторском самолюбии.
– Я не очень-то в этом разбираюсь… – ответил художник. – Но в целом мне понравилось.
Я решил не упускать столь удачный случай:
– Вы бы не взялись проиллюстрировать мою работу?
– Боже мой! Разве что речь пойдет о нескольких рисунках…
Мне удалось получить от Боннара гораздо больше. Он подготовил сорок две иллюстрации для вклейки и сто семьдесят восемь шмуцтитулов и концовок.
В данном случае я снова попытался – подобные попытки я предпринимал часто и без особого успеха – соединить при иллюстрировании одного издания гравюры на дереве, литографии и офорты. Я сказал Боннару о своем желании, чтобы в литографиях штрихи казались как бы процарапанными гравировальной иглой, – так я надеялся достичь гармонии между ними и офортами. Но я не учел, что при тираже медная пластина оставляет на бумаге слегка окрашенный фон, который, каким бы малозаметным он ни был, подчеркивается белизной полей, чего не происходит при печатании литографий. Таким образом, единство оформления оказалось под угрозой. Чтобы получить однородные иллюстрации, я вынужден был поместить на вклейках одни лишь литографии и отказаться от включения офортов в книжный блок. Поскольку мне не хотелось лишать почитателей Боннара такой красивой серии медных гравюр, я перенес офорты в конец тома.
Но это еще не все. Важно было точно указать переплетчикам порядок гравюр в книге. Существовал хороший способ, которым я воспользовался при издании «Динго». Заключался он в следующем: перечень гравюр содержал уменьшенные фотокопии вклеек, причем каждая из них имела свой номер страницы.
На этот раз я решил пойти еще дальше. Я подумал: а почему бы мне не попросить самого Боннара выгравировать на меди уменьшенные копии своих вклеек? Несмотря на то что, поручая Боннару очередную иллюстрацию, я давал ему слово больше не беспокоить его, я написал о своей идее. Немного погодя, к великой моей радости, он принес мне пластины, на которых выгравировал сорок два миниатюрных сюжета.
Следующий пример показывает, каким успехом пользовались иллюстрации Боннара к «Святой Монике». Когда книга печаталась, посетивший меня книготорговец подписался на четыре экземпляра «Святой Моники» и попутно приобрел один экземпляр «Динго».
С наигранной скромностью человека, ожидающего услышать комплимент, я спросил у покупателя:
– Как? Только один «Динго» и четыре «Святых Моники»?
– Вы знаете, иллюстрированную книгу покупают не ради текста. И мне больше нравится то, что Боннар нарисовал к «Святой Монике», чем к «Динго».
3
На одной из вечеринок в Подвале – в том Подвале, историю которого я вам рассказывал, – родился замысел «Альманаха папаши Юбю». Он был продолжением карманного альманаха, выпущенного Жарри после представлений спектакля «Король Юбю».
Прежде всего новый альманах по своей тематике был задуман как исключительно колониальный. Такая идея возникла у Жарри, когда я рассказывал истории о неграх, привезенные мной с Реюньона. Но по мере того как шла работа над текстом, содержание альманаха обогащалось благодаря вкладу Жарри, Фагюса, Клода Терраса и нескольких других случайных сотрудников. Всего три дня понадобилось авторам и иллюстратору Пьеру Боннару, чтобы подготовить отрывной календарь, выпуск которого просто напрашивался из-за отсутствия достаточного количества полезных альманахов и главным образом по той причине, что они грешили досадными упущениями.
Например, ни один из альманахов не содержит страниц, предназначенных для того, чтобы мы могли подвергнуть суду свою совесть. Мы заполнили этот пробел. В первый день нового года, после того как прозвенит будильник, папаша Юбю извлекал свою Совесть из ночного столика, где ее прятал. Он вспоминал о необходимости принятия важнейших решений в начале года, например о том, что должен дать себе слово менять рубашку по крайней мере один раз в двенадцать месяцев.
К тому же, поскольку всякому порядочному альманаху следовало пропагандировать наиболее важные для человечества открытия, папаша Юбю знакомил своих читателей с тремя капитальными изобретениями, которые предполагал запатентовать:
1. Зонтик – инструмент, который можно держать в одной руке и который весьма кстати заменяет четырех носильщиков балдахина.
2. Тапочки – приспособления, изолирующие ноги от пола и избавляющие от необходимости перемещать весьма тяжелые, громоздкие ковры по мере продвижения вышеупомянутых ног.
3. Перчатки, которые скрывают от посторонних взглядов ваши грязные руки.
И т. д. и т. п.
И еще такой момент.
Мы заметили, что во всех альманахах повторяются одни и те же имена святых: Анри, Жак, Люсьен, Филипп, Павел, Альфонс, Лев, Антоний, Маргарита, Жанна, Луиза, Антуанетта и т. д.
Нам не хотелось, чтобы в адрес нашего альманаха высказывался тот же упрек. Поэтому мы решили приступить к тщательным агиографическим и иным разысканиям, намереваясь среди бесчисленного сонма святых, упомянутых в мартирологе, выявить имена тех, кого следовало бы извлечь из забвения, на которое их обрекло непростительное безразличие.
Эту задачу нам здорово облегчил покойный Фагюс, являвшийся в то время атташе мэрии в отделе выдачи свидетельств о рождении. По долгу службы он располагал административным списком имен, дозволенных законом. Официальный перечень давал нам необходимые гарантии. Составляя свою фалангу небесных патронов, мы могли черпать из него без каких-либо опасений.
Таким образом, мы получили возможность сообщить отцам семейств и иным лицам, которым предстояло зарегистрировать рождение детей, прекрасные имена святого Буйрепа; святого Пелады, епископа; святой Гул; святого Воскресенья, аббата; святой Дохода; святой Препедигны, мученицы; святого Варсануфия, воина; святого Гальмы, протодьякона; святого Карпа, епископа; святой Виолы, девственницы и мученицы; святого Канона, духовника; святой Обольстительницы; святой Щетки; святого Бюста; святого Линя и святой Болтушки…
Должен обратить ваше внимание на то, что в календаре папаши Юбю содержатся также имена других святых, которые не фигурируют в списке, дозволенном на основании закона от жерминаля, такие как святой Старикан, святой Неряха, святая Спаржа, святая Грива, святая Железная Дорога, святой Осетр, святая Девка, святая Дура, святой Пистолет, святой Зебб, святой Диапазон, святая Фланель, святой Воздыхатель, святая Рожа…
В данном случае каждый приносил имена, которые он, по его заверениям, взял на заметку во время чтения назидательных книг. Что это за книги и кто их авторы? Я выразил свое скептическое отношение к этому.
– Но, – возразил Жарри, – если есть Пелада, Обольстительница, ставшие святыми, то почему тогда Растяпа, Неряха, Грива, Дура не могут быть причислены однажды к лику святых?
Итак, благодаря этому дерзкому, но логичному предположению наш альманах, воздавая должное святым прошлых времен, оказывал честь и святым будущего.
Мы также почли своим долгом заполнить другой досадный пробел, касающийся «колониальных дел». Иначе говоря, в альманахах, выходивших ранее, ни словом не упоминалось о том, что происходит в наших колониях. Мой родной остров как раз давал мне обильную пищу для всяких красочных сценок.
– Все это бред! – говорили мне обычно.
– Отнюдь! – возражал Жарри.
Ему казалось, что в душах негров, суждения которых я приводил, живет мудрость. Замечание одного из них привело его в восторг.
Этот негр, показав на украшавшую кого-то красную ленточку, спросил:
– Что за маленький повязка?
Ему объяснили, что ленточка является знаком уважения и какого-то звания. На что негр возразил:
– Свалить уважение и звание в один котелок… Вы посмотреть, получится ли из этого рис!
– Какой античный философ может дать нам подобную тему для размышлений? – спрашивал Жарри.
Я также рассказал Жарри об истории, приключившейся у меня с одним «уважаемым монахом», негром.
Тетушка Ноэми всегда говорила мне, что мой скверный почерк станет для меня препятствием на пути в высшее общество. Поэтому, сдав экзамены на бакалавра, я решил усовершенствоваться в этом проклятом чистописании, прежде чем ехать во Францию. Я обратился к монахам из «Христианских школ», ибо они славились тем, что обладают секретом письма без чрезмерного нажима, благодаря которому их ученики могли соперничать с лучшими каллиграфами.
– Каким же дисциплинам вы обучались? – спросил принявший меня темнокожий монах.
– Я сдал экзамен на бакалавра по гуманитарным наукам, – ответил я не без гордости.
– И прежде всего, знаете ли вы, как образуются буквы алфавита?
– …
– Сейчас мы это проверим. Не скажете ли вы мне, каковы основные элементы маленькой буквы «а»?
– Ну конечно же маленькая «о» и маленькая «i».
Монах улыбнулся:
– Ясно. Вам еще надо всему научиться. Следуйте за мной.
Он повел меня в вольер, где без умолку тараторили попугаи.
– Маленькая «а»?! – крикнул монах.
Десять попугаев выпалили хором:
– Маленькая буква «а» образуется из маленькой «с», буквы-основы, и маленькой «i», также буквы-основы…
Странный экзамен продолжался. Попугаи без устали перечисляли «буквы-основы» и буквы, которые таковыми не являются. Короче говоря, я был просто очарован, но главное – посрамлен.
Вдруг монах спросил:
– Какой корень у заглавной буквы «Q»?
– Большая «О», буква-основа, – выпалил я.
– Большая «О», которая не является буквой-основой, – поправила одна из птиц.
После нескольких подобных вопросов, каждый из которых закончился для меня позорным провалом, мы добрались до буквы «t».
– Она образуется из маленькой вертикальной черточки, пересеченной вверху горизонтальным штрихом, – уверенно произнес я.
Белый попугай, который с важным видом очищал розовую редиску, уставился на нас своим круглым глазом и произнес:
– Маленькая буква «t» образуется из маленькой «i», буквы-основы. Будучи продолженной вверх, она пересекается на уровне точки поперечной черточкой.
Совершенно сконфуженный, я посчитал уместным переменить тему разговора.
– Почему одни попугаи прикреплены к жердочке цепочкой, а другие свободны? – спросил я у монаха.
– Попугаи с цепочкой на лапке – вы могли обратить внимание на их задумчивый вид – ждут, когда их отнесут во дворы, где отдыхают на переменках наши дети: там со своих жердочек они обрушат на них все, чему научились. Таким образом, без конца повторяемые, наши уроки в конце концов доходят до мальчишек и усваиваются даже тугодумами. Что до попугаев, занимающихся воздушной акробатикой, то это молодые особи, которые еще не прошли курс обучения. Но, развлекаясь, они продолжают учиться в школе у своих старших собратьев до тех пор, пока приобретенные знания не дадут им право на цепочку и на жердочку репетитора.
Молодой попугай, выполнявший фигуры высшего пилотажа, неожиданно прокричал:
– Маленькая «о», буква-основа…
– …которая не является буквой-основой… – поправил старый попугай; он подлетел к шалопаю и клюнул его в голову.
– Честное слово, – сказал я монаху, желая также пополнить свои знания, – если когда-нибудь у вас окажется лишним один из этих преподавателей…
Но монах резко оборвал меня:
– Нам их не хватает, мсье! Во-первых, попугаев у нас просят родители, чтобы с их помощью заставить учиться своих отстающих детей. Кроме того, мы являемся официально признанными поставщиками для миссионеров. Специально для них мы готовим инструкторов, бесценных помощников.
– А всегда ли эти заместители хранят верность должности? Неужели они никогда не пытаются улететь?
– Да, время от времени некоторые птицы улетают, не в силах воспротивиться зову леса. Но и там тоже они могут принести немалую пользу. Так, один из наших монахов, попав в руки к каннибалам, которые хотели его изжарить на костре, вдруг услышал голос попугая, который бормотал, сидя на дереве: «Маленькая „а“, буква-основа… маленькая „а“, буква-основа…» – «Она не является буквой-основой!» – машинально поправил пленник, высунув голову из чана, где его мариновали, прежде чем зажарить… Между монахом и птицей завязался диалог. Восхищенные каннибалы пали ниц перед своим пленником и стали умолять его обучить их языку попугаев. Так один из наших братьев был спасен от смерти на вертеле!
– Но сколько еще существует стран, куда не ступала нога миссионера! – в свою очередь заметил я. – Почему бы не использовать попугаев там, ведь они смогли бы быстро обучить своих сородичей? Так мало-помалу все воспользовались бы плодами просвещения…
Лицо моего собеседника просияло.
– Великолепная мысль! Я доложу о ней нашему монаху-исповеднику!
Мне вспомнилось поразительное описание конца света, принадлежащее перу поэта Леона Дьеркса: последние уцелевшие жители земли, возвращающейся к состоянию хаоса; тут и там порхают попугаи, изрекающие в пространство слова, которым они научились у своих хозяев: «Любовь! Слава! Честь! Свобода! Равенство! Братство!» Я лично полагаю, что попугаи чернокожих монахов заменили бы эти отжившие истины истинами вечными: «Маленькая „а“, не являющаяся буквой-основой, маленькая „с“, буква-основа…»
Жарри слушал меня с явным интересом.
– Ваш рассказ о попугаях кажется мне довольно правдоподобным, – заметил он. – Но не будем забывать, что наш альманах, обращающийся к широкой публике, должен содержать лишь тень правдоподобия. Роль инструкторов вместо попугаев у нас выполнят маленькие негры, которые будут выскакивать из табакерки.
«Альманах папаши Юбю» вышел без указания фамилии владельца типографии: в последний момент он испугался наших дерзких выходок. Его примеру последовали все сотрудники альманаха, как авторы текста, так и иллюстраторы. Я не мог ожидать, что издание, от которого отреклись еще до того, как оно вышло в свет, будет иметь коммерческий успех. Чтобы привлечь покупателей, я пустил альманах в продажу как издание букинистическое.
Тираж в тысячу экземпляров стоил мне тысячу франков. Я назначил цену в один франк. Но только магазин Фламмариона на бульваре Итальянцев рискнул «окончательно» взять пять экземпляров. Другие книготорговцы не решились приобрести альманах даже «с условием».
Я подумал, что столь пренебрежительное отношение к нашему альманаху объясняется его дешевизной, и потому смело удвоил цену. Но желающих купить издание за два франка оказалось не больше, чем тех, что готовы были потратить один франк.
Вынужден признать, что «Альманах папаши Юбю», задуманный в атмосфере Подвала, появившийся в момент всеобщего смятения, действительно представлял интерес только для его авторов.
Когда тираж был отпечатан, весь он, за исключением нескольких экземпляров, которые я заказал для себя, остался у владельца типографии.
Как-то раз, спустя много времени, ко мне зашел один книготорговец и спросил, сколько у меня сохранилось экземпляров «Альманаха папаши Юбю».
– Что-то около девятисот.
– Я покупаю все по цене восемь франков за штуку.
Я бросился к владельцу типографии. Но оказалось, что он куда-то переехал, не оставив адреса. После долгих поисков мне удалось разыскать его бывшего служащего, от которого я узнал, что владелец типографии умер.
– У него находилось мое издание, дожидавшееся вывоза, – сказал я.
– Я помню только одну несброшюрованную книгу некоего папаши Юбю… что-то совершенно идиотское… Чтобы избежать расходов на ее хранение, книгу пустили под нож…
XIII. Война и послевоенное время
Оборона Парижа. – Воина и бюрократия. – Живопись в почете
В июле 1914 года я ждал из Берлина пастель Дега, которую послал для ознакомления и о возврате которой мне сообщил мой корреспондент. Но вместо картины я получил следующую телеграмму: «Император дал разрешение на приобретение „дега“ Национальной галереей».
Надо сказать, что император Вильгельм до сих пор относился к современной французской живописи с предубеждением. Национальной галерее стоило большого труда добиться позволения принять работы Дега, Ренуара, Моне и других, предложенные ей берлинскими меценатами. Учитывая неожиданный интерес, проявленный императором к картине французского художника, я и предположить не мог, как бы ни были серьезны происходящие события, что «властелин войны» готовится напасть на нас, и согласился, чтобы моя картина осталась в Берлине до заключения сделки. Позже я узнал, что император Вильгельм отнюдь не проникся любовью к творчеству Дега, но что в последний момент какой-то покупатель возымел виды на пастель художника и мой корреспондент схитрил, чтобы не отсылать картину обратно. Короче, я твердо верил в то, что мир удастся сохранить. Поэтому я изумился, когда через несколько дней, проходя мимо почтового отделения напротив моего магазина, увидел небольшую, написанную от руки листовку: «Объявлена всеобщая мобилизация». Вокруг толпился народ. Какой-то рабочий выругался в сердцах. Но его огорчения были напрасны. Именно рабочие вскоре оказались в привилегированном положении. В то время как мелкие буржуа, интеллектуалы и крестьяне, призванные в действующую армию, погибали на поле брани, пролетарии обоих полов трудились на заводах, где вместо жалких грошей фронтовиков они получали все более высокую зарплату. Позднее именно их удовлетворение создавшейся ситуацией – чему я был свидетелем – выразила одна домохозяйка с непокрытой головой, в шелковых чулках, которая приценивалась к крупной домашней птице: «Наконец-то куры стали выглядеть иначе!»
Когда Париж, оказавшийся под угрозой, начали покидать его жители, я почувствовал тревогу за одного из своих друзей, у которого была жена и одиннадцать детей. Он уже вышел из призывного возраста, и, поскольку у него был дом в деревне, я, отправляясь к нему, чтобы разузнать, что с ним, опасался никого там не застать. Однако мой друг никуда не уехал. Я увидел его в гостиной, где он, засучив рукава, упражнялся с боксерской грушей.
– Понимаете, я восстанавливаю форму, чтобы присоединиться к призывникам, – сказал он.
Расставшись с этим героем, я увидел на тротуаре плачущего мальчугана. Уличные сценки всегда привлекали мое внимание, и потом, я никогда не был равнодушен к детям. Я подошел к нему и заговорил с ним так, как это делают малыши, впервые встречающиеся друг с другом:
– Тебя как зовут?
– Папа и мама называют меня Шарлем, а ребята в школе зовут Прилизанным.
– Ну, мой маленький Прилизанный, почему же ты плачешь?
– Все из-за нашего бакалейщика. Когда он ушел на войну, дедушка сказал, что этот малый, наверное, бош[73] и поэтому он пойдет со своими приятелями в его лавку и принесет нам оттуда рыбку в коробках и зеленый горошек в стеклянных банках. Но бакалейщица заподозрила неладное и вызвала фараонов…
– Школьный учитель узнал об этом?.. И чему же он вас учит?
– Сегодня утром учитель рассказывал нам о зайце…
– Вот как! Ну и что представляет собой заяц?
– Заяц – это позвоночный, млекопитающий, травоядный.
– А что такое «позвоночный»?
– Этого я не знаю… учитель нам не сказал… но я знаю историю.
– Что ж, известно ли тебе, кто управляет Францией?
– Король.
– Король!.. Какой же король?
И ребенок не задумываясь ответил:
– Карл Великий!
– Ты получал призы за учебу?
– Да, первый приз по истории и второй по обществоведению.
По пути домой я увидел такси, выскочившее на тротуар. В водителе я узнал массажиста, который незадолго до этого приходил ко мне лечить мой вывих. Однажды утром он сказал:
– Больше на меня не рассчитывайте, мсье Воллар. Хоть я и не подлежу немедленной мобилизации, но собираюсь поступить на службу досрочно. Понимаете, если я сам не проявлю инициативу, то все места на фронте будут заняты и меня запихнут куда-нибудь в тыл.
Я никак не ожидал, что увижусь с массажистом-водителем еще раз.
– Но какого черта вы здесь делаете? – спросил я. – Я полагал, вы уже на фронте.
– Все правильно! Но я тогда еще не знал, что такое война! Три дня назад я пошел выгуливать песика консьержки, и вдруг над головой разорвался снаряд. Тото взвыл так, словно его резали; короче говоря, осколком снаряда ему оторвало хвост. Пес опрометью помчался к дому. Я побежал за ним и кубарем скатился в подвал. Тото принес своей хозяйке обрубок хвоста в зубах и жалостливым взглядом смотрел на нас, как бы призывая в свидетели случившегося с ним несчастья. Моя жена едва не разрыдалась. «Слушай, Жюль! – сказала она мне. – Нельзя терять ни минуты. Иди скорее и записывайся в добровольцы; поступая на службу досрочно, ты сможешь выбрать род войск».
Я не удержался и рассказал своему знакомому о посещении отца семейства, имевшего одиннадцать детей, который, будучи освобожденным от воинской обязанности, тренировал мускулатуру, собираясь отправиться на фронт. Но бывший массажист оборвал меня:
– Дело в том, что ваш друг никогда не видел ни того, как самолет сбрасывает вам на голову какую-то пакость, ни того, сколько крови вытекло из задницы Тото… Но мне надо торопиться: на следующей неделе я сдаю экзамен по вождению автомобиля.
Попрощавшись с ним, я, подобно многим парижанам, пошел посмотреть на то, как возводятся оборонительные сооружения по распоряжению военных властей. Работа заметно продвинулась. Например, у ворот Монруж, куда я направил стопы, железные решетки были прикрыты на манер щита жестяным покрытием; какой-то мальчишка стучал по нему, как по барабану. И мать, с любовью глядя на свое чадо, сказала: «Теперь можно не беспокоиться насчет ядер…» – «Против ядер есть еще одна хитрость, к которой мы прибегали в семидесятом, – заявил престарелый дворник, подошедший с двумя ведрами воды. – В большую лохань наливали воду, ведь она притягивает снаряды и не дает им взрываться».
Я совершенно спокойно купил у зеленщика жесткие как подметка персики из Монтрея, которые в изобилии появились в Париже, поскольку их экспорт в Англию был затруднен. Это было одно из первых следствий войны: плоды из Монтрея продавались по дешевке! Наслаждаясь фруктами, я продолжал знакомиться с оборонительными укреплениями Парижа. Дороги, ведущие к столице, были завалены стволами деревьев и толстыми ветками со скошенными концами. Я удивился тому, что их острия обращены в сторону Парижа, но, наткнувшись на один из острых концов, я сообразил, в чем заключалась военная хитрость. Если бы неприятелю, несмотря ни на что, удалось войти в город, его можно было бы отбросить на эти ощетинившиеся сооружения. Кроме того, я заметил, что там, где стволов деревьев не хватало, солдаты рыли траншеи под руководством аджюдана инженерных войск…
Впоследствии траншеи оказались гораздо более эффективным средством защиты, чем стволы деревьев и ветви. Но по крайней мере, ночью преимущество последних было очевидно.
– Понимаете, – объяснял один гражданин, – сначала первый ряд нападающих наткнется на невидимое препятствие; затем второй ряд наскочит на первый, третий на второй и так далее… И вот так, кувыркаясь, в итоге все окажутся на земле!
Скоро мне пришлось испытать на себе устрашающее воздействие, которое оказывает, даже средь бела дня, препятствие, возникающее на вашем пути.
Поскольку с первого дня войны мой магазин закрылся, я уехал из Парижа на хутор Ома, относящийся к Варавилю, где у меня был дом.
Кратчайший путь из Парижа пролегает через Кабур. А там уже до Ома всего один километр. Я решил отправиться туда пешком, когда заметил стоящую поперек дороги ручную тележку со следующей табличкой: «Завизируйте ваш пропуск на контрольном пункте слева». Я привык слепо подчиняться любым предписаниям. Так, однажды поднимаясь по лестнице одного дома и прочитав на стене объявление: «Держите зонт за перилами», я не сообразил, что это предупреждение имеет смысл лишь в дождливые дни, и, выставив зонтик за пределы лестницы, сломал им газовый фонарь. Словом, в Кабуре, вместо того чтобы просто обогнуть тележку и продолжить путь, я направился к какому-то навесу, где три человека, уполномоченные ставить визы, играли в карты. На них были фуражки, украшенные галунами, вроде тех, что украшают швейцаров. Эти галуны – известно, что я всегда относился к ним с почтением, – не могли не внушить мне трепет, несмотря на то что я сразу же узнал двоих из игроков. Прошлым летом они работали в саду соседнего дома и, когда я проходил мимо, удостаивали меня приветствием «Добрый день, мсье Воллар», сердечным и радушным. Начальник пункта – я присвоил этот титул человеку, имевшему больше всего галунов, – начал меня допрашивать. Он спросил мою фамилию, имя, как зовут моих отца и мать, женат ли я, сколько у меня детей, хотя я сказал, что холост.
Выказывая некоторое нетерпение, я произнес:
– Но вы же меня знаете! Ведь это вы работали в саду господина Дюшателя…
– Да, я знаю вас по мирному времени как господина Воллара, но теперь война… Ваш пропуск?
Я задавался вопросом, не были ли эти люди самозванцами… В том, что мои сомнения небеспочвенны, я убедился позднее, когда мне пришлось иметь дело с самыми что ни на есть настоящими чиновниками. Например, с особым комиссаром, который, проверяя в моем присутствии паспорт у одной дамы из Красного Креста (она ехала в Швейцарию), сказал:
– Я вижу, вы замужем. Стало быть, вы запросто оставляете своего мужа в Париже, а сами едете прогуляться за границу? Что вы собираетесь делать в Швейцарии?
– Почему вы меня об этом спрашиваете?.. Мои документы в порядке, да или нет?
– В порядке они или нет, я имею право задерживать подозрительных пассажиров для получения более полной информации…
В конечном счете чиновники норовили переплюнуть один другого по части формализма и придирок и, возможно, для того, чтобы отбить у людей охоту к поездкам и тем самым предотвратить нехватку горючего у нас в стране…
* * *
Во время войны я должен был зайти к одному из своих друзей, солдату нестроевой службы второго класса, в министерство расследований. Когда я прошел в его рабочий кабинет, он говорил по телефону: «Соедините меня с военным министерством… полковник такой-то!.. Это военное министерство?.. С вами говорят из министерства расследований… – И он продолжил, повысив голос: – Министр очень удивлен, что к нам до сих пор не прислали солдата такого-то, в технических знаниях которого мы нуждаемся…»
– Ничего себе работенка – сидеть все время на телефоне, – сказал я.
– Между нами говоря, я только что звонил по своим собственным делам. Техник, которого мы запросили, мой бакалейщик. В его лавке все идет вкривь и вкось с тех пор, как он отсутствует.
– Но разве запрашивать его должен не начальник отдела?
– Разумеется, он. Правда… давая ему на подпись корреспонденцию, я сказал начальнику: «Нам никак не удается заполучить у военного министерства такого-то…» И начальник ответил: «Требуйте, мой дорогой, требуйте. Ибо, если что-то будет не так, спросят именно с вас…» Все-таки хорошо в Париже, тем более в министерстве, после того как ты узнал, что такое провинция и казарма… И этой удачей я обязан майору, у которого был секретарем в Ренне. Как-то раз, когда, просматривая личное дело, он вслух выразил свое неудовольствие одним солдатом, который по причине сальпингита[74] (!) просился в увольнение («Этот негодяй все время прикидывается больным!»), я сказал: «Простите, господин майор, но болен не он, а его жена». – «Черт возьми, верно! – произнес он, перечтя просьбу об увольнении. – Но откуда вы это знаете?» Сколько я ни втолковывал ему, что сальпингит – сугубо женская болезнь, он так и остался при своем убеждении, что я рылся в его бумагах. И дабы избавиться от меня, составил мне протекцию в Париже.
В этот момент в кабинет вошла невысокая машинистка. Мой друг протянул ей портсигар: «Сигарету?» Девушка закурила и, затягиваясь, сказала: «По крайней мере, она настоящая. Не то что губная помада. С тех пор как началась война, можно разжиться только дешевой… Такое впечатление, что раньше мы получали ее от бошей». Когда она ушла, я сказал:
– А она недурна собой, эта крошка.
– Да, – согласился мой друг. – Машинистку мне удалось выписать для себя. Я присмотрел комнату со столом, покрытым зеленым сукном. Никто ею не пользовался. Я велел перенести туда четыре стула, и получился рабочий кабинет. Потом я зашел к начальнику и сказал: «У нас еще нет машинистки…» Хорошо обставленный рабочий кабинет придает вам солидности. У меня есть приятель, который подобным образом стал из простого грузчика судьей в третейском смешанном суде. Вот это я понимаю!..
Мое внимание привлек один из караульных, который делал повороты на одной ноге и повторял ликующим тоном:
– Так они и не заполучили мою ходулю.
– Кто «они»? – спросил я в полном изумлении.
– Ну, эти лекаря с четырьмя нашивками, они хотели мне ее отрезать…. У меня началась газовая гангрена на ноге. А вместе со мной служил ученый из Института Пастера, доктор Вимберг. Он изобрел сыворотку, которая вылечивает эту штуку в два счета. Но этот лекарь был только в звании лейтенанта, поэтому ему запрещал лечить ногу, обреченную на ампутацию, офицер с четырьмя нашивками. Короче, ее собирались отнять, как вдруг правительство, безусловно напуганное количеством пенсий, которые ему пришлось бы выплачивать калекам, и решившее наплевать на принципы, иерархию и всю эту чертовщину, своей властью присвоило тем, кто имел две, одну, даже не имел ни одной нашивки, но умел лечить гангрену, не прибегая к ампутации, четыре нашивки, дававшие им такое право.
Покинув министерство расследований, я направился в военное министерство, где должен был повидаться с начальником одного отдела. Придя еще до того, как он появился у себя в кабинете, я наблюдал за людьми, которые ходили взад и вперед по вестибюлю, где заполнялись карточки с указанием цели визита. Вы протягивали карточку сержанту, и она попадала к получателю.
Встретив там графа де Комменжа, я сказал ему:
– Посмотрите, с какой учтивостью этот полковник отдает свою карточку новобранцу, выполняющему здесь обязанности подручного.
– Разумеется, ведь от этого солдатика зависит, доложат ли о вас сразу.
Я тоже пошел отдать свою карточку и, вернувшись на место, увидел, что граф де Комменж улыбается.
– Ах, мсье Воллар! – воскликнул он. – Если бы вы сейчас видели себя со стороны, то убедились бы в том, что у вас был еще более заискивающий вид, чем у того полковника.
* * *
Когда разразилась война, председатель Осеннего салона господин Франц Журден, говорят, воскликнул: «Наконец-то кубизму пришел конец!» Но кубизм пострадал от событий не больше, чем другие течения живописи. Скоро жизнь показала, что объектом спекуляции в военное время может стать все. Слыша разговоры о подскочивших ценах на картины, люди, извлекавшие выгоду из военного положения, сообразили, что живопись должна приносить не меньше доходов, чем камамбер, вино или железный лом.
Как-то утром в мою дверь постучали. Вошел человек, державший в руке проспект выпущенных мной книг. Он поинтересовался, остались ли у меня еще издания на китайской и японской бумаге. Некоторые из них были распроданы. Я предложил ему тиражи на веленевой бумаге, но он поморщился и сказал:
– Понимаете, мои друзья признают только роскошные сорта бумаги.
Я спросил у него, давно ли он почувствовал страсть к книгам.
– Страсть!.. Страсть!.. – воскликнул он и продолжил: – Сколько нужно иметь дорогих изданий, чтобы считаться библиофилом? А коллекционер? Что в точности это означает?
Я объяснил ему смысл последнего слова.
– Стало быть, если у меня много дорогих книг, то я коллекционер-библиофил?
Я сказал: да, это так. Он, похоже, был весьма польщен и, почувствовав расположение ко мне, рассказал историю своей жизни:
– Я работал чистильщиком картошки в большом ресторане и как-то повстречал приятеля, с которым дружил, когда мы оба были уличными торговцами. Он сообщил мне, что стал поставщиком армии, и предложил принять участие в его махинациях. Я охотно бросил свой картофель.
– Вы разбирались в тех товарах, которые покупали?
– Полноте! В те годы, как вам хорошо известно, главное было сбить цену. У меня были свои хитрости. Когда мне предлагали товар, я делал вид, что проявляю нерешительность, и бормотал: «Гм! Гм!» Я был уверен, что добьюсь снижения цены. Профессия была выгодной, и я поднакопил деньжат. А когда у вас появляются деньги, вы их во что-то вкладываете, не так ли?.. У меня есть приятели, которые одаривают жемчугом потаскушек. Я же предпочитаю тратить деньги на то, что приносит… ну, на все эти штуковины, которые, говорят, приобретают все большую ценность… картины, книги.
Подобные настроения людей отчасти объясняют тот факт, что четыре распродажи произведений Дега имели огромный успех. Было выставлено около двух тысяч лотов, включая картины, рисунки, эскизы. Во время одного из аукционов от разрывавшихся снарядов дрожал застекленный потолок в зале Жоржа Пти, но это не помешало торгам. Случилось даже так, что холст, проданный и уже отставленный к стене, продолжал расти в цене. В этот момент в зал вбежал какой-то человек и крикнул: «Линия фронта восстановлена!»
Напомним, что распродажа мастерской Дега принесла около двенадцати миллионов франков, а тогда наши франки чего-то стоили!..
После войны тяга к живописи не ослабела. Все продолжали столь же активно покупать и продавать картины. Галереи росли как грибы после дождя. На некоторых улицах каждая лавочка представляла собой витрину торговца картинами. Я уж не говорю о тех, кто занимался этим ремеслом неофициально. Однажды мне показали на улице одну дамочку, которая несла под мышкой холсты. Она жаловалась на то, что доходы ее мужа не позволяют ей иметь двух служанок, и кто-то сказал этой женщине: «В настоящее время не существует более прибыльной профессии, чем профессия торговца картинами». Друг дома, поверивший в оборотистость дамы, одолжил ей несколько тысяч франков; на эти деньги она приобрела целую партию кубистских полотен на распродаже Канвейлера[75]. В тот момент цены на них заметно снизились, но скоро опять пошли вверх. Дама тут же наняла вторую служанку, затем приобрела автомобиль и ввела у себя день приемов.
В то время как холсты все дорожали и дорожали, а растущая слава Таможенника Руссо побуждала любителей искать художников среди тех, для кого живопись не была основной профессией, – например, среди продавцов жареной картошки или сапожников, – я заметил, что некоторые охотники за новыми именами делают ставку на художника по фамилии, кажется, Бамбон, мелкого торговца железным ломом на блошином рынке, который вдруг увлекся живописью. Он продавал свои картины по ценам, зависевшим от их размеров, что, впрочем, роднило его со знаменитыми художниками. Чтобы дать представление о его профессиональной честности, расскажу о таком случае. Однажды к нему зашел любитель, желавший приобрести его последние картины. Бамбон, откладывая из приготовленной для этой цели партии одну работу, сказал:
– Эта обойдется вам дешевле. Честно говоря, я не могу продать ее вам по той же цене, что и остальные. Она не такая свежая, я нарисовал ее по меньшей мере два года назад.
Кондитер из Понтуаза, некий Мюре, который также бросил свою профессию и взял в руки палитру, не допускал, что холст может со временем утратить свою ценность. Его кондитерскую посещали импрессионисты Ренуар, Писсарро, Моне и другие. Он был свидетелем их борьбы за признание, а затем и первых удач. Однажды Ренуар, заглянувший к Мюре, чтобы купить пирог, увидел, что хозяин уже закрывает ставни магазина.
– С меня довольно ремесла кулинара, – сказал он художнику. – Я совершил непростительную глупость, что так долго не брался за живопись. Понимаете, непроданный пирог приходится сбывать по дешевке, картина же – совсем другое дело, ее цена не снижается, а со временем может даже возрасти.
Особое место в ряду моих коллег занимает Поль Гийом. Еще до того, как началось повальное увлечение негритянским искусством, Поль Гийом составил коллекцию идолов, одновременно проявляя интерес к пока еще малоизвестным художникам. Он открыл – и в значительной степени способствовал тому, чтобы они смогли занять подобающее им место, – таких мастеров, как Модильяни и Сутин… Я не говорю о его частной коллекции, где можно было полюбоваться наиболее характерными полотнами Матисса, Дерена, Анри Руссо, Пикассо… Преждевременно ушедший из жизни, он промелькнул как метеор.
Еще одним большим почитателем и пропагандистом импрессионизма был господин Этьенн Биньу. Утром он был в Лондоне, вечером открывал выставку в Париже, а на следующий день садился на пароход или летел самолетом в Нью-Йорк. Он, возможно, предпочел бы оставаться на одном месте и ложиться спать в девять вечера, но постоянно колесил по свету, потому что любой уголок мира, где находилась заслуживающая внимания картина, притягивал его к себе как магнит.
Торговцы картинами процветали, но скоро им пришлось испытать на себе возрастающую требовательность художников, желавших получить свою долю.
Однажды я повстречался с одним из своих коллег, который сказал мне:
– Я только что был у такого-то. – (Он имел в виду одного из своих «подопечных».) – Меньше года назад я был вынужден оплатить ему «толбот», а теперь он требует, чтобы я купил для него «паккард»…
Спустя несколько месяцев мне довелось побывать у своего коллеги.
– У себя ли в кабинете господин А.? – спросил я секретаршу.
– Вы пришли в неподходящий момент, мсье Воллар! Патрон в таком состоянии… только что от него вышел X.
Услышав эту фамилию, я вспомнил, что речь идет о человеке, потребовавшем для себя «паккард».
– Вы представляете, он ворвался как вихрь! – продолжала секретарша. – Не говоря ни слова, бросился с бритвой в руке к своей картине, изображающей обнаженную модель. Вот, полюбуйтесь, что от нее осталось!.. Одни лохмотья… А ведь эту картину, мсье Воллар, мы отказались продать за семьдесят пять тысяч! «Она больше недостойна моей репутации!» – крикнул он нам, унося кусок полотна с изображением живота женщины, дабы быть уверенным, что мы не подобьем картину новым холстом. Он устроил нам это после того, как мы оплатили «паккард»! И так поступил художник, который всего три года назад говорил патрону: «Вы можете рассчитывать на мою вечную благодарность»…
Всеобщая лихорадка овладела и мной. Как-то, проходя мимо витрины какого-то торговца, я увидел картину Утрилло «Собор»; имя этого художника было мне неизвестно.
«Вот живописец, которого следует продвигать», – подумал я.
Я вошел в лавочку и спросил, сколько стоит полотно.
«Пятьдесят тысяч франков…» – услышал я в ответ.
Так я узнал стоимость произведения Утрилло, холсты которого, как мне сказали, еще несколько лет назад можно было увидеть только под открытым небом, у старьевщиков на бульваре Клиши.
Не повезло мне и с другим художником – Модильяни. Однажды я торговался о цене одного из полотен Модильяни, хотя фигуры с длинными шеями, казавшимися как бы растянутыми, не вызвали у меня большого восторга.
«Интересно, стоят ли они трехсот франков?» – размышлял я.
После войны, проходя по улице Ла Боэси, я заметил ню этого художника, которое напомнило несколько вычурную грацию некоторых японских эстампов. Удивительно чувственная зернистая кожа! И я подумал: «Всего четыре года назад самые выдающиеся произведения Модильяни оценивались в триста франков. Если полотно стоит три тысячи, то это мне не под силу!»
– Сколько? – поинтересовался я.
– Триста пятьдесят тысяч. Но картина уже на опционе[76]. И у нас есть все основания полагать, что посредник, взявший ее на опцион, действует по поручению Муссолини!
После войны небывалым успехом стали пользоваться многочисленные кафе на бульваре Монпарнас. На террасах и внутри заведений собирались новые группы художников и их модели. Это не имело ничего общего с прежним Монпарнасом. Уже нельзя было увидеть добродушного художника, который, сидя за кружкой пива и покуривая трубку, с торжествующим видом объявлял: «Дела идут, одна из моих картин выставляется на улице Лаффит». Очень характерен для той, прежней эпохи анекдот, рассказанный мне Гийомом! Однажды Гийом зашел к Коро, учеником которого он был. Коро произнес: «Как? Ты говоришь, что один любитель доверил тебе тридцать луидоров, чтобы купить для него две картины, и что, если бы я не был Коро, именно ко мне ты бы и обратился? Но, дружище, тридцать луидоров – это ведь сумма… Мы сейчас же отберем два холста для твоего мецената».
На Монпарнасе, в этом вавилонском столпотворении, молодые живописцы в большинстве своем говорили только о долларах, пиастрах, песетах, кронах, фунтах стерлингов, но особняком держались их старшие коллеги, такие художники, как Боннар, Дени, Дерен, Матисс, Пикассо, Руо, Руссель, Вламинк, Вюйар… Прежде всего они рисовали ради удовольствия, которое доставляла им живопись!
Однако насколько трудно рисовать с увлечением, когда вам мешают работать спокойно! Не только снобы и дельцы «взялись за живопись», но и заядлые коллекционеры, которые проявляли ничуть не меньшее рвение, гоняясь за художниками. Чтобы не попасть к ним в сети, художнику оставалась единственная возможность – бежать, бежать подальше, укрыться в таких местах, куда нельзя добраться поездом. Увы! Даже в самые отдаленные деревушки можно было доехать на автомобиле. И едва художник устраивался, казалось бы, в надежном убежище, как его обнаруживали.
Напрасно, стремясь обеспечить себе спокойную и уединенную жизнь, он вывешивал у входа таблички типа: «Волчьи капканы» или «Осторожно, злая собака!». Приезжие всегда находили способ проникнуть к нему в дом. «Мсье, – говорила служанка, – там у решетки очень приличного вида господа; они сейчас угощают сахаром нашего Блэка…»
И потом, вряд ли вы в чем-то заподозрите шофера, который заходит к вам и просит помочь ему, потому что сломался его автомобиль! Оказав ему помощь, вы увидите, как из шикарного лимузина выйдет дама и непременно пожелает отблагодарить художника за услуги. Конечно, она совершенно случайно узнала, что возможностью продолжать путь обязана «мэтру» Ренуару. И поскольку ей известны слова Ренуара о том, что нет ничего более сложного и одновременно более увлекательного, чем рисовать белым по белому, все в туалете дамы окажется белым, начиная от шляпы и кончая туфлями. И, придя в восторг, Ренуар заметит: «Мне просто не везет: только я нашел модель, с которой получился бы прекрасный портрет, как ей уже надо уходить». Однако выясняется, опять же по случайному совпадению, что дама отдыхает на даче в двух шагах отсюда. Она охотно обещает зайти в другой раз и «будет счастлива в свою очередь оказать услугу мэтру». Короче, прежде чем дама опять сядет в автомобиль, они договорятся о дне сеанса. А после завершения портрета придет очередь букета цветов, о котором она всегда мечтала, – пейзажа, «который будет напоминать ей в Париже эти серебристые оливковые деревья, столь дорогие ее сердцу…».
Весьма типичны приключения двух джентльменов, высадившихся однажды в Канне.
– Теперь надо добраться до Ренуара! – сказал один из них.
– Я бы охотно дал тысячу франков тому, кто представил бы ему нас, – заявил приятель.
– Вы серьезно? – спросил какой-то тип, услышавший их разговор. – Я очень хорошо знаю мсье Ренуара.
В самом деле, он знал Ренуара, но только в лицо, ибо не раз встречал его на улице. Словом, положив в карман обещанную тысячу франков, он отвел их к художнику и, когда последний, предупрежденный служанкой, подошел, чтобы узнать, чего от него хотят, невозмутимо произнес:
– Мсье Ренуар, разрешите представить: господа такие-то…
И на этих словах ловкач скрылся.
Избавиться от назойливых посетителей, отыскивающих его даже в Канне, Ренуар мог только одним способом: наказав прислуге говорить, что он в отъезде; но в деревне вас обязательно найдут. Гораздо легче избежать непрошеных гостей в самом Париже. Вспоминаю об одном своем посещении художника. Его маленький сынишка вдруг побежал в прихожую и вернулся оттуда с пальто, тростью и шляпой отца. Я удивился.
– Вы разве не слышали? – сказал мне мэтр. – В дверь позвонили. Вероятно, это к моей жене, но не исключено также, что явился какой-нибудь любитель по мою душу.
Какой контраст с довоенным временем, когда люди из светского общества не стремились выглядеть знатоками живописи, покупать полотна и не скрывали своего невежества!
Когда из Лувра похитили «Джоконду», я встретил на улице знакомую даму, которая остановилась возле киоска.
– Что это за Мона Лиза? – спросила она, показывая на гравюру, представлявшую собой портрет с надписью: «Муж Моны Лизы».
– Так это же «Джоконда»!
– «Джоконда»?
– Ну, вы должны знать… шедевр Леонардо да Винчи.
– Леонардо да Винчи?
– Вы что, никогда не бывали в Лувре?..
– Ну как же! Очень часто, я сейчас иду оттуда с выставки белья[77].
Я прекратил расспросы.
Однако это была та самая особа, о которой Форен сказал мне однажды на ужине в Подвале: «Если вы хотите сделать мне приятное, посадите меня рядом с мадам N. Я так люблю слушать ее рассказы… Она не лишена остроумия…»
Дама обладала также хорошим вкусом. В другой раз я встретил ее в салоне у друзей, где она вела оживленную беседу с членом Академии изящных искусств, отличавшимся несколько чопорными манерами английского лорда.
– Я беседовала с этим господином о живописи, – сообщила она мне, когда ее собеседник ушел. – Я призналась ему, что мне очень нравится картина «Купальщицы», висящая в прихожей.
Это была акварель Сезанна, и я счел неуместным спрашивать у дамы, почему она отдает ей предпочтение. Но вскоре я встретился с самим академиком и сказал ему:
– У вас была очаровательная соседка в салоне X.!
– У этой хорошенькой женщины глаз художника! Имея привычку постоянно говорить обо всем, что связано с моей профессией, я спросил у нее: «Вы любите живопись?» И она ответила: «Пока я снимала пальто в прихожей, мое внимание привлекла картина „Купальщицы“, это действительно красиво». – «Как? Вам понравилась эта штука, похожая на сыр, из которого выползают белые толстые черви?!» – воскликнул я как старый идиот.
Услыхав столь самокритичную оценку, я попробовал было возразить, но художник перебил меня:
– Ах, оставьте! О моей живописи вы думаете еще хуже… Но, – продолжал академик, – моя соседка парировала: «Эта работа так же приятна для глаз, как и прекрасное изделие из фаянса». Так вот, эти ее слова заставили меня взглянуть на Сезанна по-новому. Теперь, когда я сижу за мольбертом и вижу перед собой эти маленькие розовые ягодицы, эти надутые груди – словом, всю эту мишуру, благодаря которой я попал в Институт… меня мутит…
– Но это же совсем другое искусство, – вежливо заметил я.
– Это гадость. Но я стараюсь отыскать новый путь. В настоящее время я изучаю Пикассо и Матисса, а потом примусь за Сезанна.
Произведения Сезанна, Матисса, Пикассо не только радуют глаз; они могут дать вам неоценимые преимущества! Я знал одного банкира-еврея, который во что бы то ни стало хотел завязать знакомство с бароном Дени Кошеном. С этой целью он даже приобрел имение рядом с имением барона. Несмотря на все старания, ему так и не удалось добиться от своего соседа ничего, кроме визитной карточки. Но если бы он имел хотя бы несколько работ Сезанна, скорее всего, сам господин Дени Кошен первым проявил бы инициативу.
В других случаях владеющие коллекцией люди были обязаны ей не только престижными знакомствами, но и серьезной выгодой. Однажды, зайдя к одному из моих друзей, любителю, которому скромные средства позволяли приобретать лишь эскизы, я застал его показывающим свою коллекцию человеку покровительственного вида.
– Ох! Я в этом ничего не смыслю, – произнес последний через какое-то время. – Но вы никогда не сможете убедить меня в том, что это и есть серьезная живопись…
Вошла служанка и доложила:
– Пришли сказать, мсье, что принц де X., назначивший встречу на десять часов, сможет быть только в половине одиннадцатого. Принц надеется, что это не нарушит ваши планы.
Слова произвели на гостя сильнейшее впечатление.
– Как! Брат короля, принц де X., бывает у вас? – изумился он.
– Ну да! Ему очень нравится смотреть современную живопись.
В этот момент мне пришлось уйти.
Когда я снова увиделся с другом, он сказал мне с сияющим видом:
– Слава богу, что у меня есть вещи Сезанна, Матисса, Пикассо! Помните господина, который был у меня на днях, когда служанка доложила о предстоящем прибытии принца де X.?.. Так вот, как только вы ушли, он сказал мне: «Послушайте, дружище, я человек прямой. Я знаю, вы любите мою дочь. Я никогда не побуждал вас к тому, чтобы вы объяснились. Ну что ж, будем считать, что я не против!.. Позвольте мне остаться у вас до прихода принца. Я буду счастлив, если смогу сказать, что беседовал с глазу на глаз с братом короля! Разумеется, я не прошу вас представлять меня вот так сразу. Но вы можете обратиться ко мне, например, по поводу той картины, что висит в неосвещенном месте: „Мой дорогой тесть, не поможете ли вы мне ее снять? Я хотел бы, чтобы принц посмотрел на нее вблизи…“»
Так благодаря своей коллекции любитель заключил прекрасный брак.
А вот случай, когда финансист оказался обязанным своим спасением портрету, который нарисовал с него известный художник.
Я находился в мастерской Джона Льюиса Брауна, когда вошел какой-то человек и, схватив обе руки мэтра, сказал:
– Вам известно, что вы буквально спасли меня от разорения?
– Я? – удивился художник.
– Помните, я как-то попросил вас договориться с Бонна о том, чтобы он сделал с меня эскиз за десять тысяч франков? Что вы тогда об этом подумали?
– Что я подумал? Я подумал: «Стоит ли быть богатым, чтобы вот так запросто выкладывать десять тысяч франков!»
– Но как бы вы отнеслись к этому, мой добрый Льюис, если бы знали, в каком труднейшем положении я оказался? Я дошел до последней черты. Я должен был вот-вот потерпеть крах, когда в голову мне пришла мысль о Бонна и портрете… И произошел неожиданный поворот: как только люди прочли на страницах «Фигаро» и «Голуа», что прославленный портретист, рисовавший королей и знаменитостей Республики, работает над портретом «известного банкира», вы понимаете, все те, кто был готов меня уничтожить, просто обалдели! Я тотчас раздобыл деньги, позволившие мне выйти из затруднительного положения.
Когда банкир ушел, Льюис Браун сказал:
– Ну что, убедились, какую пользу может принести живопись?
– Да, убедился. Странно, почему до сих пор не воспользуются престижем, который дает живопись, денежные воротилы, предприниматели, даже целые государства, испытывающие дефицит, – словом, все те, кто нуждается в поддержании доверия к себе со стороны публики?..
По примеру «любителей», которые «складировали» картины, подобно тому как другие накапливают ценности, рассчитывая на увеличение их стоимости, торговцы картинами, убежденные в непрекращающемся повышении цен, создавали запасы. И когда прохожий, чье внимание привлекало то или иное полотно, выставленное в витрине, входил в магазин, он спрашивал у продавца:
– Сколько стоят эти «Стога» Моне?
– Они не продаются.
– А этот «дерен»?
– Он тоже не продается.
Но человек, отнюдь не обескураженный таким приемом, продолжал задавать вопросы:
– А выставленный «матисс»?
– Он из частной коллекции патрона…
Что касается меня, то я не отказывался продавать работы художников, но справедливости ради надо сказать, что мои тогдашние представления о коммерции не побуждали клиента к покупкам. Однажды в мою лавку зашел какой-то человек.
– Сколько стоят эти три этюда Сезанна? – спросил он.
– Вы собираетесь купить один, два или все три?
– Только один.
– Тридцать тысяч франков. На ваш выбор.
– А если я возьму два?
– Они обойдутся вам в восемьдесят тысяч.
– Не понимаю… Тогда за три этюда я заплачу какую сумму?
– Три вы можете приобрести за сто пятьдесят тысяч.
Посетитель был ошеломлен.
– Разобраться в этом проще простого, – сказал я. – Если я продам вам только один из моих «сезаннов», у меня останутся два. Если я продам два, у меня останется только один. Если я продам вам три, то у меня не останется ничего… Вы понимаете?
Клиент был крайне удивлен. Потрогав свой лоб, он вдруг произнес: «Вы преподали мне замечательный урок» – и поспешно вышел.
На свою беду, посетитель заключил из нашего разговора, что в любых коммерческих делах чем больше спрос, тем выше следует поднимать цену; однако торговал он обувью.
Ревниво оберегая свои сокровища, любители и торговцы не обращали внимания на «кризис». Как далеко то время, когда покупатели выступали в роли просителей! Вспоминаю американца, который настойчиво уговаривал меня: «Ну же, мсье Воллар, будьте молодцом! Это же для Соединенных Штатов! Уступите мне этого „ренуара“». Признаюсь, я не внял его страстным призывам, уверенный в том, что цены будут и дальше расти: картину я так и не продал. Она по-прежнему находится у меня, а с американцем я больше не виделся.
Несмотря ни на что, каждый из нас пытается убедить себя, что трудные времена пройдут и что рано или поздно деньги потекут к нам рекой. Мы упорно продолжаем ждать клиента. Раздается звонок… Дверь открывается. Может быть, это «он»?.. Да, действительно любитель. Но пришел он для того, чтобы перепродать какую-то картину!
XIV. Мои путешествия
Швейцария. – Испания. – Эльзас. – Голландия. – Глозель. – Лондон. – Рим. – Нью-Йорк. – Лисабон
Во время войны отдел пропаганды попросил меня выступить за границей с несколькими лекциями о живописи. Естественно, в качестве темы я выбрал творчество двух художников, которых знаю лучше всего: Сезанна и Ренуара.
Сперва я отправился в Швейцарию. Пересекая границу, я вспомнил об одном случае, происшедшем с господином Полем Аданом, когда он, сев в поезд на швейцарском вокзале, разместился в своем купе с двумя большими собаками. Появился контролер и потребовал, чтобы собак убрали.
– Я Поль Адан, – возразил писатель.
– А я слежу за соблюдением правил…
Я испытывал необыкновенное наслаждение оттого, что находился в стране, где царит такой порядок!
Каково же было мое удивление, когда в вагоне-ресторане я увидел пассажира, раскуривающего трубку, хотя табличка гласила: «Курить воспрещается». Я возмутился: «Вы не имеете права курить здесь». Но вмешался метрдотель и сказал: «Здесь мы еще во французской Швейцарии».
Несколько растерявшись, я выразил желание поскорее оказаться в районе, который мы все называем немецкой Швейцарией, за что получил довольно резкую отповедь от ее коренного жителя: «Немецкой Швейцарии, мсье, не существует, есть Швейцария немецкоговорящая».
Выйдя из поезда в Винтертуре, где должна была состояться моя первая лекция, я удивился тому, что здесь, в отличие от Франции, меня не оглушали пронзительные свистки.
– Вероятно, что-то испортилось в вашей машине, раз вы не подаете сигналов? – спросил я машиниста.
– Дело в том, что у меня нет желания схлопотать штраф, – ответил он.
В Винтертуре я был гостем супругов Ханлозер, ревностных пропагандистов французского искусства в Швейцарии. Какую замечательную коллекцию Боннара я увидел у них! А их «ренуары»! А «матиссы»! А «руссели»! А «вюйары»! Словом, в их коллекции было представлено все наше современное искусство.
Но у Ханлозеров восхитили меня не только картины. Дни, проведенные в их семейном кругу, были для меня настоящей разрядкой, которую я хотел бы чаще иметь в собственной стране. Молодая дочка хозяев подавала блюда, а ее юный брат разливал вина. И оба проявляли такую скромность, такую предупредительность!
В Винтертуре именитые граждане страны образуют истинную художественную элиту. Достаточно назвать Ханлозеров, Рейнхартов, Шульцеров, Бутлеров. Однажды в дружеском кругу один из них сказал: «Почему у нас нет музея? Чем мы хуже жителей Цюриха?» Тут же было решено открыть подписку. И за несколько дней они собрали необходимые средства. Так стало возможным строительство очаровательного музея, который можно было бы назвать храмом, возведенным во славу гения французского искусства: работы Сезанна, Ренуара стали его жемчужинами. До сих пор я отчетливо помню изумительные фрески К.-К. Русселя, словно озаряющие вестибюль. И что примечательно, в этом дворце удалось решить проблемы, связанные с освещением и отоплением, которые в других местах считаются недостойными хранителя музея.
Именно в зале винтертурского музея я должен был прочесть свою лекцию. Она была назначена на половину девятого. Верный своим парижским привычкам, я подумал, что, придя в назначенное время, еще успею посмотреть картины. Я был всего в двадцати метрах от здания, когда пробило половину девятого; сразу же после этого сторож, стоявший за дверью, закрыл ее на ключ. С большим трудом я уговорил его открыть мне: я так и не попал бы внутрь, если бы не должен был читать лекцию. Поэтому, когда на следующей неделе мне предстояло выступление в Женеве, также назначенное на половину девятого, я предпочел не опаздывать. Но моя пунктуальность оказалась излишней, так как зал был заполнен лишь на одну четверть. Слушатели, гораздо лучше знакомые с парижскими обычаями, пришли только к девяти.
Надо отдать должное швейцарцам: они умеют слушать и услышанное побуждает их к размышлениям. Так, на другой день после моей беседы в Женеве я встретился с одним из людей, побывавших накануне на лекции, и он, вдруг рассмеявшись, сказал: «Ах! Только теперь до меня дошел смысл того, что вы рассказали об одной из моделей Ренуара…»
Наши швейцарские соседи превосходно разбираются в винах. Кроме высоко ценимых в стране марочных вин, они отдают должное и французским сортам. Ах, какой же полезной пропагандой служат для нас наши вина! Наряду с литературой и живописью они всегда были нашими самыми уважаемыми «послами» за рубежом.
В Цюрихе я обнаружил в себе дар заклинателя птиц. Прохаживаясь по набережным города, я заметил ворона, сидевшего среди ветвей платана. Мне почудилось, что птица глядит на меня так, словно узнает меня. Ткнув своей тростью в ее сторону и раздвинув листву, я крикнул: «Милый ворон!» Птица приблизилась, перелетая с ветки на ветку, и принялась покусывать кончик трости. Я был изумлен. По возвращении в гостиницу я рассказал о вороне, которого мне удалось приручить. «А! – воскликнул хозяин гостиницы. – Это, наверное, ворон работника рыбоохраны. Он не пропускает ни одного прохожего».
В Цюрихе со мной произошло нечто такое, что озадачило меня в еще большей степени.
Через открытое окно я заметил в дальнем углу сада крохотный прудик, в нем отражались ветви ближайших деревьев, на которых, когда наступал рассвет, усаживались стаи птиц. Я даже усвоил привычку вставать в это время с постели, чтобы посмотреть, как они проносятся над водой, чиркая по ней крыльями, в поисках какой-нибудь утренней добычи.
Но однажды пруд куда-то исчез.
Я вызвал звонком гарсона.
– Скажите, ведь в глубине сада находился пруд? – спросил я.
– Пруд? Но здесь, мсье, никогда не было никакого пруда! Клянусь вам! Уборка сада поручена мне.
Выйдя из номера и испытывая некоторую тревогу за свое психическое состояние, я, встретив в салоне гостиницы одного приятеля, рассказал ему об этом.
– Ты помнишь, – сказал я, – небольшой и такой красивый пруд, который я показывал тебе из своего номера?..
– Да. Ну и что?
– Он исчез… прямо-таки испарился… Мало того, гарсон посмотрел на меня как на сумасшедшего, когда я спросил, что с этим прудом стало.
– Давай поднимемся к тебе.
Едва мы вошли в номер – а окно было открыто, – друг воскликнул:
– Вот тебе раз! Что ты мне рассказываешь? Этот прудик на своем месте…
– И правда!.. Но что все это означает?
– Вы продолжаете искать свой бассейн? – спросил гарсон, который в этот момент принес для меня почту.
– Уже не ищу. Он вернулся. Посмотрите сами.
– Ах, вот что вы принимали за пруд! Но это же зеркало, покрывающее стол, на котором подают чай одной английской семье. Сегодня утром его не стали выносить, потому что англичане завтракали в номере…
* * *
Некоторое время спустя я поехал в Испанию. Два знаменитых Атенеума Мадрида и Барселоны[78] обратились ко мне с просьбой рассказать о Ренуаре и Сезанне.
После того как пересекаешь границу, Испания производит впечатление опустошенной страны. Это поражало и Ренуара. «Однако испанцы живут не при Республике, – говорил он мне. – Этот режим ухитрился извести деревья в лесу, птиц в небе, зайцев в поле, рыбу в реке… Зато у испанцев есть козы, которые разоряют все».
В Париже мне говорили: «Вы едете в Испанию? Это самая грязная страна в Европе». Однако Испания, возможно, единственная страна, где на улице можно в полной безопасности пить из стакана, предназначенного для общего пользования: выпив воды, вы ставите его обратно под кран колонки. Помню, как однажды, войдя в кондитерскую, я показал пальцем на одно из пирожных, выставленных в витрине. Но продавщица резким движением опустила мою руку, сказав при этом: «О мсье, если прохожие увидят с улицы, как вы показываете на это пирожное пальцем, они могут подумать, что вы дотрагивались до него рукой». Сказав это, молоденькая продавщица взяла пирожное при помощи длинного металлического пинцета и, подавая его мне на тарелке, чуть отвела голову в сторону, чтобы на него не дышать. Я вспомнил, что читал когда-то о рабах, которые обслуживали карфагенян за столом, – они надевали повязки, прикрывающие нос и рот.
Прибыв в Барселону, я не преминул нанести визит генеральному консулу Франции. Меня сопровождали президент Ассоциации молодых художников и член Атенеума. Я вручил консулу письмо из отдела пропаганды, в котором меня ему рекомендовали.
– Еще одна лекция! – воскликнул консул. – Если я ее разрешу…
– Но, – перебил его один из сопровождавших меня испанцев, – мы пришли не затем, чтобы просить у вас разрешения на проведение лекции, господин генеральный консул; мы пришли для того, чтобы пригласить вас ее послушать…
Впрочем, послушать ее он не пришел.
После лекции (я говорил в основном о Ренуаре как о человеке) Ассоциация молодых художников, к которой присоединились члены Атенеума, решила послать Ренуару обращение: его авторы заверяли живописца в том, что для них было «счастьем почувствовать себя на несколько мгновений рядом с мастером». Чтобы их телеграмма дошла до адресата, они прибегли к помощи генерального консула, ибо, по их мнению, он был тем французом, который лучше всего подходил на роль посредника между ними и художником. Но только через три месяца из сообщения в «Пти Нисуа» Ренуар узнал о существовании этой телеграммы, которая так и не дошла до него. Я навел справки и узнал, что она даже не была отправлена!
Потом я направился в Мадрид, где удостоился самого теплого приема у посла, к которому пришел с рекомендательным письмом. Весьма учтиво он посетовал на то, что дела не позволяют ему послушать лекцию о художнике, вызывающем его восхищение. Впрочем, он стал жертвой недоразумения. В самом деле, я вскоре понял, что посол перепутал Ренуара-живописца с Ренуаром-рисовальщиком. Однако его отсутствие не отразилось на моей лекции: благодаря известности Ренуара мадридская аудитория приняла меня благосклонно.
* * *
По окончании войны мне представился случай побывать в Эльзасе. Я ехал туда, испытывая величайшее любопытство, поскольку в памяти сохранялись пленившие мое воображение в юности повести Эркманна-Шатриана, с описанными в них прекрасными девушками, которые заплетали свои светлые волосы в длинные косички, и гнездами аистов на крышах домов. Каково же было мое разочарование, когда я увидел, что большинство молодых эльзасок, как и всюду теперь, носили короткие прически, а что касается аистов, то они, как мне объяснили, находились в это время в Египте.
Из Эльзаса я отправился в Висбаден, собираясь открыть там галерею современного искусства. Я приехал в город, поражавший своей исключительной чистотой и необыкновенно гостеприимными жителями, – город, где многое напоминало мне старую Францию.
Я словно бы перенесся в свое детство: стены квартир были обклеены обоями в стиле Луи-Филиппа – круглые букетики в веночках из папоротника, – а у кондитеров можно было увидеть коробки драже, украшенные сюжетами Ватто, которые отыщешь разве что в старинных парижских домах, таких как Сеньо или «Маркиза де Севинье». Прогуливаясь однажды по парку, я увидел старика с красивой седой бородой, он вел под руку даму, на которой было платье с фижмами. Перед ними чинно шагали двое детей: девочка несла куклу, мальчик – серсо… А можно ли забыть Висбаден в дни больших религиозных праздников? Какие красивые процессии с хоругвями шествовали по дорогам, на которые отбрасывали тени вишневые деревья, отягощенные плодами! И какой необыкновенной честностью отличаются эти рейнцы! Я подошел к молодому человеку, устроившемуся под одним из придорожных вишневых деревьев, и протянул ему пятифранковую бумажку, прося его разрешить нам сорвать немного ягод. Отказываясь взять деньги, он сказал: «Это дерево принадлежит не мне».
В то время вследствие девальвации марки шестиэтажные дома предлагались за цену, не превышавшую двадцати пяти тысяч французских франков. Я присутствовал при заключении подобной сделки. Одна дама ждала омнибус для своего багажа.
– Как хорошо в Висбадене! – сказала она. – Было бы чудесно иметь здесь дом.
– Какой квартал предпочитает мадам? – спросил у нее портье.
– Ой, вы знаете, через пару часов я уезжаю.
– Этого более чем достаточно. – И человек показал пальцем на афишу, где предлагалось несколько вилл. – Вот вам целая партия домов на выбор…
Дама с удивлением посмотрела на портье, но тот уже снял телефонную трубку и, сказав что-то по-немецки, сообщил даме:
– Управляющий домами будет здесь не позднее чем через пять минут, а нотариуса предупредили, чтобы он не уходил из своей конторы.
Дама не успела опомниться от изумления, как подъехал на автомобиле управляющий, посадил рядом с собой свою будущую клиентку, и, осмотрев снаружи несколько домов, так как время ее поджимало, она выбрала наиболее ей приглянувшийся. Поскольку до отъезда она собиралась еще позавтракать, нотариус лично приехал в гостиницу и, пристроившись за соседним столиком, составил нотариальный акт. Он уведомил покупательницу, что, согласно закону, должен огласить ей документ, хотя она и не знает немецкого языка. Акт был уже дочитан почти до конца, когда министерский чиновник заметил, что его клиентка вышла на балкон, расположенный в столовой.
– Нам придется начинать все сначала. Закон запрещает покупателю выходить хотя бы на минуту из комнаты во время чтения акта.
К счастью, присутствующие заметили, что балкон крытый, и это спасло положение.
Потрясающая чистота Висбадена часто воскрешает в моей памяти Голландию, которая славится своей аккуратностью, где – я слышал подобные рассказы в детстве – у ослов и собак укрепляют под хвостами маленькие корзинки. Когда я сам отправился в Голландию около 1897 года, организовав в своей галерее на улице Лаффит первую большую выставку Ван Гога, я не увидел ни ослов, ни собак с корзинами, но не увидел и помета на улицах.
В ходе этой поездки я познакомился с обаятельным голландским художником Торопом, который прислал мне когда-то литографическую пластину для моего альбома художников-граверов. Я был поражен особой манерой его рисунка, и любопытная стилизация художника стала более понятной для меня, когда я узнал, что среди его голландских предков есть индусы.
Один забавный случай и по сей день вызывает у меня улыбку при воспоминании о нем. Заблудившись, я спросил у прохожего, как пройти, на каком-то ломаном языке, который счел более доступным для местного жителя. Мой собеседник покачал головой, а затем начал в свою очередь расспрашивать меня, перепробовав несколько языков. В конце концов прозвучал вопрос: «Вы говорите по-французски?» И, показав мне дорогу, человек спросил: «На каком языке вы только что говорили? Никогда не слышал ничего подобного».
Покинув Голландию, я проехался по другим городам севера. Как-то я остановился перед отелем, где медная кухонная утварь сверкала так, будто была сделана из золота. Я с удовольствием наблюдал за служанками, начищающими мебель, моющими полы, старательно смахивающими пыль метелками. Я вошел туда в час завтрака. После трапезы, направляясь к раздевалке, прошел мимо клозета, куда дверь осталась открытой, и залюбовался тем, с каким усердием маленькая служанка старалась навести блеск. Вдруг она выпрямилась. Я услышал, как назвали ее имя – Катьее. Хозяйка, державшая в руках коробку со столовыми приборами, что-то сказала девушке с упреком. И старательная Катьее принялась тереть столовое серебро той же тряпкой, которой она только что отдраивала стульчак в «одном месте».
* * *
Подобно многим французам, я знаю Францию гораздо хуже, чем зарубежные страны; впрочем, я сожалею об этом; но я никогда не испытывал потребность путешествовать ради своего удовольствия. Конечно, я бы не имел ничего против путешествий, если бы мог прихватить с собой свою спальню, свою горничную и вдобавок проводника, так как я вечно путаюсь в железнодорожных маршрутах. Это означает, что я путешествую лишь тогда, когда меня вынуждают к тому обстоятельства. Это означает также, что единственные районы во Франции, которые я хорошо знаю, – это Виттель и Виши, куда я езжу по рекомендации врачей.
Я оказался в Виши в то время, когда взгляды многих ученых мира были прикованы к небольшой коммуне, расположенной в окрестностях курортного городка, – коммуне Глозеля.
Молодой крестьянин из этого местечка, по имени Фраден, обрабатывая отцовское поле, обнаружил в земле большое количество разнообразных предметов: камней и кирпичей, покрытых рисунками и непонятными знаками; некоторые археологи усмотрели в них бесценные следы неолитического периода. Однако другие специалисты по истории первобытного общества однозначно высказались в пользу мистификации, полагая, что молодой Фраден играл в ней роль если не главного лица, то, по крайней мере, сообщника. В результате между учеными разгорелся ожесточенный диспут, так называемая глозелевская ссора, которая восстановила друг против друга оба лагеря и в которую – никаких сомнений на сей счет у меня не было – я также окажусь позднее вовлеченным вопреки своей некомпетентности. Произошло это при следующих обстоятельствах.
Когда я проходил курс лечения на курорте в Виши, господин Демезон, автор книги «Животные, которых называют дикими», повстречавшись со мной в парке, где я гулял после завтрака, спросил: «Кстати, мсье Воллар, что вы делаете сегодня после полудня?.. Поедемте с нами в Глозель… это в получасе езды отсюда…»
Немного погодя автомобиль доставил нас к небольшой ферме, на одном из зданий которой можно было прочесть: «Музей Глозеля. Плата за вход – 4 франка».
Войдя внутрь, посетитель вынужден был таращить глаза, чтобы разглядеть хоть что-нибудь. Через крохотное окошко проникал слабый свет, скупо освещавший лишь половину комнаты, в глубине ее находились две витрины, где хранились загадочные остатки неолита. Нас было там человек десять; двое имели розетки чиновников министерства народного просвещения, из чего я заключил, что это, вероятно, профессора. Они что-то записывали в свои блокноты, и мне показалось, хозяин дома, папаша Фраден, неодобрительно смотрит на этих людей, которые делают пометки или зарисовывают музейные экспонаты.
– Однако ничего нельзя разобрать! – воскликнул один из двух предполагаемых университетских преподавателей.
И действительно, хоть как-то были освещены лишь три предмета: доска с увековеченными на ней именами знатных посетителей, книга отзывов, в которой последние оставили свои подписи, и прикрепленный к стене четырьмя гвоздями портрет короля Румынии, вырезанный из газеты, издаваемой в Виши, под ним от руки было написано: «Король в Глозеле».
Остановившись перед застекленными шкафами, мои спутники пытались разгадать «глозелевскую загадку». Возле двери стоял небольшой диван в стиле Луи-Филиппа. Я сел на него и, оглядевшись, заметил на столе кипу номеров журнала, который узнал по фиолетовой обложке.
– Да это же «Меркюр де Франс»! – воскликнул я, обращаясь к папаше Фрадену. – Кто же его здесь читает?
– Ну я, мсье…
– А почему вы читаете этот журнал?
– Для того, мсье, чтобы повысить уровень культуры.
При слове «культура» другой крестьянин, показывая своему соседу на папашу Фрадена, произнес:
– Возможно, он знает толк в неолите, но что касается культуры, то я говорю вам: когда после овса вы закончили с пшеницей, надо снова вернуться к овсу…
– Идемте поглядеть на раскопки! – вдруг воскликнул кто-то из посетителей.
И вся компания отправилась к месту раскопок. Папаша Фраден шел впереди всех вместе с двумя сановниками из министерства народного просвещения. За ними следовала небольшая группа, состоявшая из врача, геолога-любителя, господина Демезона, молодой актрисы мадемуазель Реймон и меня.
Интересующий нас участок был расположен ниже склона холма. По пути, возле поля, где росли пшеница и маис, мы заметили четырехугольную грядку с многолетними растениями красивого голубоватого цвета.
– Что это такое? – поинтересовался я.
Геолог предложил спросить об этом девочку, которая пасла рядом стадо.
Милый ребенок был поглощен чтением книги. Я вообразил, что это одна из многочисленных публикаций, порожденных известным научным спором. Но глозелевская лихорадка еще не коснулась нашей юной пастушки. То, что она так внимательно читала – и что, кстати, представляет, по-моему, куда больший интерес, чем проблемы первобытной истории, – было «Полой иглой», романом, принадлежащим перу автора «Приключений Арсена Люпена»[79].
Показав девочке на цветки, которые привлекли наше внимание, мы спросили:
– Что это за растение?
– Я знаю только то, что имеет отношение к баранам, – ответила она.
Однако мы все же получили необходимую информацию, так как в этот момент какой-то прохожий воскликнул: «Смотри-ка, топинамбуры!»
Было уже почти пять часов, когда мы добрались до места раскопок. Это был довольно изрытый глинистый участок, тут и там виднелись более или менее глубокие ямы. Потоптавшись в глине и не увидев ничего примечательного, мы двинулись обратно.
– Ну, мсье Воллар, что вы думаете обо всем этом? – спросил у меня один из наших спутников, когда мы сели в автомобиль, направлявшийся в Виши.
Почувствовав в это мгновение что-то твердое у себя под ступней, я снял ботинок и извлек из него подковный гвоздь.
– Эврика! – воскликнул я и, протянув этот предмет собеседнику, продолжал: – Смотрите: гвоздь!.. Теперь хорошенько следите за ходом моих рассуждений. Предположим, что когда-то на участке Фраденов находилось что-то вроде разборного дома… Представим, что его владелец собирал разные ветхие вещи; в конце концов коллекция ему опостылела, и, допустим, перебираясь в другое место, он сбросил весь этот хлам в овраг, который впоследствии засыпало.
– Разборный дом! Ну конечно! – воскликнул мой собеседник. – Это позволяет объяснить отсутствие неолитического фундамента, которое так удивило ученых… Любительская коллекция… Черт возьми! Вот почему на раскопках у Фраденов находят столько остатков различных эпох. Эта версия гораздо более убедительная, чем решение, предложенное господином Камилем Жюльяном, знаменитым ученым из Коллеж де Франс, согласно которому там находилось логовище колдуньи и все найденное является ее колдовским инвентарем.
Свою гипотезу о брошенной коллекции я изложил (уже письменно) в статье, опубликованной в «Нувель литтерер» (от 29 октября 1929 года). Ее восприняли как забавную мистификацию, и я воздержался от протестов. Но каково же было мое удивление, когда позднее именно господин Камиль Жюльян собственной персоной также выдвинул версию о коллекции, брошенной ее владельцем.
* * *
Страной, которая произвела на меня самое сильное впечатление в ходе моих заграничных путешествий и одновременно показалась наиболее чопорной, была Англия. Можно подумать, что наши английские друзья, дабы утвердиться в своем индивидуализме, считают как бы долгом чести не отвечать на вопросы людей, чье произношение небезупречно, хотя они вас прекрасно понимают. К тому же путешественник должен учитывать, что некоторые слова английского происхождения приобрели во французском языке другой смысл. Лондонский отель, в котором я остановился, испытывал гордость за своего портье, говорящего по-французски. Когда я вернулся вечером из театра, дежурный гарсон, вместо того чтобы ответить на мой вопрос, указал мне на табличку: «Портье, говорящий по-французски, лег спать». Моему самолюбию льстило, что я в состоянии задать вопрос на приличном английском, и я авторитетно произнес: «Water-closet». Англичанин, с удивлением поглядев на меня, переспросил: «What?» Я почувствовал крайнее смущение. На мое счастье, один француз, знакомый с языком Шекспира, любезно предложил мне свои услуги. Таким образом я узнал, что по ту сторону Ла-Манша «waters» именуются туалетом. Я воспользовался предупредительностью этого человека и спросил, что на самом деле означает поразившая меня в поезде табличка: «No smoking». Прочитав эту надпись, я заключил, что в другой части вагона смокинг обязателен. Собеседник разъяснил мне, что по-английски выражение «no smoking» означает «курить воспрещается».
Разумеется, отправляясь в Лондон, я прихватил с собой фрак. Я облачился в него, когда собрался идти на званый ужин. Едва переступив порог дома, я заметил, что взгляды хозяев упорно обращаются в мою сторону. Каково же было мое изумление, когда, вернувшись в гостиницу, я заметил в номере лежащие на кресле фрачные брюки, сразу бросившиеся в глаза благодаря широкому шелковому галуну. Машинально посмотрев себе на ноги, я сообразил, что, отправляясь в гости, по рассеянности остался в брюках от моего выходного костюма. Теперь мне стало понятно удивление моих знакомых, которые были отчаянными модниками и могли подумать, что мои голубые брюки и мой черный фрак – «последний крик моды», привезенный из Парижа.
По правде говоря, я не могу в полной мере выразить свою любовь к Англии, величие и порядок которой производят такое сильное впечатление. Я видел Лондон со всеми его парками, отличающимися неповторимым зеленым цветом весной. Я видел его в густой туман, и никогда Лондон не казался мне более красивым. Вы передвигаетесь на ощупь и вдруг видите призрачные строения, воскрешающие в памяти сказки «Тысячи и одной ночи». В тот день, когда Лондон открылся мне с этой неожиданной стороны, роль проводника исполнял мой друг Поль Маз, известный французский художник, для которого Англия стала второй родиной.
Если человек улицы, словно из какого-то крайнего национализма, пропускает ваш вопрос мимо ушей, когда вы обращаетесь к нему не на безупречном английском, то, напротив, великодушный английский полисмен, представитель власти, находящийся в самом непосредственном контакте с толпой, постоянно присматривает за прохожими, готовый в любую секунду прийти на помощь. Как-то раз, выйдя из отеля, я принялся искать почтовый ящик. Увидев человека с письмом, в нерешительности глядящего по сторонам, бобби подошел ко мне и своей рукой в белой перчатке указал дорогу к почтовому отделению. И как приятно был я удивлен радушным гостеприимством, которое находишь в доме у англичанина, как только вас познакомили с ним. Мой друг Поль Маз отвел меня к одному из своих друзей. Лакей сказал нам: «Хозяина нет дома, но для его гостей, которые могут прийти, приготовлен чай». Мы выпили чаю, дожидаясь хозяина дома. И поскольку он сильно запаздывал, вернулись к Полю Мазу. Там мы застали его друга: он тоже пил чай, пока ждал Маза.
В Британском музее в том году выставили мумию, которой приписывались колдовские чары. Я всегда слегка опасался таинственных явлений, всего, что связано с потусторонними силами. Поэтому я отложил посещение на более поздний срок. Но сколько еще оставалось других музеев!.. Побывав в них, я пришел к выводу, что современное французское искусство с каждым днем занимает все более видное место в английских коллекциях, как публичных, так и частных. Во Франции меньше чем полвека тому назад импрессионисты скромно просили официальных художников позволить им поставить свой небольшой столик рядом с их столом, за которым сидели они, шикарные сотрапезники. Поэтому примечательно, что в такой консервативной стране, как Англия, те же импрессионисты столь быстро получили признание наряду с Гейнсборо, Лоуренсом, Тёрнером – короче, самыми прославленными британскими художниками, так что невозможно в полной мере ознакомиться с творчеством Мане, Ренуара, Дега, Моне, Сезанна, не посетив музеев Лондона и галерей его прославленных коллекционеров. Упомяну, в частности, наиболее значительные произведения крупнейших импрессионистов, собранные меценатом господином Самюэлем Курто, который принес в дар лондонским музеям ряд своих самых замечательных приобретений.
* * *
В 1903 году я издал «Подражание Иисусу Христу» с иллюстрациями Мориса Дени. На старой японской бумаге – впоследствии она стала недоступна – было отпечатано пять экземпляров; № 1 я отложил для того, чтобы преподнести его святейшеству папе Льву XIII. Вместе с этим экземпляром я вручил брошюровщику книгу стихов Верлена «Параллельно», изданную незадолго до этого. Однако по недосмотру, в котором так и хочется увидеть дьявольские козни, тетрадь с текстом «Параллельно» попала под обложку «Подражания», предназначавшегося для папы римского, и наоборот.
На другой день после того, как был принят тираж «Параллельно», ко мне пришел покупатель со своим бракованным экземпляром. Когда я хотел привести все в надлежащий порядок, он сказал:
– Право, это забавно… Я сохраню свой экземпляр именно в таком виде.
Однако все остальные «японские» экземпляры «Подражания» уже разошлись; поэтому я не имел возможности заменить отсутствующую тетрадь. Ничего не оставалось, как ждать, когда мой библиофил откажется от своей причуды. Так и случилось; но прошло более тридцати лет. Пожелав избавиться от экземпляра «Параллельно», покупатель убедил себя в том, что в таком виде книга отчасти утратила свою ценность. Поэтому он пришел ко мне сам и стал уговаривать произвести обмен, который я тщетно предлагал ему в свое время.
Теперь, когда экземпляр был восстановлен, мне ничего не оставалось, как преподнести его преемнику Льва XIII, который за долгие годы управления знаменитой библиотекой и ежедневного общения с книгами не утратил своего благоговейного отношения и любви к ним.
Приехав в Рим, поскольку посол, господин Шарль-Ру, отсутствовал, я нашел превосходнейший прием у советника посольства, господина Жака Трюэля. Последний обратился в Ватикан по поводу аудиенции для меня, на которую его святейшество любезно дал согласие.
По прибытии в Кастель-Гандольфо, где в тот момент находился папа римский, я был введен в просторный общий зал, и там меня встретил какой-то «монсеньор».
– Книга при вас?.. – спросил он.
Затем он провел меня в другой зал, где я увидел другого «монсеньора», и в его сопровождении я наконец попал в небольшую комнату с голыми стенами и без кресел. Единственным предметом обстановки был стоявший в углу небольшой письменный стол. На нем лежало «Подражание» в футляре, который он предложил мне снять.
– Maraviglioso![80] – воскликнул «монсеньор», увидев переплет.
Это была, конечно, римская учтивость, так как переплет выглядел весьма скромно.
– Когда объявят его святейшество, – сказал мне прелат, – вы опуститесь на колени и протянете издание святому отцу.
В проеме двери, через которую комната, где я находился, сообщалась с залами, которые я пересек по пути сюда, стоял священнослужитель в роскошном облачении, не отрывавший взгляда от запертой двери. Вдруг он скомандовал:
– На колени!
Я едва успел выполнить его приказание, как передо мной возник папа. Этот старик среднего роста в белом одеянии, стоявший посреди ничем не примечательной голой комнаты, показался мне еще более величественным, чем тот, которого я представлял себе во всем его папском великолепии.
Его святейшество по-отечески предложил мне подняться с колен, чего я не мог сделать без помощи приведшего меня туда «монсеньора», ибо все еще продолжал держать в руках книгу; и, находясь в таком затруднительном положении, я не увидел кольцо, которое папа римский протягивает паломникам. Когда я встал на ноги, святой отец взял книгу и, раскрыв ее, произнес:
– Мы весьма признательны вам за ваш подарок; мы уже знакомы с этим произведением, правда в менее роскошном варианте. Но каким образом этот великолепный экземпляр попал к вам в руки?
– Я его издатель, святой отец, – сказал я.
Его святейшество посмотрел на дату выпуска книги и воскликнул:
– Тридцать четыре года! – Очевидно, ему вспомнилось то далекое время, когда он не был отягощен бременем обязанностей главы Церкви.
Я осмелился попросить святого отца соблаговолить принять от меня в дар другое произведение, которое я издам в будущем, если оно окажется достойным Ватиканской библиотеки.
– Мы всегда питаем слабость к красивым книгам… и добрым книгам, – добавил он. – Я привык рассматривать себя в каком-то смысле хранителем Амброзианской библиотеки. Сейчас я благословлю вас.
Я сказал святому отцу, что был бы счастлив получить его фотографию с личной подписью.
– По этому поводу обратитесь к камерарию.
Затем этот старик, которому перевалило уже за восемьдесят – он держался прямо и твердо, хотя парижские газеты сообщали о его серьезной болезни, – направился в следующий зал, где благословил с десяток священников, преклонивших колени вдоль стены, потом проследовал в другие залы, там его благословения ждала целая толпа, состоявшая из людей самых разных возрастов и сословий: рабочих, буржуа, молодоженов. После того как глава Церкви удалился в свои покои, сопровождавший папу римского камерарий подошел ко мне и сказал:
– Я только что оставил святого отца с принесенной вами книгой в руках… Maraviglioso!
И я тоже воскликнул «Maraviglioso!», когда мне передали фотопортрет святого отца с его автографом; под ним его святейшество приписал еще такие слова: «От всей души».
За время моего слишком короткого путешествия по Италии я успел осмотреть Рим – это можно сделать, располагая всего лишь несколькими днями. Больше всего меня поразило ощущение безопасности, которое испытываешь там, порядок, царящий повсюду, и то, что каждый, похоже, знает, что ему делать. Примечательная деталь: в Риме не услышишь клаксонов. Впрочем, водитель, воспользовавшийся этим инструментом, будет немедленно оштрафован на пятьсот лир. Шоферы предупреждают друг друга отрывистым и очень нежным свистком, который создает у туриста чуть ли не иллюзию щебетания птиц. Насколько я мог заметить, такси не являются автомобилями последних моделей, что же касается фиакров – а они по-прежнему существуют в Риме, – то в передней их части установлен большой старый зонт, который возница раскрывает в дождливую погоду или при палящем солнце. Когда я выразил удивление по поводу этих свидетельств былых времен, мне сказали, что древние зонты сохраняются в Риме для колорита.
Поскольку в гостиницу на мое имя поступали послания из двух французских посольств, рассыльные стали величать меня «господин принц», и, когда я попробовал возразить, что я не принц, а господин Амбруаз Воллар, они ответили с низким поклоном: «Ну конечно, ваше превосходительство».
Кухню фешенебельных итальянских отелей я упрекнул бы только в том, что она стремится быть скорее космополитичной, чем национальной. Когда я заказал суп по-итальянски, на меня посмотрели с удивлением. Даже в Неаполе я с большим трудом сумел получить традиционный рыбный суп. Один мой приятель рассказал мне об отеле, где шеф-повар готовил спагетти в присутствии клиента, и мой собеседник изобразил движения человека, обеими руками растягивающего нити. Но когда выяснилось, что этот шеф-повар, кроме того, носит огромные усы – они, конечно, украшают мужчину, но я не люблю видеть их на лицах поваров, – у меня исчезло желание оценить его кулинарное мастерство.
В посольстве Франции, расположенном возле Квиринала, граф и графиня де Шанбрен оказали мне прием, который навсегда останется в моей памяти. Я имел честь быть представленным там принцессе Марте Рюсполи, любезно согласившейся сопровождать меня в прогулке по Риму. Мы совершили ее в то волнующее время суток, когда уже опускаются сумерки. Я сохранил незабываемые воспоминания о посещении очень старой церкви с клиром, украшенным византийской мозаикой, которую ризничий был вынужден показывать нам при свете свечи. Форум (признаюсь в этом не без стыда) показался мне не очень интересным. Рядом с нами один турист объяснял своей жене, что именно здесь восставшие воины собирались казнить своего командира Аристида, по прозвищу Справедливый, когда крики капитолийских гусей насторожили охрану. Этот экскурс в историю не слишком меня удивил: недавно я прочел в какой-то русской газете, что один ученик ответил на экзамене, что Спарта – жена Сталина.
Я горел желанием увидеть в музее Капитолия скульптурную группу с волчицей, легендарной кормилицей Ромула и Рема. Само животное великолепно, но я был весьма разочарован обоими малышами, созданными, судя по манере исполнения, гораздо позже, чем кормящая их мать. И когда я машинально спросил вслух: «Почему к волчице сделали это не очень удачное дополнение?», услыхавший мои слова сторож простодушно ответил: «Начальник уже ушел, иначе мы спросили бы у него».
Внешний вид терм Каракаллы произвел на меня большое впечатление. Войти туда я не смог, потому что, когда я пришел, уже запирали входную дверь. Но швейцар заверил меня, что снаружи термы выглядят куда более красиво, чем изнутри.
Более всего поразила меня в Риме базилика Святого Петра. Рядом с ней чувствуешь себя буквально подавленным, но скорее величием самого места, нежели массой изумительного архитектурного творения. Благодаря впечатлению силы и величия вас не коробят снующие туда и сюда толпы туристов, которые ведут себя в святом месте так же, как в публичном музее, несмотря на то что во всех прилегающих часовнях служат мессы.
Если я обхожу молчанием музеи Рима, в частности ватиканский музей, то только потому, что об их сокровищах слишком много писалось. Однако я имел случай увидеть, как определенная часть публики приобщается к искусству. Я следовал за гидом, который сопровождал семью, состоявшую из отца, матери и двух взрослых дочерей. Они остановились перед скульптурной группой «Юпитер и Антиопа».
– Юпитер очень увлекся Антиопой, – объяснял гид. – Тогда ревнивый муж велел заточить ее в башне и взял себе в жены другую…
– А что же Юпитер? – перебила его женщина, обращаясь к супругу.
– Спроси у гида.
– Я не знаю, – ответил последний.
И это все, что было сказано о «Юпитере и Антиопе».
Мне очень хотелось побывать в Неаполе. После строго упорядоченного Рима стремишься к какому-то отдохновению, хочется поскорее увидеть женщин, одетых в переливающиеся разными цветами одежды, людей, беспечно прогуливающихся или спящих на ступенях старинных мраморных дворцов; наконец, я всей душой жаждал увидеть традиционного неаполитанского лаццарони[81]. Так вот, ничего подобного я не обнаружил. В Неаполе все работают; там больше нет лаццарони. Я не раз слышал самые хвалебные отзывы о мягкости и красоте Капри. Я сел на пароходик, курсирующий между Неаполем и островом; кстати, это была очаровательная поездка. Сойдя на берег Капри и заметив женщин, головы которых были покрыты большими разноцветными платками, я воскликнул:
– Наконец-то я вижу местный колорит!
Сопровождавший меня друг прервал мои восторги:
– Я их узнаю, это парижанки, которых я видел в Канне, где в этом году модно носить платки вместо шляпок.
* * *
Американцы не раз удивлялись, что я никогда не был в Соединенных Штатах, где у меня появилось много знакомых и где я мог рассчитывать на самый радушный прием. Один из таких симпатичных американских друзей даже заверил меня: «Когда вы сойдете с парохода в Нью-Йорке, вам надо только выкрикнуть мое имя, и два носильщика тотчас же подбегут к вам и отвезут к моему дому».
Я долго не решался пересечь Атлантический океан; это удивительно, тем более что Америка связана с воспоминаниями моего раннего детства. Однажды я увидел гравюру, на которой была изображена великолепная коляска, в которой, развалясь на подушках, сидел импозантный джентльмен в сером цилиндре. Из большого ящика, стоявшего перед ним, он доставал многочисленные игрушки и раздавал их детям, толпившимся вокруг экипажа. Гравюра называлась «Дядюшка из Америки».
– Разве у всех детей есть дяди в Америке? – спросил я у матери.
– Да, если они хорошо себя ведут.
Поскольку мой дядюшка слишком долго не появлялся, я думал про себя: «Возможно, он ждет меня там». Он возник передо мной лишь через полвека, в Париже, в облике моего коллеги господина Этьенна Биньу, который как-то сказал мне: «Я собираюсь устроить выставку Сезанна в нью-йоркской галерее; вы должны приехать туда и торжественно ее открыть».
Одна только мысль о подобном путешествии приводила меня в ужас, ведь я не в состоянии разобраться даже в железнодорожном маршруте, не говоря уже о том, что я совершенно не ориентируюсь в пространстве!.. Даже в собственной квартире, когда однажды ночью погас свет в коридоре, я попал в кухню, полагая, что это столовая, и мне стоило огромного труда разыскать дверь, через которую я туда вошел. «Ну что с вами может случиться? – сказал мне господин Биньу. – Я сам заберу вас на улице Мартиньяка и, можете не сомневаться, доставлю вас целым и невредимым к месту отправления». В общем, я уподобился картине, доставку которой страховая компания гарантирует «от двери к двери», и поддался на уговоры.
Как только я приехал в Америку, вечером того же дня меня повели на Бродвей. Именно там я увидел, что такое жизнь Нью-Йорка: почти вызывающее смешение красок, шумов и движений, лихорадочная суета толпы, затейливый танец световых реклам, сверкающих на всех фасадах. Глаза слепнут от смены различных цветов, барабанные перепонки разрываются от тысячи уличных криков, сирен, пожарных машин и машин «скорой помощи», издающих свои зловещие и нескончаемые сигналы, и вдруг я слышу женский голос, который грохочет из усилителя, установленного на крыше движущегося такси. Эти вопли, как мне объяснили, прославляют достоинства одного из кандидатов на пост президента США. И посреди всеобщей сутолоки – причем нигде не увидишь ни одного полицейского – движение безупречно регулируется при помощи зеленых и красных огней светофоров…
На другой день после моего приезда у меня взяли интервью. Был задан почти ритуальный в Америке вопрос: «Сколько вы стоите?»
– Боже мой, мсье, все, чем я владею, – это картины, и они, на мой взгляд, бесценны. Но коллекционеры пользуются все возрастающим влиянием, их голос все чаще имеет решающее значение…
– Ну что ж, – ответил мой собеседник, – я поставлю цифру, соответствующую тому значению, которое придают вам здесь.
И на следующий день в «Нью-йоркере», в статье, озаглавленной «Легендарный Амбруаз», я прочитал, что стою шесть, а может быть, и восемь миллионов долларов!
Когда я вновь увиделся с этим журналистом, он спросил:
– Ну как, вы читали мою статью?
– Да…
– Вы согласны с тем, что я написал?
– О!.. С таким же успехом вы могли бы назвать сумму в десять, двадцать, тридцать… да что там, для ровного счета – пятьдесят миллионов долларов…
– Вы ведь прибыли позавчера, не так ли? Что ж, вы можете гордиться, за двое суток вам удалось стать стопроцентным американцем.
Впрочем, впоследствии я убедился, что пятидесяти миллионов долларов не всегда достаточно для того, чтобы произвести впечатление даже на среднего американца. Я остановился возле киоска, где была выставлена газета с портретом богатой наследницы из Чикаго, под ним указывались размеры ее приданого: сорок пять миллионов долларов. Сзади меня какой-то прохожий (я принял его за рассыльного) что-то сказал. Услышав его слова, мой друг, который меня сопровождал, рассмеялся. Я вопросительно посмотрел на своего спутника, и тот объяснил:
– Он сказал: «Как! У нее нет даже пятидесяти миллионов! Эта барышня выглядит более обеспеченной».
Один из первых вопросов, заданных мне по прибытии, был следующий:
– Что вы думаете об американских женщинах?
Я ответил, что они восхитительны.
– Кого вы считаете более красивой: француженку или американку?
– Когда я вижу американку, я нахожу самой красивой ее. Но когда передо мной француженка, мне кажется, что она самая очаровательная.
– А если, мсье, перед вами окажутся вместе американка и француженка?
– Ну что ж, я не стану поступать, как Парис, а разделю яблоко пополам.
– Вы были в зоопарке? – поинтересовался тот же журналист.
– Да, я видел там медведя, с которым не хотел бы встретиться где-нибудь в лесу.
– А как вам белочки?
– Нет существ более грациозных.
И интервьюер подытожил нашу беседу на страницах своей газеты следующим образом: «Господин Воллар в восхищении от американок, но он предпочитает им белочек!»
В другом интервью меня спросили:
– Сколько этажей в вашем доме?.. Три? В Америке это не принято… Скажем: шесть этажей, до отказа набитых шедеврами!.. Вы открыли Сезанна, Ренуара, Дега?..
– Ну что вы! В 1876 году, когда мне не было и десяти лет и я жил на далеком острове Реюньон, господин Шоке и другие открыли Сезанна. А что касается Дега и Ренуара, то еще до 1876 года люди вроде Дюран-Рюэля, Мэри Кэссетт, Теодора Дюре, Дюранти привлекли к ним внимание публики.
– Да, да, – не унимался мой собеседник. – Это вы открыли Дега, Сезанна, Ренуара.
Единственное, чего я не мог отрицать, – это то, что первую выставку Сезанна организовал именно я. И поскольку считалось, что мастер из Экса привнес в живопись свободу, меня в конце концов стали грубо отождествлять с самим художником, поэтому позднее, выступая с лекцией, я услышал от председателя собрания, что «с приездом господина Воллара Америка ощутила дыхание свободы».
Каково же было изумление людей, в присутствии которых я распаковывал чемоданы, когда они увидели среди моих вещей коробки французских спичек, привезенные мной в страну, где спичками можно воспользоваться бесплатно в любом кафе! Должен признаться, что именно я просил горничную не забыть об этом важном предмете.
Небоскребы Нью-Йорка, настолько высокие, что их вершины можно разглядеть лишь с большим трудом, поражают вас самыми неожиданными формами. Один увенчан копией башенки, украшающей суконные ряды Ипра, другой напоминает часовню Версаля с ее вазами в стиле Людовика XIV. Вспоминаю один из таких «билдингов»: на его крыше поблескивал крест Почетного легиона, размеры которого были пропорциональны высоте здания. Он служил прохожим напоминанием о том, что владелец дома – кавалер этого ордена.
Я сказал, что небоскребы являют взору самые неожиданные формы, смешение всех стилей. Готика, ренессанс, казарменный стиль соседствуют здесь друг с другом. Но, будучи освещенными, все эти здания напоминают пироги из пчелиного воска, где каждая ячейка приняла вместо меда капельку электричества. В результате возникает мощный архитектурный ансамбль, и все эти разноликие сооружения, охваченные одним взглядом, создают впечатление единого стиля – стиля абсолютно беспрецедентного, может быть, новаторского, во всяком случае делающего Нью-Йорк уникальным городом мира.
Гарлем!.. Друзья повели меня в ресторан, расположенный в негритянском квартале. После ужина мы остались в зале, чтобы послушать по радио прогнозы относительно президентских выборов. Через открытую дверь на кухню можно было видеть служанку, ощипывающую птицу. На голове у нее была одна из тех бумажных шапочек, которые надевают во время карнавала. Обслуживавший нас негр подошел к ней и накинул ей на плечи передник, чтобы защитить женщину от сквозняка; затем, когда птица была ощипана, они почти благоговейно поцеловались в губы и пошли танцевать в столовую. Это был танец, который, как мне сказали, называется «Нежность»: партнеры тесно прижимаются друг к другу. Продолжая танцевать, они о чем-то разговаривали и, должно быть, говорили о своей страстной любви, так как их глаза блестели странным блеском. Однако лица оставались неподвижными, словно были вылиты из бронзы. На самом деле под этой невозмутимой маской скрывался бурный темперамент, готовый в любую минуту взорваться. На кухне послышалась какая-то возня, оба чернокожих танцора бросились туда, и мы увидели, что они сотрясаются от хохота: один из цыплят вырвался из клетки и, преследуемый кошкой, спрятался в кастрюле.
После ужина мы пошли посмотреть негритянское ревю. Я видел подобное выступление в зале Ваграма, куда съехался весь Париж, но это не имело ничего общего с тем возбуждением, которое постепенно овладевало негритянскими актерами Гарлема и кульминация которого сама по себе была захватывающей. Мои спутники сказали мне, что эта самая гарлемская труппа недавно дала несколько представлений «Макбета». Как бы я хотел посмотреть этот спектакль!
Одна из характерных черт американца – щедрое гостеприимство, если он принимает вас дома. На улице вы ощущаете свою оторванность от мира, словно каждый из прохожих ваша полнейшая противоположность, но, оказавшись в гостях у американской семьи, вы начинаете чувствовать себя как дома. Забавно, но именно в Америке я впервые отведал виски, так же как в Англии, на родине виски, попробовал впервые коктейль. Признаюсь, этих двух экспериментов мне хватило сполна, и я ими ограничился.
Мой друг Биньу повел меня в кино на фильм, где роль главной героини исполняла восхитительная актриса, обладающая прекрасным голосом. Я спросил, не будет ли эта лента показана в Париже.
– Но перед вами американская версия французского фильма, – услышал я в ответ.
– А это очаровательное создание тем не менее американская кинозвезда? – спросил я.
– Американская кинозвезда?.. Да ведь это Мистенгет!
Впрочем, меня удивляло все. На просмотре фильма под названием «Старые камни» я увидел архитектурные памятники несравненной красоты. Сидя в дальних рядах, я не мог прочитать титры, но мое восхищение было столь велико, что после сеанса я поинтересовался, какой стране принадлежат подобные сокровища. Мне ответили: «Это парижские церкви».
Я сидел в кафе вместе с молодым американцем, когда он вдруг сказал мне: «Подождите минутку» – и бросился к автомобилю, стоявшему возле тротуара. Кажется, между ним и человеком, который находился в автомобиле, завязалась оживленная беседа. Вернувшись, мой спутник сказал:
– Бедняге ужасно не повезло. Он уже дважды сидел в тюрьме.
И он сообщил мне самые интимные подробности из жизни бывшего заключенного.
– Он ваш друг детства?
– Нет, я вижу его впервые. На переднем сиденье автомобиля я заметил очень красивую собаку и пошел спросить, где он ее приобрел…
– Скажите мне… значит, вы неплохо знаете тех людей, с которыми сталкиваетесь изо дня в день?
– Отнюдь. Вы понимаете, когда люди хорошо знакомы друг с другом, они испытывают взаимную подозрительность и ничего о себе не рассказывают. Владелец собаки в Нью-Йорке только проездом, вот почему он поведал мне историю своей жизни.
Я никогда не забуду впечатляющую картину, которая открывается взору, когда вы приплываете в Нью-Йорк или покидаете его на пароходе и мимо вас, как на смотре, проходят все эти огромные каменные кубы, напоминающие об усилиях каких-то гигантов. Это действительно исполинский город. Приведу одно убедительное доказательство. Нью-Йорк имел тенденцию развиваться в определенном направлении; его экспансия была приостановлена по воле одного-единственного человека – господина Рокфеллера, ибо она препятствовала его замыслам. «Нет ничего проще, – сказал король нефти, – я покупаю землю в центре города и строю на ней дешевые высотные здания». Он так и поступил, и «экспансионистов» след простыл, словно их засосали мощные вентиляторы.
Я восхищался сказочным зрелищем, которое являет собой Рокфеллеровский центр, но американский друг, выступавший в роли моего гида, воскликнул:
– Подумаешь! Этим зданиям уже четыре года, сегодня наверняка построили бы что-нибудь более современное.
Одна вещь возбуждала мое любопытство – подзорная труба, которую мой спутник носил на ремне за спиной. Вдруг он остановился и принялся изучать окна ближайшего дома.
– А! Моя машина готова, я вижу ее номер. – И он передал мне подзорную трубу; в одном из окон на пятьдесят четвертом этаже я заметил магазин автомобилей, где и была выставлена машина.
Мое внимание привлек небоскреб, возвышавшийся над всеми остальными.
– Я хотел бы подняться на самый верх, – сказал я своему гиду. – В этом здании, наверное, этажей сто пятьдесят?
– Самый высокий дом Нью-Йорка, – признался он, – насчитывает всего восемьдесят два этажа, и, похоже, никто не собирается возводить более высокие строения.
– Сколько нужно времени, чтобы забраться на такую высоту? – поинтересовался я.
– Секунда на этаж, но инженеры утверждают, что впоследствии длительность подъема сократится.
Когда мы возвращались в порт, мой спутник спросил:
– Не правда ли, захватывающая картина – лес небоскребов?
– Да, от этого у меня слегка сосет под ложечкой, нечто подобное я испытываю, когда вижу перед собой гигантское дерево.
– Интересно, сколько может стоить самое высокое дерево в мире?
– Господи! Не знаю… возможно, около тысячи долларов, – ответил я.
– И вы, мсье, осмеливаетесь сравнивать дерево стоимостью около тысячи долларов с домом, который обошелся более чем в пятьдесят миллионов!
– Но все-таки, когда перед вами гигантские деревья, неужели вы не любуетесь ими?
– Боже мой, мсье, я не имею дела с деревьями… Это бизнес торговца лесом…
Я мечтал подняться на последний этаж самого высокого «билдинга», чтобы позднее похвалиться перед друзьями, но человек, который отвечал за мою безопасность, всякий раз откладывал осуществление этой фантазии.
– Ну что ж, – сказал наконец мой опекун накануне моего отъезда, – теперь можете подниматься, куда вам заблагорассудится.
– О! И почему это стало возможно только сегодня?
– Да потому, что вы закончили читать лекции.
Я вопросительно посмотрел на него, не понимая, какая связь между лекцией и подъемом на небоскреб, поэтому он продолжил:
– На днях у одного пожилого господина, когда он поднимался в лифте, остановилось сердце.
– А что происходит, если останавливается сердце? – спросил я наивно.
– Как – что? Человек умирает. Вы теперь видите, ради предосторожности следовало подождать, когда вы завершите свою программу.
Что ошеломляет в Америке, так это демонстрация самых редких произведений искусства в помещениях, отмеченных печатью весьма странного вкуса; например, в доме, где я побывал, каждая комната была обставлена в своем стиле: готика, ампир, ренессанс и т. д. и т. п. А за поворотом лестницы вы вдруг обнаруживали прекраснейшую картину Ренуара…
В этой необычной манере показа следовало упрекать отнюдь не доктора Барнса, собравшего коллекцию из сотни картин Сезанна и двухсот работ Ренуара. Все касающееся хранения этих сокровищ им было предусмотрено, в частности то, о чем до сих пор не позаботился ни один музей, ни французский, ни зарубежный; я имею в виду систему отопления, благодаря которой повсюду поддерживается одинаковая температура воздуха. Стоит побывать в Америке только ради того, чтобы посетить музей Барнса. Но лучше всего садиться на пароход, имея в кармане разрешение мецената, не признающего авторитетов, что однажды испытал на себе директор одного музея, отклонивший когда-то «сезаннов» и «ренуаров», предложенных Барнсом. Говорят, самой миссис Р. было отказано в посещении фонда Барнса из-за того, что она – тогда, когда это было достойно похвалы, – не заявила о своей вере в Ренуара, Сезанна и других модернистов. Нетрудно представить, с каким усердием люди стремились попасть туда, ведь посещение музея Барнса служило своеобразным аттестатом хорошего вкуса. За два дня до моей лекции в фонде я услышал, как господин Биньу спросил по телефону у любителя из Детройта, не собирается ли он приехать в Нью-Йорк.
– В ближайшие два-три месяца это невозможно, – ответили на другом конце провода.
– Дело в том, что доктор Барнс позволил мне привести в фонд в следующее воскресенье нескольких человек по случаю лекции, которую будет читать господин Воллар, – разъяснил Биньу.
– Увидеть «сезаннов» и «ренуаров» Барнса! И ради этого преодолеть каких-нибудь три тысячи километров туда и обратно! Я все бросаю и еду!
Во время пребывания у господина Барнса я упал с крыльца и каким-то чудом избежал переломов.
– Ах, Воллар! – воскликнул мой хозяин, когда меня подняли. – Если бы вы убились насмерть, я похоронил бы вас прямо в фонде.
Два ученых мужа, которые слышали его слова, через несколько минут подошли ко мне, и один из них сказал:
– Мсье, мы с моим другом спорили о том, какое место вы предпочли бы, если бы вам предстояло быть похороненным здесь. Друг сказал, что наверняка под большими «Купальщиками» Сезанна. Я же склоняюсь к «Игрокам в карты».
Я ответил, что не чувствую пока никакого желания выбирать.
* * *
Я шел по Шиадо в Лисабоне, когда кто-то обратился ко мне:
– Как, мсье Воллар, вы здесь?
Меня самого удивляло не меньше, что я оказался так далеко от Парижа, ведь малейшее перемещение приводило меня в ужас.
По правде говоря, с помощью путешествия я надеялся отвлечься от обыденной суеты. Среди разного рода тревог, волнующих мир, я жил в полнейшей безмятежности с тех пор, как Лига Наций гарантировала наше спасение. Когда же на собрании с участием представителей разных партий известный политический деятель Греции господин Политис заявил, что, учитывая обязательства государств о взаимном ненападении, всякая война становится невозможной, с места поднялась одна славная женщина, пришедшая туда со своей авоськой, и спросила:
– Но, господин президент, если после подписания договора, о котором вы говорите, какая-либо из стран пошлет свои самолеты бомбить другую страну, что тогда?..
– Мадам, этот же вопрос и мы задавали себе, – ответил господин Политис. – Поэтому, чтобы быть готовыми ко всяким неожиданностям, в рамках Лиги Наций нами создана подкомиссия по моральному разоружению.
Моральное разоружение!.. Все мои иллюзии сразу улетучились, и я почувствовал ужасную тоску.
Именно в это время я и повстречался с принцем Робером де Брогли, и он сказал мне:
– Я собираюсь провести Пасху вместе с женой у нее на родине. Почему бы вам не поехать вместе с нами в Португалию?
Через день мы сели в поезд, отправлявшийся в Лисабон.
Оставив позади пустынные и унылые равнины Испании, мы оказались в стране, покрытой сплошной зеленью. Это была Португалия.
Не ждите от меня описаний ни красивых рисовых полей на берегах Мондегу, ни лесов Буссаку, ни великолепной реки Тежу, орошающей своими водами луга, где пасутся быки, предназначаемые для арен Кампо-Пекено. Я не буду описывать замечательные экскурсии, которые ждут путешественника на выходе из Лисабона; Кишкайш, называемый «Устье ада», с его скалистыми утесами, о которые с грохотом ударяются морские волны; Синтру, усеянную водопадами и бассейнами, царство зелени, где камелии и папоротники представляют собой настоящие деревья; необыкновенные монастыри, свидетельствующие о столь глубокой вере португальского народа, монастыри Мафры, Баталы, Томара. Я не буду также рассказывать ни о прославленном музее примитивов, ни о зале, где выставлены кареты, ни, наконец, о церквах. Все это не раз и подробно описывалось в книгах о Португалии. Поделюсь только впечатлением, которое получаешь, созерцая с вершины холма Санта-Лусия, при лунном свете, Лисабон, спускающийся уступами к спящей реке, ночная жизнь которого доносится смутным гулом, прерываемым пронзительными криками петухов.
Можно также говорить об особом очаровании Португалии, несравненной красоте ее цветов и плодов, о ее неподвижном голубом небе, о такой уютной домашней обстановке, когда находишься в гостях у португальцев, – короче, обо всем, что напоминает «сладость жизни» старой Франции, о которой Талейран хранил ностальгические воспоминания.
У своих хозяев, в часовне их Паласио де Роза, я присутствовал на пасхальном богослужении, церемония которого отличается здесь своеобразием. Первая оригинальная черта: мессе предшествовали салют и процессия со Святыми Дарами. Отправляющий богослужение священник был укрыт роскошным зонтом, который в тот день, ввиду отсутствия сеньора и по праву наследования в семье, нес его старший сын, облаченный в пурпурную накидку. К тому же я заметил присутствие в хоре ассистента, одетого в ярко-красный костюм. Поскольку на меня всегда производила впечатление красивая униформа, я с завистью смотрел на этого человека, принимая его за высокопоставленного церковнослужителя. Но мне объяснили, что это безбожник, обратившийся в христианство, которого таким образом публично чествовали. Другая примечательная особенность: в то время как богослужение велось священником на латыни, прихожане громко читали молитву на португальском языке. Литургия, отличавшаяся столь народным духом, воскресила в моей памяти картину Карпаччо, находящуюся в Венеции и так поразившую Ренуара, где изображен святой Павел, читающий проповедь и совершающий обряд крещения среди городской толчеи.
Лисабон – один из самых чистых городов на свете. Мадам Бланш Во рассказывала, что один сопровождавший ее португалец все время сплевывал на землю; из этого она заключила, что португальцы постоянно плюются. Однажды я увидел прохожего, который шел, жестикулируя и оставляя плевки. Я подумал: «Вот португалец госпожи Бланш Во». Но человек оказался французом.
В многолюдных кварталах Лисабона возникает ощущение, будто вы находитесь в одном из наших южных городков, где беспечные прохожие разгуливают прямо по мостовым, так что лисабонские шоферы усвоили невыносимую привычку подавать бесперебойные гудки. На главных улицах рядом с полицейскими, одетыми на манер английских бобби, можно увидеть и других блюстителей порядка, которые вместо великолепного голубого шлема носят какой-то зеленоватый кивер, делающий их слегка похожими на земноводных. Мне сообщили, что эти, так сказать, второсортные полицейские – безработные, ибо в Португалии безработных принуждают работать. Одних только нищих не заставляют трудиться. Можно подумать, что они существуют для местного колорита, удивительно напоминая музейные экспонаты. У них такой высокомерный вид, что, когда они протягивают шляпу, вас так и подмывает сказать, подавая им милостыню: «Gracias, senhor»[82].
Я зашел в лавку одного мелкого торговца, чтобы купить почтовые открытки.
– Ну как? Дела идут? – спросил я.
– После прихода правительства Салазара – да, до него они шли скверно.
– Вам повезло с этим правительством?
– Нет, сеньор, я очень недоволен правительством, но, если оно уйдет, будет еще хуже… Понимаете, до Салазара с меня брали небольшие налоги, но не было денег их оплатить; сегодня налогов много, но я могу их оплатить, и более того – удается скопить кое-какие средства.
– Тогда за что вы упрекаете Салазара?
– За то, что он зовется диктатором. Я лично республиканец… В России все величают вождя товарищем.
И торговец выпятил губу, словно предвкушая радость от прихода «товарища вождя». Я решил не говорить ему, что по приказу этого «товарища вождя» пачками расстреливают других товарищей. Мне вспомнилась старая легенда о семействе улиток, обитавшем на руинах замка; молодые улитки спрашивали у своего дедушки: «Когда же вернется хозяин замка и нас, как это бывало прежде, о чем нам рассказывали, поднесут ему на серебряном блюде в прекрасном одеянии из масла и петрушки?»
XV. «Премия художников»
Литература в оценках художников – с точки зрения книгопродавца
Литераторы всегда считали себя вправе оценивать художников. Почему бы художникам, в свою очередь, не оценивать писателей? Это соображение привело меня к мысли учредить «Премию художников», присуждаемую писателю решением жюри, состоящего из живописцев. Когда учредитель премии сам подбирает членов жюри, его могут заподозрить в субъективности. Чтобы не давать повода для подобных упреков, я пригласил художников диаметрально противоположных направлений, начиная от Альбера Бенара и кончая Вламинком, ван Донгеном и Полем Шаба. Таким образом, представители Института и фовисты объединились бы за одним столом во время обеда, по окончании которого был бы провозглашен лауреат. Художники, согласившиеся войти в состав жюри, не подозревали, какая лавина книг обрушится на их бедные головы. Когда мне понадобилось встретиться с господином Альбером Бенаром, я отправился к нему в мастерскую. Едва увидев меня, он, не говоря ни слова, показал рукой на книги, валявшиеся повсюду.
– Остается еще целая неделя до присуждения премии, – произнес он с грустью.
– Все эти тома вы, по крайней мере, получили днем? – спросил я.
И, услышав его утвердительный ответ, в котором сквозило удивление по поводу того, что кто-то мог принести ему книги ночью, я продолжил:
– Недавно я виделся с Семом… Так вот, к нему постучали около полуночи: кандидат принес полное собрание своих сочинений – целую кипу книг. Посетитель объяснил, что только что раздобыл адрес художника и, чтобы не будить консьержа, звонил во все двери подряд…
В день голосования, когда все садились за стол, пришел почтальон с объемистой посылкой и попросил меня расписаться в ее получении. Отправленная из Алжира самолетом, она содержала тетрадь с отпечатанными на машинке стихотворениями и письмо, в котором автор – а им была женщина – самоуверенно заявила, что машинописные рукописи должны приниматься к рассмотрению наравне со стихами, отпечатанными типографским способом, и что она не сомневается в высокой оценке своих стихов.
Лично я, признаться, испытывал беспокойство: могут ли прийти к какому-либо согласию художники, столь разные по своим взглядам? Однако выбор был сделан с необыкновенной легкостью: почти единодушно члены жюри отдали предпочтение Полю Валери, которого вскоре после этого приняла в свои ряды Французская академия.
* * *
После «Премии художников» мне пришла мысль учредить другую премию для писателей, на этот раз по решению жюри, состоящего из книготорговцев. Я всегда ценил их активность, их ум, их умение вести себя с покупателем и угадывать его духовные потребности.
Однажды, когда я был у Фламмариона, в магазин вошла покупательница, и один из служащих сказал другому:
– Должно быть, она пришла за «Дон Жуаном».
– Дайте мне «Дон Жуана» Марселя Прево.
– Но как вы догадались, что ей нужен именно «Дон Жуан»? – спросил я у продавца.
– Признаться, по шляпке этой дамы, по ее победоносному виду, по всему ее облику, наконец.
Они были не только хорошими психологами, меня поражало, когда я слышал разговоры книготорговцев, еще и то, с какой любовью они относились к продаваемым книгам, поэтому я не сомневался в правильности их выбора при присуждении премии. Но профсоюз владельцев книжных магазинов, к которому я обратился для осуществления своего замысла, вежливо заметил мне, что это невозможно. И когда я выразил удивление отказом в присутствии человека из мира книжной торговли, он сказал мне:
– Видите ли, мсье Воллар, настоящий книготорговец должен следовать директивам своего хозяина. Если он попытается навязывать клиентам свои личные взгляды, его не будут считать хорошим продавцом.
И все же я не отказался от своей идеи, но понял, что реализовать подобный проект, скорее всего, мне поможет именно профсоюз книготорговцев. Однако выяснилось, что у них вообще нет профсоюза.
– Вам нужен профсоюз, – сказал один мой друг, которому я поведал о постигшей меня неудаче, – так вот, есть профсоюз консьержей. Почему бы вам не учредить премию, присуждаемую консьержами?
Прежде чем предпринять какие-либо шаги в этом направлении, я поделился замыслом с консьержем дома, где жили мои знакомые, которого я всегда видел с газетой в руках.
– Вы попали в самую точку, – сказал он. – В нашей корпорации самая читающая публика. Подумайте только: все газеты сперва проходят через наши руки! К концу года накапливается неплохой багаж. Вы уже позаботились о зале для обеда?
– Какого обеда? – поинтересовался я.
– Ну, обеда, во время которого будут присуждаться премии. Ведь съедутся парижские консьержи, делегаты из провинции…
Я инстинктивно попятился назад, но он поспешил меня успокоить:
– Конечно, приедут не все…
Я уже достиг двери, и, таким образом, «Премию консьержей» постигла та же участь, что и «Премию книготорговцев».
XVI. Я становлюсь землевладельцем в сельской местности
Фонтенбло. – Трамбле-сюр-Модр
Лес Фонтенбло! Раскинувшийся на площади примерно семнадцать тысяч гектаров, он представляет собой равнину, усеянную бесчисленными соснами; есть и холмы, покрытые барашками папоротников, подлески и поляны, к которым питал пристрастие Коро; скалы, поразительным многообразием форм напоминающие призрачные подводные стада из той эпохи, когда воды скрывали то, что сегодня является лесом. Но природа, словно посчитав, что она и так щедро одарила Фонтенбло, отказала ему в воде. Встречающиеся там редкие источники представляют собой колодцы, прорытые на большую глубину.
По этой причине я уже подумал отказаться от приобретения обширного участка земли, соседствующего с лесом и показавшегося мне весьма соблазнительным, но однажды, прогуливаясь в тех местах с другом, я вдруг услышал нечто похожее на журчание ручейка.
– Не может быть! Источник?! – вскричал я.
Я позвал своего спутника, который отстал, собирая гербарий.
– Не слышите ли вы журчание, словно где-то течет вода? – спросил я у него.
– Вода? Но в лесу Фонтенбло нет воды.
– Все-таки надо проверить.
Через несколько минут поисков мы очутились возле ручья; чуть подальше он уходил в песок.
– Должно быть, недавно произошел подземный толчок, и в результате на поверхности образовался источник, – сказал мой друг.
Однако, поднимаясь вверх по течению ручья, мы вдруг оказались перед величественным акведуком, из которого со всех сторон изливалась вода. Я, конечно, знал, что в акведуке проделывают отверстия, чтобы дать выход избытку воды; но я невольно залюбовался творением гениального устроителя этих бьющих ключом струй, продемонстрировавшего здесь все богатство воображения, которое являют нашему взору лежащие в руинах старинные фонтаны. Это были маленькие водопады; это были тысячи шалостей забавного и невидимого «брюссельского мальчика», пускавшего струю временами толщиной с руку, временами тонкую, словно из шприца; а подальше сеялся легкий, как из лейки, дождик. Это неожиданное зрелище привело нас в неописуемый восторг. Земля, прилегающая к акведуку, как раз предназначалась для продажи. И я стал обладателем энного количества гектаров. Но в одно прекрасное утро, подойдя к акведуку, я наткнулся на бригаду рабочих.
– Что тут происходит? – спросил я у них.
– Мы чиним акведук. Решение об этом было принято еще тридцать лет назад.
Эта новость привела меня в ужас. Неужели воды больше не будет?! Это был конец феерии. Мне пришлось поспешить к лозоходцу, который, вооружившись своим прутиком, на мое счастье, обнаружил пласт драгоценной влаги, к тому же менее чем в двадцати метрах от того места, где я строил дом.
Меня соблазнили не меньше, чем фонтаны акведука, находящиеся на территории моих владений огромные скалы, покрытые мхом и лишайниками. Самая внушительная из них возвышалась над строящимся домом.
Одна молодая студентка, готовившаяся к сдаче экзамена на степень лиценциата естественных наук, приехала вместе с друзьями, чтобы провести день в моем имении. Показав на сосну, которая росла вплотную к скале, она спросила:
– Мсье Воллар, вы не боитесь, что однажды дерево, растущее на склоне скалы, рухнет и дом будет раздавлен?
Я успокоил юную «ученую».
Мне так не терпелось увидеть свой дом готовым, что я ездил в Фонтенбло каждую неделю. Но в одно прекрасное воскресенье вместо дома я увидел груду камней и железных балок. Оказалось, что фундамент был возведен на гигантской кроличьей норе. Разумеется, строительство надо было начинать сначала; но на сей раз подрядчик проявил бо́льшую осмотрительность и посредством крепкого фундамента обезопасил меня от подземных поползновений кроликов. Тем не менее этот «урок естествознания» на какое-то время отбил у меня охоту к профессии землевладельца.
* * *
Трамбле-сюр-Модр – небольшая деревушка, расположенная в пятнадцати километрах от Версаля, с которой нет железнодорожного сообщения. Этот край облюбовали многие художники. В Сен-Жермен-ан-Лэ обосновался Морис Дени, купивший там старое аббатство; в Марли-ле-Руа жил Майоль; в Этан-ла-Виль – К.-К. Руссель, художник нимф и фавнов. Чуть дальше, в Во-де-Серне, расположилась целая колония живописцев. Повсюду изобилие плодовых деревьев, и я не знаю зрелища более опьяняющего, чем то, которое они являют взору в пору цветения. Мне часто приходилось слышать восторженные отзывы о празднике цветущих вишен в Японии. Однако там природа и в пору цветения обнаруживает следы вмешательства человека. Здесь же деревья растут свободно. И вид этих деревьев, разбросанных по склонам холмов, необычайно привлекателен. Впрочем, в любое время года пейзажи Трамбле-сюр-Модр вызывают восхищение, даже тогда, когда окрестности покрыты снегом. Не могу забыть сочетание этого белого пространства и голубизны холмов, замыкающих горизонт.
Однажды весной, прогуливаясь в двух шагах от Трамбле, я вспомнил, что там живет Блез Сандрар. «Небольшой розовый домик рядом с местным столяром», – объяснил он мне как-то. Я легко нашел его. Сандрар сидел за пишущей машинкой посреди поля маков самых разных тонов и оттенков.
Услышав, как я восхищаюсь, Сандрар сказал:
– Здесь все растет чудесным образом. Почему бы вам не переехать сюда, Воллар? Кстати, тут продается старый дом с большим садом. Сходите посмотрите его!
Меня привели в восторг уже дверные пилястры, увенчанные букетами, вырезанными из камня, который время покрыло восхитительным налетом патины. Дом, довольно сельского вида, со старым колодцем, был выстроен в эпоху, когда все, вплоть до крестьянских хижин, выглядело весьма элегантно. Мое внимание привлек просторный амбар. Нет ничего проще, чем превратить его в ателье! Кстати говоря, один художник, работавший по моим заказам, часто жаловался мне на то, что у него нет небольшого участка, удаленного от городского шума, где он мог бы спокойно рисовать. Короче говоря, я соблазнился и приобрел этот дом. Но едва я подписал купчую, как начались неприятности. Сперва пересох колодец. Мне объяснили, что виной тому песчаная почва; чтобы обеспечить себя водой, надо было вырыть другой колодец, снабженный специальным устройством.
Пока продолжались работы по переоборудованию амбара и созданию колодца, художник, которому я пообещал мастерскую, не переставал меня подгонять:
– Уже середина апреля; будет ли готова мастерская к июлю? А колодец? Когда его накроют? Эта зияющая яма ужасно меня беспокоит: я представляю, как мои дети падают туда вниз головой.
Наконец к середине июля я сказал художнику: «Все готово, вы можете поехать и посмотреть».
Он одобрил выполненные работы. Колодец был наглухо закрыт, что избавляло художника от всякого беспокойства; мастерская также его удовлетворила. Он царапнул ногтем стену и сказал:
– Глядите, штукатурка крошится. Это признак того, что она вполне высохла. Мне будет здесь очень хорошо.
Но в Трамбле он так и не приехал.
И я тоже. Я не решился переехать в дом, возвышавшийся среди поля розовых кустов, которые я с таким большим трудом вырастил.
Почему-то все это напомнило мне неприятную историю с котом, который жил у меня на улице Лаффит. Животное имело привычку вскарабкиваться на штору, точнее, на планку, к которой она прикреплялась; на ней-то и любил дремать кот. Просыпаясь, он потягивался и спиной упирался в потолок.
Однажды я подумал: «Пожалуй, надо спустить планку для этого несчастного животного, и тогда ему не будет мешать потолок». Когда это было сделано, кот вскарабкался по шторе и устроился на своем обычном месте. Проснувшись, он стал потягиваться, выгибать спину и, не почувствовав над собой потолка, резко спрыгнул на пол и уже больше никогда не взбирался наверх по шторе…
XVII. Оригинальный человек Эжен Лотье
С Лотье я познакомился в Вильнёв-Сен-Жорж, где мы ловили щук. На веслах сидел наш общий друг Поль Мату. Лотье же держал леску, на конце которой болталась ложка: своим блеском она должна была привлечь рыбу.
Сколько раз я слышал, как о Лотье говорили: «Какой обаятельный человек!» В самом деле, в нем было нечто такое, что действовало на вас при первом же знакомстве. Когда я рассказал о нем Ренуару, живописец попросил: «Познакомьте меня с вашим другом Лотье».
Последний, в свою очередь, казалось, был польщен тем, что его представят великому художнику. И я организовал их встречу за обедом в Подвале. Лотье, обычно весьма непринужденный, чувствовал смущение в присутствии Ренуара. С его языка сорвалось слово «мэтр», которое заставило художника нахмурить брови, что не ускользнуло от внимания собеседника. С другой стороны, он не осмеливался говорить о живописи при Ренуаре, и разговор не клеился. Взгляд Ренуара упал на помятый кусочек железа, прикрепленный к цепочке, которой Лотье небрежно поигрывал.
– Вы смотрите на эту исковерканную монету, которую я использую в качестве брелока? – спросил он у Ренуара. – Это целая история. У меня была дуэль с ревнивым мужем. Прибыв на место дуэли, я расплатился с кучером двухфранковой монетой (дело было до войны), а он дал мне сдачи пять су. Я оставил ему четыре и одно су положил в карман; в эту-то монету и угодила пуля моего противника, но мне все же не удалось избежать ранения. – И, достав из жилетного кармана сплющенную пулю, Лотье передал ее нам. – В клинике, куда я был доставлен, – продолжал он, – однажды мне сообщили, что ко мне кто-то пришел. В палату вошла весьма красивая дама, не пожелавшая назваться. Подойдя ко мне, она извлекла из своего корсажа ленту, положила ее на мою постель и удалилась, так и не произнеся ни слова.
Лотье взял бумажник, достал из него ленту и развернул ее…
Ренуар, уже некоторое время проявлявший признаки раздражения, встал и откланялся. Когда я снова увиделся с ним, он сказал:
– Так вот, вашего Лотье с его монетой, пулей и лентой можете оставить для себя.
Иногда в Лотье обнаруживалось простодушие, что ускользнуло от Ренуара. Но Лотье был в то же время человеком решительным. Он это доказал, не побоявшись помериться силами с весьма грозным человеком Жаном Гальмо, Наполеоном Гвианы.
Обладая кипучей энергией, Гальмо обогатил колонию за счет промышленности, которую создал практически заново; и тут произошло чудо: ему удалось приучить к труду туземцев, до тех пор обладавших тем, что там зовется «татан». Гальмо, лишь однажды избранный депутатом, впоследствии имел неприятности с судебными властями, из-за чего лишился права быть избранным. Тогда он представил своим избирателям кандидата, который был одинаково неугоден как для меньшинства, так и для большинства в парламенте.
Поэтому министр колоний вызвал Лотье (обаяние этого человека было ему известно) и направил его в колонию, чтобы покорить гвианцев. Лотье ни минуты не колебался. Он отправился в путь с улыбкой на устах. Но гвианцы не те люди, которых можно подкупить лучезарной улыбкой. Они боготворили «папу» Гальмо и по его приказу проголосовали бы за самого дьявола. Чтобы получить побольше голосов за Лотье, администрация была вынуждена использовать всех «свиноматок» колонии – так называются большие избирательные бюллетени, которые, будучи сложенными вдвое, дают огромное количество маленьких бюллетеней. Разумеется, председатели избирательных участков принимали «свиноматок» лишь из рук «добропорядочных» избирателей. Но дело приняло скверный оборот. Сторонники Лотье и «папы» Гальмо пустили в ход кулаки, и последние прибегли к таким решительным действиям, что колониальные власти не нашли убежища более надежного, чем тюрьма, для защиты от народного гнева активистов партии Лотье. Впрочем, все было тщетно, тюрьму взяли штурмом, а ее случайных «заключенных» зверски убили. Что касается Лотье, то он ждал исхода событий за более надежными решетками в подвалах колониального банка. После его «избрания» под охраной жандармов он был посажен на судно целым и невредимым. Но кто знает, возможно, Лотье принял уличные выступления за взрыв воодушевления со стороны своих избирателей?
Как только его избрание было признано законным, Лотье стал заместителем начальника департамента изящных искусств. В этом новом качестве он проявил себя на редкость блестяще. Совет министров поручил ему также представлять правительство на официальных церемониях (Лотье называл это в шутку «своей ежедневной речью»). Он демонстрировал одинаковую компетентность в любой области, шла ли речь о музыке, литературе, истории. Помню, в частности, как вдохновенно говорил он на торжественном открытии памятника Жанне д’Арк.
Лотье обладал потрясающей памятью, это была какая-то лошадиная память (замечено, что это животное, если с ним плохо обращались в полку, непременно выказывает враждебность к любому, кто носит военную форму).
И самое удивительное, хотя он все прочитал и все запомнил, в выступлениях Лотье не было ничего книжного: он сохранил критический взгляд на вещи и непосредственность суждений. После одной из его речей люди говорили, что, когда слушаешь его, в голову приходит мысль о кристально чистом роднике, способном утолить жажду одним своим журчанием.
За свою долгую журналистскую карьеру Лотье ни разу не поверил в небылицы, которые использовались государствами после окончания войны якобы ради их безопасности. Лотье не принимал «словесную шелуху за суть вещей».
– Чего ты ждешь от парламента? – спрашивал он у Тардье. – Мне просто смешно, когда ты говоришь о своей группе.
Лотье больше уже не принадлежал к Бурбонскому дворцу. Пока он заседал там, слова «группа», «партия» еще имели для него значение. Кто-то высказал удивление по поводу того, что Пуанкаре отдал пост министра иностранных дел Бриану, хотя не скрывал своего малопочтительного к нему отношения.
– Дело в том, что Бриан пользуется доверием всех партий, – отрезал Лотье.
– Скажите, мсье Лотье, – спросил я, – не объясняется ли влияние Бриана тем, что он убедил своих коллег в наличии у него чудодейственного порошка, с помощью которого ему удастся изменить тысячелетние инстинкты немцев и превратить волков в блеющих агнцев? Пуанкаре, конечно, не захотел восстановить палаты против себя. Депутаты могли бы заявить: «Министерство иностранных дел без Бриана? Значит, вы отказываетесь от сближения с Германией? Значит, вы хотите войны?»
Лотье ничего не ответил. Он впал в сонное состояние, которое наваливалось на него внезапно.
Эпилог
В следующем после подписания перемирия году я получил от двух молодых иностранцев любопытное письмо такого содержания:
Уважаемый мэтр!
Мы имеем намерение открыть в нашем городе торговлю картинами. Нам сообщили, что в данной области Вы располагаете бесценным опытом. В связи с этим мы берем на себя смелость просить у Вас совета относительно того, как сделать состояние. Простите назойливость двух молодых дебютантов, которые испытывают к Вам самое искреннее уважение.
Примите, уважаемый господин, и т. д.Насколько я помню, ответил я им, по существу, следующее:
«Я не имею, я не знаю секрета, позволяющего разбогатеть. Мой опыт, которым вы просите с вами поделиться, напоминает мне лишь о том, чему я был обязан своей неисправимой сонливостью. Не один раз, входя в мою лавочку, любитель заставал меня дремлющим. Я слушал его, еще не вполне проснувшись, покачивал головой, мучительно пытаясь отвечать на вопросы. Принимая за отказ мое невразумительное бормотание, клиент постепенно увеличивал цену. Так что, когда я почти окончательно пробуждался, моя картина получала значительную надбавку. С полным правом можно сказать, что богатство приходит во время сна. И я желаю вам всяческих удач».
Приложение
I. Можно ли взвинтить цены на картины?
В рецензии на мою книгу «Воспоминания торговца картинами» («Меркюр де Франс» от 1 декабря 1937 года) господин Габриэль Брюне упрекает меня в том, что я «оставил в тени» «капитальный вопрос» истории современной живописи, который, «будто нарочно, имеет далеко не последнее значение».
Сей капитальный вопрос попросту можно сформулировать так: почему возросла стоимость картин? Господин Габриэль Брюне утверждает, что торговец картинами является «своего рода правителем живописи, что его королевская фантазия и коммерческие уловки способствовали созданию репутации художника и преобладанию в искусстве той или иной тенденции…». И он принимается разоблачать «оккультную власть торговца картинами, который часто извлекал на божий свет того или иного художника по причинам, остающимся загадочными для непосвященного».
Раз уж на то пошло, почему бы господину Брюне не обвинить заодно и государство, которое, готовя зарубежные выставки, обращается к тем же художникам, коих торговцы, путем интриг, «извлекли на свет божий»? Более того, именно государство на публичных распродажах взвинчивает цены на те же картины, к которым привлекли внимание публики «королевская фантазия» и «коммерческие уловки» торговца!
«Королевская фантазия», «коммерческие уловки»!.. Что там говорить, если на первой выставке Анри де Гру критика раструбила о появлении духовного сына Делакруа, а спустя более полувека произведения Анри де Гру не продвинулись на рынке живописи ни на йоту!
Но, непременно возразят господин Брюне и ему подобные, ведь некоторые картины торговцы передают на аукцион и выкупают через подставное лицо – как в случае с картиной Дега, цена на которую была поднята до войны до четырехсот тысяч золотых франков (четыре миллиона в современных деньгах), – не для того ли, чтобы облапошить любителя?
К несчастью, в случае с тем «дега» подставным лицом был не кто иной, как господин Хэвемайер, король сахара, к тому же оспаривавший права на картину у одного музея. И к несчастью, опять же для торговцев, когда на аукционе подскакивает цена на картины, любитель готов пойти на попятную. В частности, если говорить о полотнах Дега, то после того, как их стоимость достигла однажды четырехсот тысяч франков, произведение этого художника предложили любителю, и тот воскликнул: «Не потому ли вы назначаете мне столь высокую цену, что на аукционе Руара одна из картин Дега была продана за четыреста тысяч франков?» А когда возле полотна Дега клиенту говорили: «Назначьте цену сами, а мы с вами договоримся», последний возражал: «Должно быть, эта картина так себе, коли вы проявляете такую уступчивость, ведь „дега“ продали за четыреста тысяч франков!»
Господин Брюне, возможно, потребует объяснить ему: как торговцы ухитрились продать картины, приобретенные ими в свое время за сто франков, по цене в двести тысяч франков? Ответ прост: торговец вытянул счастливый билет.
Когда у Одилона Редона спросили: «Вы осознаете, что полотно Делакруа продается по более низкой цене, чем полотно Мункачи?», он ответил: «Дело в том, что никто не в состоянии взвинтить цены на картину; есть какая-то подспудная сила, против которой нельзя ничего поделать».
II. Будем скромными
Прочитав в прессе, что мои «Воспоминания торговца картинами» «увлекательны», что они «представляют собой изумительнейшую из книжек, одну из тех, что обладают особым, никогда не стареющим очарованием», и т. д. и т. п., я в конце концов поверил в свою удачу. Так что, услышав на одной вечеринке, как в группе людей произнесли мое имя, я подошел поближе.
– Мы говорили, – сказал, повернувшись ко мне, какой-то человек, – о «Воспоминаниях торговца картинами» Амбруаза Воллара. Вы знакомы с этой книгой, мсье?
Я замялся, не зная, что ответить. И мой собеседник продолжал:
– Я купил эту книгу, поскольку слышал о ней много хвалебных отзывов. Но как я жалею о потраченных тридцати пяти франках! Во-первых, этот господин Воллар не знает, что такое писательский дар. Он пишет так же, как говорит… Кроме того, в книге, насчитывающей около четырехсот пятидесяти страниц крупного формата с убористым шрифтом, он только и делает, что рассказывает истории. Взять, к примеру, историю папаши Юбю, субъекта, которому, похоже, в высшей степени наплевать на весь свет; а эти байки о неграх и попугаях! Разумеется, основу воспоминаний составляют рассказы о встречах с художниками. Но вы не найдете в них ни слова, написанного с точки зрения художественного критика…
– Я вижу, вы глубоко проанализировали книгу, – произнес другой.
– Да, я усвоил привычку дотошно разбираться во всем, что попадет мне в руки, особенно когда имеешь дело с этими жуликами…
– Какими жуликами, господин полковник? – поинтересовался кто-то.
– Ну государственными поставщиками.
Из последних слов я заключил, что полковник был офицером интендантской службы с пятью нашивками; и какая же незадача – иметь в числе недоброжелателей человека с пятью нашивками, особенно если полагаешь, что твоя персона что-то значит! Однако я надеялся взять реванш чуть позднее. Хозяйка дома представила меня одной из своих подруг:
– Познакомьтесь: мсье Воллар, автор «Воспоминаний торговца картинами», о котором все говорят и который в ближайшее время порадует нас новой книгой – «Слушая Сезанна, Дега, Ренуара»…
Затем хозяйка сообщила мне, какое удовольствие доставило ей чтение моих воспоминаний.
– И поскольку вы близко знаете Сезанна, Ренуара, Дега, – добавила она, – этих мэтров, о которых я столько слышала, я буду очень рада, если вы однажды пригласите их ко мне. Я принимаю по средам.
Я собирался сказать ей, что эти мэтры уже переселились в царство теней, как доложили о прибытии его королевского высочества. Моя собеседница, которая была лишь виконтессой, тотчас же оставив меня, устремилась навстречу гостям, и, пока она делала книксены, я удалился.
Если однажды я снова услышу слова: «Мсье Воллар, ваши „Воспоминания…“ потрясающи», я все равно весь съежусь и втяну голову в плечи…
III. Кесарево – кесарю…
В настоящей книге я привел высказывание, приписываемое Майолю, из которого можно заключить, что великий скульптор не знал, кто такой Дюамель. Как же мог я запамятовать, что именно в мастерской Майоля увидел произведения знаменитого писателя, и в частности его блестящую книгу «Принц Джафар»?
IV. Письмо господину Эдмону Жалу, касающееся отношений торговца и художника
Мсье!
В Вашей «Литературной хронике» («Эксельсиор» от 6 февраля 1938 года) читаешь: «Если господин Майоль мог существовать в течение многих лет, то прежде всего благодаря великодушию и уму господина Амбруаза Воллара».
Конечно, моему самолюбию польстило, что из-под Вашего пера вышло слово «ум» применительно к моей особе. И напротив, я был смущен тем обстоятельством, что отношения торговца и художника охарактеризованы словом «великодушие»; на мой взгляд, это примерно то же самое, как если бы о человеке, приобретающем участок земли, где он рассчитывает найти золото, написали, что покупатель демонстрирует великодушие по отношению к продавцу земельного участка…
Обладая привычкой анализировать чувства, что должно быть свойственно писателю с Вашим авторитетом, Вы поймете соображения щепетильности, продиктовавшие мне это письмо.
С почтениемА. В.Именной указатель
Аббема, Луиза (Louise Abbéma; 1853–1927) – французская художница и скульптор 223, 295
Абу, Эдмон Франсуа Валентин (Edmond François Valentin About; 1828–1885) – французский писатель 400
Адан, Поль (Paul Adam; 1862–1920) – французский писатель 498
Акуила, принц, собст. Луиджи Бурбон-Сицилийский, граф Акуила (Luigi di Borbone-Due Sicilie, Conte d’Aquila; 1824–1897) – принц Королевства обеих Сицилий, граф Акуила, младший сын короля Франциска I и Марии Изабеллы Испанской 47
Александр, Арсен (Arsène Alexandre; 1859–1937) – французский арт-критик, музейный деятель 139, 191
Алексис, Поль (Paul Alexis; 1847–1901) – французский писатель, драматург, журналист. Друг и биограф Эмиля Золя 247, 248
Алиньи д’, Теодор Каруэль (Théodore Caruelle d’Aligny; 1798–1871) – французский художник-пейзажист 43
Аллан (Allan) – коллекционер 46
Аллар (Allard) – директор монетного двора 61
Аллоу (Allow) – адвокат 71
Амон, Жан-Луи (Jean-Louis Hamon; 1821–1874) – французский художник 43
Андерсен, Ганс Христиан (Hans Christian Andersen; 1805–1875) – датский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок 119, 244
Андре, Альбер (Albert André; 1869–1954) – французский художник, член группы «Наби» 214, 220
Андре, Эллен (Ellen Andrée, собст. Hélène André; 1857–1925) – французская актриса и натурщица 222
Анна (Anna) – яванская девочка, модель Поля Гогена 305
Аполлинер, Гийом, собст. Вильгельм Альберт Владимир Александр Аполлинарий Вонж-Костровицкий (Guillaume Apollinaire; Wilhelm Albert Vladimir Alexandre Apollinaris de Wąż-Kostrowicki; 1880–1918) – французский поэт (польского происхождения) 15, 16, 208, 223–225, 372
Ари Шеффер (Ary Scheffer; 1795–1858) – французский исторический и жанровый живописец 37, 44, 383
Аристид Справедливый (540–467 до н. э.) – афинский государственный деятель 519
Арк д’, Жанна, Орлеанская дева (Jeanne d’Arc; 1412–1431) – национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне 112, 271, 548
Арно, Антуан (Antoine Arnauld; 1560–1619) – французский богослов 118
Аро (Haro) – служащий Дюран-Рюэля 47
Арокур Эдмон (Edmond Haraucourt; 1856–1941) – французский поэт, композитор, журналист, музейный деятель 141
Арпиньи, Анри Жозеф (Henri Joseph Harpignies; 1819–1916) – французский художник 145
Аструк, Захария (Zacharie Astruc; 1835–1907) – французский художник, журналист, скульптор, композитор и поэт 135
Бадер, Теофиль (Théophile Bader; 1864–1942) – один из создателей «Галери Лафайет», французской сети универсальных магазинов 247
Байль, Жозеф (Joseph Bail; 1862–1921) – французский художник 172, 312–314
Бальзак де, Оноре (Honoré de Balzac; 1799–1850) – французский писатель 12, 297, 334, 360, 432
Бамбон (Bambon) – мелкий торговец железным ломом на блошином рынке 485, 486
Бари, Антуан-Луи (Antoine-Louis Barye; 1795–1875) – французский скульптор и художник-анималист 31, 34, 46, 66, 70, 76, 87, 92, 93
Барнс, Альберт Кумс (Albert Coombs Barnes; 1872–1951) – американский врач, изобретатель и коллекционер. Создал образовательную художественную галерею Фонда Барнса 265, 435, 531, 532
Баройе (Baroilhet) – коллекционер 46
Барон, Анри Шарль Антуан (Henri Charles Antoine Baron; 1816–1885) – французский художник 43
Барриа, Луи-Эрнест (Louis-Ernest Barrias; 1841–1905) – французский скульптор 43
Бартоломе, Поль-Альберт (Paul-Albert Bartholomé; 1848–1928) – французский живописец и скульптор 449
Батистен (Baptistin) – садовник Ренуара 374
Беллио де (de Bellio) – коллекционер 81
Бенар, Поль Альбер (Paul Albert Besnard; 1849–1934) – французский художник, директор Школы изящных искусств 219, 290, 292, 332–334, 385, 413, 537
Бенедит, Леон (Léonce Bénédite; 1859–1925) – историк искусства и музейный деятель 137, 307
Бенувиль, братья: Франсуа-Леон (François-Léon Benouville; 1821–1859) и Жан Ашиль (Jean Achille Benouville; 1815–1891) – французские живописцы 43
Бенье, Луи Адольф (Louis Adolphe Beugniet; 1821–1893) – известный парижский маршан XIX века 37, 188
Беральди, Анжело Фердинанд Анри (Angelo Ferdinand Henri Beraldi; 1849–1931) – французский литератор, библиофил, основатель и президент Книжного общества, издатель и коллекционер гравюр; служил в министерстве морского флота и колоний 422
Берар, Виктор (Victor Bérard; 1864–1931) – французский археолог, политик, дипломат и писатель. Известен переводом «Одиссеи» на французский язык 81, 192
Бергсон, Анри (Henri Bergson; 1859–1941) – французский философ. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1927 года 356
Бернар, Сара, урожд. Генриетт Розин Бернар (Sarah Bernhardt; Henriette Rosine Bernard; 1844–1923) – французская актриса 294
Бернар, Эмиль (Émile Bernard; 1868–1941) – французский художник 15, 139, 350, 422, 423, 427
Б.[ернар] Мадлен (Madeleine B.[ernard]) – сестра Эмиля Бернара 349
Бернстайн (Bernstein) – коллекционер 321
Бернхейм, Александр (Alexandre Bernheim; 1839–1915) – совладелец галереи Бернхейм – Жён 73, 193, 410
Бертран, Алоизиюс, собст. Луи Жак Наполеон Бертран (Aloysius Bertrand; Louis Jacques Napoléon Bertrand; 1807–1841) – французский писатель 422
Бертран, Луи Мари Эмиль (Louis Marie Emile Bertrand; 1866–1941) – французский писатель 461
Бершер, Анри Эдуар (Henri Edouard Bercher; 1877–1970) – французский художник 43
Бетховен ван, Людвиг (Ludwig van Beethoven; 1770–1827) – немецкий композитор 323
Бида, Александр (Alexandre Bida; 1813–1895) – французский живописец, иллюстратор 43
Биндер (Binder) – коллекционер 46
Биньу, Этьенн (Étienne Bignou; 1891–1950) – французский маршан 487, 522, 527, 531, 532
Бириан (Biriant) – владелец фабрики холстов и других товаров для художников 33
Бишофсхейм, Фердинанд Рафаэль (Ferdinand Raphaël Bischoffsheim; 1837–1909) – бельгийский банкир и политик 71
Блан (Blanc) – коллекционер 68, 70
Бланки, Луи Огюст (Louis Auguste Blanqui; 1805–1881) – французский революционер-социалист, участник политических обществ и заговоров 201, 202, 357
Бланш, Жак-Эмиль (Jacques-Émile Blanche; 1861–1942) – французский художник и писатель 290, 335, 336
Блезо (Beaizot) – букинист 421
Блотань ван (Blotagne van) – служащий Дюран-Рюэля 32
Блуа, Жанна (Bloy Jeanne) – супруга Леона Блуа 388
Блуа, Леон (Léon Bloy; 1846–1917) – французский писатель, мыслитель-мистик 166, 388
Боденхаузен фон (Bodenhausen von) – барон 271
Бодлер, Шарль Пьер (Charles Pierre Baudelaire; 1821–1867) – французский поэт, критик, эссеист и переводчик 136, 319, 323, 330, 422, 423
Бокаж (Bocage), мадам – преподавательница английского у Амбруаза Воллара 119
Боке (Bocquet) – коллекционер 46
Больдини, Джованни (Giovanni Boldini; 1842–1931) – итальянский художник-портретист 290, 336, 339, 340
Бонвен, Франсуа (François Bonvin; 1817–1887) – французский живописец и график 43, 59, 60
Бонёр, Роза (Rosa Bonheur, полное имя Marie Rosalie Bonheur; 1822–1899) – французская художница 42
Бонингтон, Ричард Паркс (Richard Parkes Bonington; 1802–1828) – английский художник 28, 30, 31
Бонна, Леон, собст. Леон Жозеф Флорантен Бонна (Leon Joseph Florentin Bonnat; 1833–1922) – французский живописец, педагог, коллекционер 133, 134, 137, 165, 442, 495
Боннар, Пьер (Pierre Bonnard; 1867–1947) – французский живописец и график. Возглавлял группу художников «Наби» 15, 18, 138, 167, 185, 216, 270, 345, 347, 350, 378, 403, 412, 413, 415, 416, 419–421, 426, 463–465, 489, 499
Боннио, Эдмон (Edmond Bonniot) – зять Малларме 425
Бори, Адольф Эдвард (Adolph Edward Borie; 1809–1880) – американский бизнесмен и политик 51
Брак, Жорж (Georges Braque; 1882–1963) – французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор 18, 189, 432
Бракаваль, Луи Эдуар Жозеф (Louis Édouard Joseph Braquaval; 1854–1919) – французский художник 192, 450
Бракаваль (Braquaval), мадам – супруга Луи Бракаваля 450
Бракемон, Феликс (Félix Bracquemond; 1833–1914) – французский художник и гравер 83
Брам, Гектор-Анри-Клемент (Hector-Henri-Clément Brame; 1831–1899) – компаньон Поля Дюран-Рюэля 46, 48, 60, 66, 79, 87, 88, 188
Брандон, Жак Эмиль Эдуар (Jacques Émile Édouard Brandon; 1831–1897) – художник 83
Бранкузи, Константин (Constantin Brancusi; 1876–1957) – французский скульптор (румынского происхождения), один из основателей стиля абстрактной скульптуры 265
Браскасса, Жак Раймон (Jacques Raymond Brascassat; 1804–1867) – французский художник, пейзажист и анималист 43
Браун (Brown) – отец художника Джона Льюиса Брауна 28
Браун, Джон Льюис (John Lewis Brown; 1829–1890) – французский художник 28, 70, 100, 131, 144–146, 156, 290–293, 304, 336, 495
Бреден, Родольф (Rodolphe Bresdin; 1822–1885) – французский рисовальщик и гравер 120, 342
Бредиус, Абрахам (Abraham Bredius; 1855–1946) – нидерландский коллекционер, историк искусства, музейный куратор 50
Бредли, Уильям Эспенуолл (William Aspenwall Bradley; 1878–1939) – литератор, издательский работник 108, 355
Брейгель, Питер Старший (Pieter Bruegel de Oude; ок. 1525–1569) – нидерландский живописец и график 5
Брен (Brun) – друг Мане 179, 327
Брен, Викторина – см. Мёран, Викторина
Бриан, Аристид (Aristide Briand; 1862–1932) – французский политический деятель 390, 549
Брогли де, Робер (Robert de Broglie; 1880–1956), принц – французский аристократ 533
Брюан, Аристид, собст. Аристид Луи Арман Брюан (Aristide Louis Armand Bruand; 1851–1925) – французский поэт, шансонье, комедиант и владелец кабаре 165, 166
Брюне, Габриэль (Gabriel Brunet; 1889–1964) – литературный критик, романист и преподаватель 552, 553
Буайар (Boyard) – коллекционер 46
Бугро, Адольф Вильям (Adolphe William Bouguereau; 1825–1905) – французский живописец, приверженец академизма 43, 274, 436
Буден, Эжен-Луи (Egène-Louis Boudin; 1824–1898) – французский художник 70, 83, 97, 100, 189
Буланже, Жорж Эрнест Жан Мари (Georges Ernest Jean Marie Boulanger; 1837–1891) – французский генерал, политический деятель 135
Булар, Огюст Мари (Boulard Auguste Marie; 1825–1897) – французский художник 43, 144, 145
Бурдель, Эмиль Антуан (Emile Antoine Bourdelle; 1861–1929) – французский скульптор, ученик Родена 361–365, 410, 411
Бурже, Поль (Paul Bourget; 1852–1935) – французский критик и романист 459
Бурюэ-Оберто (Bouruet-Aubertot) – коллекционер 46
Буссо, Леон (Léon Boussod) – маршан, вошедший в фирму Гупиля 144, 350
Бутлеры (Butler) – семейство 499
Бюроло (Buroleau) – дядюшка Амбруаза Воллара 117
Бюрти, Филипп (Philippe Burty; 1830–1890) – французский критик искусства, коллекционер, литограф и карикатурист 54
Бюффон, собст. Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон (Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon; 1707–1788) – французский натуралист, биолог и писатель 432
Вагнер, Вильгельм Рихард (Wilhelm Richard Wagner; 1813–1883) – немецкий композитор, дирижер и теоретик искусства 392, 414
Ваграмский принц, Ваграм де (Wagram de) – французский аристократ 306, 527
Ваграм де (Wagram de), княгиня – французская аристократка 85
Валадон, Рене (René Valadon; 1848–1921) – французский маршан, вошедший в фирму Гупиля 350
Валери, Поль, собст. Амбруаз Поль Туссен Жюль Валери (Paul Valéry; Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry; 1871–1945) – французский поэт, эссеист, философ 333, 538
Валлоттон, Феликс (Félix Vallotton; 1865–1925) – швейцарский художник и график 347, 348
Вальпинсон, Поль (Valpinçon Paul) – французский коллекционер, друг Эдгара Дега 315, 316
Вальта, Луи (Louis Valtat; 1869–1952) – французский художник и гравер 192, 347, 414, 415
Ван Гог, Винсент Виллем (Vincent Willem van Gogh; 1853–1890) – нидерландский художник-постимпрессионист 5, 138, 139, 171–173, 185–187, 242, 254, 259–261, 306, 350, 506
Ван Гог, Теодор (Тео) (Theodor van Gogh; 1857–1891) – сотрудник фирмы Гупиля, брат Винсента Ван Гога 5
Вандербильт, Джордж Вашингтон II (George Washington Vanderbilt II; 1862–1914) – американский коллекционер искусства, представитель известной династии бизнесменов 66, 73
Ватто, Жан Антуан (Jean Antoine Watteau; 1684–1721) – французский живописец 340, 504
Вебер (Weber) – владелец ресторана 162
Вейль, Берта (Berthe Weill; 1865–1951) – французская деятельница культуры, арт-дилер 7
Веласкес, собст. Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес (Diego Rodríguez de Silva y Velázquez; 1599–1660) – испанский художник 50, 283, 288, 295
Вель (Weyl) – французский маршан 37
Вентури, Лионелло (Lionello Venturi; 1885–1961) – итальянский искусствовед и историк искусства 10
Верде, Эдмон (Edmond Werdet; 1793–1870) – французский писатель и издатель 437
Вердье (Verdier) – французский коллекционер, зубной врач 71
Верлен, Поль Мари (Paul Marie Verlaine; 1844–1896) – французский поэт 18, 220, 392, 419, 420, 426, 427, 515
Верне, Орас, собст. Эмиль Жан Орас Верне (Emile Jean Horace Vernet; 1789–1863) – французский художник и дипломат 37, 39, 44
Веронезе, Паоло, собст. Паоло Калиари (Paolo Caliari Veronese; 1528–1588) – один из виднейших живописцев венецианской школы 283, 435
Вибер, Жан Жорж (Jean Georges Vibert;1840–1902) – французский художник-академист и драматург 444
Визева де, Теодор (Téodor de Wyzewa; 1862–1917) – французский писатель, критик (польского происхождения) 381, 387, 388, 455
Вийетт, Леон Адольф (Léon Adolphe Willette; 1857–1926) – французский живописец, карикатурист, иллюстратор 163, 165, 166, 202, 203
Вийо (Villot) – коллекционер 46, 47
Вийон, Франсуа, собст. де Монкорбье или де Лож (François Villon; de Montcorbier; des Loges; 1431 или 1432 – после 1463, но не позднее 1491) – французский поэт 423
Вильгельм II (Wilhelm II; 1859–1941) – последний германский император и король Пруссии (1888–1918) 474
Вильмен, Абель-Франсуа (Abel-François Villemain; 1790–1870) – французский писатель и государственный деятель, критик и историк литературы 30
Вимберг (Wimberg) – врач из Института Пастера 482
Виньон, Виктор Альфред Поль (Victor Alfred Paul Vignon; 1847–1909) – художник-пейзажист, импрессионист 248, 249
Вламинк де, Морис (Maurice de Vlaminck; 1876–1958) – французский живописец-пейзажист, музыкант и писатель. Входил в группу фовистов 15, 195, 351, 352, 369, 415, 489, 537
Во, Бланш (Blanche Vogt), мадам – знакомая Амбруаза Воллара 535
Воглер, Поль (Paul Vogler; 1852–1904) – французский художник-импрессионист 139
Воллар, Амбруаз (Ambroise Vollard; 1866–1939) – французский маршан 6–8, 12–19
Вольфф, Альбер Абрахам (Albert Abraham Wolff; 1835–1891) – французский писатель, драматург, журналист (немецкого происхождения) 441
Вормс де Ромильи (Worms de Romilly) – коллекционер 46
Вюйар, Жан-Эдуар (Jean-Édouard Vuillard; 1868–1940) – французский художник-символист. Входил в группу «Наби» 15, 138, 185, 345, 347, 350, 412, 413, 424, 425, 489
Габриэль (Gabrielle) – модель Ренуара, его домработница 327–330, 404
Гаварни, Поль, собст. Ипполит Сюльпис Гийом Шевалье (Paul Gavarni; Hippolyte Sulpice Guillaume Chevalier; 1804–1866) – французский график, карикатурист 31, 34
Гаве (Gavet) – коллекционер 65, 66, 87
Гайар де Ферри (Gaillard de Ferry) – французский дипломат, друг семьи Поля Дюран-Рюэля 24
Галлимар, Поль Себастьен (Paul Sébastien Gallimard; 1850–1929) – французский библиофил и коллекционер живописи 386
Гальмо, Жан (Jean Galmot; 1879–1928) – французский писатель, бизнесмен и авантюрист 547, 548
Гарнье (Garnier) – коллекционер 70
Гарриман (Harriman) – американский коллекционер 68
Гаске, Иоахим (Joachim Gasquet; 1873–1921) – французский писатель, поэт, художественный критик 321–324
Гаске (Gasquet), мадам – супруга Иоахима Гаске 323
Гаше, Поль-Фердинанд (Paul-Ferdinand Gachet; 1828–1909) – французский доктор, последний лечащий врач Винсента Ван Гога; почитатель импрессионизма и постимпрессионизма 198
Гварди, Франческо Ладзаро (Francesco Lazzaro Guardi; 1712–1793) – итальянский художник-ведутист 280
Гейнсборо, Томас (Thomas Gainsborough; 1727–1788) – английский живописец, график, портретист и пейзажист 514
Гемар (Ghemar) – брюссельский фотограф 61
Генрих Орлеанский, герцог Омальский (1822–1897) – пятый сын последнего короля Франции Луи-Филиппа 30, 44
Герен де, Жорж-Пьер Морис (Georges-Pierre Maurice de Guérin; 1810–1839) – французский поэт 30, 430
Гесиод (Ἡσίοδος; VIII–VII вв. до н. э.) – первый исторически достоверный древнегреческий поэт 432
Гехт (Hecht), братья – коллекционеры 81
Гийо (Guillot), семейство – друзья семьи Дюран-Рюэль 25, 26
Гийом, Альбер (Albert Guillaume; 1873–1942) – французский художник, карикатурист, иллюстратор, мастер плаката 237
Гийом, Жан-Батист-Антуан (Jean-Baptiste-Antoine Guillemet; 1843–1918) – французский художник-пейзажист 489
Гийом, Поль (Paul Guillaume;1891–1934) – французский маршан 486
Гийомен, Александр-Мария (Alexandre-Marie Guillemin; 1817–1880) – французский живописец-жанрист 43
Гийомен, Жан-Батист Арман (Jean-Baptiste Armand Guillaumin; 1841–1927) – французский живописец 83, 100, 165, 248, 290, 302, 303
Гирландайо Доменико (Domenico Ghirlandaio; 1448–1494) – итальянский (флорентийский) художник Кватроченто 351, 352
Гис, Константен (Constantin Guys; 1802–1892) – французский художник 162
Глейр, Марк Габриэль Шарль (Marc Gabriel Charles Gleyre; 1806–1874) – швейцарский художник и педагог, представитель академизма 43
Глоанек (Gloanec) – хозяйка отеля 349, 350
Гоген, Эжен Анри Поль (Eugène Henri Paul Gauguin; 1848–1903) – французский живописец, скульптор-керамист и график 136, 185, 242, 243, 255, 259, 264, 269, 272, 290, 305–308, 346, 349, 350
Гоголь, Николай Васильевич (фамилия при рождении Яновский; 1809–1852) – русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист 431
Гойя, собст. Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (Francisco José de Goya y Lucientes; 1746–1828) – испанский художник 48, 50, 51, 104, 180, 242, 283, 288, 295
Гольдшмидт (Goldschmidt) – коллекционер 58
Гомер (Ὅμηρος, VIII в. до н. э.) – легендарный древнегреческий поэт-сказитель 316, 317, 427
Гонсалес, Ева (Eva Gonzalès; 1849–1883) – французская художница-импрессионистка 75
Гортензия де Богарне (Hortense de Beauharnais; 1783–1837) – королева Голландии (1806–1810) 173, 205
Готье, Пьер Жюль Теофиль (Pierre Jules Théophile Gautier; 1811–1872) – французский поэт и критик романтической школы 387
Готье, Эмиль-Феликс (Émile-Félix Gautier; 1864–1940) – французский географ и этнограф 385
Гревен, Альфред (Alfred Grévin; 1827–1892) – французский скульптор, художник-карикатурист, иллюстратор и создатель театральных костюмов; основал музей восковых фигур (1882) 230
Гределю (Grédelue) – позолотчик 70
Грёз, Жан-Батист (Jean-Baptiste Greuze; 1725–1805) – французский живописец-жанрист 383
Гру де, Анри (Henry de Groux; 1866–1930) – франко-бельгийский художник, график и скульптор-символист 30, 31, 235, 236, 290, 297–299, 553
Гупиль, Адольф (Adolphe Goupil; 1806–1893) – владелец интернациональной фирмы, торговавшей предметами искусства 37
Гэ (Guet) – банкир и друг детства Поля Дюран-Рюэля 49
Гэмберт (Gambart) – лондонский торговец картинами 44
Гюго, Виктор Мари (Victor Marie Hugo; 1802–1885) – французский писатель (поэт, прозаик и драматург) периода романтизма 109, 121, 209, 330, 439
Гюисманс, Жори́с-Карл, собст. Шарль-Жорж-Мари Гюисманс (Joris-Karl Huysmans; Charles-Georges-Marie Huysmans; 1848–1907) – французский писатель 140, 141, 306, 353
Давид, Жак-Луи (Jacques-Louis David; 1748–1825) – французский живописец 30
Дана, Пол (Paul Dana; 1852–1930) – американский журналист, редактор газеты «Нью-Йорк сан» (New York Sun) 68
Данкен (Duncan) – коллекционер 67
Данте Алигьери (Dante Alighieri; 1265–1321) – итальянский поэт, мыслитель, богослов, политический деятель 353
Дарде, Поль (Paul Dardé; 1888–1963) – французский скульптор 222
Де Ниттис, Джузеппе (Giuseppe De Nittis; 1846–1884) – итальянский художник 83
Деба-Понсан, Эдуар (Édouard Debat-Ponsan; 1847–1913) – французский художник-академист 147–154, 156, 382
Дебутен, Марселен Жильбер (Marcellin Gilbert Desboutin; 1823–1902) – французский художник и график 168
Девериа, Ашиль Жак-Жан-Мари (Achille Jacques-Jean-Marie Devéria; 1800–1857) – французский художник, акварелист и литограф. Брат Эжена Девериа 29, 34
Девериа, Эжен Франсуа Мари Жозеф (Eugène François Marie Joseph Devéria; 1805–1865) – французский художник 29, 34
Девис, Эрвин (Erwin Davis; ок. 1831–1902) – американский коллекционер европейской живописи 73, 75, 101
Дега, Рене (René Degas) – брат Эдгара Дега 428
Дега, Эдгар, собст. Илер-Жермен-Эдгар де Га (Edgar Degas, Hilaire Germain Edgar de Gas; 1834–1917) – французский живописец-импрессионист 15, 17–19, 71, 76–81, 83, 92, 100, 103, 104, 144, 145, 159, 162, 165, 168–170, 177–179, 191–194, 207, 208, 216, 219, 220, 243, 244, 259, 269, 290, 306–315, 317, 318, 333, 336–338, 340, 341, 346, 351, 379, 380, 393, 404, 405, 417, 427–429, 441–452, 474, 484, 485, 514, 525, 553, 555
Дедрё, Пьер-Альфред (Pierre-Alfred Dedreux; 1810–1860) – французский художник-анималист 43
Дека (Decap) – коллекционер 78
Декан, Александр-Габриэль (Alexandre-Gabriel Decamps; 1803–1860) – французский живописец и график, представитель академизма 26, 28, 34, 39, 40, 92, 93
Декарт Рене (René Descartes; 1596–1650) – французский философ, математик 118
Делакруа, Фердинан Виктор Эжен (Ferdinand Victor Eugène Delacroix; 1798–1863) – французский живописец и график периода романтизма 9–11, 27, 28, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 50, 51, 62, 65, 66, 70, 71, 76, 82, 86, 88–90, 93, 95, 103, 193, 194, 219, 241, 242, 319, 345, 444, 445, 553
Деларош, Поль (Paul Delaroche; 1797–1856) – французский исторический живописец-академист 37, 44
Дельпи, Альбер (Albert Delpit; 1849–1893) – французский романист и драматург; личный секретарь Александра Дюма-отца 459
Дельтей, Лои Анри (Loÿs Henri Delteil; 1869–1927) – французский гравер и литограф, публицист, историк искусства 444, 445
Демезон, Андре (André Demaison) – французский писатель 508, 510
Демидов, Павел Павлович, князь Сан-Донато (1839–1885) – русский промышленник и благотворитель 47, 49
Демулен (Demolin) – французский (экский) литератор 322
Дени (Denis), мадам – супруга Мориса Дени 430
Дени, Морис (Maurice Denis; 1870–1943) – французский художник-символист, иллюстратор, историк и теоретик искусства 15, 138, 139, 184, 185, 273, 307, 345, 347, 349, 350, 412, 413, 415, 421, 430, 489, 515, 543
Деоданк, Альфред (Alfred Dehodencq; 1822–1882) – французский художник-ориенталист 43
Дерен, Андре (André Derain; 1880–1954) – французский живописец, график, театральный декоратор, скульптор, керамист 15, 18, 195, 351, 352, 369, 415, 433, 487, 489
Детайль (Детай), Жан Батист Эдуар (Jean Baptiste Édouard Detaille; 1848–1912) – французский академический художник и баталист 186, 187, 293, 313
Детримон (Détrimont) – французский маршан 37
Дефоссе (Desfossés) – покупательница Поля Дюран-Рюэля 67
Джонсон, Джон Грэвер (John Graver Johnson; 1841–1917) – американский юрист, собиратель искусства. Его коллекция легла в основу собрания Художественного музея Филадельфии 74
Дзандоменеги, Федерико (Federico Zandomeneghi; 1841–1917) – итальянский художник-импрессионист 193, 450
Диаз, Нарсис, собст. Нарсис Виржилио Диас де ла Пенья (Narcisso Virgilio Díaz de la Peña; 1807–1876) – французский художник, представитель барбизонской школы 31, 34, 37–39, 43, 46, 50, 51, 59, 60, 65, 66, 69, 70, 87, 89, 93
Дидо, Амбруаз Фирмен (Ambroise Firmin Didot; 1790–1876) – изобретатель веленевой бумаги, представитель знаменитой издательской династии 418
Дидо (Didot), семья – династия французских издателей 424
Дидро, Дени (Denis Diderot; 1713–1784) – французский писатель и философ 6
Дидье (Didier) – коллекционер 46, 47
Дио (Diot) – французский маршан 190
Добиньи, Шарль-Франсуа (Charles-François Daubigny; 1817–1878) – французский художник, представитель барбизонской школы 34, 39, 42, 46, 59, 61, 69, 78, 87, 88, 92, 93, 103
Доза, Адриен (Adrien Dauzats; 1804–1868) – французский художник, писавший преимущественно пейзажи и жанровые сцены 43
Домье (Daumier), мадам – супруга Оноре Домье 198, 199
Домье, Оноре Викторен (Honoré Victorin Daumier; 1808–1879) – французский художник-график, живописец и скульптор 28, 31, 46, 70, 76, 87, 91, 144, 145, 190, 198, 199, 255, 322
Донателло, собст. Донато ди Никколо ди Бетто Барди (Donatello; Donato di Niccolò di Betto Bardi; ок. 1386–1466) – итальянский скульптор эпохи Возрождения 360
Донген ван, Кес, собст. Корнелис Теодорус Мария ван Донген (Kees van Dongen; Cornelis Theodorus Maria van Dongen; 1877–1968) – нидерландский художник, один из основоположников фовизма 335, 537
Донкер (Doncœr) – священнослужитель, иезуит 462, 463
Доннэ, Морис (Maurice Donnay; 1860–1945) – французский драматург 166
Доре, Поль Гюстав (Paul Gustave Doré; 1832–1883) – французский гравер, иллюстратор и живописец 43
Дориа (Doria), граф – коллекционер 81
Доршен, Огюст (Auguste Dorchain; 1857–1930) – французский писатель и поэт 230
Дрейфус, Альфред (Alfred Dreyfus; 1859–1935) – французский офицер, еврей по происхождению, несправедливо обвиненный в государственной измене 219, 384, 445
Дусе, Жак (Jacques Doucet; 1853–1929) – французский модельер, коллекционер и меценат 321
Дьеркс, Леон (Léon Dierx; 1838–1912) – французский поэт, характерный представитель парнасской школы 15, 208–210, 472
Дьетерле (Diéterlé) – коллекционер, друг Констана Тройона 71
Дю Ло (du Lau), маркиз – французский аристократ, коллекционер 47, 95
Дю Соммерар, Эдмон (Edmon du Sommerard; 1817–1875) – французский деятель культуры, хранитель музея Клюни 62
Дюамель, Жорж (Georges Duhamel; 1884–1966) – французский прозаик и поэт, драматург, литературный критик 356, 555
Дюбейран де (Dubeyran de) – директор банка «Crédit Foncier» 51
Дюваль (Duval) – художник 314, 315, 317
Дюваль, Жанна (Duval Jeanne; 1820–1862) – французская актриса, танцовщица, подруга Шарля Бодлера 136
Дюглере (Dugléré) – коллекционер 46, 71
Дюжарден-Бометц, Анри Шарль Этьен (Henri Charles Étienne Dujardin-Beaumetz; 1852–1913) – французский политический деятель и художник 360, 361, 363, 364
Дюлак, Шарль-Мари (Charles-Marie Dulac; 1865–1898) – французский художник 353, 354
Дюма, Альфонс (Alphonse Dumas) – рантье, галерист 147–150, 152, 153, 155–157, 159, 160
Дюма-отец, Александр (Alexandre Dumas, père; 1802–1870) – французский писатель, драматург и журналист 330, 439
Дюма-сын, Александр (Alexandre Dumas, fils; 1824–1895) – французский писатель 330
Дюме (Dumay) – начальник отдела в министерстве религиозных культов 142, 143
Дюмесниль (Dumesnil) – учитель Гаске, преподаватель философии 323
Дюмон, Анри Жюльен Жан-Батист (Henri Julien Jean-Baptiste Dumont; 1856–1933?) – французский художник и гравер 221, 296
Дюмулен, Ромео (Romеo Dumoulin; 1883–1944) – бельгийский художник 408
Дюпарши (Duparchy) – слуга Теодора де Визева 388
Дюпре, Жюль (Jules Dupré; 1811–1889) – французский художник, представитель барбизонской школы 29, 31, 34, 37, 39, 46, 48, 50, 51, 59, 60, 65, 66, 68, 82, 87–89, 103, 245
Дюран (Дюран-Рюэль), Жан-Мари-Фортюне (Jean-Marie-Fortuné Durand; 1800–1865) – отец Поля Дюран-Рюэля 8, 9, 25–36, 38, 39, 45, 53
Дюран-Рюэль, Жанна Мари Ева, урожд. Лафон (Jeanne Marie Eva Durand-Ruel; Lafon; 1841–1871) – супруга Поля Дюран-Рюэля 11, 59, 63, 64
Дюран-Рюэль (в замужестве Дюро), Жанна (Jeanne Durand-Ruel; 1870–1914) – дочь Поля Дюран-Рюэля 59, 63
Дюран-Рюэль, Жозеф (Joseph Durand-Ruel; 1862–1928) – сын Поля Дюран-Рюэля 100, 102, 104
Дюран-Рюэль, Жорж (George Durand-Ruel; 1866–1931) – сын Поля Дюран-Рюэля 100, 104
Дюран-Рюэль, Поль (Paul Durand-Ruel; 1831–1922) – французский маршан, коллекционер 6–14, 18, 19, 169, 174, 188, 193, 205, 206, 218–220, 241, 300, 301, 307, 443, 525
Дюран-Рюэль, Шарль (Charles Durand-Ruel; 1865–1892) – сын Поля Дюран-Рюэля 42, 100
Дюранти, Луи Эдмон (Louis Edmond Duranty; 1833–1880) – французский писатель и художественный критик 168, 525
Дюре, Теодор (Thеodore Duret; 1838–1927) – французский журналист, писатель, арт-критик. Приобретал картины для коллекции Л. Хэвемайер, супруги видного американского коллекционера Г. О. Хэвемайера (см.) 72–74, 78, 85, 90, 98, 332, 525
Дюфи, Рауль (Raoul Dufy; 1877–1953) – французский художник 18, 426, 430
Дюшатель (Duchatel) – домовладелец 479
Екатерина II, урожд. София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg; 1729–1796) – императрица всероссийская 6
Жаден (Jadin) – французский художник 43
Жаке (Jacquet) – рамщик 309
Жаке, Гюстав Жан (Gustave Jean Jacquet; 1846–1909) – французский живописец 294, 295
Жалу, Эдмон (Edmond Jaloux; 1878–1949) – французский прозаик, эссеист и литературный критик 555
Жандрон, Эрнест Огюстен (Ernest Auguste Gendron; 1817–1881) – французский исторический живописец 43
Жанен, Жорж (Georges Jeannin; 1841–1925) – французский художник 156
Жанна (Jeanne) – знакомая Амбруаза Воллара 324
Жанрон, Филипп-Огюст (Philippe-Auguste Jeanron; 1809–1877) – французский живописец, писатель, музейный работник 43
Жарри, Альфред (Alfred Jarry; 1873–1907) – французский поэт, прозаик, драматург 15, 208, 223, 225–227, 452, 453, 465, 468, 472
Жейо (Jayot), папаша – учитель Амбруаза Воллара 121
Желье (Gélier), мадемуазель – преподавательница английского у Амбруаза Воллара 119
Жерар (Gérard) – французский маршан 189
Жерве, Анри (Henri Gervex; 1852–1929) – французский исторический жанровый и портретный живописец 221–223, 290, 293–297
Жерве (Gervex), мадам – супруга Анри Жерве 296, 297
Жерико, Жан-Луи-Андре-Теодор (Jean-Louis-André-Théodore Géricault; 1791–1824) – французский живописец 28, 30, 31
Жеродель, Огюст-Артур (Auguste-Arthur Géraudel; 1841–1906) – французский фармацевт, создатель оригинальных «пастилок Жероделя» 130
Жером, Жан-Леон (Jean-Léon Gérôme; 1824–1904) – французский живописец и скульптор, представитель академизма 43, 86
Жеффруа, Гюстав (Gustave Geffroy; 1855–1926) – французский журналист, художественный критик, историк 14, 200, 201
Живодан (Givaudan) – аптекарь в Монпелье 129, 130
Жигу, Жан Франсуа (Jean François Gigoux; 1806–1894) – французский живописец 43
Жийу (Gillou) – друг Альфонса Дюма 148
Жирарден де, Эмиль (Émile de Girardin; 1806–1884) – французский журналист 55
Жиру, Франсуа-Симон-Альфонс (François-Simon-Alphonse Giroux; 1776–1848) – французский художник и торговец 33
Жоанно (Johannot) – фамилия трех французских художников и граверов, родных братьев: Шарля (Charles Johannot; 1798–1825), Альфреда (Alfred Johannot; 1800–1837) и Тони Жоанно (Tony (Antoine) Johannot; 1803–1852) 29, 34
Жорес, адмирал. Возможно, Шарль Жорес (Jean-Louis-Charles Jaurès; 1808–1870) или Бенжамен Жорес (Constant Louis Jean Benjamin Jaurès; 1823–1889) – французские адмиралы 70
Жоффруа-Дешом, Адольф-Виктор (Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume; 1816–1892) – французский скульптор и ювелир 86
Жуанвиль, принц – см. Франсуа Орлеанский
Жуи, Жюль (Jules Jouy; 1855–1897) – французский поэт, сочинитель сатирически-острых песен 166
Журд, Анри (Henry Jourde) – французский типограф 456
Журд-отец (Jourde, père) – французский типограф 456, 457
Журден, Франц (Frantz Jourdain; 1847–1935) – французский архитектор и художественный критик бельгийского происхождения 352, 353, 369, 379, 384, 385, 437, 453, 483
Жюлиан, Родольф (Rodolphe Julian;1839–1907) – основатель и директор Академии Жюлиана 345
Жюль (Jules) – массажист Воллара 477
Жюль (Jules) – парикмахер Родена 362
Жюльян, Луи Камиль (Louis Camille Jullian; 1859–1933) – французский историк-антиковед, филолог и эпиграфист 511, 512
Зедельмайер, Шарль (Charles Sedelmeyer; 1837–1925) – австро-французский коллекционер и издатель 70
Зием, Феликс-Франсуа Жорж Филибер (Félix-François Georges Philibert Ziem; 1821–1911) – французский живописец 43, 59, 69, 87, 189
Золя, Эмиль (Émile Zola; 1840–1902) – французский писатель, публицист и политический деятель 12, 319, 381–384, 435, 437
Зоэ (Zoé) – домработница Эдгара Дега 194, 216, 446, 447, 451
Ибель, Анри-Габриэль (Henry-Gabriel Ibels; 1867–1936) – французский художник 345
Изабе, Жан-Батист (Jean-Baptiste Isabey; 1767–1855) – французский художник-портретист 31, 42, 92
Изакер ван (Isacker van) – коллекционер 95
Инноченти (Innocenti) – французский художник 131, 134, 135
Итахара (Itahara) – японка, знакомая Амбруаза Воллара 213
Итуррино, Франсиско (Francisco Iturrino; 1864–1924) – испанский художник-фовист 17
Йонгкинд, Ян Бартолд (Johan Barthold Jongkind; 1819–1891) – нидерландский художник 42, 70, 189, 190
Йонидес, Александр Константин (Alexander Constantine Ionides; 1810–1890) – английский (греческого происхождения) собиратель и покровитель искусства 59, 77
К., Мирей (C. Mireille) – знакомая Амбруаза Воллара 229–231
Кабá, Никола-Луи (Nicolas-Louis Cabat; 1812–1893) – французский художник-пейзажист 29, 43
Кабане, Эрнест (Ernest Cabaner; 1833–1881) – французский композитор, пианист и поэт 434, 435
Кабанель, Александр (Alexandre Cabanel; 1823–1889) – французский художник, представитель академизма 9, 43, 141, 274, 434
Кадар (Cadart) – французский типограф 428
Казалис, Анри (Henri Cazalis; 1840–1909) – французский поэт (по профессии – врач) 345
Каэн д’Анвер (Cahen d’Anvers) – коллекционер 70
Кайботт, Гюстав (Gustave Caillebotte; 1848–1894) – французский коллекционер и живописец-импрессионист 78, 98, 100, 137, 169
Кайботт, Мартиал (Martial Caillebotte; 1853–1910) – французский композитор и пианист 137
Калло, Жак (Jacques Callot; ок. 1592–1635) – лотарингский гравер и рисовальщик эпохи маньеризма 422
Кальс, Адольф Феликс (Adolphe-Félix Cals; 1810–1880) – французский художник 43, 70, 83
Камондо, Абрахам (Count Abraham Camondo; 1781–1873), граф – французский финансист (еврейского происхождения) 67, 71–73, 83
Камондо де, Исаак (Isaac de Camondo Comte; 1851–1911) – сын основателя династии Абрахама Камондо, банкир, композитор-любитель; свою коллекцию импрессионистов и постимпрессионистов завещал Лувру 67, 71–73, 83, 91, 179, 221, 233–238, 241, 242, 254
Кан, Гюстав (Gustave Kahn; 1859–1936) – французский поэт и прозаик-символист 437
Канвейлер, Даниэль-Анри (Daniel-Henry Kahnweiler; 1884–1979) – французский маршан (выходец из Германии, еврейского происхождения) 7, 485
Кандамо (Candamo de) – коллекционер 48
Карл Великий (Carolus Magnus; 748–814) – император франков 476
Карлейль (Карлайл), Томас (Thomas Carlyle; 1795–1881) – британский писатель, философ шотландского происхождения 79
Карлен (Carlin) – коллекционер 68
Каролюс-Дюран, наст. имя Шарль Эмиль Огюст Дюран (Carolus-Duran; Charles Emile Auguste Durant; 1838–1917) – французский художник, представитель академической школы 295
Карпаччо, Витторе (Carpaccio Vittore; ок. 1465 – ок. 1526) – итальянский живописец Раннего Возрождения, представитель венецианской школы 283, 535
Каррьер, Эжен (Eugène Carrière; 1849–1906) – французский живописец и график 413, 418
Кассен де (Cassin de), маркиза Каркано (Carcano) – клиентка салона Поля Дюран-Рюэля 47
Кассирер, Пауль (Paul Cassirer; 1871–1926) – берлинский издатель и галерист еврейского происхождения 269
Катьее (Katjee) – служанка в Голландии 507
Кашарди (Cachardy) – французский маршан 37
Кейк ван (Cuyck van) – коллекционер 46
Кенсак, Поль (Paul Quinsac; 1858–1929) – французский художник 153, 156
Кергоф де (Kergoff de) – коллекционер 68
Кесслер, Гарри Клеменс Ульрих (Harry Clemens Ulrich Kessler; 1868–1937), граф – немецкий дипломат, писатель и покровитель искусства 209, 216, 270, 271, 356, 357, 463
Клаписсон, Леон (Léon Clapisson) – французский промышленник 74
Кларк, Уильям Эндрюс Старший (William Andrews Clark Sr.; 1839–1925) – американский политик и предприниматель 48, 77
Клемансо, Жорж Бенжамен (Georges Benjamin Clemenceau; 1841–1929) – французский политический и государственный деятель, журналист, премьер-министр Франции 201, 357, 359, 381, 406
Клемантель (Clémentel), мадам – супруга Этьенна Клемантеля 409
Клемантель, Этьенн (Étienne Clémentel; 1864–1936) – французский политический и государственный деятель 381, 407–410
Клерен, Жорж Жюль Виктор (Georges Jules Victor Clairin; 1843–1919) – французский художник-ориенталист, иллюстратор 294, 295
Кло, Огюст (Auguste Clot; 1858–1936) – французский печатник; работал в области хромолитографии, сотрудничал с Амбруазом Волларом 352
Кокьо, Гюстав (Gustave Coquiot; 1865–1926) – французский художественный критик и писатель 17
Кольбер, Жан-Батист (Jean Baptiste Colbert; 1619–1683) – французский государственный деятель 110
Комманвиль (Commanville) – племянница Флобера 425
Комменж де (Comminges de), граф – знакомый Амбруаза Воллара 483
Консолá (Consolat), семейство – родственники семьи Дюран-Рюэля 24
Констебл, Джон (John Constable; 1776–1837) – английский художник-пейзажист периода романтизма 27, 30
Конт, Пьер-Шарль (Pierre-Charles Comte; 1823–1895) – французский художник 43
Коньяк, Эрнест (Ernest Cognacq; 1839–1928) – французский коммерсант, создатель магазинов «Самаритен» 246, 247
Коро, Жан-Батист Камиль (Jean-Baptiste Camille Corot; 1796–1875) – французский художник и гравер 9–11, 31, 37, 39–42, 46, 49, 51, 59, 65–67, 70, 71, 76, 82, 86–90, 93, 104, 154, 188, 190, 192–194, 196, 242, 243, 245, 319, 489, 541
Корреджо да, Антонио, собст. Антонио Аллегри (Correggio; Antonio Allegri; ок. 1489–1534) – итальянский живописец периода Высокого Возрождения 273
Котье (Cottier) – коллекционер 49
Кошен, Анри (Henry Cochin; 1854–1926) – французский политический деятель 353, 354
Кошен, Дени (Denys Cochin; 1851–1922), барон – французский политик и писатель 233, 238–243, 353, 354, 381, 398–402, 493
Краббе (Crabbe) – брюссельский коллекционер 46, 61
Крозá, Пьер (Pierre Crozat; XVIII в.) – французский коллекционер предметов искусства 6
Круан (Crouan) – коллекционер 72
Куинн, Джон (John Quinn; 1870–1924) – американский покровитель современного искусства, юрист 265
Курбе, Жан Дезире Гюстав (Jean Désiré Gustave Courbet; 1819–1877) – французский живописец 9, 41, 42, 46, 50, 59, 68, 89, 93, 95, 96, 103, 282, 319
Курто, Самюэль (Samuel Courtauld; 1876–1947) – английский промышленник и покровитель искусства. Основал лондонский Институт искусства Курто в 1932 году 321, 514
Кутюр, Тома (Thomas Couture; 1815–1879) – французский художник-академист 42, 281
Кэссетт, Мэри (Mary Cassatt; 1844–1926) – американская художница и график 103, 266, 317, 318, 449, 525
Кюмс (Kums) – коллекционер 51
Ла Гулю, собст. Луиза Вебер (La Goulue; Louise Weber; 1866–1929) – французская танцовщица, исполнительница канкана, модель Тулуз-Лотрека 167, 168
Лакруа, Гаспар-Жан (Gaspard-Jean Lacroix; 1810–1878) – французский живописец 43
Ламартин де, Альфонс (Alphonse de Lamartine; 1790–1869) – французский писатель и поэт, политический деятель 209, 458
Лами, Эжен Луи (Eugène Louis Lami; 1800–1890) – французский живописец 43
Лансло, Клод (Claude Lancelot; 1615–1695) – французский лингвист, богослов 118
Лапрад, Пьер (Pierre Laprade; 1875–1931) – французский живописец и гравер 415, 426, 427
Ларандон (Larandon) – знакомый Амбруаза Воллара 204, 205
Лардуэн (Lardoin) – советник кассационного суда 30
Ларрье (Larrieu) – коллекционер 46, 70
Ластери де (Lasteyrie de) – глава кабинета во французском правительстве 400
Латуш, Гастон (Gaston La Touche; 1854–1913) – французский художник и скульптор 314, 340
Лафенетр, Жорж (Georges Lafenestre; 1837–1919) – французский поэт, художественный критик, хранитель музейной коллекции Лувра 54
Лафонтен де, Жан (Jean de La Fontaine; 1621–1695) – французский баснописец 430, 433
Лаффер, Луи (Louis Lafferre; 1861–1929) – французский политический и государственный деятель 126
Ле Барк де Бутвиль (Le Barc de Boutteville; конец XIX в.) – французский маршан 139
Леблан, Морис, собст. Мари Эмиль Морис Леблан (Maurice Leblanc; Marie Émile Maurice Leblanc; 1864–1941) – французский писатель 510
Леблон, Мариус-Ари (Marius-Ary Leblond) – коллективный литературный псевдоним, под которым писали Жорж Атена (Georges Athénas; 1877–1953) и Эме Мерло (Aimé Merlo; 1880–1958) – французские писатели, журналисты и искусствоведы 110
Лев XIII, в миру Винченцо Джоакино Рафаэль Луиджи Печчи (Leo XIII; Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci; 1810–1903) – папа римский с 20 февраля 1878 года до 20 июля 1903 года 515
Левель, Андре (André Level) – французский коллекционер 189
Леви, Эмиль (Émile Lévy; 1826–1890) – французский художник и иллюстратор 43
Легран (Legrand) – друг отца Поля Дюран-Рюэля 30
Легран, Луи Огюст Матье (Louis Auguste Mathieu Legrand; 1863–1951) – французский художник, гравер 166
Легро, Альфонс (Alphonse Legros; 1837–1911) – французский художник и мастер офорта 59
Ледрен (Ledrain) – профессор 345
Лейгу, Жорж (Georges Leygues; 1857–1933) – французский политический деятель 245
Лейн, Хью Перси (Hugh Percy Lane, Sr.; 1875–1915) – ирландский искусствовед и коллекционер живописи; собрал уникальную коллекцию картин импрессионистов (она положена в основу галереи, ныне носящей его имя) 75
Леле (Leleux), братья – французские художники 43
Лелон (Lelong) – корректор 433, 434
Леметр, Франсуа Эли Жюль (François Élie Jules Lemaître; 1853–1914) – французский художественный критик 459
Лемэр, Мадлен (Madeleine Lemaire; 1845–1928) – французская художница 188, 189
Леневё, Жюль Эжен (Jules Eugène Lenepveu; 1819–1898) – французский исторический живописец 43
Ленхоф, Леон (Leon Leenhoff; 1852–1927) – сын Эдуара Мане и Сюзанны Мане, урожденной Ленхоф. Рожденный до брака, официально считался братом Сюзанны 176
Леонардо да Винчи ди сер Пьеро (Leonardo di ser Piero da Vinci; 1452–1519) – итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и ученый (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант эпохи Высокого Возрождения 492
Лепин, Станислас Виктор Эдмон (Stanislas Victor Edmond Lépine; 1835–1892) – французский художник 70, 83, 100
Лефор (Lefort) – подруга матери Поля Дюран-Рюэля 25
Либерман, Макс (Max Liebermann; 1847–1935) – немецкий художник и график (еврейского происхождения) 269
Лобр, Морис (Maurice Lobre; 1862–1951) – французский художник 295
Лоран, Жан-Поль (Jean-Paul Laurens; 1838–1921) – французский живописец, монументалист, скульптор, график и иллюстратор 100, 295, 442
Лоренс (Lawrence) – американский коллекционер 101
Лотрек – см. Тулуз-Лотрек
Лотье, Эжен (Eugène Lautier; 1867–1935) – французский политический деятель 208, 381, 546–549
Лоуренс, Томас, сэр (Sir Thomas Lawrence; 1769–1830) – английский художник 268, 514
Луи, Пьер – см. Луис, Пьер
Луиза – см. Рюэль, Луиза
Луиза Большая (Louise La Grande) – служанка Ренуара 373, 374
Луис, Пьер, собст. Пьер Луи (Pierre Louÿs; Pierre Louis; 1870–1925) – французский поэт и писатель-модернист 18, 428
Луи-Филипп I (Louis-Philippe I; 1773–1850) – последний французский король (с 9 августа 1830 по 24 февраля 1848 г.) 30, 504, 509
Лукиан из Самосаты (Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς, Lucianus Samosatensis; около 120 – после 180) – древнегреческий писатель 18, 19, 428
Людовик XI (Louis XI; 1423–1483) – король Франции (1461–1483)
321
Людовик XIV (Louis XIV; 1638–1715) – король Франции и Наварры (с 14 мая 1643) 214, 526
Люс, Максимильен (Maximilien Luce; 1858–1941) – французский художник-неоимпрессионист 290, 304
Маз, Поль Люсьен (Paul Lucien Maze; 1887–1979) – французский художник, много работал в Англии 513, 514
Майоль, Аристид (Aristide Maillol; 1861–1944) – французский скульптор и живописец (каталонского происхождения) 18, 138, 221, 270, 271, 290, 347, 354–358, 360, 376, 415, 416, 431, 456, 543, 555
Максимилиан I (Maximilian I; 1832–1867) – император Мексики 98, 176, 178, 242
Малларме, Стефан (Stéphane Mallarmé; 1842–1898) – французский поэт 209, 210, 381, 382, 392, 419, 424, 425
Мальбранш, Николя (Nicolas Malebranche; 1638–1715) – французский философ-метафизик, картезианец 118, 458
Мам (Mame) – коллекционер 46
Манаш, собст. Маньяч, Педро (Pedro Mañach; ок. 1870 – между 1936 и 1939) – испанский маршан и коллекционер искусства 372
Мане, Сюзанна, урожденная Ленхоф (Suzanne Manet; 1829–1906) – пианистка, жена и модель художника Эдуара Мане 173, 175–181, 279, 284, 285
Мане, Эдуар (Édouar Manet; 1832–1883) – французский живописец-импрессионист, гравер 11, 71–76, 79–81, 83, 89, 90, 92, 98, 100, 104, 135, 137, 155, 156, 168, 171, 173–176, 178–180, 193, 194, 237, 241, 242, 269, 279–288, 293, 295, 300, 301, 308, 326, 327, 347, 514
Манци, Мишель (Michele Manzi; 1849–1915) – французский (итальянского происхождения) издатель, печатник, арт-дилер компании Гупиля 77, 203, 204
Манье, Эдмон (Edmond Magnier; 1841–?) – французский литератор, издатель 175
Маньяр, Франсис (Francis Magnard; 1837–1894) – французский журналист 382
Маргерит (Margueritte) – коллекционер 46
Марешаль, Лорен-Шарль (Laurent-Charles Maréchal; 1801–1887) – французский художник, лидер сформировавшейся в Меце школы; или его сын, тоже художник, Шарль-Рафаэль (Charles-Raphaël Maréchal; 1825–1888) 43
Мари (Marie) – знакомая Винсента Ван Гога 186
Мари-Луиза (Marie-Louise) – посетительница волларовского Подвала 211
Марилья, Антуан-Жорж-Проспер (Antoine-George-Prosper Marilhat; 1811–1847) – французский художник-ориенталист 30, 31, 34, 37
Мария – служанка 254
Марке, Альбер (Albert Marquet; 1875–1947) – французский художник-постимпрессионист, близкий к фовистам 351, 369
Марке ван, Эмиль (Émile van Marcke; 1827–1890) – французский художник, анималист и график, представитель барбизонской школы 60, 69
Маркотт де Кивье, Луи Эдм Модест (Louis Edme Modeste Marcotte de Quivières; 1815–1899) – французский меценат 86
Мармонтель де (de Marmontel) – коллекционер 46, 47
Марнинак (Marninac) – владелец бронзолитейной фабрики 51, 52, 55, 56
Марсо (Marsaud) – друг отца Поля Дюран-Рюэля 26, 28
Марсо-Дегравье, Франсуа-Северин (François Séverin Marceau-Desgraviers; 1769–1796) – французский военачальник 100
Мартин, Джон Т. (John T. Martin) – американский коллекционер 66
Мартине (Martinet) – французский предприниматель 55
Матильда (Mathilde) – горничная Мэри Кэссетт 318
Матисс, Анри (Henri Matisse; 1869–1954) – французский художник и скульптор, лидер течения фовистов 195, 262–264, 351–353, 369, 390, 415, 487, 489, 493, 494
Мату, Поль (Paul Matout) – друг Амбруаза Воллара 546
Медичи (Medici, XIII–XVIII вв.), семейство – флорентийские правители, покровители искусств 6, 280
Меер, ван дер, Ян Утрехтский (Jan van der Meer van Utrecht; 1630–1696) – голландский художник-портретист, мастер жанровых сцен 243
Мей, Эрнест (Ernest May; 1845–1925) – банкир и коллекционер французского искусства 445, 446
Мейер, Артюр (Arthur Meyer; 1844–1924) – французский журналист, один из крупнейших деятелей французской прессы конца XIX – начала XX века 381, 403–405
Мейер, Сальватор (Salvator Meyer) – торговец подержанным товаром 202–205
Мейер-Грефе, Юлиус (Julius Meier-Graefe; 1867–1935) – немецкий писатель и художественный критик 270
Меллерио, Андре (André Mellerio; 1862–1943) – французский художественный критик 185
Мендельсон фон, Франческо (Francesco von Mendelssohn; 1901–1972) – немецкий виолончелист и собиратель искусства 74
Мёран, Викторина (Victorine-Louise Meurent (Meurant); 1844–1927) – французская модель, художница; не раз позировала Эдуару Мане 74
Мери (Méry), папаша – французский художник 195, 196
Мерсье, Дезире-Фелисьен-Франсуа-Жозеф (Desiré-Félicien-François-Joseph Mercier; 1851–1926) – бельгийский кардинал, католический философ 334
Мерсье, Огюст (Auguste Mercier; 1833–1921) – французский генерал, министр обороны Франции во времена «дела Дрейфуса». Один из лидеров антидрейфусаров 447
Месонье (Мейссонье), Жан-Луи-Эрнест (Jean-Louis-Ernest Meissonier; 1815–1891) – французский живописец 39, 42, 45, 89, 273, 274, 290–293
Местр де, Франсуа Ксавье (Xavier de Maistre; Ксаверий Ксаверьевич; 1763–1852), граф – сардинский дворянин, художник-дилетант, генерал-майор русской армии, участник Наполеоновских войн 405
Мете, Андре (André Méthey; André Metthey; 1871–1920) – французский керамист 415
Метерлинк, Морис Полидор Мари Бернар (Maurice (Mooris) Polydore Marie Bernard Maeterlinck; 1862–1949) – бельгийский писатель, драматург и философ. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1911 год 393
Мижон (Migeon) – хранитель Лувра 190
Микеланджело Буонарроти, собст. Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони (Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti Simoni; 1475–1564) – итальянский скульптор, художник, архитектор 360
Милан I Обренович (Милан Обреновић; 1854–1901) – первый король Сербии (1882–1889) из рода Обреновичей 233, 235–238
Милле, Жан-Франсуа (Jean-François Millet; 1814–1875) – французский художник, один из основателей барбизонской школы 9, 31, 37, 39, 41, 46, 50, 51, 54, 59, 60, 65–68, 70, 71, 76, 82, 87–90, 92, 93, 95, 187, 245
Миль, Пьер (Pierre Mille; 1864–1941) – французский журналист и писатель 385, 436
Мими (Mimi) – дочь Теодора де Визева 388
Мирбо, Октав (Octave Mirbeau; 1848–1917) – французский писатель, романист, драматург, публицист и художественный критик 12, 381–383, 396–398, 423, 426, 448
Мирбо (Mirbeau), мадам – супруга Октава Мирбо 397, 398
Мистенгет, собст. Жанна Флорентина Буржуа (Mistinguett; Jeanne Florentine Bourgeois; 1875–1956) – знаменитая французская певица, актриса кино, клоунесса 528
Мишель, Альфред Жозеф Ксавье (Alfred Joseph Xavier Michiels; 1813–1892) – французский историк, критик, служил библиотекарем в Школе изящных искусств 54
Мишель (Michel), барон – французский аристократ 47
Мишле, Жюль (Jules Michelet; 1798–1874) – французский историк и публицист 271
Модильяни, Амедео Клементе (Amedeo Clemente Modigliani; 1884–1920) – итальянский художник и скульптор 486, 488
Моне, Алиса (Alice Monet; 1844–1911) – супруга Клода Моне; в прошлом – супруга Эрнеста Ошеде (Hoschedé) 90
Моне, Оскар-Клод (Oscar-Claude Monet; 1840–1926) – французский живописец 43, 61, 71, 78, 80, 81, 83–85, 90, 92, 100, 103, 153, 154, 171, 180, 193, 218–221, 254, 259, 269, 282, 290, 292, 299–301, 317, 438, 443, 474, 486, 496, 514
Монжино, Шарль (Сharles Monginot; 1825–1900) – французский художник 43
Монзи де, Анатоль (Anatole de Monzie; 1876–1947) – французский политический деятель 307
Монис, Антуан Эмманюэль Эрнест (Antoine Emmanuel Ernest Monis; 1846–1929) – французский политик и государственный деятель 421, 424
Монтийяр (Montillard) – французский художник 247–250
Монфор, Эжен (Eugène Montfort; 1877–1936) – французский писатель 426
Мопассан де, Ги, собст. Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопасса́н (Guy de Maupassant; Henry-René-Albert-Guy de Maupassant; 1850–1893) – французский писатель 12, 18, 404, 428
Морель, Клер-Тереза (Claire-Thérèse Maurel; 1768–?) – бабушка Поля Дюран-Рюэля по матери 24
Морен, Шарль (Charles Maurin; 1856–1914) – французский художник и график 258, 259
Моризо, Берта (Berthe Morisot; 1841–1895) – французская художница 73, 83, 84, 90, 100, 137
Морни де, герцог (duc de Morny), собст. Шарль Огюст Луи Жозеф де Морни (Charles Auguste Louis Joseph Demorny; 1811–1865) – французский политический деятель и финансист 47
Моро, Гюстав (Gustave Moreau; 1826–1898) – французский художник, представитель символизма 68, 70, 365
Морозов, Иван Абрамович (1871–1921) – московский предприниматель, коллекционер искусства 220, 273, 356
Моро-Нелатон, Этьен (Étienne Moreau-Nélaton; 1859–1927) – французский художник, керамист, коллекционер и историк искусства 46, 74
Муатесье, Мари-Клотильда-Инес, урожд. Фуко (Marie-Clotilde-Inès Moitessier; de Foucauld; 1821–1897) – супруга банкира Сигизбера Муатесье 317
Муне-Сюлли, собст. Жан-Сюлли Муне (Mounet-Sully; Jean-Sully Mounet; 1841–1916) – французский актер 330
Мунк, Эдвард (Edvard Munch; 1863–1944) – норвежский художник 413
Мункачи, Михай, собст. Либ (Mihály Munkácsy; Lieb; 1844–1900) – венгерский художник 553
Муссолини, Бенито Амилькаре Андреа (Benito Amilcare Andrea Mussolini; 1883–1945) – итальянский политический и государственный деятель 489
Мьевиль (Mieville) – английский коллекционер 59
Мюллер, Шарль-Луи Люсьен (Charles-Louis Lucien Müller; 1815–1892) – французский живописец 42
Мюльбахер (Mulbacher) – коллекционер 83
Мюре (Murer) – кондитер из Понтуаза, художник-любитель 486
Мюриэтта (Murietta) – английский коллекционер 59
Мюссе де, Альфред (Alfred de Musset; 1810–1857) – французский поэт, драматург и прозаик 174
Надар, собст. Гаспар-Феликс Турнашон (Nadar; Gaspard-Félix Tournachon; 1820–1910) – французский фотограф, карикатурист, писатель 83, 85, 171
Наполеон I (Napoléon Bonaparte; 1769–1821) – император французов (1804–1814 и 1815) 31
Наполеон III, собст. Шарль Луи Наполеон Бонапарт (Napoléon III; Charles Louis Napoléon Bonaparte; 1808–1873) – первый президент Французской республики (1848–1852), император французов (1852–1870) 43
Наполеон, принц, собст. Наполеон Жозеф Шарль Поль Бонапарт (Napoleon Joseph Charles Paul Bonaparte; 1822–1891) – второй сын Жерома Бонапарта, короля Вестфалии 46
Нарышкин (?–1864), князь – русский коллекционер 47
Натансон (Natanson) – друг Огюста Ренуара 327
Негри – санкт-петербургский торговец 71
Нонель, Исидре (Isidre Nonell; 1872–1911) – испанский (каталонский) художник 17
Ноэми (Noémie) – тетушка Амбруаза Воллара 111, 113, 114, 116, 117, 393, 430, 458, 462, 468
Нуази (Noisy), папаша – французский маршан 155, 175
Омальский, герцог – см. Генрих Орлеанский
Оне (Онэ), Жорж (Georges Ohnet; 1848–1918) – французский писатель-романист и драматург 459
Осборн (Osborne) – коллекционер 72
Ошеде, Эрнест (Ernest Hoschedé; 1837–1891) – коллекционер, почитатель Клода Моне 72, 73, 81, 90, 171
Пак, Нина (Nina Pack) – оперная певица 305
Палмер, Берта (Bertha Palmer; 1849–1918) – американская бизнес-леди и благотворительница, супруга американского бизнесмена Поттера Палмера (Potter Palmer; 1826–1902) 49
Папюс, собст. Жерар Анаклет Венсан Анкосс или Энкосс (Papus; Gérard Anaclet Vincent Encausse; 1865–1916) – известный французский оккультист, масон, розенкрейцер и маг; врач по образованию 214
Пасторе де, Амеде-Давид (Amédée-David de Pastoret; 1791–1857), граф – французский политический деятель, писатель и поэт 315
Пату (Patou) – коллекционер 75
Пейн (Payne) – полковник, коллекционер 78
Пеладан, Жозеф (Жозефен), Сар (Joséphin Péladan; 1858–1918) – французский писатель – символист и оккультист 381, 393–395
Пелле (Pellet) – издатель 166
Пеллерен, Ж. (J. Pellerin) – французский журналист 437
Пеллерен, Огюст (Auguste Pellerin; 1853–1929) – французский предприниматель и коллекционер живописи 198, 268, 306
Перейра, Исаак (Isaac Pereire; 1806–1880) – французский предприниматель и политик 39, 46
Петето (Pététot) – аптекарь 124, 126–130
Петето, Жаклин (Jacqueline Pététot) – супруга аптекаря Петето 126–128, 130
Пийе, Шарль Анри (Charles Henri Pille; 1844–1897) – французский художник 84
Пикассо, Пабло, собст. Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис-и-Пикассо (Pablo Ruiz y Picasso; Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso; 1881–1973) – испанский и французский художник, скульптор 13, 15–18, 189, 195, 262, 263, 290, 295, 334, 372, 373, 379, 432, 487, 489, 493, 494
Пильс (Пиль), Изидор-Александр-Огюстен (Isidore-Alexandre-Augustin Pils; 1813–1875) – французский художник, педагог 43
Пио (Piot) – французский художник 345
Писсарро, Жакоб Абраам Камиль (Jacob Abraham Camille Pissarro; 1830–1903) – французский художник 11, 61, 71, 78, 80, 81, 83, 90, 97, 100, 103, 154, 192, 219, 248–250, 290, 301, 317, 486
Писсарро, Люсьен (Lucien Pissarro; 1863–1944) – французский и английский художник, график и ксилограф 302
Писсарро (Pissarro), мадам – супруга Камиля Писсарро 301
Плантен, Христофор (Christophorus Plantinus; 1520–1589) – нидерландский издатель и типограф французского происхождения, гуманист 456
Платон (Πλάτων; 428 или 427–348 или 347 до н. э.) – древнегреческий философ 323
Плейель, Игнац Йозеф (Ignaz Josef Pleyel; 1757–1831) – австрийско-французский композитор и владелец фортепианной фабрики 367
Плиний Старший, собст. Гай Плиний Секунд (Plinius Maior, Gaius Plinius Secundus; между 22 и 24–79) – древнеримский писатель-эрудит, автор энциклопедической «Естественной истории» 438
Плутарх (Πλούταρχος; ок. 46 – ок. 127) – древнегреческий писатель и философ 6, 8
Полигнот (Πολύγνωτος, середина V в. до н. э.) – древнегреческий художник 5
Полиньяк (Polignac), княгиня – французская аристократка 46
Политис, Николаос (Νικόλαος Πολίτης; 1872–1942) – греческий юрист, дипломат (в том числе в 20-х годах служил послом в Париже), трижды был министром иностранных дел Греции 533
Поль-Бонкур, Огюстен Альфред Жозеф (Augustin Alfred Joseph Paul-Boncour; 1873–1972) – французский государственный и политический деятель, дипломат 441
Поммерель (Pommereul) – коллекционер 50
Портье (Portier) – служащий Поля Дюран-Рюэля 96, 176
Потен, Морис (Maurice Potin) – французский гравер 428
Пракситель (Πραξιτέλης, IV в. до н. э.) – древнегреческий скульптор 218
Прево, Эжен Марсель (Eugène Marcel Prévost; 1862–1941) – французский писатель и драматург 461, 539
Прет ван, Жюль Фредерик Жозеф Огустин (Jules Frédéric Joseph Augustin van Praet; 1806–1887) – бельгийский политический деятель 61
Прованс, Марсель (Marcel Provence) – писатель-регионалист 325
Пруст, Антонен (Antonin Proust; 1832–1905) – французский журналист, политический деятель и публицист, искусствовед, коллекционер, организатор художественных выставок; первый министр культуры 92, 288
Прюдон, Пьер Поль (Pierre Paul Prudhon; 1758–1823) – французский живописец и график 30, 31, 34
Пти, Жакоб, собст. Жакоб Мардоше (Jacob Petit; Jacob Mardochée; 1797–1868) – французский производитель фарфора 383
Пти, Жорж (Georges Petit; 1856–1920) – французский маршан, сын Франсиса Пти 88–90, 98, 147, 148, 290, 387, 484
Пти, Франсис (Франсуа) (François Petit) – французский маршан, основавший свое дело еще в 1846 году 37, 66, 71
Пуанкаре, Раймон Никола Ландри (Raymond Nicolas Landry Poincaré; 1860–1934) – французский политический и государственный деятель 549
Пуссен, Никола (Nicolas Poussin; 1594–1665) – французский художник, стоявший у истоков живописи классицизма 286
Пушкин, Александр Сергеевич (1799–1837) – русский поэт 5
Пюви де Шаванн, Пьер Сесиль (Pierre Cécile Puvis de Chavannes; 1824–1898) – французский художник-символист 71, 75, 76, 80, 103, 184, 413
Пюек, Дени (Denys Puech; 1954–1942) – французский скульптор 230
Пюже, Пьер (Pierre Puget; 1620–1694) – французский живописец, скульптор, архитектор и инженер 322
Пюи, Жан (Jean Puy; 1876–1960) – французский художник-фовист 415, 454, 455
Рабле, Франсуа (François Rabelais; 1494–1553) – французский писатель 259
Рансон, Поль-Элье (Paul-Élie Ranson; 1864–1909) – французский художник, дизайнер и график 185, 345
Расин, Жан-Батист (Jean-Baptiste Racine; 1639–1699) – французский драматург 230
Рассанфосс (Rassenfosse) – ученик Фелисьена Ропса 141
Рафаэль Санти (Raffaello Santi; 1483–1520) – итальянский живописец, график и архитектор 117, 328, 445
Раффе, Денис-Огюст-Мари (Denis-Auguste-Marie Raffet; 1804–1860) – французский рисовальщик, гравер и живописец-баталист 28, 31, 34
Редон (Redon), мадам – супруга Одилона Редона 343
Редон, Одилон (Odilon Redon; 1840–1916) – французский живописец-символист, график, декоратор 15, 136, 185, 208, 216, 218, 219, 290, 305, 340–343, 412, 413, 424–426, 553
Реймон (Reymone) – французская актриса 325
Рейнак, Саломон (Salomon Reinach; 1858–1932) – французский археолог 19, 429
Рейнхарт, Оскар (Oskar Reinhart; 1885–1965) – швейцарский покровитель и собиратель искусства, его родина – Винтертур 356
Рейнхарты (Reinhart) – семейство 499
Рёйсдал ван, Якоб Исаакс (Jacob van Ruisdael; Jacob Isaakszoon van Ruysdael; 1628/29–1682) – нидерландский художник-пейзажист 50
Рембрандт Харменс ван Рейн (Rembrandt Harmenszoon van Rijn; 1606–1669) – голландский художник, рисовальщик и гравер 50, 103, 135, 214, 422, 445
Ренбо (Raimbeaux) – коллекционер 40
Рене Добрый (le Bon Roi René; 1409–1480) – герцог Лотарингии (1431–1453), герцог Анжуйский (1434–1475), титулярный король Неаполя, Иерусалима, граф де Гиз (1417–1425) 321
Ренуар (Renouard) – французский типограф 424
Ренуар, Алина (Aline Renoir; 1859–1915) – модель и супруга Огюста Ренуара 327, 359, 439, 440
Ренуар, Жан (Jean Renoir; 1894–1979) – французский кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист, сын художника Огюста Ренуара 376, 407
Ренуар, Клод (Clod Renoir; 1901–1969) – французский керамист, сын художника Огюста Ренуара 359
Ренуар, Пьер-Огюст (Pierre-Auguste Renoir; 1841–1919) – французский живописец, график и скульптор 8, 15, 17, 43, 71, 78, 80, 83–85, 90, 97, 100, 103, 113, 114, 136–138, 141, 159, 165, 168–170, 180, 190–192, 194, 207, 208, 211, 213, 214, 218, 220, 221, 234, 239, 240, 242–246, 248, 252, 255, 259, 269, 282, 290, 300, 301, 317, 326–331, 347, 354–356, 358–360, 373–376, 378, 387, 389, 390, 404, 407, 412–417, 424, 427, 435, 438–441, 450, 474, 486, 490, 491, 498–500, 502–504, 514, 525, 531, 535, 546, 547, 555
Ренуар, Шарль Поль (Charles Paul Renouard; 1845–1924) – французский рисовальцщик 504
Ренье, Анри-Франсуа-Жозеф де (Henri-François-Joseph de Régnier; 1864–1936) – французский поэт и писатель 162
Рибо, Александр Феликс Жозеф (Alexandre Félix Joseph Ribot; 1842–1923) – французский политик и государственный деятель 240, 241
Ривьер, Анри (Henri Rivière; 1864–1951) – французский художник, гравер 43
Ризенер, Анри Франсуа (Henri François Riesener; 1767–1828) – французский живописец-портретист (немецкого происхождения) 43
Рикар, Луи-Гюстав (Louis-Gustave Ricard; 1823–1873) – французский живописец 42,59, 92, 93
Ришар, Лоран (Laurent Richard) – французский коллекционер 68, 89, 90
Робен (Robin), доктор – коллекционер 98
Робер (Robert) – французский художник 443
Робертсон, Р. Остин (R. Austin Robertson) – один из основателей «American Art Association» 49
Робеспьер, Максимилиан, собст. Максимилиан Франсуа Мари Исидор де Робеспьер (Maximilien François Marie Isidore de Robespierre; 1758–1794) – французский революционер, политический деятель 24
Роден, Франсуа-Огюст-Рене (François-Auguste-René Rodin; 1840–1917) – французский скульптор 15, 17, 136, 140, 221, 230, 290, 333, 358–364, 383, 414, 416, 423
Роже-Милес (Roger-Milès) – французский критик 340, 341
Розенберг, Поль (Paul Rosenberg; 1881–1959) – французский маршан 73, 206
Рокплан, Камиль Жозеф Этьен (Camille Joseph Etienne Roqueplan; 1802–1855) – французский живописец 29, 43
Рокфеллер, Уильям Эвери Младший (William Avery Rockefeller, Jr.; 1841–1922) – американский бизнесмен и финансист 41, 529
Рони-старший, Жозеф Анри, собст. Жозеф-Анри Оноре Боэкс (Joseph-Henry Rosny aîné; Joseph Henri Honoré Boex; 1856–1940) – французский писатель (бельгийского происхождения) 158, 437
Ронсар де, Пьер (Pierre de Ronsard; 1524–1585) – французский поэт. Возглавлял объединение «Плеяда» 355, 423, 431
Ропс, Фелисьен (Félicien Rops; 1833–1898) – бельгийский художник-символист 131, 140–144, 147, 161, 163, 297
Ростан, Эдмон (Edmond Rostand; 1868–1918) – французский поэт и драматург 222
Ротшильд Натаниэль де, мадам, собст. Шарлотта де Ротшильд (Charlotte de Rothschild; 1825–1899) – супруга происходившего из английской ветви Ротшильдов, но жившего в Париже бизнесмена Натаниэля де Ротшильда (Nathaniel de Rothschild; 1812–1870) 51
Ротшильды – европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века. В 1816 году император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул 381, 389
Руар, Станислас-Анри (Stanislas-Henri Rouart; 1833–1912) – французский художник, инженер и коллекционер 75, 76, 81, 83, 98, 192, 450, 553
Рубенс, Питер Пауль (Pieter Paul Rubens; 1577–1640) – нидерландский (фламандский) живописец, один из основоположников искусства барокко, дипломат, коллекционер 435
Рувьер (Rouvière) – актер, персонаж картины Эдуара Мане 73
Ружон, Анри (Henry Roujon; 1853–1914) – французский академик, писатель, эссеист 353, 354
Руо, Жорж Анри (Georges Henri Rouault; 1871–1958) – французский живописец и график 195, 265, 266, 290, 333, 365–367, 369, 415, 432, 455, 456, 489
Руо (Rouault), мадам – мать Жоржа Руо 366, 367
Руссель, Кер-Ксавье (Ker-Xavier Roussel; 1867–1944) – французский художник, члены группы «Наби» 138, 185, 218, 220, 345, 347, 350, 413, 415, 430, 489, 499, 543
Руссо, Анри Жюльен Феликс, по прозвищу Таможенник (Henri Julien Félix Rousseau; Le Douanier; 1844–1910) – французский художник-самоучка 222, 290, 346, 368–371, 436, 442, 485, 487
Руссо, Теодор (Théodore Rousseau; 1812–1867) – французский художник-пейзажист, основатель барбизонской школы 29, 31, 37–39, 41, 47–49, 51, 54, 65–67, 71, 76, 82, 89, 90, 92, 93, 95, 103
Руссо, Филипп (Philippe Rousseau; 1816–1887) – французский художник. Брат Теодора Руссо 43
Рюсполи, Марта, принцесса; урожд. Пинетон де Шамбрен (Marta Ruspoli; Pineton de Chambrun) – французская аристократка 519
Рюэль, Луиза (Louise Ruel; 1803–1871) – тетушка Поля Дюран-Рюэля, сестра его матери 24, 29, 64
Рюэль (Дюран-Рюэль), Мари Фердинанда (Marie Ferdinande Ruel; 1795–1870) – мать Поля Дюран-Рюэля 24–26, 29, 36, 100
Рюэль, Франсуа Иасент (François Hyacinthe Ruel; 1760–?) – дед Поля Дюран-Рюэля по матери 24, 111
С., Рафаэль (S. Raphael) – художник, гравер 378, 379
Саго, Клови (Clovis Sagot;?–1913) – французский маршан, «брат Саго» 189
Салазар, Антониу ди Оливейра (António de Oliveira Salazar; 1889–1970) – португальский государственный деятель. Фактически управлял Португалией с 1932 по 1968 год 536
Самба, Марсель (Marcel Sembat; 1862–1922) – французский политический и государственный деятель, адвокат, журналист 174, 381, 389–391
Сандрар, Блез, собст. Фредерик-Луи Созе (Blaise Cendrars; Frédéric-Louis Sauser; 1887–1961) – швейцарский и французский писатель 544
Севинье де, маркиза, собст. Мари де Рабютен-Шанталь (Marie de Rabutin-Chantal; marquise de Sévigné; 1626–1696) – французская писательница, автор знаменитых «Писем» 133
Сегатори, Агостина (Agostina Segatori; 1841–1910) – французская модель, позировавшая множеству известных художников (Дега, Соро, Жером, Делакруа, Ван Гог, Мане). Управляла кафе «Тамбурин» 171
Сеген, Арман (Armand Seguin; 1869–1903) – французский художник, гравер, иллюстратор 422
Сегонзак де, Андре Дюнуайе (André Dunoyer de Segonzaс; 1884–1974) – французский художник, график и иллюстратор 433
Сезанн, Анна Элизабет Онорин Обер (Anne Elisabeth Honorine Aubert; 1814–1897) – мать Поля Сезанна 435
Сезанн, Луи Огюст (Louis Auguste Cézanne; 1798–1886) – экский банкир, отец Поля Сезанна 322, 435
Сезанн (Cézanne), мадам – супруга Поля Сезанна (отца) 263
Сезанн, Поль (Paul Cézanne; 1839–1906) – французский художник 13–18, 83, 114, 136–140, 159, 168, 173, 181, 182, 184, 185, 194, 197, 198, 200, 201, 208, 216, 219, 220, 234, 235, 238, 239, 242, 243, 248–252, 259, 260, 267, 269, 273, 280–282, 290, 299, 306, 317–323, 338, 356–357, 360, 376–378, 382–384, 412, 414, 415, 433–437, 492–494, 496, 498, 499, 502, 514, 522, 525, 531, 532, 555
Сезанн, Поль (Paul Cézanne; 1872–1947) – сын Поля Сезанна 14, 183, 377, 437
Сем, собст. Жорж Гурса (Sem, Georges Goursat; 1863–1934) – французский иллюстратор, карикатурист, светский хроникер 290, 339, 340, 538
Сен-Жан (Saint-Jean) – французский художник 43
Сен-Марсо (Saint-Marceaux; 1845–1915) – французский скульптор, медальер 359
Сенсье, Альфред (Alfred Sensier; 1815–1877) – французский маршан, критик и историк искусства, пропагандист барбизонской школы 54, 66, 67, 84
Сеньо (Seugnot) – кондитер 505
Сёра, Жорж-Пьер (Georges Seurat; 1859–1891) – французский художник-постимпрессионист, создатель пуантилизма 100, 303, 346
Серре, Шарль Эммануэль (Charles Emmanuel Serret; 1824–1900) – французский художник 336
Серюзье, Поль (Paul Sérusier; 1864–1927) – французский художник, участник группы «Наби» 185, 346, 349
Сеттн, Джеймс (James F. Sutton) – основатель Американской арт-ассоциации 49, 101
Сикерт, Уолтер Ричард (Walter Richard Sickert; 1860–1942) – английский художник 77
Сини (Seney) – американский коллекционер 101
Синьорелли, Лука (Luca Signorelli; 1450–1523) – итальянский живописец Раннего Возрождения 319
Синьяк, Поль (Paul Signac; 1863–1935) – французский художник, приверженец пуантилизма 100, 290, 303, 346
Сисери, Эжен (Eugène Cicéri; 1813–1890) – французский живописец, рисовальщик, представитель барбизонской школы 43
Сислей, Альфред (Alfred Sisley; 1839–1899) – французский живописец (английского происхождения) 43, 71, 78, 80, 81, 83, 84, 90, 91, 97, 100, 103, 137, 139, 157, 249, 290, 302, 317, 412
Сиэрз, Хелен (Helen Sears; 1889–1966); в замужестве Брэдли (Bradley) – супруга американского бизнесмена и благотворителя Джеймса Дональда Кэмерона Брэдли (James Donald Cameron Bradley) 73
Смит, Фоп (Fop Smit) – коллекционер 49
Сназин, граф – русский коллекционер 273
Сонье (Saulnier) – коллекционер из Бордо 74
Спенсер (Spencer) – американский коллекционер 101
Стайн, Гертруда (Gertrude Stein; 1874–1946) – американская писательница, теоретик литературы 15–17, 189, 262–264
Стайн, Лео (Leo Stein; 1872–1947) – американский коллекционер искусства и критик; брат Гертруды Стайн 17, 189, 262, 263
Сталин, Иосиф Виссарионович, собст. Джугашвили (1879–1953) – российский революционер, советский государственный деятель 519
Станислас (Stanislas) – приятель Марселя Самба 390
Стевенс, Альфред Эмиль-Леопольд (Alfred Emile-Léopold Stevens; 1823–1906) – бельгийский художник академического направления 71, 72
Стейнлен, Теофиль-Александр (Théophile-Alexandre Steinlen; 1859–1923) – французский и швейцарский художник, график и иллюстратор 163, 257, 258
Стендаль, собст. Мари-Анри Бейль (Stendhal; Marie-Henri Beyle; 1783–1842) – французский писатель 328
Суарес, Андре, собст. Исаак Феликс Суарес (Suarès André; Isaac Félix Suarès; 1868–1948) – французский поэт и писатель 432
Судэ, Поль (Paul Souday; 1869–1929) – французский литературный критик, эссеист 461
Сульт, Николя Жан де Дьё (Nicolas Jean de Dieu Soult; 1769–1851) – французский военачальник и государственный деятель 24
Сутин, Хаим (Хаим Соломонович Сутин; Chaïm Soutine; 1893–1943) – французский художник (еврейского происхождения, родился в Российской империи) 487
Сюлли-Прюдом, собст. Рене Франсуа Арман Прюдом (Sully Prudhomme; René François Armand Prudhomme; 1839–1907) – французский поэт и эссеист, член группы «Парнас», в 1901 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 230
Сюсс (Susse) – торговец произведениями искусства, владелец бронзолитейного предприятия «Susse frères», существовавшего с 1758 года 33
Тавернье (Tavernier) – коллекционер 40
Тайяр, Анри (Henri Taillard; 1866–1939) – французский литератор, организатор помощи глухим, друг Амбруаза Воллара 124
Талейран-Перигор де, Шарль Морис (Charles Maurice de Talleyrand-Périgord; 1754–1838) – французский политик и дипломат 534
Тампелер (Tempelaere) – французский маршан 190, 191
Танги, Жюльен-Франсуа, папаша Танги (Julien-François Tanguy; 1825–1894) – парижский торговец красками и картинами, художник-любитель 12, 14, 136, 139, 140, 181
Тапюи (Tapuis) – французский маршан 203
Тардьё, Андре Пьер Габриэль Амеде (André Pierre Gabriel Amédée Tardieu; 1876–1945) – французский государственный деятель 549
Тассер, Никола Франсуа Октав (Nicolas François Octave Tassaert; 1800–1874) – французский живописец 43, 93, 251
Твен, Марк, собств. Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс (Mark Twain; Samuel Langhorne Clemens; 1835–1910) – американский писатель 115
Теб де, собст. Анна Викторина Савиньи (Madame de Thèbes; Anne Victorine Savigny; 1845–1916) – модная парижская гадалка, пользовавшаяся особой популярностью в аристократических кругах 361, 363
Тейт, Генри, сэр (Sir Henry Tate; 1819–1899) – британский промышленник и филантроп, основатель одноименной художественной галереи в Лондоне 75
Тенбаль (Timbal) – французский художник 43
Тенирс, Давид Младший (David Teniers; 1610–1690) – фламандский художник и гравер 214
Тёрнер, Джозеф Мэллорд Уильям (Joseph Mallord William Turner; 1775–1851) – британский живописец 514
Террас, Клод (Claude Terrasse; 1867–1923) – французский композитор 465
Тесс (Tesse) – коллекционер 46
Тинторетто, собст. Якопо Робусти (Tintoretto; Jacopo Robusti; 1518–1594) – итальянский (венецианский) живописец позднеренессансного периода 283, 319
Тиссо, Джеймс (James Tissot), псевдоним Жак-Жозефа Тиссо (Jacques-Joseph Tissot; 1836–1902) – французский художник и гравер 77
Тициан Вечеллио (Tiziano Vecellio; 1488/90–1576) – итальянский
(венецианский) живописец эпохи Высокого и Позднего Возрождения 283, 319
Тобер (Tauber) – коллекционер 47
Тома (Tomas) – французский маршан 37
Томи-Тьери (Thomy-Thiéry) – коллекционер 66, 68
Томпсон, Фрэнсис (Francis Thompson; 1859–1907) – английский поэт 430
Тороп, Ян Теодор (Johannes Theodorus Toorop; 1858–1928) – нидерландский художник-символист 506
Тортони (Tortoni) – владелец парижского кафе 289
Тоше, Шарль (Charles Toche; 1851–1916) – французский живописец и книжный иллюстратор 279, 280, 282–284, 286
Тройон (Труайон), Констан (Constant Troyon; 1810–1865) – французский художник, представитель барбизонской школы 31, 39, 51, 69, 71, 89, 92, 93
Труйбер, Поль-Дезире (Paul-Désiré Trouillebert; 1829–1900) – французский художник, представитель барбизонской школы 196
Трюэль, Жак (Jacques Truelle) – сотрудник французского посольства в Риме 516
Тулуз-Лотрек, собст. граф Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа (Henri Marie Raymond comte de Toulouse-Lautrec Monfa; 1864–1901) – французский художник 165, 167, 412, 414, 428
Тьеполо, Джандоменико (Giandomenico Tiepolo; 1727–1804) – итальянский художник 335
Тьеполо, Джованни Баттиста (Giovanni Battista Tiepolo; 1696–1770) – итальянский (венецианский) художник периода рококо 283, 334
Тэн, Ипполит Адольф (Hippolyte Adolphe Taine; 1828–1893) – французский философ, писатель, историк, психолог 459
Уайденер, Джозеф Эрли (Joseph Early Widener; 1871–1943) – американский бизнесмен, коллекционер и филантроп; один из благотворителей вашингтонской Национальной галереи искусства 49, 72, 598
Удри, Альфонс (Alphonse Oudry; 1819–1869) – французский коллекционер живописи 50
Уилсон, Джон Уотерлоо (John Waterloo Wilson; 1815–1883) – бельгийский собиратель произведений искусства из Харлема 93, 95
Уистлер, Джеймс Эббот Макнил (James Abbot McNeill Whistler; 1834–1903) – англо-американский художник 41, 79, 120, 290, 343–345, 413
Уоллис (Wallis) – коллекционер 44
Уоллес, Ричард, сэр (Sir Richard Wallace; 1st Baronet; 1818–1890) – английский собиратель произведений искусства 46, 55, 58
Уоррен (Warren) – американская собирательница искусства из Бостона 68
Утрилло, Морис (Maurice Utrillo; 1883–1955) – французский художник 488
Фагюс, собст. Жорж Фай (Fagus; Georges Faillet; 1872–1933) – французский поэт-символист 465, 467
Фаллер (Fuller) – американский коллекционер 101
Фантен-Латур, Анри (Henri Fantin-Latour; 1836–1904) – французский художник и литограф 190, 191, 193, 415
Фантен-Латур, Виктория, урожд. Виктория Дюбур (Victoria Fantin-Latour; Victoria Dubourg; 1840–1926) – французская художница, супруга Анри Фантен-Латура 191
Фаррер, Клод, собст. Фредерик-Шарль Эдуар Баргон (Claude Farrère; Frédéric-Charles Bargone; 1876–1957) – французский писатель 109
Февр (Febvre) – французский маршан 37, 70
Федер, Жюль (Jules Feder) – коммерческий директор банка «Union Générale» 94, 96, 97
Фей, Бернар (Bernard Faÿ; 1893–1978) – французский историк, изучавший франко-американские отношения 264
Фейдо, Альфред-Луи (Alfred-Louis Feydeau; 1823–1891) – французский литератор; брат Эрнеста Фейдо 54
Фейдо, Эрнест (Ernest Feydeau; 1821–1873) – французский писатель 54
Фемистокл (Θεμιστοκλῆς; 524–459 до н. э.) – афинский государственный деятель, военачальник 8
Фераль (Féral) – французский маршан 89
Фива (Fivas) – архитектор 370
Фидий (Φειδίας, ок. 490 – ок. 430 до н. э.) – древнегреческий скульптор и архитектор периода высокой классики 364
Фийо (Filleau), доктор – знакомый Амбруаза Воллара 131, 142, 143
Фийо, Жанна Роне (Filleau; Raunay Jeanne) – супруга доктора Фийо 142
Филипон, Шарль (Charles Philipon; 1800–1862) – французский рисовальщик, карикатурист, литограф, журналист и издатель 91
Филиппото, Анри Феликс Эмманюэль (Henri Félix Emmanuel Philippoteaux; 1815–1884) – французский исторический живописец, баталист 43
Фиц Джералд (Фицджеральд), Десмонд (Desmond Fitzgerald; 1846–1928) – американский коллекционер 101
Фламмарион, Камиль Николя (Camille Nicolas Flammarion; 1842–1925) – французский астроном, известный популяризатор астрономии, публиковавшийся сначала в издательстве, созданном его братом Эрнестом 361, 363
Фламмарион, Эрнест (Ernest Flammarion; 1846–1936) – французский издатель, основатель существующего по сей день издательства «Фламмарион» 109, 419, 472, 538
Флер, Камиль (Camille Flers; 1802–1868) – французский живописец-пейзажист, представитель барбизонской школы 29, 34, 43
Флобер, Гюстав (Gustave Flaubert; 1821–1880) – французский писатель 398, 425
Фор, Жан-Батист (Jean-Baptiste Faure; 1830–1914) – французский оперный певец, баритон; коллекционер работ импрессионистов 58, 62, 72–74, 77, 78, 81, 83, 84, 88–91, 98, 180, 288
Форбс (Forbes) – английский коллекционер 59
Форен, Жан-Луи (Jean-Louis Forain; 1852–1931) – французский художник, график, книжный иллюстратор 15, 100, 160, 163, 166, 202, 208, 212, 216, 219, 220, 290, 297, 319, 336–339, 449, 492
Форен (Forain), мадам – супруга Жан-Луи Форена 338
Фра Беато Анджелико, собст. Гвидо ди Пьетро (Fra Beato Angelico; Guido di Pietro; 1400–1455) – итальянский художник эпохи Раннего Возрождения, доминиканский монах 353
Фрагонар, Жан Оноре (Jean-Honoré Fragonard; 1732–1806) – французский живописец и гравер 338
Фраден, Клод (Claude Fradin) – дед Эмиля Фрадена, создатель «Музея Глозеля» 509–511
Фраден, Эмиль (Émile Fradin; 1906–2010) – первооткрыватель клада в Глозеле 508, 511
Франсуа Орлеанский, принц Жуанвиль (1818–1900) – третий сын французского короля Луи-Филиппа I Орлеанского 30
Франциск Ассизский, собст. Джованни Франческо ди Пьетро Бернардоне (Franciscus Assisiensis; Giovanni Francesco di Pietro Bernardone; 1181/82–1226) – католический святой, учредитель нищенствующего ордена францисканцев (1209) 427
Франциск I (François I; 1494–1547) – король Франции с 1 января 1515 года 418
Франчески, полковник, собст. Жан-Батист Франчески (Jean-Baptiste Francisqui; 1767–1810) – французский военачальник 24
Фредерик (Frédéric) – метрдотель «Тур д’Аржан» 271
Фремье, Эмманюэль (Emmanuel Frémiet; 1824–1910) – французский скульптор-анималист 271
Фроман-Мёрис, Эмиль (Émile Froment-Meurice; 1837–1913) – французский ювелир 52
Фромантен, Эжен, собст. Эжен Самюэль Огюст Фромантен-Дюпё (Eugène Samuel Auguste Fromentin-Dupeux; 1820–1876) – французский живописец, писатель и историк искусства 59, 60, 87, 89, 93
Фуллер, Лои (Loïe Fuller; 1862–1928) – американская актриса и танцовщица, основательница танца модерн 361, 363
Фурналь (Fournal), аббат – священник из Айверона 64
Фюсс (Fuss) – профессор Льежского университета; супруг тетушки Поля Дюран-Рюэля по линии отца 25
Халил-бей (Khalil-Bey, на совр. турецком Halil Şerif Paşa; 1831–1879) – дипломат на службе Оттоманской империи, коллекционер живописи 47
Хама (Hama) – японка, знакомая Амбруаза Воллара 213
Ханлозер, семейство: Артур Ханлозер (Arthur Hahnloser; 1870–1936), офтальмолог, и его супруга Хеди Ханлозер-Бюлер (Hedy Hahnloser-Bühler; 1873–1952). Они собрали одну из значительных коллекций современного искусства в Швейцарии. Их сын, Ханс Роберт Ханлозер (Hans Robert Hahnloser; 1899–1974), стал известным швейцарским историком искусства 499
Харри (Harry) – знакомый Амбруаза Воллара 278
Хартман (Hartmann) – друг Теодора Руссо 41, 93, 95
Хаттс, Луис (Louis Hutts) – английский коллекционер 59
Хилл Дж. Дж. (J. J. Hill) – коллекционер из Сент-Поля 49, 95
Хильдеберта (Hildeberte) – королева 442
Хэвемайер, Генри Осборн (Henry Osborne Havemeyer; 1847–1907) – американский промышленник, предприниматель, коллекционер произведений искусства (совместно с супругой) 67, 72, 73, 74, 101, 103, 266–268, 317, 553
Хэвемайер, Луизина Уалдрон Элдер (Louisine Waldron Elder Havemeyer; 1855–1929) – коллекционер произведений искусства, феминистка и благотворительница. Большая часть собрания Хэвемайеров передана в Метрополитен-музей 267, 268, 317
Чаплин, Чарльз Спенсер (Чарли), сэр (Sir Charles Spencer «Charlie» Chaplin; 1889–1977) – американский и английский киноактер, сценарист, композитор, кинорежиссер, продюсер 396
Чуди фон, Гуго (Hugo von Tschudi; 1851–1911) – швейцарский (австрийского происхождения) историк искусства и музейный куратор, коллекционер работ импрессионистов 85, 91
Шаба, Поль Эмиль (Paul Émile Chabas; 1869–1937) – французский художник, иллюстратор 537
Шабрие (Chabrier) – коллекционер 98
Шагал, Марк Захарович (Моисей Хацкелевич) (Marc Chagall; 1887–1985) – российский и французский художник (еврейского происхождения) 430, 431
Шанбрен де (Chambrun de), граф и графиня – французские аристократы 519
Шанфлёри, собст. Жюль Франсуа Феликс Юссон (Champfleury; Jules François Félix Husson; 1821–1889) – французский писатель 91
Шапле, Эрнест (Ernest Chaplet; 1835–1909) – французский скульптор и керамист 306, 307
Шаплен, Шарль Джошуа (Charles Joshua Chaplin; 1825–1891) – французский живописец и гравер 43
Шапюи (Chapuis) – специалист по дублированию холстов 177
Шарден, Жан Батист Симеон (Jean Baptiste Simeon Chardin; 1699–1779) – французский живописец 415
Шарле, Никола-Туссен (Nicolas-Toussaint Charlet; 1792–1845) – французский художник, рисовальщик и гравер 26, 28, 34
Шарль-Ру, Франсуа (François Charles-Roux; 1879–1961) – французский дипломат, историк и бизнесмен 515
Шарпантье, Маргарита (Marguerite Charpentier, 1848–1904) – французская собирательница работ импрессионистов 330
Шаусс, Герман (Hermann Schauss) – американский маршан 93
Шевалье, Поль (Paul Chevallier) – аукционист 140
Шеврёль, Мишель Эжен (Michel Eugène Chevreul; 1786–1889) – французский химик-органик, большое признание получили также его исследования в области восприятия человеком цвета 345
Шекспир, Уильям (William Shakespeare; 1564–1616) – английский поэт и драматург 512
Шенавар, Поль Марк Жозеф (Paul Marc Joseph Chenavard; 1808–1895) – французский исторический живописец 39, 43
Шентрёйль, Антуан (Antoine Chintreuil; 1814–1873) – французский художник-пейзажист и импрессионист 93
Шерами, Поль-Артюр (Paul-Arthur Chéramy; 1840–1912) – французский юрист, коллекционер живописи 76, 137, 138
Шере, Жюль (Jules Chéret; 1836–1932) – французский художник и график 230
Шеффер, Ари (Ary Scheffer; 1795–1858) – французский исторический и жанровый живописец 37, 44, 383
Шоде (Chaudet) – друг Гогена 306
Шоке, Виктор (Victor Chocquet; 1821–1891) – французский коллекционер живописи 81, 436, 525
Шолль, Орельен (Aurélien Scholl; 1833–1902) – французский журналист, драматург и писатель 250
Шопен, Фридерик Францишек (Fryderyk Franciszek Chopin; 1810–1849) – польский композитор и пианист; с 1831 года жил и работал во Франции 285
Шоу, Адамс Куинси (Quincy Adams Shaw; 1825–1908) – бостонский коллекционер 87
Шошар, Ипполит Франсуа Альфред (Hippolyte François Alfred Chauchard; 1821–1909) – французский предприниматель и коллекционер искусства 40, 146, 243–245
Шрот (Schroth) – друг отца Поля Дюран-Рюэля 26–28
Шуберт, Франц Петер (Franz Peter Schubert; 1797–1828) – австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке 285
Шульцер (Sulzer) – семейство в Винтертуре 499
Шуман, Роберт (Robert Schumann; 1810–1856) – немецкий композитор, педагог и музыкальный критик 285
Э., Миссиа (E. Missia) – знакомая Амбруаза Воллара 213
Э д’, Жорж (Georges d’Ay) – компаньон Дюран-Рюэля 50
Эбер, Антуан Огюст Эрнст (Antoine Auguste Ernest Hébert; 1817–1908) – французский художник, директор Французской академии в Риме 43
Эбэ (Ébé) – учитель Жарри, пообраз Юбю 452
Эврар (Everard) – бельгийский маршан 71
Эгнью (Agnew) – торговец картинами в Лондоне 44
Эдвардс (Edwards) – французский банкир, коллекционер 47, 48, 52, 53, 94, 95
Эдди (Eddy) – американский коллекционер из Чикаго 72
Эдуар (Édouard) – знакомый Амбруаза Воллара 111
Эккерман, Иоганн Петер (Johann Peter Eckermann; 1792–1854) – немецкий литератор, поэт. Прославился исследованиями творчества Гёте, чьим секретарем он был 437
Экстенс (Exsteens) – французский книгоиздатель 429
Эллё, Поль Сезар (Paul César Helleu; 1859–1927) – французский художник и гравер 290, 340, 413
Эль Греко, собст. Доменикос Теотокопулос (El Greco; Δομήνικος Θεοτοκόπουλος; 1541–1614) – испанский живописец, скульптор и архитектор (греческого происхождения) 104, 194, 267, 319
Энгр, Жан Огюст Доминик (Jean Auguste Dominique Ingres; 1780–1867) – французский художник, живописец и график 39, 40, 43, 45, 86, 111, 219, 220, 258, 315–317, 334, 347, 432, 449
Энгр (Ingres), мадам – супруга Жана Огюста Доминика Энгра 316
Энди д’, Венсан, собст. Поль Мари Теодор Венсан д’Энди (Paul-Marie-Théodore-Vincent d’Indy; 1851–1931) – французский композитор, органист, дирижер, педагог, музыкальный критик и публицист 142
Эннер, Жан-Жак (Jean-Jacques Henner; 1829–1905) – французский художник, представитель академизма 103, 189, 295
Эрвье (Hervier) – французский художник 43
Эрио, Огюст (Auguste Hériot; 1826–1879) – владелец магазина «Лувр» в Париже 331, 332
Эркманн-Шатриан д’ (d’Erckmann-Chatrian) – французский писатель 504
Эррио, Эдуар Мари (Édouard Marie Herriot; 1872–1957) – французский государственный и политический деятель, писатель, историк, публицист 430
Эрроусмит, Чарльз (Charles Arrowsmith) – художник и маршан, друг отца Поля Дюран-Рюэля 26–28
Эрсан, Луи (Louis Hersent; 1777–1860) – французский живописец и гравер 43
Эссель, Жос (Jos Hessel) – французский маршан 206, 239, 240
Эфрусси, Шарль (Charles Ephrussi; 1849–1905) – французский меценат, художественный критик, редактор и издатель 73
Юзесская, герцогиня, Анна д’Юзе́с (duchesse Anna d’Uzès), урожд. Мари Адриенн Анн Виктюрниенн Клемантин де Рошешуар де Мортемар (Marie Adrienne Anne Victurnienne Clémentine de Rochechouart de Mortemart; 1847–1933) – французская аристократка, политическая деятельница, писатель и скульптор 402
Юлен (Hulen) – французская женщина-маршан 31, 32
Юэ, Поль (Paul Huet; 1803–1869) – французский живописец и гравер 43, 93
Вклейка
Огюст Ренуар. Портрет Поля Дюран-Рюэля. 1910
Эжен Делакруа. Охота на львов. 1860-1861
Эжен Делакруа. Кони, бьющиеся в стойле. 1860
Эжен Делакруа. Танжерские одержимые. 1857
Ари Шеффер. Маргарита у фонтана. 1858
Камиль Коро. Туалет. 1859
Камиль Коро. Церковь в Марисселе. 1866
Камиль Коро. Мост в Манте. 1868-1870
Жан-Франсуа Милле. Сеятель. 1850
Жан-Франсуа Милле. Собирательницы колосьев. 1857
Жан-Франсуа Милле. Анжелюс. 1857-1859
Гюстав Моро. Эдип и сфинкс. 1864
Гюстав Курбе. Загнанный олень (Аллали). 1867
Пьер Сесиль Пюви де Шаванн. Бедный рыбак. 1881
Пьер Сесиль Пюви де Шаванн. Надежда. 1872
Эдуар Мане. Портрет Жана Батиста Фора. 1882-1883
Эдуар Мане. Мертвый тореадор. 1864-1865
Эдуар Мане. Булонский порт при лунном свете. 1868
Эдуар Мане. Уличная певица. 1862
Эдуар Мане. Старьевщик. 1865-1870
Эдуар Мане. Служанка с кружками пива. 1879
Клод Моне. Завтрак на траве. 1866
Эдгар Дега. Сцена балета «Роберт-дьявол». 1871
Огюст Ренуар. В ложе. 1874
Огюст Ренуар. Маленькая танцовщица. 1874
Джеймс Уистлер. Аранжировка в сером и черном. Портрет матери художника. 1871
Поль Сезанн. Портрет Амбруаза Воллара. 1899
Эдуар Мане. Кошачье свидание. 1868
Фелисьен Ропс. Женщина с игрушкой. 1877
Эдгар Дега. Урок танца. 1879
Эдгар Дега. В гостиной, в ожидании клиентов. 1879. Работа опубликована Волларом как иллюстрация к «Разговорам гетер» Лукиана
Поль Сезанн. Купальщицы. 1898-1905
Поль Сезанн. Искушение святого Антония. Ок. 1870
Поль Сезанн. Акведук. 1885
Поль Сезанн. Портрет сидящего Виктора Шоке. 1877
Поль Сезанн. Автопортрет. Ок. 1879-1880
Одилон Редон. Беатриче. 1885
Альфред Сислей. Пасущая гусей. 1895
Жан-Луи Форен. Поклонник. 1877-1879
Винсент Ван Гог. Аликаны Арля. 1888
Винсент Ван Гог. Маковое поле. 1890
Пьер Боннар. Маленькая прачка. 1896
Морис Дени. Обложка к серии литографий «Любовь», изданной Амбруазом Волларом. 1899
Эдуар Вюйар. Сад Тюильри. 1896
Огюст Ренуар. Портрет Амбруаза Воллара в костюме тореадора. 1917
Сноски
1
Оригинальное название: «Воспоминания торговца импрессионистами» или «импрессионистов» (Mémoires du marchand des impressionnistes). Слово «маршан» (marchand – купец) стало синонимом понятия «торговец картинами».
(обратно)2
Шуанами называли роялистски настроенных крестьян, поднявших в 1792 г. восстание «за короля», против республиканского правительства.
(обратно)3
После женитьбы он присоединил к своей фамилии фамилию жены и стал зваться Дюран-Рюэль.
(обратно)4
Поль Дюран-Рюэль в своих воспоминаниях упоминает их как «школу 30-го года».
(обратно)5
Перевод в обоих случаях приблизителен. Слово «oseur», производное от глагола «oser» (рисковать), едва ли переводимо.
(обратно)6
Les archives de l’Impressionisme Paris; New York, 1939.
(обратно)7
Значительность суммы можно оценить исходя из того, что месячный заработок мелкого чиновника составлял тогда приблизительно 150 франков, преуспевающего врача – около 8 тысяч.
(обратно)8
Жюльен-Франсуа Танги, прозванный папаша Танги, – известный своей добротой торговец красками, один из первых парижских коммерсантов, оценивших импрессионистов. Октав Мирбо в некрологе назвал его «мудрецом (un sage)», «героем (héros), скромным и честным ремесленником (modeste et probe artisan)» (L’Écho de Paris, 13 февраля 1894).
(обратно)9
Золя дал в романе «Творчество» не вполне справедливый, шаржированный портрет, в котором лишь отдаленно угадывается Воллар: «Этот торговец задумал в последние годы произвести реформу в торговле картинами. Он ничуть не напоминал тонкого ценителя, вроде папаши Мальгра в его засаленном сюртуке, который подкарауливал полотна начинающих, покупая их по десяти франков и продавая по пятнадцати, притворяясь недовольным перед привлекательной картиной, чтобы сбить цену, хотя и обожал живопись (faisant la moue devant l’œuvre convoitée pour la déprécier, adorant au fond la peinture)… Тот довольствовался скромной прибылью и при помощи осторожных операций с трудом сводил концы с концами. У знаменитого Ноде были совсем другие обычаи, и выглядел он джентльменом: жакет фантази, брильянт в галстуке, напомаженный, приглаженный, лакированный; шикарный образ жизни, коляска, нанятая помесячно, кресло в Опере, постоянный стол у Биньона; он бывал всюду, где было принято показываться» (VII).
(обратно)10
См. с. 181 настоящего издания.
(обратно)11
Поиски Волларом Сезанна обросли анекдотическими подробностями: Воллару сказали, что художник живет на некоей улице, в названии которой есть имя святого и название какого-то зверя. Воллар разыскал улицу Льон-Сен-Поль (Lions-Saint-Paul – львы появились в названии улицы благодаря изображению этих зверей на фасаде особняка Сент-Поль) в квартале Маре, неподалеку от набережной Генриха IV, и решил стучаться в каждый дом (к счастью, их было не более двух десятков). Воллару, однако, повезло – в первом же доме под номером 2 он нашел квартиру, которую снимал художник и где еще жил его сын Поль (см. с. 183 настоящего издания).
(обратно)12
Apollinaire G. Le flaneur des deux rives. P., 1918. P. 107–108.
(обратно)13
Apollinaire G. Le flaneur des deux rives. Paris, 1918. P. 108, 113.
(обратно)14
Stein G. The Autobiography of Alice B. Toklas. London, 2001. P. 34–35.
(обратно)15
См. с. 452 настоящего издания.
(обратно)16
Началом «книг художника (livre d’artiste)» – роскошных малотиражных фолиантов (чаще несброшированных) с превосходного качества воспроизведениями печатной графики, обычно подписанными их авторами – стало издание в 1900-м поэмы Поля Верлена с литографиями Боннара. В разное время Воллар издавал книги с работами Сезанна, Дюфи, Брака, Майоля, Пикассо, Дерена и других.
(обратно)17
Правильный перевод: «Диалоги гетер» (Ἑταιρικοὶ Διάλογοι).
(обратно)18
Ученый употребил арготическое выражение (pèze), не имеющее русского аналога.
(обратно)19
См. с. 429 настоящего издания.
(обратно)20
Имеется в виду барбизонская школа.
(обратно)21
Galerie Durand-Ruel, spécimens les plus brillants de l’école moderne, 1845. 2 vols.
(обратно)22
Римская премия – весьма престижная награда в области искусства, существовавшая во Франции с 1663 по 1968 г. Лауреат Большой римской премии получал возможность отправиться в Рим и прожить там несколько (три – пять) лет.
(обратно)23
Оценки Поля Дюран-Рюэля были сделаны около 1910 г.
(обратно)24
Американская арт-ассоциация (галерея и аукционный дом) возникла в 1883 г.
(обратно)25
Первый номер появился 15 января 1869 г. В год выходило по два тома. Издание прекратилось после четвертого тома, увидевшего свет 15 августа 1870 г.
(обратно)26
На портрете изображена Викторина Мёран, а не Брен. Видимо, ошибка автора.
(обратно)27
Музей Виктории и Альберта.
(обратно)28
Ныне в Лувре.
(обратно)29
В Шарантоне с XVII в. существовала лечебница для душевнобольных.
(обратно)30
Имеется в виду Новая глиптотека Карлсберга.
(обратно)31
Выставка проходила в галерее Дюран-Рюэля с 15 июля по 1 октября 1878 г.
(обратно)32
1 февраля 1882 г.
(обратно)33
Американское издательство «Little, Brown and Company», основанное в 1837 г.
(обратно)34
Собственно произведение Марка Твена называется «Рассказ коммивояжера».
(обратно)35
Пособия по грамматике и логике были подготовлены в 1660–1662 гг. аббатами монастыря Пор-Рояль-де-Шан (Антуаном Арно и Клодом Лансло).
(обратно)36
По-французски «d’après». – Примеч. перев.
(обратно)37
Скорее всего, портрет Жанны Дюваль, подруги Бодлера (1862, ныне – в Будапештском музее изобразительных искусств).
(обратно)38
Самый большой, существующий с 1 июня 1852 г. и поныне, антикварный аукцион Парижа – шестнадцать залов на трех этажах.
(обратно)39
Хорошо! (исп.)
(обратно)40
Существует вариант перевода А. А. Фета: «Земля получит вид подчищенный и низкий, / Гуманитарности мир сделается миской, / И шар наш без волос, без бороды – обрит, / Как тыква гладкая, по небу полетит, / Какой проект, мой друг!»
(обратно)41
В оригинале «Cabots», слово, которое переводится и как «собаки», и как «комедианты». – Примеч. перев.
(обратно)42
Rue des Lions – улица Львов. – Примеч. перев.
(обратно)43
Ныне в музее Орсе.
(обратно)44
Просторечное название медали, от «poireau» (фр.) – лук-порей. – Примеч. перев.
(обратно)45
Музей восковых фигур в Париже, основанный в 1882 г. и существующий по сей день.
(обратно)46
Достоин вступить, может быть допущен (лат.).
(обратно)47
По-французски «colon» – колонист, а слово «côlon» означает «ободочная кишка». – Примеч. перев.
(обратно)48
У восточных народов любое изображение обнаженного тела считается неприличным. Вот почему мой русский клиент называл «непристойностью» картину с обнаженными моделями. И не только жители Востока рассуждают подобным образом. Генеральный совет острова Реюньон выделил как-то одному молодому художнику стипендию для обучения. В конце года он прислал полотно, на котором была нарисована лежащая обнаженная женщина. Картина была выставлена в зале заседаний Генерального совета. Увидев ее, один из членов совета пришел в ужас: «Как они посмели повесить эту непристойность!» Это была копия картины одного из величайших итальянских мастеров – если не ошибаюсь, Корреджо. – Примеч. авт.
(обратно)49
В самом деле (англ.).
(обратно)50
Абенсеррахи – восточноарабская знать; прославились в летописях и песнях как доблестнейшие рыцари великолепного двора Альгамбры.
(обратно)51
На вилле Медичи проживали обладатели Римской премии.
(обратно)52
Предлагаем вашему вниманию этот конспект, копию с которого господин Шарль Тоше любезно разрешил мне снять.
«§ I. Глядя на подобную сцену, такую волнующую и такую сложную, я прежде всего должен выбрать характерный эпизод, установить границы картины, как если бы я видел ее уже взятой в раму. В данном случае что выделяется больше всего, так это украшенные разноцветными флажками мачты, итальянский зелено-бело-красный флаг, волнистая и темная линия лодок, заполненных зрителями, и бело-черная стрела гондол, отделяющихся от горизонта; затем, в верхней части картины, линия воды, обозначенная цель соревнований и воздушные острова.
§ II. Сперва я попытался бы определить различные валёры, располагающиеся один над другим и удаляющиеся в логической последовательности, согласно их планам в атмосфере.
§ III. Лагуна (зеркало неба) является папертью для лодок с их пассажирами, мачтами, флажками и т. д. У нее свой собственный цвет, цветовые нюансы, которые она заимствует у неба, облаков, толпы и предметов, в ней отражающихся. Не говорите мне о четких штрихах, о кусках проволоки в подвижной стихии, но о валёрах, которые, будучи отмеченными, составляют реальный объем, безукоризненный рисунок.
§ IV. Гондолы, разнообразные лодки, в основном окрашенные в темные тона, их отражения представляют собой основание, которое я кладу на свою водяную паперть.
§ V. Спокойно сидящие или жестикулирующие персонажи, одетые в темные или яркие одежды, их зонтики, платки, шляпы образуют зубцы самых разных оттенков, они создадут необходимый фон для «выделения» и придадут истинный характер планам и гондолам, которые я буду видеть сквозь них.
§ VI. Эта толпа, гребцы, знамена, мачты сольются в красочную мозаику. Надо будет постараться передать моментальность жестов, трепетанье флагов, покачивание мачт.
§ VII. На горизонте, очень высоко, располагаются острова. Паруса на дальних планах будут только угадываться благодаря их тонкой и точной окраске.
§ VIII. Наконец, небо, подобно огромному ослепительному навесу, накроет собой, укутает всю сцену; оно будет влиять на освещение персонажей и предметов.
§ IX. Мазки должны быть импульсивными, решительными. Никакой кухни, надо будет молить бога – покровителя добрых и честных художников, чтобы он пришел к вам на помощь!» – Примеч. авт.
(обратно)53
У Пон-дез-Ар (моста Искусств) в Париже находится Институт Франции. – Примеч. перев.
(обратно)54
После смерти герцога Рене Доброго единственное оставшееся под его властью владение – Прованс – отошло Людовику XI, королю Франции. Таким образом Прованс утратил относительную автономность.
(обратно)55
Шарль Бодлер. Цветы зла. СПб., 1907. Перевод А. А. Панова.
(обратно)56
Стихотворение Шарля Бодлера.
(обратно)57
Довиль – знаменитый фешенебельный курорт.
(обратно)58
В тексте «Watteau á vapeur». Шутка построена на игре слов: «bateau á vapeur» означает «пароход».
(обратно)59
Педро Маньяч.
(обратно)60
Перевод П. Антокольского. Гражданская поэзия Франции. М., 1955.
(обратно)61
Одно из прозвищ Клемансо.
(обратно)62
Подробнее см. о нем гл. XVII.
(обратно)63
«Западня» – роман Золя 1877 г.
(обратно)64
«Разгром» – роман 1892 г.
(обратно)65
О знаменитых мужах (De viris illustribus) – сочинение Иеронима Стридонского, изданное в 392–393 гг. в Вифлееме.
(обратно)66
Не беспокойтесь (англ.).
(обратно)67
Один из существующих русских переводов этого романа (1907) называется «Путешествие на автомобиле».
(обратно)68
Ситуация обусловлена официальной антиклерикальной позицией в Третьей французской республике.
(обратно)69
«Фиоретти ди Сан-Франческо» («Цветочки Франциска Ассизского») – итальянский анонимный сборник рассказов, повествующих о легендарных эпизодах из жизни Франциска Ассизского. – Примеч. перев.
(обратно)70
Вот пример его образа мыслей. Папаша Юбю объясняет, как ему удалось устроить дорогую жизнь: «С одной стороны, надо было удовлетворить публику, которая требовала во что бы то ни стало, то есть угрожая прогнать пинками под зад Парламент, чтобы мы отдали ей обещанные склады! С другой стороны, избежать того, чтобы публика, убедившись, что она не испытывает недостатка в предметах, хранящихся на вышеупомянутых складах… Короче, я хочу сказать следующее: поскольку теперь, когда все продается по недоступным ценам и все идет очень хорошо, не стоит ли опасаться, что все пойдет очень плохо, когда жизнь станет дешевой? Таким образом, мы создали Управление по ликвидации складов, что полностью удовлетворяло публику, но в то же время вынуждало служащих вышеназванного управления, дабы сохранить свое положение ликвидаторов, воспрепятствовать всеми средствами, самым надежным из которых является сила инерции, ликвидации вышеупомянутых складов…» – Примеч. авт.
(обратно)71
Ну и ну! (англ.)
(обратно)72
Эжен Марсель Прево.
(обратно)73
Во Франции – бранная кличка немцев.
(обратно)74
Сальпингит – воспалительный процесс в маточных трубах, т. е. болезнь исключительно женская.
(обратно)75
Речь идет о военной распродаже картин, реквизированных у Канвейлера как гражданина враждебной Франции Германии.
(обратно)76
Опцион – отсроченный договор о покупке.
(обратно)77
Дама имеет в виду универмаг «Лувр».
(обратно)78
Подразумеваются литературно-художественные и научные сообщества этих городов.
(обратно)79
Морис Леблан.
(обратно)80
Превосходно! (ит.)
(обратно)81
Лаццарони (ит. lazzaroni) – нищие, босяки, бездельники.
(обратно)82
Благодарю, сеньор (португ.).
(обратно)




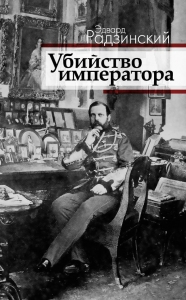
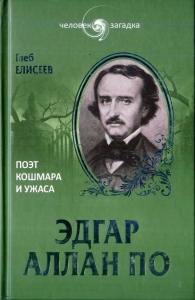

Комментарии к книге «Воспоминания торговцев картинами», Поль Дюран-Рюэль
Всего 0 комментариев