Эдуард Филатьев Главная тайна горлана-главаря Книга четвертая. Сошедший сам
Посвящаю моему внуку
Константину Дмитриевичу Малёнкину
© Э.Филатьев, 2017
© ООО «ЭФФЕКТ ФИЛЬМ», 2017
Часть первая Ликвидация бунтарей
Глава первая Поэтическая вершина
Вояж в Ленинград
В «Дневнике» Корнея Чуковского есть запись, сделанная 26 сентября 1926 года. В ней упоминается поэт Николай Семёнович Тихонов, тот самый, кого Бухарин назвал лучшим советским поэтом (вместе с Пастернаком и Сельвинским):
«Потом заговорили о Лиле Брик…
– Нужна такая умная женщина, как Лиля, – сказал Тихонов. – Я помню, как Маяковский, только что вернувшись из Америки, стал читать ей какие-то свои стихи, и вдруг она пошла критиковать их строка за строкой – так умно, так тонко и язвительно, что он заплакал, бросил стихи и уехал на 3 недели в Ленинград».
В Ленинград Маяковский отправился 3 января 1926 года. Уже 4-го он выступил в зале Академической филармонии с докладом «Моё открытие Америки».
На следующий день «Красная газета» в вечернем выпуске написала:
«Маяковский как бы умышленно игнорирует всё то, что поражало воображение предыдущих колумбов. Он остаётся равнодушен к американскому размаху и холоден к сногсшибающей экзотике…
Зал Филармонии был переполнен, как в дни концертов Клемперера, налицо несомненный контакт докладчика с чуткой аудиторией».
Выдающийся немецкий дирижёр Отто Клемперер в двадцатых годах многократно выступал в Москве и в Ленинграде. Один из музыкальных критиков тогда отметил:
«Когда поняли, вернее, инстинктом учуяли, что такое Клемперер, на него стали ходить так, что огромный зал филармонии не может уже больше вместить всех желающих послушать, а главное – посмотреть знаменитого дирижёра. Не видеть Клемперера – это значит лишить себя большой дозы впечатления».
Теперь с этой знаменитостью мирового масштаба сравнивали Маяковского.
Автор отчёта, помещённого в «Новой вечерней газете», как бы продолжил рассказ, начатый «Красной газетой»:
«– Который час?
В том ряду Филармонии, где я поместился на чтении Маяковского, и впереди и позади сидело не меньше ста человек. Мой вопрос, проходя от одного к другому, облетел всех их, но ответа не дал никто, потому что ни у кого часов не было. Это всё была молодёжь – пленительно юная – вузы, рабфаки и вторая ступень, молодёжь, которая не имеет такой роскоши, как часы… но все они выцарапали из себя возможность уплатить за билет, чтобы послушать Владимира Маяковского. Это была благодарная, чуткая, жаждущая аудитория, и она пришла напиться от первоисточника живой воды».
Присутствовавший на этом вечере молодой ленинградский прозаик Вениамин Александрович Каверин (Зильбер) в перерыве заглянул за кулисы:
«Между горками сложенных пюпитров, насвистывая "Чижика", мрачно шагал Маяковский. Отступив за колонну, я с бьющимся сердцем долго смотрел на него…
Я был поражён одиночеством Маяковского, его полной закрытостью, в которой чувствовалось лихорадочное возбуждение.
Невозможно было узнать в нём уверенно державшегося знаменитого человека, который только что в ответ на глупый вопрос какой-то девушки, не понявшей его иронического замечания, ответил: "К сожалению, человеческая речь не имеет кавычек. Разве вот так?" – и, подняв руки, согнутые в локтях, он показал кавычки.
Я так и не подошёл к нему».
Поэт Николай Семёнович Тихонов, тоже пришедший послушать Маяковского, в перерыве решил было подняться на сцену и потолковать с ним. Но подумал, что он, наверное, окружён толпой, и поговорить не удастся. Однако, поколебавшись немного, Тихонов всё же за кулисы пошёл.
«Каково же было моё удивление, когда я увидел одинокого человека, шагавшего, заложив руки за спину, по длинному тёмному пространству за сценой. В полном одиночестве Маяковский ходил взад и вперёд, и когда я пожал ему руку, она была влажной…
Он имел вид страшно усталого человека. Он был просто мрачен, и когда после вечера мы сидели в гостинице, эта мрачность не покидала его».
Кто знает, отчего происходила мрачность поэта? От американских воспоминаний, связанных с загадочной смертью Эфраима Склянского? Или от наложившихся на них переживаний от не менее загадочной кончины Сергея Есенина?
Театральный художник Валентина Ходасевич тоже оставила воспоминания:
«В 1926 году Маяковский, приехав в Ленинград, звонит и просит поехать с ним вечером в рабочий клуб на Васильевском острове – близ Гавани. Он будет там читать стихи. "Это ответственное для меня выступление, и мне нужна ваша помощь". Я соглашаюсь, хотя удивлена – какую помощь? Мы не виделись с Парижа.
Вечером он заехал. По дороге говорит, что ему важно знать, на что и как будут реагировать рабочие. Он просит меня всё запоминать и ему рассказать – "кроме того, и сами послушаете – это мне тоже интересно"».
Рабочий клуб располагался в старом кирпичном здании.
«Нас встретили несколько рабочих. Повели по мрачным проходным помещениям. Накурено. Свет в половину накала – потолки тонут в мраке…
Маяковский начал читать…
Вокруг меня, особенно женщины, подталкивая соседей, шёпотом спрашивали: "Это про что? Чего-чего?" Но когда дошло до стихов про Америку и Мексику, многие даже аплодировали, и у всех был довольный вид – освободились от "груза непонимания" и очень обрадовались. Вскоре уже кричали:
– Ещё, ещё!
Объявили перерыв. Маяковский бросился прямо ко мне…
– Что говорили? Как я читал? Понимали?
Он так был взволнован, точно разговор шёл о важном экзамене – сдал или провалился.
Я доложила всё, что прослушала, увидела и даже записала…
После перерыва народа прибавилось, все уже наперегонки занимали места. При появлении Маяковского бурно захлопали и сразу замерли. Маяковского как подменили – даже голос стал более звучным и мощным. Читал очень хорошо. Был внутренне весел и бодр, стал красивым. Очень понравились куски из поэмы "Владимир Ильич Ленин", "Наш марш", "Хорошее отношение к лошадям" и многое из "Моего открытия Америки". К нему привыкли и даже просили повторить некоторые стихи из первого отделения.
– Ишь! Как ловко одно к другому подкладывает да тебе в голову вкладывает – замечаешь? – говорил сидящий передо мною старик молодому рабочему.
– Здорово он их! Хлёстко!..
– Маяковский, спасибо! Уважил рабочий класс!
В тот приезд Маяковский подарил мне книжечку "Солнце в гостях у Маяковского", изданную в Нью-Йорке в 1925 году с иллюстрациями Давида Бурлюка. На книжечке он написал: "Вуалеточке В.Маяковский"».
Через неделю поэт вернулся в Москву.
18 января в 1-ом Госкинотеатре (ныне – московский кинотеатр «Художественный») состоялась одна из общественных премьер фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». В первый раз кинокартина была показана 21 декабря 1925 года в Большом театре на торжественном заседании, посвящённом 20-летию революции 1905 года. Премьера прошла довольно спокойно. Газеты особых восторгов тоже не высказали. Фильм продолжали демонстрировать в разных аудиториях.
На одном таком показе присутствовал секретарь политбюро Борис Бажанов. Театральные работы Эйзенштейна ему не нравились, и он написал о режиссёре и его фильме так:
«Обернувшись к синема и узнав в Агитпропе ЦК, что сейчас требуется (“нет агитационных революционных фильмов; состряпайте”), Эйзенштейн состряпал “Броненосца Потёмкина”, довольно обыкновенную агитку, которую левые синемасты Запада (а есть ли правые?) провозгласили шедевром (раз “революционный” фильм, то, само собой разумеется, шедевр). Я его видел на премьере (если не ошибаюсь, почему-то она была дана в театре Мейерхольда, а не в синема) и случайно был рядом с Рудзутаком; по просмотре мы обменялись мнениями. “Конечно, агитка, – согласился Рудзутак, – но давно уже нужен стопроцентный революционный фильм”. Так что заказ был выполнен, и в фильме всё было на месте – и озверелые солдаты, и гнусные царские опричники, и доблестные матросы – будущая “краса и гордость революции” (правда, только во времена АЛМАЗА, а не во времена КРОНШТАДТА)».
Напомним, что Ян Эрнестович Рудзутак был тогда наркомом путей сообщения СССР и кандидатом в члены политбюро ЦК ВКП(б) (членом политбюро он станет через полгода). А «Алмаз» был единственным крейсером Российского императорского флота, участвовавшим в Цусимском сражении, которому удалось прорваться во Владивосток. В январе 1918 года на стоявшем в порту Одессы «Алмазе» был размещён «Морской военный трибунал» – на крейсере варварски уничтожали белых офицеров. Под «временами КРОНШТАДТА» Бажанов явно имел в виду Кронштадское восстание 1921 года.
Поездка на Украину
Примерно в то же самое время прибыл на Соловки заключённый Борис Глубоковский, который был отправлен на «исправление» в концлагерь, тогда как поэта Алексея Ганина и многих других его подельников (объявленных членами «Ордена русских фашистов») расстреляли. В книге Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» момент прибытия доставленных на остров зеков описан так:
«Приёмка начинается. Перед рядами “пополнения” появляется начальник, вернее, владыка острова – товарищ Ногтев…
– Здорово, грачи! – приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически-благодушно. Руки Ногтева засунуты в карманы франтоватой куртки из тюленьей кожи, высший Соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза.
Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь:
– Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах – изумление), а соловецкая! То-то! Обо всех законах надо здесь позабыть! У нас – свой закон! – далее даётся пояснение этого закона в выражениях малопонятных, но очень нецензурных, не обещающих нам, однако, ничего приятного».
Тем временем экспедиция Николая Рериха продолжала томиться в китайском городке Хотане, поскольку местные власти, притесняя путешественников и издеваясь над ними, не позволяли им продолжить свой путь. 10 января 1926 года Рерих записывал в дневнике:
«Лама… предсказывает ещё одно обстоятельство. Он говорит: “Когда они увидят, что дальше идти нельзя в наглости и жестокости, они будут уверять, что вообще ничего не было, что нам всё только показалось, а они всегда были друзьями”».
Глава экспедиции Николай Константинович Рерих в заметках, которые делал в пути, «ламой» называл гепеушника Якова Блюмкина, своего заместителя.
21 января 1926 года Корней Чуковский записал в дневнике:
«Неделю тому назад был у Мейерхольда… Он пригласил меня к себе. Очень потолстел, стал, наконец, “взрослым” и “сытым”. Пропало прежнее голодное выражение его лица, пропал этот вид орлёнка, выпавшего из родного гнезда. Походка стала твёрже и увереннее. Ноги в валенках – в таких валенках, которые я видел только на Горьком – выше колен, тонкие, изящные, специально для знаменитостей, и можно засовывать за их голенища руки.
Он принял меня с распростёртыми. Вызвал жену, которая оказалась женой Есенина».
В стране в тот момент была ещё пора относительной свободы для литераторов, тон которой задал Николай Бухарин, выступивший в феврале 1925 года с докладом «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». Обращаясь к творческой интеллигенции, он, в частности, сказал:
«Почему вы думаете, что ЦК должен взять и прилепиться к какой-нибудь одной организации? Пусть будут тысячи организаций, пусть наряду с МАППом и ВАППом будет сколько угодно кружков и организаций!»
Напомним, что МАППом называли тогда Московскую ассоциацию пролетарских писателей, а ВАППом – ассоциацию тех же пролетарских писателей, но Всероссийскую.
Секретарь политбюро Борис Бажанов размышлял тогда совсем о другом:
«Я знаю Сталина и вижу, куда он идёт. Он ещё мягко стелет, но я вижу, что это аморальный и жестокий азиатский сатрап. Сколько он будет ещё способен совершать над страной преступлений – и надо будет во всём участвовать. Я уверен, что у меня это не выйдет. Чтобы быть при Сталине и со Сталиным, надо в высокой степени развить в себе все большевистские качества – ни морали, ни дружбы, ни человеческих чувств – надо быть волком. И затратить на это жизнь. Не хочу. И тогда что мне остаётся в этой стране делать? Быть винтиком машины и помогать ей вертеться? Тоже не хочу».
В то время, когда Борису Бажанову очень не хотелось «быть винтиком машины и помогать ей вертеться», многие советские интеллигенты (включая Маяковского) продолжали изо всех сил раскручивать эту большевистскую «машину» и ничего не имели против того, чтобы стать «винтиком», помогающим ей «вертеться». Впрочем, за это отдельным «винтикам» полагались некоторые льготы. Так, 23 января 1926 года Луначарский подписал письмо в жилищный отдел Рогожско-Симоновского района с просьбой сохранить за Маяковским квартиру в Гендриковом переулке (на время его поездок по стране).
Это поэтическое турне, на которое власти дали разрешение, началось 24 января – Владимир Владимирович отправился в лекционный вояж по городам Украины, Северного Кавказа, Азербайджана и Грузии.
Первое выступление состоялось в украинской столице, которой тогда был город Харьков. 25 января в местном Оперном театре Маяковский прочёл лекцию «Моё открытие Америки». Газета «Вечернее радио» на следующий день сообщила:
«Необычайный во всех отношениях вечер. Лекции в обычном смысле этого слова не было…
Маяковский остроумен и порою парадоксален. Он всегда умеет заключить виденное и слышанное в тугую фразу, в ядовитое, взрывчатое слово. На сцене был не стесняющийся ни в движениях, ни в словах человек, сумевший найти хороший фамильярный тон и связаться с переполненным залом. Поэт о самых известных вещах рассказывал необычайными словами…
Читал стихи, крепкие стихи о своём путешествии, читал своеобразной, ему только присущей манерой.
Весёлый, бодрый, остроумный поэт расположил к себе зрителей. Много смеялись, многое узнали. И только один момент наполнился молчанием, момент, когда в ответ на записку об Есенине Маяковский бросил: "Мне наплевать после смерти на все памятники и венки!.. Берегите поэтов!"»
Приехав на следующий день в Киев, Владимир Владимирович тут же написал и отправил письмо Наталье Симоненко (Рябовой), с которой познакомился в 1924 году:
«Наташа
Если Вы не забыли что полтора года назад Вам взбрело меня видеть – позвоните Отель Континенталь. Или даже забредите и вызовите меня
Жму лапу
Владимир Владим.»
О том, как о приезде поэта узнали остальные киевляне, написала сама Наталья:
«На улицах Киева – большие красные афиши, возвещающие лекции Маяковского об Америке».
Юная киевлянка и московский стихотворец встретились. Наташа сразу же сказала, что полученное ею письмо написано без знаков препинания. Маяковский ответил:
«– Знаки препинания – ничего, я стихи пишу хорошие!»
Весь следующий день поэт посвятил своей киевской знакомой.
«Мы целый день провели вместе. Днём гуляли в Царском саду. Владимир Владимирович был вооружён кастетом и маленьким револьвером "байярд". На мой вопрос: для чего столько оружия? – ответил:
– Боюсь, чтоб вас не отняли!»
28 января состоялось выступление поэта в бывшем Купеческом собрании, ставшим Домом коммунистического просвещения (Домкомпросом). Программа вечера была всё та же – доклад «Моё открытие Америки», чтение стихов и ответы на записки.
Наталья Симоненко:
«На улице, возле Домкомпроса, громаднейшая толпа. Пролезть к дверям невозможно… Коридоры, фойе, лестницы – всё забито билетным и безбилетным народом…
В зале невозможно найти никаких своих мест. Сидят по двое на одном стуле, друг у друга на коленях. Все страшно шумят, переговариваются через весь зал. Слышен украинский говор.
При появлении Маяковского становится ещё шумнее. Крики, аплодисменты, из-за дверей – рёв неуходящей публики. То и дело подают записки-просьбы, но задиристого содержания: "Если у нас нет денег, значит, нам не нужно знать Маяковского? Маяковский, пропусти!"
Владимир Владимирович находит единственно возможный выход – пустить всех».
Безбилетников пустили, и началось чтение доклада.
Газета «Киевский пролетарий»:
«Мы помним попытку поэта расправиться с Америкой в поэме "150 миллионов". Вторичная попытка Маяковского дала результаты куда более грандиозные…
Маяковский на этот раз крепко вцепился поэтической челюстью в горло Америки. В любой строке налицо чувство ненависти к индустриальному аду Америки…
– Ну, а как доклад? – спросите вы.
Доклада, в сущности, не было. Был яркий калейдоскоп фактов, был беспорядочно составленный калейдоскоп чувств, толкнувший большого поэта на вулканический разговор с Америкой по душам».
В третьей части вечера были ответы на записки.
Наталья Симоненко:
«Аудитория настроена бурно, и нельзя сказать, что очень дружелюбно. Кроме обычных выпадов о самовосхвалении, самомнении и так далее, публика очень интересовалась финансовой стороной поездки в Америку. И, наконец, раздались голоса, которые прямо вопрошали: "Кто дал вам деньги на поездку в Америку? На чьи деньги вы ездили в Америку?"
– На ваши, товарищи, на ваши!»
В Киеве у Маяковского было ещё два выступления. Последнее (доклад «Нью-Йорк и Париж») проходило в цирке. О нём киевская газета «Пролетарская правда» написала:
«Маяковский прекрасно чувствует свою связь с аудиторией… Он простой, и относятся к нему просто… Как и следовало ожидать, наибольшее количество времени Маяковский отвёл своим стихам…
– Между прочим, товарищи, – сказал он после одного из стихов в конце вечера, – та страна, где добрый час слушают серьёзные стихи, достойна уважения…
И, подумавши, добавил:
– Да, хорошая наша страна… И я, наверное, неплохой поэт, если сумел заставить вас столько времени слушать себя…»
А экспедицию Николая Рериха и Якова Блюмкина власти Хотана всё же из города выпустили, и 28 января 1926 года путешественники направились в город Урумчи, удаляясь от Гималаев.
Маяковский 4 февраля приехал в Ростов-на-Дону.
Что же происходило тогда в «достойной уважения» стране Советов?
Раскол большевиков
Мощный политический ураган, разыгравшийся на XIV съезде РКП(б) и расколовший партию надвое, стал потихоньку утихать. Зиновьев ещё оставался членом политбюро, но Льва Каменева из членов политбюро перевели в кандидаты. Кроме того, его лишили поста главы СТО (Совета Труда и Обороны).
Борис Бажанов:
«С января 1926 года Сталин после съезда пожинает плоды своей многолетней работы – свой ЦК, своё Политбюро – и становится лидером (ещё не полновластным хозяином – члены Политбюро ещё имеют вес в партии, члены ЦК ещё кое-что значат). Но пока шла борьба в центре, секретародержавие на местах окончательно укрепилось. Первый секретарь губкома – полный хозяин своей губернии, все вопросы губернии решаются на Бюро Губкома. Страной правит уже не только партия, но партийный аппарат».
21 января на очередное заседание политбюро собрались его члены: Ворошилов, Зиновьев, Рыков, Сталин, Троцкий, а также кандидаты в члены политбюро: Дзержинский, Рудзутак и члены ЦК: Раковский, Бубнов, Смилга, Пятаков, Чичерин. Был рассмотрен вопрос о главе наркомата финансов:
«23. О т. Брюханове (т. Рыков)».
Как мы помним, наркомфин Сокольников отказался поддержать «большинство ЦК» во главе со Сталиным, оставшись верным приверженцем позиций Зиновьева и Каменева. Кроме того, Сокольников был категорически против того, чтобы выделять средства для поощрения работников ГПУ. Сохранились его слова, высказанные Феликсу Дзержинскому:
«– Спрос рождает предложение, чем больше средств получат ваши работники, тем больше будет дутых дел. Такова специфика вашего весьма важного и потому опасного учреждения».
К тому же, напомним, Сокольников был единственным делегатом XIV съезда, кто с его трибуны громогласно потребовал лишить Сталина поста генерального секретаря партии. С тех пор прошёл всего месяц, и кремлёвские вожди дали Сокольникову ответ:
«23. Назначить т. Брюханова Народным Комиссаром финансов СССР».
Этим постановлением Григорий Сокольников из состава советского правительства изгонялся. И сразу же про нового наркома финансов появился анекдот.
Борис Бажанов:
«Порядочную часть советских и антисоветских анекдотов сочинял Радек. Я имел привилегию слышать их от него лично, так сказать, из первых рук. Анекдоты Радека живо отзывались на политическую злобу дня».
И Бажанов привёл в своей книге радековский анекдот «на политическую злобу дня» («об участии евреев в руководящей верхушке»):
«Два еврея в Москве читают газеты. Один из них говорит другому: “Абрам Осипович, наркомом финансов назначен какой-то Брюханов. Как его настоящая фамилия?” Абрам Осипович отвечает: “Так это и есть его настоящая фамилия – Брюханов”. – “Как! – восклицает первый. – Настоящая фамилия Брюханов? Так он – русский?” – “Ну, да, русский”. – “Ох, слушайте, – говорит первый, – эти русские – это удивительная нация: всюду они пролезут”».
На том же заседании политбюро, где наркомом был утверждён Николай Павлович Брюханов, Троцкий, не входивший пока ни в сталинское «большинство», ни в зиновьевско-каменевскую «оппозицию», попросил своих соратников немного разгрузить его от дел:
«19. Просьба т. Троцкого об освобождении его от обязанностей начальника Главэлектро (тт. Дзержинский, Троцкий)».
Бывшие руководители и фактические создатели Красной армии (Троцкий и Склянский) после смерти Ленина были по очереди отправлены в подчинение Дзержинскому, который, оставаясь руководителем ОГПУ, стал ещё и главой ВСНХ (Высшего Совета Народного Хозяйства). Склянского, как мы помним, сначала назначили руководителем Моссукна, затем поставили во главе Амторга, а потом утопили в озере неподалёку от Нью-Йорка. Троцкого, никакого интереса к электричеству не проявлявшего, сделали начальником Главэлектро.
Политбюро приняло постановление:
«19. Удовлетворить просьбу т. Троцкого».
В тот же день, 21 января, вожди опросом решили ещё один вопрос:
«28. Предоставить т. Троцкому дополнительный день отдыха в неделю».
Политическая жизнь страны, казалось, входила в свою привычную колею.
Но секретарь политбюро Борис Бажанов продолжал размышлять над тем, как поступить ему с его антибольшевистским настроением:
«Остаётся единственный выход: уйти за границу; может быть, там я найду возможности борьбы против этого социализма с волчьей мордой. Но и это не так просто.
Сначала надо уйти из Политбюро, сталинского секретариата и из ЦК. Это решение я принимаю твёрдо. На моё желание уйти Сталин отвечает отказом. Но я понимаю, что дело совсем не в том, что я незаменим – для Сталина незаменимых или очень нужных людей нет; дело в том, что я знаю все его секреты, и если я уйду, надо вводить в эти секреты нового человека; именно это ему неприятно».
И Борис Бажанов стал искать выход из создавшегося положения.
Вскоре такая возможность появилась.
Попытка эмигрировать
Уехать из Советского Союза Борис Бажанов решил не один, а вместе с дамой своего сердца. Вот как он сам всё это описал:
«Она называется Андреева, Алёнка, и ей двадцать лет. История Алёнки такова. Отец её был генералом и директором Путиловского военного завода. Во время гражданской войны он бежал от красных вместе с женой и дочерью на Юг России. Там во время гражданской войны на Кавказе он буквально умер от голода, а жена его сошла с ума. Пятнадцатилетнюю дочку Алёнку подхватила группа комсомольцев, ехавших в Москву на съезд, и привезла в Москву. Девчонку определили в комсомол, и она начала работать в центральном аппарате комсомола. Была она на редкость красива и умна, но нервное равновесие после всего, что она пережила, оставляло желать лучшего».
Когда Алёне Андреевой исполнилось 17 лет, на ней женился генеральный секретарь ЦК комсомола Пётр Смородин. Вскоре Алёна перешла работать в аппарат ЦК партии, где и встретилась с Борисом Бажановым, который написал:
«Роман, который возник между нами, привёл к тому, что она своего Смородина оставила. Правда, вместе с ней мы не жили. Я жил в 1-м Доме Советов, а рядом был Дом Советов, отведённый для руководителей ЦК комсомола. У неё там была комната…
Роман наш длился уже полтора года. Но Алёнка не имела никакого понятия о моей политической эволюции и считала меня образцовым коммунистом. Открыть ей, что я хочу бежать за границу, не было ни малейшей возможности».
Бажанов перевёл Алёну на работу в Народный комиссариат финансов, а так как он сам собирался в командировку в Норвегию, то устроил ей командировку в Финляндию.
«Я рассчитывал на обратном пути встретить её в Гельсингфорсе и только здесь открыть ей, что я остаюсь за границей; и здесь предложить ей выбор: оставаться со мной или вернуться в Москву. Естественно, если она решила вернуться, всякие риски бы для неё отпали – она бы этим доказала, что моих контрреволюционных взглядов не разделяет и соучастницей в моём оставлении Советской России не является».
Однако Ягода, следивший за каждым шагом Бажанова, заграничный паспорт Алёне Андреевой подписать отказался, и она осталась в СССР. Узнав об этом, Борис Бажанов понял, что попал в положение «очень глупое»:
«Если я останусь за границей, по всей совокупности дела она будет рассматриваться моей соучастницей, которая неудачно пыталась бежать вместе со мной, и бедную девчонку расстреляют совершенно ни за что, потому что на самом деле она никакого понятия не имеет о том, что я хочу бежать за границу… Я записываю в свой пассив неудачную попытку эмигрировать, сажусь в поезд и возвращаюсь в Советскую Россию.
Ягода уже успел представить Сталину очередную цидульку о моём намерении эмигрировать, да ещё с любимой женщиной. Сталин, как всегда, равнодушно передаст донос мне. Я пожимаю плечами: “Это у него становится манией”. Во всяком случае, моё возвращение оставляет Ягоду в дураках.
Так как теперь совершенно ясно, что как я ни попробую бежать, Алёнку с собой я взять никак не смогу, у меня нет другого выхода как разойтись с ней, чтобы она ничем не рисковала. Это очень тяжело и неприятно, но другого выхода у меня нет».
И Борис с Алёной расстался.
Но этим тут же воспользовалось ОГПУ:
«Одна из её подруг, Женька, которая работает в ГПУ (но Алёнка этого не знает), получает задание, которое и выполняет очень успешно: “Ты знаешь, почему он тебя бросил? Я случайно узнала – у него есть другая дама сердца; всё ж таки, какой негодяй и т. д.”. Постепенно Алёнку взвинчивают, убеждают, что я скрытый контрреволюционер, и уговорят (как долг коммунистки) подать на меня заявление в ЦКК, обвиняя меня в скрытом антибольшевизме. Ягода опять рассчитывает на своих Петерса и Лациса, которые заседают в партколлегии ЦКК».
А тут ещё Лев Каменев, переведённый из членов политбюро в кандидаты, пригласил Бажанова к себе и предложил ему стать членом оппозиции. Бажанов отказался. Но об этом тайном визите к Каменеву Ягода тотчас доложил Сталину. И генсек дал согласие на то, чтобы Центральная контрольная комиссия (ЦКК) вызвала Бажанова на одно из своих заседаний и выслушала «обвинения Алёнки».
Борис Бажанов:
«На ЦКК Алёнка говорит в сущности вздор. Обвинения в моей контрреволюционности не идут дальше того, что я имел привычку говорить: “наш обычный советский сумасшедший дом” и “наш советский бардак”. Это я действительно говорил часто и не стесняясь. Собеседники обычно почтительно улыбались – я принадлежал к числу вельмож, которые могут себе позволить критику советских порядков, так сказать, критику хозяйскую.
Когда она кончила, я беру слово и прошу партколлегию не судить её строго – она преданный член партии, говорит то, что действительно думает, полагает, что выполняет свой долг коммунистки, а вовсе не клевещет, чтобы повредить человеку, с которым разошлась.
Ярославский, который председательствует, спрашивает, а что я скажу по существу её обвинений. Я только машу рукой: “Ничего”… Я знаю, что всё это театр, и что они спросят у Сталина, постановлять ли что-либо.
Поэтому на другой день я захожу к Сталину, говорю, между прочим, о ЦКК так, как будто всё это чепуха (инициатива обиженной женщины), а потом так же, между прочим, сообщаю, что товарищ Каменев пытался привести меня в оппозиционную веру, но безрезультатно. Сталин успокаивается и, очевидно, на вопрос Ярославского, что постановлять ЦКК, отвечает, что меня надо оставить в покое, потому что никаких последствий это больше для меня не имеет».
Здесь, пожалуй, пришло время рассказать о личной жизни Иосифа Сталина, о его отношениях с женой, Надеждой Аллилуевой. Вот что об этом рассказал Борис Бажанов:
«Дома Сталин был тиран. Постоянно сдерживая себя в деловых отношениях с людьми, он не церемонился с домашними. Не раз Надя говорила мне, вздыхая: “Третий день молчит, ни с кем не разговаривает и не отвечает, когда к нему обращаются; необычайно тяжёлый человек”. Но разговоров о Сталине я старался избегать – я уже представлял себе, что такое Сталин, бедная Надя только начинала, видимо, открывать его аморальность и бесчеловечность и не хотела сама верить в эти открытия».
Тем временем выяснилось, что наступившее политическое затишье – лишь временная передышка. Потерпевшие поражение оппозиционеры не желали мириться с победой Сталина, который ещё не так давно был у них на подхвате. И Зиновьев с Каменевым принялись выяснять, как им объединиться с их недавним заклятым врагом Троцким.
К этому времени все главные соратники бывшего наркомвоенмора уже были отправлены с глаз подальше – за границу, полпредами в столицы буржуазных стран. Их разъединили друг от друга. Но, пользуясь дипломатическими каналами, они вели оживлённую переписку между собой и своими оставшимися в СССР единомышленниками. Эта разрозненная, но не сломленная гвардия победителей в гражданской войне представляла собой весьма могучую силу.
Если бы Зиновьеву с Каменевым удалось объединить своих сторонников с троцкистами, то у «большинства ЦК» появится бы очень мощный соперник. А то, что подобное объединение возможно, Сталин и его соратники прекрасно понимали. И они крепко задумались над тем, как воспрепятствовать такому нежелательному объединению.
Роковая поездка
Самый первый удар ЦК решило нанести по каналам связи. Ведь ситуация там сложилась довольно оригинальная – все письма полпредов (наряду с прочими посольскими документами) перевозили дипломатические курьеры (дипкурьеры), которые этот груз охраняли с оружием в руках. Самих дипкурьеров неусыпно опекало ОГПУ. Таким образом, получалось, что письма, которые вполне могли быть направлены против власти, эта власть ещё и зорко охраняла.
Подобную несуразицу необходимо было ликвидировать самым решительным образом. Но как? Ведь во главе ОГПУ находился Феликс Дзержинский, поддерживавший Троцкого.
Однако на Лубянке у Сталина имелось немало своих людей, так что обойти «железного Феликса» было совсем не трудно.
И гепеушники начали действовать.
В январе 1926 года 28-летний москвич Корнелий Люцианович Зелинский был неожиданно вызван на Лубянку. Впрочем, самого Зелинского это приглашение совершенно не удивило. Ведь он, активно сотрудничая с Литературным центром конструктивистов (ЛЦК) и публикуя в печати заметки публицистического толка, в ОГПУ заглядывал довольно часто. В ту пору про основное дело, которым занимался Корнелий Люцианович, не надлежало знать даже самым близким людям. Много-много лет спустя, вспоминая свою молодость, он написал:
«Я жил в то время в общежитии украинского постпредства в Колпачном переулке, на Покровке, где занимался отнюдь не романтическими делами, но заведовал отделом секретной информации».
Так что литератор, заведовавший украинскими секретами, был на Лубянке своим человеком. Вот ему и предложили поработать за рубежом – шифровальщиком в советском постпредстве в Париже. Правда, к месту своей будущей работы Зелинскому предстояло добираться не как полноправному сотруднику дипломатического представительства, а как корреспонденту газеты «Известия».
Корнелий Зелинский ничему удивляться не стал, и на всё, что предложили ему, ответил полным согласием.
– Тогда собирайтесь в дорогу! – сказали ему и добавили. – Железнодорожный билет вам организует ваш хороший знакомый. Он живёт неподалёку.
«Хорошим знакомым» – к немалому на этот раз удивлению Корнелия Люциановича – оказался Владимир Владимирович Маяковский, который воспринял обращение к нему литератора из ЛЦК как нечто само собой разумеющееся. Впоследствии Зелинский вспоминал:
«Маяковский, ссылаясь на свой опыт, посоветовал в поездке присоединиться к нашим дипкурьерам».
И он тут же позвонил своему приятелю-дипкурьеру (назвав его Теодором) и попросил приобрести железнодорожный билет для одного своего хорошего знакомого.
Сам факт этого «заказа» говорит о многом. И прежде всего о том, что среди чекистов Владимир Владимирович был своим человеком. Ведь если бы Маяковский никакого отношения к ОГПУ не имел, то как он мог оказаться «заказчиком билетов» для человека, которого это ведомство отправляло в служебную командировку?
Оформив железнодорожный билет Зелинскому, Маяковский, как мы помним, 24 января 1926 года отправился в лекционное турне по Украине, а 4 февраля прибыл в Ростов-на-Дону.
В тот же самый день (4 февраля) с Виндавского (Рижского) вокзала столицы отошёл поезд «Москва-Рига». Дипкурьер, который взял билет для Зелинского, ехал с ним в соседнем купе. Звали его Теодор Иванович Нетте. Для него эта поездка стала последней, так как 5 февраля при подходе поезда к столице Латвии на купе советских дипломатических курьеров было совершено вооружённое нападение, завязалась перестрелка. Были жертвы.
Кто задумал и осуществил бандитский налёт на международный вагон поезда «Москва-Рига», так и осталось неизвестным. Суд, состоявшийся в столице Латвии в конце 1926 года, так ничего толком не раскрыл. Дело тихо закрыли.
Между тем в том кровавом инциденте чётко прослеживается присутствие ОГПУ, Иностранный отдел которого организовывал и осуществлял десятки подобных нападений и убийств во многих странах. Косвенных доказательств того, что кровавый инцидент в вагоне поезда «Москва-Рига» был задуман на Лубянке, существует немало. И уж совсем нетрудно установить, что готовил этот кровавый инцидент Иосиф Казимирович Опанский, заместитель полномочного представителя ОГПУ по Белорусскому военному округу.
Этой версии можно было бы привести немало доказательств, но это уведёт далеко в сторону наш рассказ о Владимире Маяковском. Поэтому ограничимся лишь теми фактами, которые имеют к поэту самое непосредственное отношение.
Итак, в организации этой гепеушной акции Маяковский участие принимал. Вполне возможно, что в числе претендентов на роль попутчика Теодора Нетте был и сам Владимир Владимирович – ведь он уже несколько раз ездил с ним за рубеж и обратно. Но по каким-то соображениям (возможно из-за поездки с лекциями) кандидатура Маяковского отпала. Кто знает, не он ли сам предложил Корнелия Зелинского в качестве замены?
Вряд ли организаторы этого кровавого инцидента планировали убийство советского дипкурьера. Она, видимо, предполагали, что завербованные налётчики ворвутся в вагон, устроят перестрелку и будут ликвидированы – либо дипкурьерами, либо третьим участником нападения, который дожидался окончания пальбы в тамбуре. Такой, скорее всего, была схема гепеушной акции.
А роль Зелинского в этой истории заключалась в том, что он как очевидец перестрелки должен был своим рассказом о ней изрядно напугать Раковского и его единомышленников дипломатического ранга.
Но действительность непредсказуема, поэтому всё стало развиваться по иному сценарию. В результате к двум запланированным жертвам (нападавших на дипкурьеров братьев Габриловичей, в самом деле, пристрелил их третий сообщник) добавилась ещё одна – Теодор Нетте.
Теодор Нетте
11 февраля на заседании политбюро (присутствовали Зиновьев, Калинин, Рыков, Сталин, Томский и Троцкий, а также Каменев и Рудзутак) нарком по иностранным делам Чичерин, докладывая об этой трагедии, вновь с тревогой заявил о том, что наши дипломатические секреты могут в любой момент стать достоянием тех, кому они совершенно не предназначены.
Политбюро постановило: контроль над дипкурьерами ужесточить, поручив осуществление этого дела гепеушникам.
На Объединённое Государственное Политическое управление (ОГПУ) – Борис Бажанов обратил внимание ещё тогда, когда партией управляла «тройка» (Зиновьев, Каменев, Сталин), а ОГПУ ещё не было «объединённым» и называлось просто ГПУ:
«ГПУ… Как много в этом звуке для сердца русского слилось…
В это время внутри партии была свобода, которой не было в стране; каждый член партии имел возможность защищать и отстаивать свою точку зрения. Также свободно происходило обсуждение всяких проблем на Политбюро. Не говоря уже об оппозиционерах, таких как Троцкий и Пятаков, которые не стеснялись резко противопоставлять свою точку зрения мнению большинства, – среди самого большинства обсуждение всякого принципиального или делового вопроса происходило в спорах…
Но что очень скоро мне бросилось в глаза, это то, что Дзержинский всегда шёл за держателями власти, и если отстаивал что-либо с горячностью, то только то, что было принято большинством…
Первый заместитель Дзержинского (тоже поляк), Менжинский, человек со странной болезнью спинного мозга, эстет, проводивший свою жизнь, лёжа на кушетке, в сущности тоже очень мало руководил работой ГПУ. Получилось так, что второй заместитель председателя ГПУ, Ягода, был фактически руководителем ведомства.
Впрочем, из откровенных разговоров на заседании тройки я быстро выяснил позицию лидеров партии. Держа всё население в руках своей практикой террора, ГПУ могло присвоить себе слишком большую власть вообще. Следовательно тройка держала во главе ГПУ Дзержинского и Менжинского как формальных возглавителей, в сущности от практики ГПУ далёких, и поручая вести все дела ГПУ Ягоде, субъекту малопочтенному, никакого веса в партии не имевшему и сознававшему свою полную подчинённость партийному аппарату. Надо было, чтобы ГПУ всегда и во всём было подчинено партии и никаких претензий на власть не имело…
Партийное руководство могло спать спокойно, и его очень мало занимало, что население всё больше и больше схватывается в железные клещи гигантского аппарата политической полиции, которому коммунистический диктаторский строй предоставляет неограниченные возможности».
Эти «неограниченные возможности» ОГПУ и применило в отношении надзора за дипломатической почтой. Оппозиционно настроенным полпредам пришлось искать другие, более надёжные способы общения.
Их искали тогда не только оппозиционеры. Бенгт Янгфельдт пишет (об Осипе Брике и лефовцах):
«Зимой 1926 года Осип и три поэта (Асеев, Пастернак и близкий футуристам конструктивист Илья Сельвинский) пришли на приём к Троцкому, чтобы пожаловаться на трудности, с которым сталкиваются авторы-новаторы. Несмотря на то, что он принадлежал к партийной оппозиции, Троцкий занимал ещё достаточно прочное положение в сфере культуры, поэтому визит к нему был объясним. Тем более, что Осип незадолго до того примкнул к оппозиции, заявив, что он больше "не выдержал". Маяковский несколько раз встречался с Троцким ранее, но в этой встрече участия не принимал – по-видимому, он был в отъезде».
Интересное свидетельство! Осип Брик, уже давно исключённый из партии, неожиданно «примкнул к оппозиции», так как «не выдержал». Дома, общаясь с членами своей «семьи», Осип Максимович, надо полагать, высказывался очень откровенно в отношении того, что, по его мнению, происходило тогда в партийной элите. Запомним этот момент! Ведь о том, что беспартийный Осип Брик стал оппозиционером, других свидетельств нет.
В письме поэта-конструктивиста Бориса Агапова Корнелию Зелинскому есть такая информация о той встрече:
«Илья был у Льва Давидовича Троцкого вместе с Асеевым (который взял с собой Кирсанова), Пастернаком, Воронским и Полонским… Провели они у Троцкого чуть ли не 4 часа и, кажется, с триумфом. Троцкий сказал, что вопрос о молодых поэтах надо поднимать вместе с вопросом о качестве продукции стихов и о редакторском своеволии».
Так что «жалобы» Брика со товарищи большевистскому вождю, которого всё активнее поджимало сталинское «большинство ЦК», действие возымели – Троцкий сразу же созвал ведущих деятелей культуры на совещание, и лефовцам разрешили выпускать ежемесячный журнал «Новый Леф». Правда, договор с Госиздатом был подписан только в сентябре, тираж был установлен всего в 1500 экземпляров, а объём журнала был только в 48 страниц, что было (как пишет Янгфельдт)…
«… существенно меньше, чем у "старого" "Лефа", который хоть и выходил нерегулярно, но в объёме достигал иногда нескольких сот страниц».
Неожиданная кончина
В Париже в тот момент вот-вот должны были начаться франко-советские переговоры. Нашу делегацию возглавил новый полпред Советского Союза во Франции Христиан Раковский (друг и соратник Льва Троцкого). По просьбе Раковского переговорный процесс в прессе СССР поручили освещать журналистке и писательнице Ларисе Рейснер (гражданской жене верного сторонника Троцкого Карла Радека). Её оформили корреспондентом «Известий», и она должна была отправиться во Францию в том же поезде, в которым покидал Москву Раковский.
Но включённая в состав советской делегации в Париже Лариса Рейснер, видимо, кому-то очень мешала. И за несколько дней до отъезда она внезапно заболела. Невероятно загадочной болезнью.
Газета «Вечерняя Москва» в номере от 4 февраля 1926 года сообщила:
«Известная писательница Лариса Рейснер опасно заболела брюшным тифом. Больная помещена в кремлёвскую больницу. В течение нескольких дней она находится в бессознательном состоянии. В настоящее время положение её признаётся критическим. Одновременно с нею заболели также тифом и помещены в ту же кремлёвскую больницу мать Л.Рейснер, брат её и домашняя работница. Эпидемическое заболевание тифом в одной семье – представляется последнее время исключительным».
Как выяснилось, в семье Рейснер хотели сделать пирожные. Крем для них изготовили на молоке, которое оказалось заражённым. Отец Ларисы, Михаил Андреевич Рейснер, пирожных не ел, поэтому не заболел.
Кремлёвские врачи сделали всё возможное, чтобы спасти Ларису Михайловну, но 9 февраля она скончалась.
Будущий поэт и писатель Варлам Тихонович Шаламов (тогда ему было семнадцать с половиной лет, и он работал дубильщиком на кожевенном заводе в подмосковном Кунцево) потом написал:
«Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня Гражданской войны тридцати лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил. Но Рейснер умерла».
Журналист Михаил Кольцов:
«Зачем было умирать Ларисе, великолепному, редкому, отборному человеческому экземпляру?»
Юный Анатолий Гудимов, ещё только начинавший заниматься журналистикой, вспомнил о том, что видел Ларису Рейснер на похоронах Сергея Есенина:
«Мог ли я подумать, что через месяц 30 лет от роду она сама, с чуть приоткрытыми глазами, такая знакомая и чужая, будет лежать в том же зале того же Дома печати?»
Сразу вспоминаются стихи, сочинённые Ларисой Рейснер ещё до революции:
«Я прошу тебя, Всевышний, об одном:
Дай мне умереть с открытыми глазами,
Плакать дай кровавыми слезами
И сгореть таинственным огнём.
Пусть умру я, Боже, улыбаясь,
И глаза пусть будут полны слёз,
Да услышу музыку миров, прощаясь
С царством терние и роз».
Писательница Лидия Сейфуллина:
«Она настолько ценила жизнь, что никогда не бесчестила её ленью, разгильдяйством, творческой дешёвкой…»
Борис Пастернак написал стихотворение «Памяти Рейснер». Вот два его четверостишия (первое и последнее):
«Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненье с ней.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней…
Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени».
Владимир Маяковский, находившийся тогда в Ростове-на-Дону (в лекционной поездке), на смерть Ларисы Михайловны не откликнулся.
А по Москве упорно ходили слухи, что Ларису Рейснер отравили.
Кто? И за что?
Ответить на эти вопросы не могла даже людская молва.
Отец скончавшейся писательницы, Михаил Андреевич Рейснер, написал Лидии Сейфуллиной:
«… врачи удивляются и говорят – удивительная по силе инфекция. По ночам выдумываю роман, где женщина-врач, чтобы погубить соперницу, пользуется новейшим и совершенно безопасным способом – подбрасывает ей в пищу, скажем, в молоко – изумительную по силе разводку тифозных бацилл…»
Михаил Рейснер как в воду смотрел – ведь трагические события в стране Советов (до предела запутанные и, на первый взгляд, совершенно необъяснимые) происходили всё чаще и чаще. Почему? Не потому ли, что уже набирала обороты «машина», уничтожавшая «врагов» страны Советов?
Но тогда возникает вопрос: разве среди тех, кто отдавал команды этой «машине», не было людей порядочных, человечных?
Были. О них – Борис Бажанов:
«В большевистской верхушке я знал многих людей, и среди них, людей талантливых и даровитых, немало было честных и порядочных. Последнее я констатирую с изумлением. Я не сомневаюсь в будущей незавидной судьбе этих людей – они по сути к этой системе не принадлежат (правда, мне бы следовало также допустить, что и судьба всех остальных будет не лучше). Они втянуты, как и я, в эту огромную машину по ошибке и сейчас являются её винтиками. Но у меня уже глаза широко открыты, и я вижу то, что почти все они не видят: что неминуемо должно дать дальнейшее логическое развитие применения доктрины».
Политическая ситуация в стране Советов и события, происходившие в ней в начале 1926 года, отвлекли нас от жилищных проблем Владимира Маяковского и от квартиры, которую получил поэт-лефовец. Вернёмся к ним.
«Квартирный» вояж
Для того чтобы как следует отремонтировать четырёхкомнатное жильё в Гендриковом переулке, нужны были деньги. И немалые.
Бенгт Янгфельдт:
«Именно для того, чтобы финансировать ремонт, Маяковский и отправился в турне».
Аркадий Ваксберг:
«… этот год чрезвычайно насыщен поездками по Союзу с огромным количеством выступлений в разных городах, неизменно сопровождавшихся шумным успехом».
Приехав 4 февраля 1926 года в Ростов-на-Дону, Маяковский уже 6-го выступал с докладом-лекцией «Моё открытие Америки». Ростовская газета «Молот» сообщала:
«Это не была лекция, по крайней мере в том смысле, в каком привыкли мы понимать это слово. Скорей беседа поэта с публикой – беседа, пересыпанная блёстками неподражаемого (без кавычек) Маяковского остроумия. Об Америке т. Маяковский сказал не много, но немногое, сказанное им, давало большее представление о заатлантической стране, чем многословные речи патентованных лекторов».
6 февраля Маяковский узнал о трагическом инциденте в поезде «Москва-Рига», где в неожиданной перестрелке, устроенной братьями Габриловичами, погиб его добрый приятель и многократный попутчик Теодор Нетте.
10 февраля другая ростовская газета («Советский юг») поместила ещё один отклик на выступление поэта:
«Маяковский, несмотря на то, что выступал один, сумел заинтересовать публику, держа её в напряжённом ожидании в течение трёх с половиной часов. Поэт прекрасно понимает свою аудиторию, он не говорит заранее подготовленные речи…
В перерыве в фойе он головой возвышался над толпой и подписывал на память книжки, которые публика раскупала в киоске Госиздата…
Третья часть вечера – стихи, живое творчество – более всего заинтересовало публику. Читал он стихи так, как он один только может прочесть. Публика требовала любимых стихов. "Левый марш"! "Пушкину"! "Облако в штанах"! – неслось со всех сторон».
8 февраля Маяковский пришёл в редакцию газеты «Советский юг», один из сотрудников которой (П.Максимов) потом рассказал:
«Его окружили сотрудники редакции, счетоводы из издательства, в дверь выглядывали любопытные машинистки. В разговоре с сотрудниками был также корректен, прост, совершенно естественен и не давал ни малейшего повода думать, что он страдает самомнением. Кто-то спросил у него о его летах. Он ответил односложно и таким тоном, как будто говорил: "Да, стал стареть…" – и задумался.
Сфотографировавшись с нами, он ушёл, – наша литературная молодёжь потащила его в "Молот". Рано утром наш фоторепортёр отправился к нему в гостиницу "Деловой двор", поднял его с постели и сфотографировал его ещё раз, в какой-то полосатой кофте, с угрюмым лицом…»
14 февраля – выступление в Краснодаре. Присутствовавшая на нём Н.Ерохина вспоминала:
«Он окидывал весь зал и балконы изучающим взглядом, готовясь говорить. Вдруг с боковых балконов раздалась хоровая декламация его известных надписей к этикеткам на коробках папирос – "Нигде кроме как в Моссельпроме!!". Это была злая насмешка группки обывателей над творчеством Маяковского, вызов поэту. А он стоял посреди сцены, спокойный и величественный, и внимательно смотрел серьёзным взглядом на кричавших. Под его взглядом крикуны стали умолкать. Невозмутимым голосом он спросил:
– Вы кончили? Можно начинать?
В ответ на эти слова весь зрительный зал наполнился гулом голосов: "Не слушайте их, мы любим вас, говорите, Маяковский!"»
Краснодарская газета «Красное знамя»:
«Маяковский рассказал об американской индустриальной мощи и об американизме в жизни лучше, интересней и образней, чем сотни книг об Америке… Затем читка стихов».
Краснодарец В.Пашков:
«Когда он признался, что пишет стихи о Краснодаре, с разных мест понеслось:
– Прочтите их, прочтите!
– Нет, товарищи, стихотворение только вылупляется».
В стихотворении, названном «Краснодар», рассказывалось о том, что поэт обратил внимание на множество собак в этом городе:
«Вымыл всё февраль / и вымел —
не февраль, / а прачка,
и гуляет / мостовыми
разная собачка…
Даже / если / пара луж,
в лужах / сотни солнц юлится.
Это ж / не собачья глушь,
а собачкина столица».
Краснодарец Н.Арсенов:
«– Я читаю ваши стихи, но ничего не понимаю, – перегнувшись, кричит какой-то студент с балкона.
– Что же вы не понимаете? Вот я вам целых два часа читал стихи, скажите, что вы не поняли?
Студент молчит».
В.Пашков приводит совет Маяковского тем, кто собирался начать писать:
«Пишите, не отрываясь от той профессии, которая даёт вам хлеб, мясо, рубашку и воскресное кино».
Кавказские выступления
19 февраля 1926 года состоялось выступление Маяковского в Оперном театре города Баку.
Газета «Бакинский рабочий»:
«Маяковский как чтец превосходен: могучий голос, чёткая дикция и хорошее владение декламационной акцентировкой – качества, которыми литераторы блещут не часто… Закончил Маяковский знаменитым "Левым маршем", прозвучавшим в его исполнении особенно чётко и убедительно».
Александр Михайлов:
«Если кто-то по обрывочным воспоминаниям представляет, что поэтические вечера Маяковского – это битком набитые залы, конная милиция, сплошной триумф, то у него ошибочное представление. Были битком набитые залы, была конная милиция, были вечера, которые кончались триумфом поэта. Но были и полупустые холодные залы, была на вечерах зелёная молодёжь, пришедшая на очередное "мероприятие" или поразвлечься. Публику надо было приучить слушать стихи. Нужна была реклама, чтобы заинтересовать людей, пригласить в театр или клуб. Остальное поэт брал на себя».
20 февраля в Москву полетело письмо Лили Брик:
«Дорогая и родная моя Кисица!
(Это я сделал из Киса и Лисица.)
Я живу сию минуту в Баку, где я видел (а также и по дороге) много интересного, о чём и спешу тебе написать…
Я живу весело: чуть что – читаю "Левый марш" и безошибочно отвечаю на вопросы – что такое футуризм и где теперь Давид Бурлюк…
Во вторник или среду утром еду Тифлис и, отчитав, поскорее в Москву…
Надоело – масса бестолковщины. Устроители – молодые. Между чтениями огромные интервалы, и ни одна лекция не согласована с удобными поездами. Поэтому, вместо международных, езжу, положив под голову шаблонное, с клещами звёзд огромное ухо.
Здесь весна. На улице продают мимозы. <…> Направо от меня Каспийское море, в которое ежедневно впадает Волга, а выпадать ей некуда, т. к. это море – озеро и положение его безвыходное».
Как видим, ко всем дорожным передрягам Маяковский относился спокойно, так как знал, что московскую квартиру ждёт ремонт, на который надо заработать деньги. И он писал:
«Дорогой Солник, очень тебя жалею, что тебе одной возиться с квартирой, и завидую, потому что с этим повозиться интересно.
Я по тебе, родненький, очень соскучился. Каждому надо, чтобы у него был человек, а у меня такой человек ты. Правда.
Целую тебя обеими губами, причём каждой из них бесконечное количество раз.
Весь твой С ч е н 1-ый (Азербайджанский)».
Под «Сченом 2-ым», Маяковский, видимо, подразумевал собачку Скотика.
24 февраля Владимир Владимирович покинул Баку и отправился в Тифлис, где уже через день состоялось его первое выступление. В театре Руставели поэт делал доклад «Моё открытие Америки». Присутствовавший на этом вечере молодой поэт Василий Абгарович Катанян написал:
«Зал был наполовину полон или, как сказал бы пессимист, – наполовину пуст.
Маяковский был пессимист. Но, выйдя на сцену и обнаружив это грустное обстоятельство, он не стал его игнорировать и замазывать. Скорее, наоборот: хладнокровно подчеркнул его и пожелал выяснить – как и почему это могло произойти.
– Может, мало было афиш? Поздно расклеены? Кто пришёл, прочитав афишу, поднимите руку! Или билеты дороги? Но надо же понимать, что доклад идёт в пользу недостаточных студентов Первого московского университета!
Несколько раз на протяжении вечера он возвращался к этой теме:
– В самом деле, как это могло случиться? В Тифлисе стихов не любят? Нет? Не может быть! Но какое же тогда можно найти объяснение?
Под конец чуть ли не весь зал втянулся в обсуждение этого происшествия и сознавал свою ответственность за досадное недоразумение.
Маяковский держался просто, дружелюбно, разговаривал полушутливо-полусерьёзно, а когда контакт был установлен, началось само "Открытие", в котором серьёзное не смешивалось, а чередовалось с шутками…
Потом – стихи…
После вечера на нескольких извозчиках поехали к Кириллу Зданевичу…»
У художника Кирилла Михайловича Зданевича отмечали приезд поэта в родную Грузию.
Маяковский очень любил край, в котором родился, и даже написал о нём:
«Я знаю: глупость – эдемы и рай!
Но если пелось про это,
должно быть, Грузию, радостный край,
подразумевали поэты».
На следующий день Василий Катанян и его жена Галина сопровождали Маяковского в его прогулке по Тифлису. Галина Дмитриевна потом вспоминала:
«Мы отправились по проспекту Руставели покупать ковры.
– Для моей новой квартиры, – говорит Владимир Владимирович. – Её уже отремонтировали, и на днях моя семья переезжает в новую квартиру.
– А кто ваша семья? – спрашиваю я не без дурного любопытства, так как в те времена ходило много разговоров о личной жизни Маяковского.
Он смотрит на меня очень строго и строго же говорит:
– Моя семья – это Лиля Юрьевна и Осип Максимович Брик».
1 марта состоялось второе выступление – в том же театре имени Руставели.
Галина Катанян:
«Выйдя из-за кулис, он быстро проходит на авансцену и обращается к публике с приветствием на грузинском языке. Восторженные аплодисменты раздаются в ответ».
Однако на этот раз Маяковский немного огорчён. Об этом – Василий Катанян:
«На втором вечере в том же театре Руставели он был уже не так добродушно дружелюбен. Причиной тому была рецензия о первом вечере, успевшая появиться в "Заре Востока". Нахально и небрежно рецензент писал, что Маяковский мог бы сочинять свои стихи об Америке, и не выезжая из Москвы. Маяковский громко поносил его на все лады, негодовал и возмущался, а написавший эти строки беззлобный дурак сидел в третьем ряду и всем своим видом старался не показать, что это он.
Зал был уже почти полон…
Публика осмелела, из зала несутся на сцену реплики, замечания, вопросы. Вечер называется "Лицо литературы СССР"».
Галина Катанян:
«Маяковский читает свои стихи…
Как описать, с чем можно сравнить это?..
У него глубокий бархатный бас, поражающий богатством оттенков и сдержанной мощью. Его артикуляция, его дикция безукоризненны, не пропадает ни одна буква, ни один звук».
Среди других было прочитано стихотворение, написанное во время возвращения из Америки – «Домой». Галина Катанян:
«Одно стихотворение – но сколько в нём смен настроений, ритмов, тембров, темпов и жестов! А строки
"Маркита, / Маркита, / Маркита моя,
зачем ты, / Маркита, / не любишь меня…"
он даже напевал на мотив модного вальс-бостона.
Конец же
"Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят — / что ж?!
По родной стране / пройду стороной,
как проходит / косой дождь" —
он читал спокойно, грустно, всё понижая голос, сводя звук на полное пиано. Впечатление, произведённое контрастом между всем стихотворением и этими заключительными строками, было так сильно, что я заплакала».
Василий Катанян:
«Его спрашивают:
– Как вы относитесь к Демьяну Бедному?
– Читаю, – ответил Маяковский.
– А к Есенину (прошло два месяца со дня его смерти)?
– Вообще к покойникам я отношусь с предубеждением.
– На чьи деньги вы ездите за границу?
– На ваши.
– Часто ли вы заглядываете в Пушкина?
– Никогда не заглядываю. Пушкина я знаю наизусть.
Девушке, которая то и дело передаёт ему записки на сцену, он говорит:
– Кладите на рояль. Когда наполнится, я их вместе с роялем возьму.
После вечера снова несколько извозчиков. Уже прямо на вокзал».
Снова Москва
28 февраля 1926 года в Ленинграде у Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены Иосифа Сталина, родилась дочь, которую родители назвали Светланой. Девочка родилась в Ленинграде, куда Надежда Сергеевна для этого уезжала.
Борис Бажанов:
«Когда она вернулась, и я её увидел, она мне сказала: “Вот, полюбуйтесь моим шедевром”. Шедевру было месяца три, он был сморщенным комочком. Это была Светлана. Мне было разрешено в знак особого доверия подержать её на руках (недолго, четверть минуты – эти мужчины такие неловкие)».
Страна о рождении дочери Сталина, конечно же, ничего не знала – ведь отец новорождённой в тот момент ещё не стал вождём всех времён и народов.
А Маяковский в начале марта вернулся в Москву. И сразу узнал, что говорилось о судьбе поэтов-лефовцев в письме Асеева, которое было передано члену политбюро Льву Троцкому. В письме были такие строки:
«Печально и безрадостно отцветает молодость Василия Каменского, поэта исключительного темперамента и эмоциональной одарённости…
Книга Б.Пастернака, поэта европейского масштаба высокой квалификации, "Сестра моя жизнь"… не издана ГИЗом…
И.Л.Сельвинский, поэт очень крупного дарования, …не имеет возможности печататься и заниматься целиком своим делом (служит в Сельскосоюзе)…
Поэтам В.В.Маяковскому и Н.Н.Асееву заявлено, чтобы они со своими произведениями в ГИЗ являться "не беспокоились" по крайней мере сроком один год.
Тираж последней книжки стихов В.Маяковского – всего 2000 экземпляров. <Тогда как> лекции Маяковского с чтением тех же самых стихов собирают до 8000 человек… Вход на эти лекции стоит в среднем 1 р. 50 к., что не превышает средней цены книжных стихов.
Мы не жалуемся и не ноем. Мы с полным сознанием ответственности за своё "право на песни" в настоящих хозяйственных условиях страны пытаемся указать на тот хаос и бесхозяйственность, на то снижение уровня квалификации, которых можно избежать, дав возможность стихотворцам участвовать в организации и распространении своего труда на уровне с другими видами производств, хотя бы на небольшом масштабе показательного хозяйства».
Но настоящим вождём страны Советов (с правом что-то решать) Троцкий уже не был, и заседать в политбюро ему осталось всего полгода, поэтому письмо Асеева почти ничего в писательских делах не изменило.
23 марта Маяковский подписал договор с театром Мейерхольда на «Комедию с убийством» (срок сдачи – «через две недели»). В комментариях к 11 тому собрания сочинений поэта об этой пьесе говорится:
«Возможно, что в “Комедии с убийством” сопоставлялись две девушки: одна из Советского Союза, которая “хочет красивой жизни”, и другая – из Америки, – та “пресытилась” и едет в СССР… Что касается “убийства”, значащегося в заголовке комедии, то оно может быть соотнесено только со словом “Дуэль” в записи содержания двенадцатой картины».
Больше никакой конкретной информации об этой пьесе до наших дней не дошло. Но Всеволод Эмильевич Мейерхольд, обрадованный тем, что Маяковский решил-таки написать для театра пьесу, отправил поэту письмо:
«Дорогой друг Маяковский.
Ты мне сказал вчера, что я всё молодею и молодею. Сообщаю Тебе, что со вчерашнего дня с моих плеч свалился ещё десяток лет. Это оттого, что мне предстоит ставить Твою пьесу. Буду ставить её сам, но Тебя буду просить помогать мне…
Любящий Тебя В с е в о л о д».
Но этот договор поэт не выполнил, пьесу «через две недели» театру не предоставил, так как его отвлекли житейские заботы – состоялся долгожданный переезд в новую квартиру. Поскольку одновременное обладание четырёхкомнатной квартирой и комнатой в коммуналке вызывало попытки лишить поэта подобной неслыханной роскоши, ему пришлось обратиться за помощью к властям. И 23 апреля Моссовет издал постановление:
«Принимая во внимание, что поэтом Маяковским в доме № 15 по Гендрикову пер. произведено переустройство квартиры и ремонт последней за его счёт, управление делами президиума Московского Совета считает вполне справедливым оградить интересы просителя от мероприятий, связанных с возможностью переселения или уплотнения поэта Маяковского».
Став обладателем такой бумаги, Владимир Владимирович мог спать спокойно – больше его по жилищным вопросам беспокоить никто не мог (из тех, кто зарился на эту квартиру).
Софья Шамардина:
«Чужих – чуждых – в этот дом не пускали. Это был настоящий советский дом и прекрасное, крепкое содружество живущих в нём. На входных дверях – гладкая дощечка, такая знакомая, привычная:
БРИК
МАЯКОВСКИЙ»
Завершив «квартирные» дела, вернувшийся в Москву поэт продолжил свои выступления.
Воспоминания о загранице
Тем временем экспедиция Николая Рериха столкнулась (в ставке очередного местного властителя) с новыми препятствиями. Путешественникам не разрешили посещать буддийские храмы. Даже осматривать их было нельзя. Рериху также запретили рисовать, сославшись на то, что он якобы составляет карту местной территории. 29 марта 1926 года Рерих записал в своём путевом дневнике:
«Приходят калмыки, толкуют с нашим ламой».
31 марта в дневнике появилась новая запись:
«Спали плохо. Встали до рассвета. Выхожу в предрассветной мгле. Навстречу идёт наш лама. Расстроенный. “Сейчас мне надо ехать. Нас хотят арестовать”. – “Кто сказал?” – “Ночью пришёл знакомый по Тибету лама и сказал, что ещё вчера калмыцкие старшины хотели нас всех связать, только побоялись револьверов”. – “Берите Оллу и киргиза с собой. Скачите степью в Карашар. Там найдём вас”. Через пять минут лама с киргизом уже скакали степью».
А Маяковский на своих поэтических вечерах продолжал делиться впечатлениями от своих зарубежных поездок. Советские люди, не имевшие возможности ездить в чужие края, очень интересовались тем, как живут в странах, где продолжал править «загнивавший» капитал. При этом Маяковский не скрывал, что сам он в партии большевиков не состоит и официально нигде не работает, но по заграницам разъезжает регулярно. Раззадорив любопытство публики, поэт бросал в зал фразы, воспевавшие его страстную любовь к зарубежным поездкам:
«Я до путешествий очень лаком!»
Но при этом неизменно подчёркивал, что ездит не ради развлечений:
«Мне необходимо ездить, общение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг».
Мало этого, в стихах Владимир Владимирович прямо заявлял, как тяжела эта ноша путешествующего по чужеземным городам и весям:
«Почему / под иностранными дождями
вымокать мне, / гнить мне / и ржаветь?»
И даже говорил (как, к примеру, в поэме «V Интернационал»), что зарубежные поездки никакой радости ему не доставляют:
«В том, что я сказал, / причина хранится,
почему мне не нужна никакая заграница.
Ездить в духоте, / трястись, / не спать,
чтоб потом на Париж паршивый пялится?»
Поэтому неудивительно, что практически на каждом выступлении его спрашивали:
– Зачем же вы тогда ездите за границу?
Он отвечал, не задумываясь:
«– Я делаю там то же, что и здесь. Там я писал стихи и выступал на собраниях, говорил о Коммунистической партии».
Но зрителей такой ответ не удовлетворял, и они продолжали присылать вопросы в записках:
– Если вам не нравятся зарубежные края, почему же вы там оказались?
Ответ у Маяковского был всегда наготове:
«Я ездил потому, что:
Под ним – струя светлей лазури,
над ним – луч солнца золотой,
а он, мятежный, ищет бури,
как будто в бурях есть покой!»
Зал, как свидетельствуют те, кто присутствовал на поэтических вечерах Маяковского, мгновенно начинал дружно аплодировать, то ли награждая поэта за элегантный ответ, то ли отдавая должное его умению ловко уклоняться от прямых ответов на каверзные вопросы.
В самом деле, ведь, прочитав четверостишие Лермонтова, Маяковский так ничего и не сказал по существу заданного ему вопроса. А, как известно, если уходят от прямых ответов, стало быть, есть что скрывать. Когда же приходила записка с вопросом, почему он отвечает не своими словами, а цитирует Лермонтова, Маяковский отвечал:
«– Мы общей лирики лента».
Иными словами, понимайте, как хотите.
11 апреля 1926 года, выступая в клубе рабкоров газеты «Правда» на диспуте о книге поэта Георгия Аркадьевича Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы», Маяковский сказал:
«Меня считают первым поэтом сейчас. Я и сам знаю, что я хороший поэт. Но хореи и ямбы мне никогда не были нужны, и я их не знаю. Я не знаю их и не желаю знать. Ямбы задерживают движение поэзии вперёд».
Впрочем, в накалённой атмосфере тогдашних литературных споров, по словам Александра Михайлова…
«… трудно было ждать от Маяковского деликатности, академического политеса – не тот темперамент!
Когда Маяковский был в ударе, он спорил, как фехтовал, с лёгкостью чемпиона, сказал о нём кто-то из современников. Но бывали случаи, когда нападки на вечерах, открытая, наглая ложь выводили его из равновесия. Был даже случай, когда он в знак протеста ушёл с эстрады, но, поостыв, вернулся и продолжил выступление до последней точки».
В главке «1926-й ГОД» автобиографических заметок «Я сам» сказано:
«В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают – однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому кроме супруги не интересно.
Пишу в "Известиях", "Труде", "Рабочей Москве", "Заре Востока", "Бакинском рабочем" и других».
О чём же в тот момент писал Маяковский, к чему призывал со страниц этих газет?
Сочинив стихотворение «Марксизм – оружие, огнестрельный метод, применяй умеючи метод этот», он поставил под ним дату создания – «19/IV.1926.». В этом произведении вновь упоминался «штык» – тот самый, к которому поэт приравнивал своё перо. Но на этот раз говорилось о том, что некоторые находили этому острейшему оружию совсем другое применение:
«Штыками / двух столетий стык
закрепляет рабочая рать.
А некоторые / употребляют штык,
чтоб им / в зубах ковырять».
А между тем, напоминал Маяковский, штык существует для того, чтобы им убивать врагов. И начинал колко критиковать поэтов, называвших себя «пролетарскими», и уже за это воспевавшихся критиками, которые громили лефовцев. За что? – удивлялся Маяковский. И тут же отвечал, представляя творения некоего пролетарского поэта Стёпы:
«То ли дело / наш Стёпа —
забыл, / к сожалению, / фамилию и отчество, —
у него в стихах / Коминтерна топот…
Вот это — / настоящее творчество!..
У Стёпы / незнанье / точек и запятых
заменяют / инстинктивный / массовый разум,
потому что / батрачка — / мамаша их,
а папаша — / рабочий и крестьянин сразу.
В результате / вещь / ясней помидора
обвалакивается / туманом сизым,
и эти / горы / нехитрого вздора
некоторые называют марксизмом».
Критикуя поэта Стёпу за «незнанье точек и запятых», которые и сам Маяковский не научился расставлять правильно, поэт-лефовец провозглашал себя и своих соратников носителями «инстинктивного массового разума». Это «марксистское» стихотворение было напечатано в майском номере журнала «Журналист».
Корней Чуковский записал в дневнике о посещении поэта-футуриста Бенедикта Лившица:
«24 апреля 1926 года… Был я у Бена Лившица… О поэзии может говорить по 10 часов подряд… Между прочим, мы вспомнили с ним войну. Он сказал:
– В сущности, только мы двое честно отнеслись к войне: я и Гумилёв. Мы пошли в армию – и сражались. Остальные поступили, как мошенники. Даже Блок записался куда-то табельщиком. Маяковский… но, впрочем…
– Маяковский никого не звал в бой…
– Звал, звал. Он не сразу стал пацифистом. До того, как написать “Войну и Мир”, он пел очень воинственные песни:
У союзников французов
битых немцев целый кузов.
А у братьев англичан
битых немцев целый чан».
А Маяковский о войнах, которые шли когда-то, уже не вспоминал. В конце апреля того же 1926 года он завёл разговор о поэтическом творчестве с финансистами, которые, как ему казалось, облагали поэта слишком большим подоходным налогом. Стихотворение так и было названо – «Разговор с фининспектором о поэзии». В нём были строки, ставшие вскоре крылатыми:
«Поэзия — / та же добыча радия.
В грамм добыча, / в год труды.
Изводишь / единого слова ради
тысячи тонн / словесной руды».
Обращаясь к фининспектору, поэт выделял свою профессию из числа других:
«У вас — / в моё положенье войдите —
про слуг / и имущество / с этого угла.
А что, / если я / народа водитель
и одновременно — / народный слуга?»
Но при этом Маяковский откровенно признавался в том, как это трудно – быть поэтом в революционную эпоху:
«Всё меньше любится, / всё меньше дерзается,
и лоб мой / время / с разбега крушит.
Приходит / страшнейшая амортизация —
амортизация / сердца и души».
Но поэт не сдавался и поэтический «штык» из рук не выпускал:
«Нет! / И сегодня / рифма поэта —
ласка, / и лозунг, / и штык, / и кнут».
А в далёком от Москвы городе Урумчи Западного Китая, куда добралась экспедиция Николая Рериха, в начале мая отмечали пролетарский день весны. Собирались открыть памятник Ленину, но местные власти наложили на это запрет. Рерих записал в путевом дневнике:
«1 Мая. Первомайский праздник. <…> Перед юртами сиротливо стоит усечённая пирамида – подножие запрещённого памятника. Невозможно понять, почему все <…> плакаты допустимы, почему китайские власти пьют за процветание <…>, но бюст Ленина не может стоять на готовом уже подножии. <…> Так обидно, что “Ленин” не успели написать на подножии “запрещённого” памятника. Ведь к этому имени тянется весь мыслящий Восток, и самые различные люди встречаются на этом имени».
А в Москве 1 мая газета «Известия ЦИК» поместила «Первомайское поздравление», которое Владимир Владимирович на экземпляре, отданном в редакцию, сопроводил фразой:
«В целях эстетики и экономии бумаги пробую стихи печатать без разбивки на строчки».
И стихотворение было напечатано как обычная прозаическая статья. В ней поэт вновь обращался к солнцу:
«Товарищ солнце, скажем просто: дыр и прорех у нас до чёрта. Рядом с делами огромного роста – целая коллекция прорв и недочётов.
Солнце, и в будни лезь из-за леса, – жги и не пяться на попятный! Выжжем, выжжем калёным железом – эти язвы и грязные пятна!»
10 мая 1926 года в путевом дневнике Николая Рериха появилась новая запись про Якова Блюмкина («монгольского ламу»):
«Лама провозглашает: “Да будет жизнь тверда, как адамант; победоносна, как знамя учителя; сильна, как орёл, и да длится вечно!”»
Запись 13 мая:
«Утром приходит монгольский лама. Вот радость! То, что мы знали с юга, то самое он знает с севера. Рассказывает, что именно наполняет сознание народов, что они ждут. И при рассказе его глаза заполняются неподдельными слезами… “Знали мы давно, – говорит лама, – но не знали, как оно будет, и вот время пришло. Но не каждому монголу и калмыку можем сказать мы, а только тем, кто может понять и действовать”. И говорит лама о разных “признаках”, и никто не заподозрит таких знаний в этом скромном человеке. Говорит о значении Алтая».
А Маяковский 16 мая отправился в Ленинград и на следующий день выступил в Государственном институте истории искусств с лекцией на тему «Как делать стихи». В вечернем выпуске «Красной газеты» сообщалось:
«Вчерашний триумфатор Вл. Маяковский знает свою аудиторию. На эстраде он – дома. Курит одну за другой папиросы, не спеша роется в кипе своих стихов, вспотевши, снимает пиджак. К чему церемонии, когда сотни глаз устремлены с обожанием на поэта, говорящего Пушкину скромно и убеждённо:
После смерти нам стоять почти что рядом…
Так радостно видеть здорового цельного человека и поэта с большим талантом и с большой верой в жизнь, из глубины своих необъятных лёгких бросающего своё громогласное credo:
Ненавижу всяческую мертвечину,
Обожаю всяческую жизнь!»
А Борис Бажанов в этот момент решил, что настала пора страну Советов покинуть:
«Весной 1926 года я пробую устроить себе новую поездку за границу, чтобы в этот раз там и остаться…
Я захожу к Сталину и говорю, что хочу поехать на несколько дней в Германию за материалами. Спрашиваю его согласие. Ответ неожиданный и многозначащий: “Что это вы, товарищ Бажанов, всё за границу да за границу? Посидите немного дома”.
Это значит, что за границу я теперь в нормальном порядке не уеду. В конце концов, что-то у Сталина от всех атак ГПУ против меня осталось. “А что, если и в самом деле Бажанов окажется за границей; он ведь начинен государственными секретами, как динамитом. Лучше не рисковать, пусть сидит дома”».
И Бажанов пришёл к выводу:
«Теперь возможности нормальной поездки за границу для меня совершенно отпадают. Но я чувствую себя полностью внутренним эмигрантом и решаю бежать каким угодно способом.
Прежде всего надо, чтобы обо мне немного забыли, не мозолить глаза Сталину и Молотову. Из ЦК я ушёл постепенно и незаметно, увиливая от всякой работы там, теперь нужно некоторое время поработать в Наркомфине, чтобы все привыкли, что я там тихо и мирно работаю, этак с годик. А тем временем организовать свой побег».
23 (или 24) мая Владимир Маяковский вернулся из Ленинграда в Москву. Начались обычные будни, заполненные самой разной работой и новыми знакомствами. Об одном из них нам и предстоит рассказать – о знакомстве с сотрудницей Госиздата, которую звали Наталья Брюханенко.
Симпатичная библиотекарша
Сама Наталья Александровна Брюханенко впоследствии рассказала:
«Я познакомилась с Маяковским, когда мне было двадцать лет. Ему было тридцать три года.
Я тогда была обыкновенная очень молодая девушка. А Маяковский – удивительный, необыкновенный поэт. Он обратил на меня внимание и познакомился потому, что я была высокая, красивая, приветливая. Я нахально пишу о себе "красивая" потому, что так сказала обо мне Лиля. И, наверное, это правда, так же как правда то, что только благодаря моей внешности Маяковский обратил на меня внимание».
Родители Наташи разошлись, когда ей было всего пять лет. В одиннадцатилетнем возрасте она лишилась матери и попала в детдом. Когда подросла и на «отлично» окончила школу, поступила на литературное отделение факультета общественных наук Первого московского университета и в литературный институт. Впрочем, в литературном институте учиться она не стала.
Вот что сама Наталия писала о своей юности:
«Самыми главными для меня в те годы были проблемы – новый быт и новые стихи…
Мы жили в то время переоценкой ценностей, и поэтому нам было особенно близка новая поэзия Маяковского, крушившая всё старое. <…> "Облако в штанах" мы считали высшим достижением всей мировой литературы. Наше увлечение стихами Маяковского было шумное, в нелепой форме, но очень сильное».
О самом Маяковском Наташа сказала:
«… начиная с девятнадцатого года я видела его очень часто…»
Это была пора, когда на арену жизни вступало новое поколение, которое царского времени почти не знало, и которое выросло, как напишет чуть позднее Маяковский, «в сплошной лихорадке буден». Вот как описала те времена Наталья Брюханенко:
«Нравы между девушками и юношами, правду сказать, были грубоватые и вообще, и в личных взаимоотношениях. Знакомясь, например, или здороваясь, студенты хлопали друг друга по плечу, по спине, и все говорили между собой на "ты".
И вдруг появляется Маяковский.
Он любезен, внимателен, он говорит мне только "вы", ласково переделывает моё имя на "Наталочку". Он пропускает меня вперёд в дверь, подаёт мне пальто. Это было для меня любезности неслыханные и невиданные. Какая девушка осталась бы к этому равнодушной?»
Когда Наталья перешла на второй курс, она устроилась работать – лекции в университете тогда читали по вечерам, и многие студенты днём работали. Местом работы студентки Брюханенко стала библиотека Госиздата. А в Госиздат тогда часто заглядывал Маяковский. Наталье всегда сообщали:
«"Маяковский здесь!". И я часто бегаю незаметно посмотреть на него.
Однажды он рассердился на секретаршу приёмной за то, что она не пустила его в кабинет к заведующему, и закричал, что ему "надоела эта политика прифронтовой полосы", и, обозлённый, ударил тростью по столу. Все об этом рассказывали как о скандале и хулиганстве. А мне это как раз очень понравилось».
Надо полагать, что и Маяковскому приглянулась симпатичная библиотекарша. И однажды…
«Как-то я пробегала по лестнице госиздатовского коридора. Навстречу мне Маяковский и обращается ко мне:
– Товарищ девушка!
Я остановилась. Я польщена и, конечно, очень волнуюсь, но прямо смотрю ему в глаза и стою спокойно, как ни в чём не бывало. Маяковский меня спрашивает:
– Кто ваш любимый поэт?
Это было неожиданно. Такой вопрос ошеломил меня, но я мгновенно поняла, что не отвечу ему – "вы", и сказала:
– Уткин.
Тогда он как-то внимательно посмотрел на меня и предложил:
– Хотите, я вам почитаю свои стихи? Пойдёмте со мной по моим делам и по дороге будем разговаривать.
Я согласилась. Забежала в библиотеку, под каким-то предлогом отпросилась с работы и ушла.
Маяковский ждал меня у выхода, и мы пошли по Софийке по направлению к Петровке. На улице было светло, тепло и продавали цветы. Маяковский держит себя красиво и торжественно – он хочет мне понравиться. Я шагаю рядом очень радостная. Я ведь иду с любимым поэтом, знаменитым человеком, очень приветливым, любезным и замечательно одетым. Я горда и счастлива. Это очень приятно вспоминать!..
На Петровке мы зашли в кафе, там Маяковский встретился с Осипом Максимовичем Бриком. Знакомя нас и показывая на меня, Маяковский сказал:
– Вот такая красивая и большая мне очень нужна…»
Так начиналось это знакомство с «большой» и «красивой» библиотекаршей из Госиздата, которая оставила о нём такие воспоминания:
«В кафе Маяковский прочёл Осипу Максимовичу новые стихи, которые должны были завтра напечатать в “Известиях”. Осипу Максимовичу стихотворение очень понравилось, и он ушёл».
Что это были за стихи? В конце весны и в начале лета 1926 года Маяковский напечатал в «Известиях ЦИК» три стихотворения: «Взяточники» (30 мая), «Протекция» (6 июня) и «Любовь» (13 июня). Судя по тому, как описан Натальей тот день, он был явно весенним («было светло, тепло и продавали цветы»). Стало быть, встреча эта происходила 29 мая. А в стихотворении, которое «очень понравилось» Осипу Брику говорилось о тех, кто, занимая ответственный пост («с высоким окладом, высок и гладок»), был виновен «в краже рабочих тыщ»:
«Я / белому / руку, пожалуй, подам,
пожму, не побрезговав ею…
Но если / скравший / этот вот рубль
ладонью / ладонь мою тронет,
я, руку помыв, / кирпичом ототру
поганую кожу с ладони.
Мы белым / едва обломали рога;
хромает / пока что / одна нога, —
для нас, / полусытых и латочных,
страшней / и гаже / любого врага
взяточник».
Мог ли представить себе Маяковский, что пройдёт всего четыре года, и его юный ученик, а потом и соратник напишет стихотворение, в котором откажется пожать руку своему учителю?
Но вернёмся к той майской прогулке поэта и библиотекарши, о которой она написала:
«Маяковский пригласил меня к себе в гости. Мы вышли из кафе и на извозчике поехали в Лубянский проезд. Я боялась Маяковского, боялась встретить кого-нибудь из госиздатовцев или вообще знакомых. На извозчиках в ту пору я не ездила. По дороге Маяковский издевался надо мной и по поводу Уткина, и по поводу моих зачётов. Он говорил:
– Вот кончите свой университет, а в анкетах всё равно должны будете писать: образование низшее – окончила 1-й МГУ.
У меня с собой была книжка “Курс истории древней литературы”, и Маяковский чуть не выбросил её за ненадобностью прямо на мостовую.
Приехали на Лубянский проезд в маленькую комнату, которую Маяковский назвал “Редакция ЛЕФа”.
Маяковский угостил меня конфетами и шампанским и действительно, как обещал, достал свои книжки и стал мне читать по книжке тихо, почти шёпотом, свои стихи. Это было для меня так странно – Маяковский и шёпотом!..
Потом он подошёл ко мне, очень неожиданно распустил мои длинные косы и стал спрашивать, буду ли я любить его. Мне захотелось немедленно уйти. Он не стал спорить, взял со стола какие-то бумаги, и мы вышли.
На лестнице, этажом ниже, жил венеролог. Маяковский предупредил меня:
– Не беритесь за перила – перчаток у вас нету…
Маяковский был необыкновенный поэт. Поэтому, в моём представлении, он должен был быть и необыкновенным человеком. Начавшееся так необычайно в первый день знакомства романтическое свидание немного разочаровало меня в конце. Я даже сказала об этом Маяковскому, когда мы вышли с ним на улицу:
– А вы, оказывается, обыкновенный человек.
– А что же бы вы хотели? Чтоб я себе весь живот раскрасил золотой краской, как Будда?..
… как только мы дошли до Лубянской площади, я вдруг вскочила в трамвай, крикнула “до свиданья” и уехала».
Так завершилась встреча поэта и библиотекарши. Других встреч у них тогда не произошло – об этом Наталья Брюханенко написала:
«Маяковский знал только, как меня зовут. Фамилии я не сказала. В Госиздате я старалась больше не попадаться ему на глаза. Вскоре он уехал из Москвы, потом я заканчивала университет, потом полгода болела тифом и отсутствовала на работе».
А на Маяковского навалились новые дела и заботы. В «Я сам» он написал:
«Вторая работа – продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и т. д., и т. д., и т. п.».
Здесь Маяковский не точен (видимо, просто запамятовал, так как этот вариант заметок «Я сам» он писал в 1928 году): ни в Париже, ни в Берлине, ни в Праге в 1926 году поэт не мог ничего читать, так как в том году за границу не ездил.
А участники экспедиции Николая Рериха уже были на территории Советского Союза и взошли на пароход «Лобков», чтобы по Иртышу добраться до железнодорожной станции и отправиться в Москву. В каюте парохода в путевом дневнике Рериха появилась запись:
«Ламу… устроили на верхней палубе».
Так что и Яков Блюмкин тоже возвращался домой. А Николай Рерих вёз большевистским вождям «Послания махатм» (обращения духовных лидеров буддийцев), в которых говорилось:
«В Гималаях мы знаем совершаемое Вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы уничтожили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных…
Привет Вам, ищущим Общего Блага!»
Тибетские махатмы предлагали объединить буддизм и коммунизм и создать великий Восточный Союз республик.
А статус Бориса Бажанова, ушедшего из политбюро в Народный комиссариат финансов, почти не изменился. Сам он впоследствии объяснил это так:
«Уйдя из Политбюро, я продолжаю всё же числиться за секретариатом Сталина, стараясь делать в нём как можно меньше и делая вид, что основная моя работа теперь в Наркомфине… Только в начале 1926 года я из ЦК окончательно ушёл. Сталин к моему уходу равнодушен».
Новая поездка
К лету 1926 года Троцкий, Зиновьев и Каменев, наконец, договорились и, объединив усилия, создали оппозиционный блок («Новая оппозиция»), который бросил вызов сталинскому блоку («большинство ЦК»). И 6 июня на подмосковной даче возле Савёловской железнодорожной станции по приглашению сотрудника Исполкома Коминтерна Григория Яковлевича (Герша Хацкелевича) Беленького собралась группа оппозиционеров. Перед ними выступил с докладом кандидат в члены ЦК ВКП(б), первый заместитель председателя Реввоенсовета и первый заместитель народного комиссара по военным и морским делам Михаил Михайлович Лашевич, который подверг резкой критике ту обстановку, которая сложилась в партии большевиков. Он сказал:
«… внутрипартийная демократия выражается ныне в казённом инструктировании и таком же информировании партячеек. Процветает назначенство в скрытой и открытой формах сверху донизу, подбор “верных” людей, верных интересам только данной руководящей группы, что грозит подменить мнение партии только мнением “проверенных лиц”».
Среди оппозиционеров нашлись и такие, кто тотчас же сообщил о прошедшем нелегальном собрании в ЦК. Узнав об этом, Сталин дал команду Центральной контрольной комиссии возбудить следствие. В ЦКК взяли под козырёк и начали расследовать ситуацию.
Слух о том, что власти готовятся разоблачить группу партийцев, занимающуюся фракционной деятельностью, которая (на одном из большевистских съездов) была категорически запрещена, быстро распространился по Москве. И долетел до Маяковского. Поэт тут же сочинил «Послание пролетарским поэтам», которое 19 июня опубликовала газета «Комсомольская правда». Стихотворение довольно длинное – 214 строк (лесенкой). В нём Владимир Владимирович призывал поэтов (которых назвал по фамилиям) отбросить в сторону поэтические разногласия и вместе заняться единым делом:
«Товарищи, / позвольте / без позы, / без маски —
как старший товарищ, / неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами, / товарищ Безыменский,
товарищ Светлов, / товарищ Уткин.
Мы спорим, / аж глотки просят лужения,
мы / задыхаемся / от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи, / деловое предложение:
давайте / устроим / весёлый обед!..
Бросим / друг другу / шпильки подсовывать,
разведём / изысканный / словесный ажур.
А когда мне / товарищи / предоставят слово —
я это слово возьму / и скажу:
– Я кажусь вам / академиком / с большим задом,
один, мол, я / жрец / поэзий непролазных.
А мне / в действительности / единственное надо —
чтоб больше поэтов / хороших / и разных».
Завершалось «Послание» ещё одним призывом, с которым (если у слова «власть» прилагательное «поэтическую» заменить «политическим»), вполне можно было обратиться и к партийным фракционерам:
«Чем нам / делить / поэтическую власть,
сгрудим / нежность слов / и слова-бичи,
и давайте / без завистей / и без фамилий / класть
в коммунову стройку / слова-кирпичи.
Давайте, / товарищи, / шагать в ногу.
Нам не надо / брюзжащего / лысого парика!
А ругаться захочется — / врагов много
по другую сторону / красных баррикад».
В июне 1926 года в Москве появились вернувшиеся из экспедиции по Центральной Азии Николай Рерих и Яков Блюмкин. Блюмкин привёл Рериха к Луначарскому, жена которого, Наталья Розенель, впервые увидела «этого недоброго колдуна с длинной седой бородой» и записала об этом в дневнике.
А Рерих оставил в своих путевых заметках такую запись:
«Луначарский говорит: “Ведь у нас до сих пор ещё, несмотря на сердитый окрик <…>, распространено представление о том, что культура вплоть до возникновения элементов культуры пролетарской, сплошь «буржуазна»… Порой, слушая таких людей, можно подумать, что мы не ученики Маркса, <…> а ученики какого-то своеобразного Савонаролы, <…> боящиеся всякой радости жизни и готовые собрать на площади им. Свердлова большой костёр для сожжения «Суеты сует»”.
Здесь уместно припомнить, как непосредственно и как подчёркнуто возвращался Владимир Ильич к идее о необходимости усвоить старую культуру вплоть до старого искусства… И народы складывают ленинскую легенду не только по прописи его постулатов, но и по качеству его устремления».
После этой записи невольно задумаешься, пытаясь отгадать, а во что, собственно, верил сам Николай Рерих.
Кроме Луначарского Рерих встретился с руководителями ОГПУ и с наркомом по иностранным делам Чичериным, которому передал ларец со священной землёй Гималаев «на могилу брата нашего махатма Ленина» (дар от буддийских махатм).
А Владимир Маяковский 19 июня выехал в Одессу. На следующий день газета «Известия ЦИК» опубликовала его стихотворение «Фабрика бюрократов», которое било по партийным фракционерам. Начиналось оно так:
«Его прислали / для проведенья режима.
Средних способностей. / Средних лет.
В мыслях – планы. / В сердце – решимость.
В кармане – перо / и партбилет.
Ходит, / распоряжается энергичным жестом.
Видно — / занимается новая эра!»
Но канцелярию переделать невозможно, и «присланный» партиец сам вскоре оказывается в рядах бюрократов (фракционеров?), которым в стихотворении выносится чуть ли не приговор:
«Рой чиновников / с недели на день
аннулирует / октябрьский гром и лом,
и у многих / даже / проступают сзади
пуговицы / дофевральские / с орлом».
То есть поэт как бы впрямую заявлял о том, что фракционеры тянут страну назад – в царские времена.
23 июня 1926 года в одесском Летнем саду имени Луначарского состоялось первое выступление Маяковского с докладом «Моё открытие Америки».
На следующий день в вечернем выпуске местной газеты «Известия» был напечатан отчёт об этом вечере:
«Маяковский не только большой поэт, но и блестящий ум, которому огромная наблюдательность и художественное воображение помогают всякое отвлечённое понятие представить в живой и образной форме. И, затем, лёгкость и мастерство речи поэта, в соединении с фейерверком остроумия…
В его наблюдениях над жизнью и социальными условиями в Соединённых Штатах и в Мексике столько нового и оригинального, что он действительно вновь "открывает" для слушателей Америку.
Не меньший интерес представило и второе отделение вечера, на котором Маяковский с большой выразительностью и с чувством такта прочёл ряд своих новых стихотворений.
Имел шумный успех и наш местный поэт – Кирсанов, читавший свои стихи».
К двадцатилетнему одесситу Семёну Исааковичу Кортчику, выступавшему под псевдонимом Кирсанов, Маяковский приглядывался очень внимательно.
25 июня Владимир Владимирович вновь выступил в Летнем саду имени Луначарского, но на этот раз в крытом театре. 26-го встретился с рабкорами в редакции одесских «Известий». А 27 июня состоялось последнее выступление поэта – всё в том же Летнем саду, но уже в театре «Дворец моряка». Хотя местные «Известия» разрекламировали лекции Маяковского, что называется, по самому высокому разряду, одесситы на этот вечер валом не валили.
В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» никаких комментариев об этом мероприятии нет. А между тем оно стало для поэта судьбоносным – так, во всяком случае, считал Павел Лавут, тогда мало кому известный 28-летний актёр, который в декабре 1921 года познакомился с поэтом в Харькове на вечере «Дювлам».
Вот что написал Лавут о том, что происходило 27 июня в Летнем саду:
«Дворец моряка. Народ собирался туго. Высокий, широкоплечий человек с внушительной палкой в руках шагал по пустой сцене. Он нервничал. В углу рта – папироса. Не докурив одну, он прикуривал от старой новую, не найдя урны, бросал окурки в угол и тушил ногой».
Звучит забавно, но в сочинённых через два года (в июне 1928-го) «Пожарных лозунгах» есть и такие строчки:
«Курящий на сцене — / просто убийца.
На сцене / пожар / моментально клубится».
К счастью, на этот раз пожара на сцене не возникло. А после окончания вечера Лавут подошёл к Маяковскому и сказал, что народу в зале было маловато не из-за того, что одесситы не любят стихи, и из-за плохой организации самого выступления. И предложил свою помощь в этом деле. Владимир Владимирович согласился.
«Я предложил ему закрепить наши деловые отношения документом, который может пригодиться в поездках.
– Не советую, – ответил он. – В дальнейшем знайте: если я подпишу договор, могу и не выполнить. А устно никогда не подведу».
Сразу вспоминается договор, который Маяковский заключил с театром Мейерхольда на «Комедию с убийством», но пьесу не написал.
Почему? Вроде бы, разные житейские заботы помешали.
Но вспомним, что в конце сентября 1925 года находившегося в Америке Владимира Маяковского пригласили в лагерь «Нит гедайге», устроенный под Нью-Йорком еврейской газетой «Фрайгайт». В лагере готовились отметить иудейский праздник Йом-Киппур («День Искупления» или «Судный День»), и советский поэт вместе со всеми (именно так объявила газета «Фрайгайт») собирался прочесть молитву Кол Нидре (в буквальном переводе «Все Обеты»). Произнёсший её отрекался от всех необдуманно взятых на себя обязательств, договоров и клятв. Владимир Владимирович эту «молитву» прочёл. Не потому ли он с тех пор стал считать, что может отказаться от всего, что подписал?
Павел Лавут (о том, как завершился его деловой разговор с Маяковским):
«Прощаясь, он добавил:
– Если работа наладится, мы развернём её вовсю. Дел непочатый край!»
Так началось их сотрудничество – известнейшего поэта Владимира Маяковского и тихого, но очень энергичного молодого человека Павла Лавута, который потом с гордостью говорил:
«Я всецело отдался далеко не лёгкому, но увлекательному делу администратора, окончательно забросив театр».
16-ая глава поэмы Маяковского «Хорошо!» (она будет написана ровно через год) начнётся так:
«Мне / рассказывал / тихий еврей
Павел Ильич Лавут…»
Кто он такой?
Что о нём известно?
Родился в 1898 году в городе Александровске Екатеринославской губернии в семье купца первой гильдии, владевшего книжным магазином и маленькой типографией. В 1918 году окончил коммерческое училище. Затем стал актёром, разъезжал с театрами по городам страны.
Вряд ли удастся когда-либо доподлинно установить, сам ли Лавут решил «помочь» Маяковскому или кто-то ему «порекомендовал» сделать это. Гораздо важнее выяснить другое – работая с Маяковским, сотрудничал ли «тихий» Павел Ильич с ОГПУ? Логика подсказывает: наверняка! Хотя никаких доступных нам документальных подтверждений этому нет. Но есть другие свидетельства (косвенные), которые нашу версию если не подтверждают, то уж, во всяком случае, не отвергают. Первое свидетельство связано с хорошей (можно даже сказать, близкой) знакомой Маяковского и Бриков – Ритой Райт (псевдоним Раисы Яковлевны Райт-Ковалёвой, как любезно подсказывает нам «Указатель имён и фамилий» 13-томного собрания сочинений поэта, умалчивая о том, что родилась она Раисой Черномордик).
Бенгт Янгфельдт:
«Рита Райт рассказывала, как Лили однажды пыталась её завербовать в качестве осведомителя в русских эмигрантских кругах Берлина. Рита не отказалась, но во время первой беседы так нервничала, что её признали непригодной для такой работы».
Борис Бажанов тоже описал подобный случай – к нему с Подолии приехал его дальний родственник, работавший помощником начальника железнодорожной станции:
«Он был очень удручён и приехал просить у меня совета и помощи. Местные органы ГПУ на железной дороге требовали от него вступления в число секретных сотрудников, то есть чтобы он шпионил и доносил на своих сотрудников. Его, вероятно, наметили как лёгкую добычу – он был обременён семьёй и был человек очень мягкий. Но быть сексотом ГПУ он отказывался. Местный чекист раскрыл карты – выбросим со службы, скажете “ау” железной дороге, и вообще никуда вас не примут; когда семья начнёт пухнуть с голоду, всё равно согласитесь.
Он приехал ко мне: что делать? На его счастье в моём лице у него была защита – аппаратчик высокого ранга. Я взял печатный бланк ЦК и написал на нём записку железнодорожному чекисту с требованием оставить моего родственника в покое. Бланк ЦК сыграл свою роль, и его больше не тревожили. Этот эпизод иллюстрировал для меня систему Ягоды по охвату страны информационной сетью».
Вот так в ОГПУ было поставлено дело с подбором осведомителей. Но речь не о них, а о сотрудниках, выполнявших поставленную перед ними задачу. Был ли таким сотрудником Павел Лавут? Не будем торопиться с ответом, а приглядимся к Павлу Ильичу повнимательнее.
28 июня на пароходе «Ястреб» Маяковский и Лавут отправились в Ялту. Перед самой посадкой в одесском порту Маяковский увидел стоявший на рейде пароход, который назывался «Теодор Нетте». И Владимир Владимирович начал писать стихотворение о геройски погибшем дипкурьере.
А Николай Рерих в конце июня 1926 года был уже в столице Монголии Улан-Баторе-Хото, где стал готовить новую экспедицию в Тибет, преодолевая новые трудности и преграды. В его путевом дневнике появилась запись о некоем «Ж», который очень высоко охарактеризован:
«Много смятения и ожидания… А тут телеграмма. Хлопочет Ж.; он многое знает. Именно с ним можно иногда побеседовать о самых сокровенных преданиях. Это он также рассказал монгольскую версию о поездке Учителя в Монголию. Странно слышать начало повести в Индии, а конец в Монголии. Так связывается вся молчащая пустыня одною напряжённою мыслью. Не знаем, как встретит нас Тибет».
О ком это написал Рерих? Кто он – этот загадочный «Ж»? Догадаться нетрудно. Это явно Яков Блюмкин, который присоединился к экспедиции Рериха в Индии под видом «монгольского ламы», а теперь тоже собирался принять участие в путешествии в Тибет.
А поэт-конструктивист Илья Сельвинский опубликовал 1 июля 1926 года статью, в которой заявил:
«Я умею чувствовать самые мизерные крохи счастья и раздувать их в большие. Поэтому, а не потому, что я пишу стихи, я поэт».
Работа с Лавутом
В Севастополе, где было запланировано первое выступление в Крыму (6 июля в клубе имени Шмидта), местные организаторы не сделали ничего для его подготовки.
Павел Лавут потом вспоминал (в книге «Маяковский едет по Союзу»):
«Владимир Владимирович, узнав об этом, отказался от гонорара и готов был сам возместить все убытки. Он сказал: "Пусть вернут публике деньги за билеты, я выступлю бесплатно". Но слух, дискредитирующий Маяковского, уже дошёл и до публики. И скандал не удалось предотвратить.
В зале собралось менее ста человек. Когда Маяковский вышел на сцену, ему не дали говорить: свистели и топали. Публика демонстративно хлынула в фойе.
Оскорблённый и возмущённый, Маяковский взобрался на стол в фойе и, нервно размахивая палкой, пытался говорить».
Через два дня он написал Лили Брик в Москву:
«В Севастополе не только отказались платить по договору, а ещё сорвали лекцию, отменили и крыли меня публично разными, по-моему, нехорошими словами. Пришлось целый день тратить на эту бузу, собирать заседание секретариата райкома, и секретарь райкома отчитывал в лоск зарвавшегося держиморду. Моральное удовлетворение полное, а карман пустой. Да ещё вместо стихов приходится писать одни письма в редакцию…»
Вот когда понадобилась помощь хваткого и умелого Лавута! Явно по его предложению Маяковский написал письмо в местную газету «Маяк коммуны»:
«Приношу большое извинение всем собравшимся 6 июля на мою несостоявшуюся лекцию. Причина срыва лекции – неумелость организаторов и их нежелание не только выполнять заключённый договор, но даже входить в какое-нибудь обсуждение по этому поводу».
По дороге из Севастополя в Симферополь Лавут стал излагать Маяковскому, как, по его мнению, следует организовывать поэтические выступления. Владимир Владимирович отнёсся к его предложениям с воодушевлением. О том, как всё это удалось осуществить, Павел Лавут рассказал:
«В Симферополе с вокзала на линейке мы направились к центру. Недалеко от Пушкинской у афиши стояла девушка. Маяковский остановил линейку и мгновенно очутился на тротуаре. Указывая на афишу, он стал уговаривать девушку непременно пойти сегодня на вечер:
– Будет очень интересно! Обязательно воспользуйтесь случаем! Я тоже приду. Пока! До свидания, до вечера!
И, откланявшись, вернулся к линейке.
Озорство? Да, оно было ему иногда свойственно, особенно в минуты повышенного настроения».
Но это было только начало нового отношения к организации вечеров. Наскоро приведя себя в порядок с дороги, Маяковский прямо из гостиницы отправился в Дом просвещения, где вечером ему предстояло выступать.
Павел Лавут:
«– Как дела? – обратился Маяковский к кассирше Дома просвещения. – Разрешите помочь?
Та сперва не поверила, что перед ней сам Маяковский, а убедившись, уступила своё место у крохотного окошечка. Маяковский стал продавать остатки билетов "сам на себя". Он вступал в разговоры с подходившими к кассе, давал пояснения к афише, уговаривал их, острил:
– Кому дорого рубль – пятьдесят процентов плачу сам.
Зал полон. Контрамарочники и "зайцы" заняли все проходы.
Настроение Владимира Владимировича праздничное.
– Вот в такой обстановке можно сказать несколько слов! Так сказать, подарок ко дню рождения, хотя и по старому стилю. Сегодня мне тридцать три».
Но даже на этом достаточно хорошо организованном вечере публика была очень разная, так что «празднично» настроенному поэту приходилось отбиваться. В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» приводится рассказ симферопольца В.Калашникова о том выступлении:
«В зале – то мёртвый штиль напряжённого слушания, то волнующаяся рябь негодования, то бурные всплески аплодисментов и дружеское перекатывание волн восторга…
Маяковскому бросили несколько записок.
– Тут спрашивают, – сказал он, не отрываясь от записки, – зачем я подкрашиваю мой доклад дешёвой агитацией за коммунизм.
И сейчас же бросил ответ:
– Это не дешёвая агитация, а совсем даровая.
– Затем, – продолжал Маяковский, – записка интимного свойства: "Почти все поэты – говорится в ней – умирают неестественно. Пушкина и Лермонтова убили, Есенин удавился, Соболь застрелился. Когда ваша очередь?". Я ещё думаю, – ответил Маяковский, – прожить лет сорок. Но, получая такие записки, немудрено застрелиться».
Турне продолжается
Из Симферополя Маяковский с Лавутом поехали в Евпаторию, где предстояло два выступления. Одно из них – 9 июля 1926 года – по просьбе Курортного управления проходило в санатории «Таласса» для костнотуберкулёзных больных.
Маяковский выступает в санатории «Таласса». Евпатория, 9 июля 1926 г. Фото: А.Н. Болтянский.
Павел Лавут:
«Эстрадой служила терраса главного корпуса. Перед ней расположились больные. Наиболее тяжёлых вынесли на кроватях. Других ввели под руки и уложили на шезлонгах. Весь медицинский персонал налицо. Всего собралось около 400 человек…
Обычно никогда не терявшийся, на этот раз Маяковский, выйдя на импровизированную эстраду, несколько смутился. Хотя он и знал, перед кем ему придётся выступать, но на несколько секунд он, видимо, задумался над тем, с чего начать доклад и как овладеть вниманием необычных слушателей. Он начал особенно громко:
– Товарищи! Долго я вас томить не буду. Расскажу вам в двух словах о моём путешествии в Америку, а потом прочту несколько самых лучших стихов.
В его голосе и в улыбке, с которой он произнёс "самых лучших", было что-то настолько ободряющее и радостное, что по аудитории прокатился смех и раздались аплодисменты и одобрительные возгласы. Он сразу расположил к себе больных…
Выступление длилось часа полтора, без всякого перерыва. Больные проводили его, как близкого человека».
Кроме Евпатории предстояло выступить ещё и в Севастополе.
15 июля Владимир Владимирович завершил стихотворение «Товарищу Нетте – пароходу и человеку» и отправил письмо Лили Брик:
«Милый и родной Детик.
Я живу совсем как потерпевший кораблекрушение Робинзон: спасаюсь на обломке (червонца), кругом необитаемая (тобой и Оськой) Евпатория…
…застрял тут на целую неделю, потому что у меня был страшенный грипп. Я только сегодня встал, завтра во что бы то ни стало уеду в Ялту…
Три лекции, с таким трудом налаженные опять в Севастополе и Евпатории, пришлось отменить.
Весёленькая историйка! Ну да бис (по-украински – чёрт, а не то что бис – "браво") с ней…
Как дела с Оськиным отдыхом?
Ехал бы он в Ялту.
Я получил за чтение перед санаторными больными комнату и стол в Ялте на две недели. Оське можно было бы устроить то же самое.
Ослепительно было бы, конечно, увидеть Кису на ялтинском балкончике!.. Но обломок червонца крошится, а других обломков нет и неизвестно.
По моим наблюдениям я стал ужасно пролетарский поэт: и денег нет, и стихов не пишу…
Целую и обнимаю тебя, родненькая, и люблю.
Весь твой
СЧЕН
Ужасно целую Осика».
Лили Брик:
«В те годы Маяковский был насквозь пропитан Пастернаком, не переставал говорить о том, какой он изумительный, "заморский" поэт. <…> В завлекательного, чуть загадочного Пастернака Маяковский был влюблён, он знал его наизусть…»
А что в тот момент поделывал вышедший на свободу Александр Краснощёков?
Янгфельдт пишет, что он…
«… летом 1926-го занял должность экономиста-консультанта по финансовым вопросам в Главном хлопковом комитете Наркомзема. В этом же году из США приехали его жена с сыном, однако надежды на воссоединение семьи не оправдались – спустя всего лишь полтора месяца они снова отбыли в Нью-Йорк, где Гертруда получила работу в Амторге. В связи с новой должностью Краснощёкову предоставили квартиру в Москве, куда он переехал вместе с дочкой Луэллой».
Последняя фраза требует уточнения. Квартиру Краснощёков должен был получить ещё в прошлом (1925 году), когда вышел из правительственной клиники. Ведь об этом было специальное распоряжение политбюро, которое обязывало лично Дзержинского обеспечить жильём амнистированного заключённого. Вряд ли в ОГПУ ждали поступления Краснощёкова на работу, чтобы обеспечить его местом проживания.
А тут из Соединённых Штатов пришло известие, что 15 июня Элли Джонс родила девочку, которую назвали Хелен-Патрицией.
Как отнёсся Маяковский к самому факту появления на свет дочери?
С одной стороны, Аркадий Ваксберг пишет, что Владимир Владимирович…
«… выполнил свой первейший долг – оплатил все расходы по родам, переведя в американский госпиталь сумму, которую ему назвала Элли».
С другой стороны, тот же Ваксберг заявляет:
«… никакой тяги к новорождённой дочери, и будущее с непреложностью это докажет, у него не было».
У Янгфельдта мнение прямо противоположное:
«… он давал выход отцовским чувствам, сочиняя стихи для детей, и к этому занятию, по собственным словам, относился "с особым увлечением". Вскоре после рождения дочери он написал киносценарий "Дети" – о голодающей семье американских шахтёров, в которой мать звали Элли Джонс, а дочь – Ирмой, возможно, он ещё не знал настоящего имени дочери. Сценарий полон штампов о бесчеловечности капитализма, но в эпизоде с приглашением Ирмы в Советский Союз на встречу с пионерами слышен голос не идеологии, а отца, мечтающего увидеть своего ребёнка».
Элли Джонс во время работы в американской гуманитарной организации A.R.A. Уфа, 1924 год.
Сценарий этого фильма Маяковский, надо полагать, написал ещё в Москве, и 6 августа 1926 года заключил договор с Всеукраинским фотокиноуправлением (ВУФКУ) на его постановку. В комментариях к 11 тому собрания сочинений поэта сказано:
«Сценарий “Дети” с рядом дополнений и переделок, внесённых режиссёром А.Соловьёвым, под названием “Трое” был поставлен на ялтинской кинофабрике ВУФКУ. Фильм “Трое” появился на экране в Киеве 6 апреля 1928 года, в Москве – 28 августа того же года».
В тот момент, когда родилась Хелен-Патриция, лекционное турне Маяковского было в самом разгаре.
Александр Михайлов:
«…на вечере в Симферополе отвечая на вопрос публики: "Почему вы так хвалите себя? " – Маяковский ответил: "Я говорю о себе как о производстве. Я рекламирую и продвигаю свою продукцию, как это должен делать хороший директор завода". Ответ в духе ЛЕФа. Раньше он отвечал на такие вопросы шуткой, что больше импонировало публике.
Однажды его спросили: "Товарищ Маяковский, чем объяснить, что вы в центре всего ставите своё я?". Прочитав записку, он с улыбкой ответил: "В центре как-то заметнее"».
Глава вторая Конфронтация вождей
Новые интересы
С 14 по 23 июля 1926 года в Москве проходила работа Объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), на котором были оглашены выводы, сделанные следственной комиссией ЦКК по поводу тайного собрания фракционеров в подмосковном лесу.
20 июля слово предоставили Феликсу Дзержинскому, который обрушился с жесточайшей критикой на Льва Каменева, возглавлявшего тогда наркомат торговли. Закончив своё выступление, Дзержинский внезапно почувствовал себя очень плохо, а придя домой, скоропостижно скончался.
Этот стремительный уход из жизни главы ОГПУ и ВСНХ до сих пор выглядит столь же загадочным, как и кончины Склянского и Фрунзе.
После похорон Дзержинского участники пленума вернулись к обсуждению вопроса о фракционерах. В решениях пленума говорилось:
«Особо должно быть отмечено нелегальное фракционное собрание в лесу, близ Москвы, устроенное работником ИККИ Гр. Беленьким… по всем правилам конспирации… На этом тайном от партии собрании с докладом выступает кандидат в члены ЦК ВКП(б) Лашевич, призывая собравшихся организовываться для борьбы».
Выступивший на пленуме председатель ЦКК Валериан Владимирович Куйбышев назвал фамилию ещё более высокопоставленного оппозиционера – Зиновьева, обвинив его в том, что, используя аппарат Исполкома Коминтерна (ИККИ), он руководит созданием второй большевистской партии.
Пленум постановил: вывести Григория Зиновьева из состава политбюро и снять его с поста председателя исполнительного комитета Коминтерна. Новым главой Коминтерна назначили Николая Бухарина. Григорий Беленький был уволен из ИККИ, а Михаил Лашевич лишён всех своих ответственных должностей: кандидата в члены ЦК ВКП(б), первого заместителя председателя Реввоенсовета и первого заместителя наркомвоенмора.
В том же июле, сразу после опубликования в газетах решений пленума, Маяковский написал стихотворение «МЮД», которое посвящалось Международному коммунистическому юношескому дню (МКЮД). Цензоры почему-то не обратили внимания на то, что буква «к» («коммунистический») в названии стиха отсутствует. А произошло это, видимо, потому, что второе четверостишие поддерживало решения Объединённого пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), которые карали тех, кто пытался создать вторую коммунистическую партию:
«Нам / дорога / указана Лениным,
все другие — / кривы и грязны.
Будем / только годами зелены,
а делами и жизнью / красны».
И ещё в этом стихотворении была фраза, которой предстояло стать крылатой – её часто повторяли потом докладчики, обращаясь к молодёжи:
«Коммунизм – / это молодость мира,
и его / возводить / молодым».
5 сентября 1926 года «МЮД» был опубликован газетой «Известия ЦИК».
Примерно в тех же числах (в конце августа или в начале сентября) Маяковский и его соратники-лефовцы подали заявление:
«В Отдел печати ЦК ВКП(б)
Копия Госиздату
От имени работников Левого фронта искусств обращаемся к вам за содействием по изданию в Госиздате ежемесячного журнала под названием “Новый Леф”.
Задача журнала – продолжить работу, начатую газетой “Искусство коммуны” в 1918–1919 гг. и журналом “Леф” 1923-24 гг…
Лозунги наши достаточно известны по нашей прежней работе и стали в настоящее время особенно актуальными в связи с очередными задачами, выдвинутыми партией и советской властью.
Ответственным редактором предлагается В.Маяковский».
Главным наставником Владимира Маяковского в тот момент по-прежнему был всё тот же Осип Максимович Брик. Лили Юрьевна часто повторяла:
«Единственным советчиком Маяковского, которому он доверял больше, чем себе, был О.М.Брик».
Виктор Шкловский:
«Маяковского многие поправляли, руководили, много ему объясняли, что надо и что не надо. <…> Осип Брик всё это оформлял теоретически, всё, что происходило, – необходимость писать слишком много строк и не писать поэмы, всё находило точное оправдание…»
Пожалуй, нет биографа Маяковского, который не написал бы, что именно Осип Брик считал строчку «Нигде кроме как в Моссельпроме» высшим поэтическим достижением и предлагал поэту вообще бросить писать поэмы и целиком переключиться на рекламу, воспевающую «производство вещей». Странно, что никто из маяковсковедов не задумался над тем, почему Осип Максимович дал Владимиру Владимировичу именно такой совет. Разве у рекламы было какое-то преимущество перед стихами и поэмами? Почему надо было отдать ей предпочтение?
Ответ тут напрашивается один. И связан он с тем, что исключённый из партии большевиков Осип Брик к концу 1925 года стал оппозиционером – «примкнул к оппозиции», потому что «не выдержал», как написал в своей книге Бенгт Янгфельдт. Чего именно «не выдержал» Осип Максимович, Янгфельдт, к сожалению, не уточнил. Но ведь известно, что Брик (в отличие от Маяковского) много читал. Со всем, что издавалось большевиками (газетами, брошюрами, книгами), он ознакамливался весьма основательно, продолжая при этом общаться с бывшими коллегами из ГПУ (с тем же Аграновым, например). Поэтому то, что происходило тогда в большевистской партии, говорило ему об очень многом. Вот он и посоветовал Маяковскому перестать в своих стихах и поэмах славить советскую власть и её вождей, так как эти вожди сражались друг с другом, и было неизвестно, кто победит. Поэту был дан дельный совет: переключиться на рекламу, то есть воспевать «производство вещей» и сами «вещи». Это обеспечит хороший заработок и даст возможность жить и творить, независимо от того, кто во внутрипартийной борьбе окажется победителем.
Владимир Маяковский своего наставника и советчика послушал. И стал сочинять рекламу. И не только её.
Совместная пьеса
Иосиф Сталин в отпуск уходил, как правило, осенью. В 1926 году он своей привычке не изменил и уехал отдыхать на Кавказ. И вскоре в Москву прилетела тревожная весть: генеральный секретарь отравился. Причём случившееся очень напоминало то, что произошло с Лениным в мае 1922 года, когда он в Горках, поужинав рыбой, почувствовал себя плохо, и на следующее утро врачи поставили диагноз: инсульт. Поскольку Сталин тоже ел в этот день рыбу, случившееся очень походило на отравление. И встревоженная жена генсека, Надежда Аллилуева, бросив шестимесячную дочь Светлану, поехала на Кавказ, где её встретил муж, живой и от отравления оправившийся.
А Владимир Маяковский и Осип Брик 6 сентября подписали договор с Московским театральным издательством на написание пьесы к девятилетию Октябрьской революции. В октябре пьеса была готова. Её название – «Радио-Октябрь». Осип Максимович был автором прозаической части, Владимир Владимирович создал стихотворную. В 11 томе собрания сочинений Маяковского об этой пьесе говорится:
«Постановки “Радио-Октября” подготовил к девятой годовщине Октябрьской революции ряд групп (эстрадных коллективов) “Синей блузы”, выступавших в рабочих клубах и на концертных площадках».
Напомним, что «Синей блузой» назывались тогда самодеятельные коллективы, участники которых выступали обычно в синих рабочих блузах, сопровождая свой показ коллективной декламацией, а иногда и гимнастическими номерами.
Что же за пьесу написали Брик и Маяковский? Биографы поэта о ней почему-то не упоминают. Полное название этого произведения такое:
«“Радио-Октябрь”. Революционный гротеск в трёх картинах».
Перескажем вкратце содержание пьесы:
«Д е й с т в и е п е р в о е
Кресло. На столе с одной стороны огромный календарь, на верхнем листке “7 ноября”. С другой – колокол, как на вокзале.
С ц е н а п е р в а я
В кресле сидит Б а н к и р. Перед ним, склонившись, стоит м о н а р х в короне, мантии, со скипетром и державой.
Б а н к и р
Осточертела мне ваша монархия! Никакого от неё толку… Вы зашились с вашими парадами, приёмами, коронациями. Каждый день балы, реверансы. Дамы, кавалеры, придворные. Вам некогда делом заниматься. Безобразие!
(Монарх хочет сказать.)
Знаю, знаю!.. Главное ваше занятие – в теннис играть… Но когда вы приходите клянчить лишний миллиончик на то, на сё, на ремонт мантии, на починку коронки то на зуб, то на голову, тогда вы – монарх. А когда дело делать, так вы – теннисист. Хорошенькие штучки!.. Вот сегодня: годовщина Октября. А что сделано? Какие приняты меры? Никаких!.. Рабочие все на свободе… Срам! (Встаёт.) Сейчас же принять меры! И никаких коронаций! (Уходит.)
С ц е н а в т о р а я
Монарх выпрямляется. Садится в кресло. Звонит в колокол 1 раз. Входит п р е м ь е р.
М о н а р х
Осточертело мне ваше ответственное министерство, все эти ваши палаты и парламенты. Никакого от них толку… Партии, фракции, лидеры, комиссии, пленумы. Чепуха! А дело не делается.
(Премьер хочет сказать.)
Как сверхурочные клянчить, так вы – представитель власти, премьер. А как дело делать – так “конституция”. Безобразие! Сегодня годовщина Октября. Какие приняты меры? Никаких! Рабочие гуляют на свободе… (Встаёт.) Сейчас же принять меры! И никаких конституций! (Уходит.)
С ц е н а т р е т ь я
Премьер садится в кресло. Звонит 2 раза. Входит п р о к у р о р.
П р е м ь е р
Осточертели мне ваши законы и прочие юридические фигли-мигли!.. Копаетесь в циркулярах, а дело стоит.
(Прокурор хочет сказать.)
Знаю, знаю!.. Как на полицию добавочную ассигновку клянчить, так вы – прокурор, блюститель порядка. А как в тюрьму сажать, так – законное основание. Безобразие!.. Сегодня годовщина Октября. А какие приняты меры? Никаких! Рабочие на свободе гуляют… Стыд! (Встаёт.) Немедленно принять меры! И никаких параграфов! (Уходит.)»
В следующих сценах (четвёртой, пятой и шестой) появляются жандармский генерал, потом – полицмейстер, затем – городовой. И каждый с возмущением заявляет, что ему «осточертели» бездействия нижестоящего чиновника и требует: «Немедленно принять меры!»
Изящный драматургический ход, когда один персонаж отчитывал молчащего второго, затем второй почти что теми же словами и за то же отчитывал третьего, а потом третий повторял то же самое с четвёртым и так далее, должен был с интересом восприниматься публикой.
После первого действия шло второе, в котором полицмейстер и городовой арестовывали рабочих, каждый раз изобретая новую причину ареста, что тоже должно было понравиться зрителям. Оба действия придумал и написал Осип Брик. Написал, прямо скажем, с выдумкой.
Далее следовало действие, созданное Маяковским:
«Д е й с т в и е т р е т ь е
Площадь в столице. Сзади во всю сцену решётка. За ней набранные во втором действии з а к л ю ч ё н н ы е. Посреди площади р а д и о б а ш н я».
На площади уже находятся жандармский генерал, полицмейстер и городовой. Входят банкир с дочкой, монарх, премьер и прокурор. Теперь все они говорят стихами. Даже радиобашня, голос которой перекрывает всех:
«Р а д и о
Всем примером / наша страна.
Она сильна. / Свободна она.
Девять лет —
нет фабрикантов, / помещиков нет.
Девятый год
нет у нас / ни рабов / ни господ.
Т ю р ь м а
Будем, / такими же будем и мы.
Мы расшатаем / решётки тюрьмы.
Б а н к и р
Господа! / Это он про нас. / Про господ!
Сплю я? /Брежу? / Холодный пот!»
Но радиобашня продолжает вещать, призывая пролетариев к революции:
«Р а д и о
Других государств угнетённые блузники!
Рабы заводов! / Правительства узники!
Долго ли будете / смирны и кротки?
Берите / своих буржуев / за глотки!»
Услышав такие слова, все «буржуи» тут же падали «как карты, друг на друга и на руки городового», а радиобашня торжествующе продолжала:
«И хрустнут / зажатой Европы бока,
а пока —
Пойте, рабочие мира и зала,
чтоб всех / эта песня / сегодня связала!
Вставай, проклятьем заклеймённый,
весь мир голодных и рабов…»
И начинал звучать «Интернационал», который исполняли артисты-синеблузники, а их поддерживала публика в зрительном зале. Это пение было, пожалуй, единственным драматургическим ходом всего третьего действия.
Пьеса, поставленная в ноябре 1926 года, прошла с успехом. Через полгода спектакль был возобновлён. Об этом – в комментариях к 11 тому собрания сочинений Маяковского:
«Редакция журнала “Синяя блуза” переработала пьесу применительно к первомайскому празднику: текст был частично изменён и дополнен стихотворением Маяковского и Н.Н.Асеева “Первый первомай”. В таком виде под названием “Радио-Май” пьеса была напечатана в этом журнале».
В ней зазвучали новые строки:
«Жги границы / стран и наций,
огонь демонстраций.
Выше краснейте, / лучи и знамёна,
вал повернувши / многоремённый.
Го д за годом, / за рядом ряд —
шествуй, / победный / пролетариат!»
Создателей пьесы хвалили и поздравляли. И всё же нельзя не отметить, что Брик (как драматург) здесь явно переиграл своего именитого соавтора. Прозаическая часть получилась интереснее стихотворной. Надо полагать, что об этом говорили и самому Маяковскому. Как он к этому отнёсся, неизвестно. Наверное, ему было не очень приятно, что кто-то ставит под сомнение его статус первого поэта и первого драматурга страны Советов. Но Осипу Максимовичу, своему давнему закадычному другу, Владимир Владимирович продолжал доверять, к его советам прислушивался и с энтузиазмом сочинял двустишия, рекламирующие «производство вещей».
Такое положение дел многим не нравилось.
Нарком и «буревестник»
Нарком по просвещению Анатолий Луначарский однажды прямо заявил:
«Когда Маяковский под зловредным влиянием своего демона Брика заявляет, что искусство кончено и идёт на производство вещей, он действительно наносит искусству предательский удар в спину».
Наталья Розенель-Луначарская добавляла:
«Иногда у Анатолия Васильевича вызывало чувство досады окружение Маяковского, особенно так называемые теоретики Лефа. О них он сказал как-то после вечера, проведённого у Маяковского: "Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост"».
Луначарскому нравились поэты: Маяковский, Третьяков, Асеев. Ко всем же остальным лефовцам, по словам Натальи Розенель, нарком относился без всякой симпатии:
«Арватова, Кручёных, Чужака и прочих "теоретиков" Анатолий Васильевич недолюбливал, считая их влияние на Маяковского глубоко отрицательным, и верил, что Маяковский рано или поздно освободится от этого влияния».
А с Алексеем Максимовичем Горьким, к мнению которого Маяковский когда-то очень внимательно прислушивался, теперь у Владимира Владимировича никаких отношений вообще не было. Правда, было сочинено стихотворение, которое называлось «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому». Начиналось оно с воспоминания о недавнем противостоянии:
«Алексей Максимович, / как помню, / между нами
что-то вышло / вроде драки / или ссоры.
Я ушёл, / блестя / потёртыми штанами;
взяли Вас / международные рессоры».
Затем поэт, якобы сожалевший об отъезде писателя из страны Советов, напрямую задавал обосновавшемуся в Италии «буревестнику революции», животрепещущий вопрос (как «писатель» – «писателю»):
«Очень жалко мне, товарищ Горький,
что не видно / Вас / на стройке наших дней.
Думаете – / с Капри, / с горки
Вам видней?»
И Маяковский принимался рассказывать, как трудно ему вместе с немногочисленными соратниками создавать литературу страны Советов:
«Одни мы, / как ни хвалите халтуры,
но, годы на спины грузя,
тащим / историю литературы —
лишь мы / и наши друзья.
Мы не ласкаем / ни глаза, / ни слуха.
Мы – / это Леф, / без истерики – / мы
по чертежам / деловито / и сухо
строим / завтрашний мир».
Упрекая Горького в том, что он не участвует в этом строительстве «завтрашнего мира», Маяковский упомянул и о себе лично (этими строками стихотворение завершается), с гордостью заявив:
«Делами, / кровью, / строкою вот этою,
нигде / не бывшую в найме, —
я славлю / взвитое красной ракетою
Октябрьское, / руганное / и пропетое,
пробитое пулями знамя!»
Это стихотворение газета «Известия ЦИК» отказалась печатать. Категорически. И в середине сентября 1926 года на организационном собрании сотрудников «Нового Лефа» Владимир Владимирович заявил, что хочет опубликовать «Письмо Горькому» в первом номере готовившегося к выпуску новолефовского журнала.
А что в это время происходило в стране Советов?
Советские будни
Двадцатишестилетний секретарь политбюро Борис Бажанов писал:
«Я очень скоро понял, какую власть забирает ГПУ над беспартийным населением, которое отдано на его полный произвол. Также ясно было, почему при коммунистическом режиме невозможны никакие личные свободы: всё национализировано, все и каждый, чтобы жить и кормиться, обязаны быть на государственной службе. Малейшее свободомыслие, малейшее желание личной свободы, и над человеком – угроза лишения возможности работать и, следовательно, жить. Вокруг всего этого – гигантская информационная сеть сексотов, обо всех всё известно, всё в руках у ГПУ».
Напомним, что слово «сексот», означающее «секретный сотрудник» было придумано и введено в оборот в самом конце XIХ века начальником Московского охранного отделения Сергеем Васильевичем Зубатовым.
Борис Бажанов:
«И в то же время, забирая эту власть, начиная строить огромную империю ГУЛага, ГПУ старается как можно меньше информировать верхушку партии о том, что оно делает. Развиваются лагеря – огромная истребительная система – партии докладывается о хитром способе за счёт контрреволюции иметь бесплатную рабочую силу для строек пятилетки; а кстати, “перековка” – лагеря-то ведь “исправительно-трудовые”; а что в них на самом деле? Да ничего особенного: в партии распространяют дурацкий еврейский анекдот о непманах, которые говорят, что “лучше воробейчиковы горы, чем соловейчиков монастырь”.
У меня впечатление, что партийная верхушка довольна тем, что заслон ГПУ (от населения) действует превосходно, и не имеет никакого желания знать, что на самом деле происходит в недрах ГПУ: все довольны, читая официальную болтовню “Правды” о стальном мече революции (ГПУ), всегда зорко стоящем на страже завоеваний революции».
Для того, чтобы прославить эти «воробейчиковы горы», которые кому-то казались намного привлекательнее «монастырских» Соловков, неожиданно приступила к работе никогда и нигде до этого не работавшая Лили Брик.
Всё началось ещё с 29 августа 1924 года, когда при президиуме Совета национальностей ЦИК СССР был создан КомЗЕТ (Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся), первым председателем которого стал старый знакомец Маяковского (его старший товарищ по работе в партии времён 1908–1909 годов) Пётр Гермогенович Смидович. Через пять месяцев (17 января 1925 года) в Москве появился ОЗЕТ (Общество землеустройства еврейских трудящихся), общественная организация, призванная помогать КомЗЕТу. Возглавил ОЗЕТ видный большевик Юрий Александрович Ларин (Михаил Залманович Лурье), а в президиум вошли актёр Соломон Михоэлс и поэт Владимир Маяковский. Вот в этом-то ОЗЕТе Лили Брик и начала работать.
Аркадий Ваксберг:
«Пытаясь найти для себя какое-то занятие (просто ездить и просто влюбляться – это уже приелось), Лиля поступила на неоплачиваемую работу в канцелярию Общества землеустройства еврейских трудящихся (ОЗЕТ), которое было тогда одержимо созданием еврейских колоний (позже – колхозов) в степной части Крыма».
Василий Васильевич Катанян:
«В 1926 году ЛЮ поступила работать в ОЗЕТ (Общество земледельцев евреев-трудящихся). Вскоре начались съёмки фильма "Евреи на земле", которые проводил режиссёр Абрам Роом. Он пригласил ЛЮ работать у него ассистентом».
Не будем удивляться, что Ваксберг и Катанян по-разному расшифровали название организации, в которой стала работать Лили Брик. В одиннадцатом томе 13-томного собрания сочинений Маяковского сказано, что ОЗЕТ – это «Общество землеустройства евреев-трудящихся». А в томе седьмом того же собрания сочинений даётся несколько иное истолкование этой аббревиатуры: «Общество содействия землеустройству евреев-трудящихся».
Возглавлявший КомЗЕТ Пётр Смидович продолжал входить в самую верхушку большевистской иерархии. И вот тому подтверждение: 26 февраля 1926 года в повестке дня заседания политбюро стоял (одним из последних) вопрос об обследовании советских вождей медицинскими светилами:
«23. О порядке подготовки к проведению консилиума с заграничными профессорами (т. Рыков)».
Члены политбюро (а в тот день заседали Бухарин, Калинин, Зиновьев, Молотов, Рыков, Томский, Троцкий, Сталин, а также Каменев, Петровский и Рудзутак) постановили:
«23. Учредить порядок подготовки к проведению консилиума с заграничными профессорами и списки товарищей (см. приложение № 1)».
В приложении указано сорок фамилий – тех, кому надлежало «безусловно обязательно» явиться к врачам для осмотра. Кроме членов, кандидатов в члены политбюро и наркомов врачебному осмотру подлежали Клара Цеткин, Арон Сольц, Генрих Ягода, Лев Сосновский (тот самый, что был автором статьи в «Правде» о «маяковщине»), Надежда Крупская и Пётр Смидович. Стало быть, Пётр Гермогенович входил в число сорока самых-самых выдающихся большевиков.
Что же касается Маяковского, то, по свидетельству Ваксберга:
«Маяковский уже был членом ОЗЕТа, носил его значок, посвятил "товарищам из ОЗЕТа" стихотворение "Еврей". Он прочёл его на большом литературном вечере в Колонном зале Дома Союзов "писатели народов СССР – ОЗЕТу"».
Ещё добавим, что, находясь в Америке, Маяковский тесно общался с членами общества ИКОР (с Шахно Эпштейном, Леоном Тальми и другими). ИКОР был создан в 1924 году и активно взаимодействовал с советским ОЗЕТом. Название общества («Jewish Colonisation in Russia») было подобрано так, чтобы быть созвучным слову «Икар» (в переводе с иврита – «пахарь»).
Лили Брик писала, что Маяковский…
«… помог ОЗЕТу устроить гигантский писательский вечер, сбор от которого пошёл целиком на еврейские колонии».
Пройдёт совсем немного лет, и эта еврейская организация исчезнет из советской истории (как пристанище «врагов народа»), и её вскоре совсем забудут. Поэтому Ваксберг и написал:
«… о членстве Маяковского в ОЗЕТе не вспомнит ни один его биограф (в "Хронике жизни и деятельности", написанной В.А.Катаняном, есть лишь упоминание о чтении стихотворения в Колонном зале)».
Стихи и проза
Вечер в Колонном зале («Писатели народов СССР – ОЗЕТу») состоялся осенью (17 ноября 1926 года), а съёмки фильма «Евреи на земле» проходили летом.
Выражение «съёмки фильма» по современным представлениям может у кого-то вызвать ощущение чего-то грандиозного. На самом же деле всё обстояло гораздо скромнее. Фильм был документальный – всего две части (двадцать минут). Это примерно 5–6 сюжетов нынешней программы теленовостей, которые в наши дни вполне можно снять в течение одного светового дня.
Автором сценария фильма был Виктор Шкловский. Маяковский написал текст титров, которые разъясняли происходившее на экране. Очень короткие фразы занимали всего одну страничку. Если поставить их друг за другом, они и вовсе займут полстраницы.
Пока шли съёмки, один из инициаторов этой шумной кампании, прославлявшей деятельность ОЗЕТа, Ицхак Рабинович, был приговорён к трём годам ссылки в Кзыл-Орду Казахской АССР РСФСР и отправлен туда по этапу.
Когда съёмки закончились, Лили Брик поехала на южный берег Крыма в курортный посёлок Чаир. Об этом – Бенгт Янгфельдт:
«После съёмок она провела с Маяковским четырнадцать дней в пансионате "Чаир"».
Это утверждение не совсем точно – ведь роман Александра Краснощёкова с Лили Брик продолжался. Перед тем как приступить к своей новой работе в Хлопковом комитете, Александр Михайлович решил отдохнуть в Крыму, где его ждала Лили Юрьевна, и отправился к крымский посёлок Чаир. Туда же (тоже на отдых) приехал и Маяковский.
Аркадий Ваксберг:
«Среди роз и кипарисов около двух недель провели вместе две пары: Лиля с Краснощёковым и Маяковский, который тут же, в Чаире, познакомился с молодой харьковской студенткой Наташей Хмельницкой и начал за ней ухаживать на виду у всех. Лили не только не препятствовала этому тривиальному курортному роману – скорее, поощряла его: с первой же минуты она безошибочно определила, что чем-то серьёзным здесь и не пахнет…»
Роман же Лили Брик и Краснощёкова между тем подходил к своему завершению. Ваксберг пишет:
«В сущности, это было прощание с подходившей к концу любовной историей. Она и так уже длилась неимоверно долго – по Лилиным меркам. Впереди маячила новая, и тоже, разумеется, кратковременная любовь».
А Маяковский тогда вновь увлёкся кинематографом. За следующие три года он напишет девять сценариев (экранизированы только два). Один из них называется «Как поживаете?». В нём, как в пьесе «Владимир Маяковский» и в поэме «Человек», главный герой носит имя автора.
Тем же летом (22 августа) газета «Известия ЦИК» опубликовала стихотворение Маяковского «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». Заканчивалось оно так:
«В наших жилах – / кровь, а не водица.
Мы идём / сквозь револьверный лай,
чтобы, / умирая, / воплотиться
в пароходы, / в строчки / и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить, / сквозь годы мчась,
но в конце хочу – / других желаний нету —
встретить я хочу / мой смертный час
так, / как встретил смерть / товарищ Нетте».
Вернувшись 26 августа в Москву, Маяковский написал фининспектору 17-го участка Мосфинотдела заявление с просьбой снизить сумму начисленного ему налога (2335 рублей 75 копеек). Про эту сумму поэт написал, что она «чудовищна и платить её я совершенно не в состоянии». В числе прочих скрупулёзно указанных расходов значилось:
«15. Библиография полного собрания сочинений – 200 р.».
В комментариях в 13-томном собрании сочинений Маяковского сказано:
«Библиографию по просьбе поэта составили В.А.Силлов (первый вариант) и П.В.Незнамов (окончательный текст)».
Вновь нам попадается фамилия поэта-лефовеца Владимира Александровича Силлова. Не будем забывать его – он нам ещё встретится.
31 августа журнал «Новый зритель» опубликовал ответы на анкету об отношении литераторов к кино. Маяковский высказался так:
«С завтрашнего дня я рассчитываю начать вертеться на кинофабрике, чтобы, поняв кинодело, вмешаться в осуществление своих сценариев».
Зачем автору сценариев надо было вмешиваться в процесс создания фильма, Маяковский ответил через месяц – в письме, направленном в ВУКФУ (Всеукраинское кинофотоуправление):
«Считаю нужным ещё раз повторить, что результат постановок моих сценариев решающе зависит от способности режиссёра, так как европейский тип моих сценариев (монтаж кадров, а не фабульное развитие) у нас нов».
Обратим внимание, Маяковский считал, что у его сценариев «европейский тип», то есть как бы продвинутый вперёд, передовой, не такой, как у остальных авторов, которые от Европы отстали.
События политические
Корнелий Зелинский:
«Возвратившись из Парижа в сентябре 1926 года, я привёз Маяковскому привет от Эльзы Триоле… Но не застал поэта в Москве».
У Маяковского, как мы уже говорили, в 1926 году зарубежных вояжей не было. В книге Аркадия Ваксберга об этом написано так, словно речь идёт не о событиях 90-летней давности, а о наших нынешних днях, когда за рубеж может отправиться любой – были б на то возможности и желание:
«В 1926 году ни Лиля, ни Маяковский за границу не поехали. Возможно, не было повода. <…> И вот что ещё вероятно: не было – денег. Но главное – исключительно важные перемены в жизни Лили и Маяковского требовали какой-то внутренней сосредоточенности и душевного успокоения».
Но на этот раз за границу Лили Брик и Владимир Маяковский не поехали вовсе не из-за отсутствия денег (не за свой же счёт они разъезжали по зарубежью!) и не из-за отсутствия повода. Их туда просто не отправили. По причинам достаточно веским.
Вот эти причины. У Коминтерна появился новый руководитель – Николай Бухарин. А 29 июля 1926 года на заседании политбюро, на котором присутствовали Калинин, Рудзутак, Рыков, Сталин и Троцкий, а также кандидат в члены политбюро Каменев и член ЦК РКП(б) Раковский, были приняты кадровые решения, касавшиеся ВСНХ и ОГПУ:
«9. а) Назначить председателем ВСНХ т. Куйбышева.
б) Назначение т. Куйбышева подвергнуть голосованию членов ЦК путём опроса.
в) Назначить председателем ОГПУ т. Менжинского».
С приходом новых руководителей в столь важные государственные учреждения (Коминтерн, ВСНХ и ОГПУ) должна была измениться и проводимая этими ведомствами политика. Но сначала предстояло определиться с приоритетными задачами и целями. Поэтому с зарубежными поездками рядовых сотрудников ОГПУ можно было немного повременить.
Борис Бажанов:
«После длительной и постоянной тренировки мозги членов коммунистической партии твёрдо направлены в одну определённую сторону. Не тот большевик, кто читал и принял Маркса (кто в самом деле способен осилить эту скучную и безнадёжную галиматью?), а тот, кто натренирован в беспрерывном отыскивании и преследовании всяких врагов. И работа ГПУ всё время растёт и развивается как нечто для всей партии нормальное – в этом и есть суть коммунизма, чтобы беспрерывно хватать кого-нибудь за горло; как же можно упрекать в чём-либо ГПУ, когда оно блестяще с этой задачей справляется? Я окончательно понимаю, что дело не в том, что чекисты – мразь, а в том, что система (человек человеку волк) требует и позволяет, чтобы мразь выполняла эти функции».
В августе на очередном заседании политбюро (присутствовали Калинин, Рыков, Рудзутак, Сталин, Троцкий и Каменев) была рассмотрен ещё один кадровый вопрос:
«7. Заявление т. Каменева об отставке (см. приложение № 3)».
После той жесточайшей критики, которой подвергся Каменев в последней речи Дзержинского, он не счёл возможным оставаться членом Совнаркома – главой наркомата внешней и внутренней торговли (НКТ). Все свои соображения он изложил в заявлении, которое и было помещено в «Приложение № 3». Адресовалось оно «всем членам и кандидатам политбюро» и начиналось со слов «Уважаемые товарищи». Далее Каменев писал, что критика в его адрес…
«… безответственно используется для дискредитации меня уже не как НКТорга, а как лица, связанного с известной политической линией в партии…
Я понимаю, что при сложившейся в партии обстановке мне должна быть предоставлена работа более исполнительского характера. <…> Подобную работу я буду исполнять по указанию партии, как она прикажет.
Л. Каменев
23. VII.26».
Члены политбюро постановили:
«7. а) Освободить т. Каменева от работы в Наркомторге.
б) Назначить Народным Комиссаром Внешней и Внутренней торговли т. Микояна.
в) Настоящее постановление (в обеих его частях) подвергнуть голосованию путём опроса всех членов ЦК».
Так как некоторые большевистские вожди были категорически против того, чтобы последний доклад Дзержинского на объединённом пленуме ЦК и ЦКК, касавшийся сугубо внутрипартийных дел, публиковать во всесоюзной печати, этот вопрос тоже был поставлен на обсуждение:
«21. Об опубликовании работ пленума ЦК и ЦКК (политбюро от 2.VII.26., приказ № 44, параграф 9) (т. Троцкий)».
Большинством голосов политбюро постановило:
«21. Опубликование речи т. Дзержинского считать правильным».
Больше всех это постановление обидело, конечно же, Льва Каменева. И он тут же подал новое заявление:
«24. Просьба т. Каменева об отпуске на два месяца для лечения (т. Каменев)».
К сожалению, в протокол не внесены (хотя бы вкратце) те слова, которые кремлёвские вожди высказали своему бывшему соратнику, изгнанному ими со всех ответственных постов. До наших дней дошла всего одна фраза:
«24. Отложить до следующего заседания».
А Борис Глубоковский, находившийся (по делу «Ордена русских фашистов») в соловецком концлагере, в это время писал роман «Путешествие из Москвы в Соловки», который вскоре будет напечатан в лагерном журнале «Соловецкие острова».
Осень 1926-го
20 сентября в Большой аудитории Политехнического музея Маяковский прочёл доклад «Как писать стихи». В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» приводятся воспоминания об этом вечере Г.Калашникова:
«Маяковский получил на вечере записку: "Маяковский, вы не уважаете своих слушателей и не считаетесь с ними. На эстраде вы ведёте себя, как дома, разгуливаете, снимаете пиджак. Согласитесь, что это непристойно!" Маяковский громко прочитал эту записку.
– Слушателей своих я уважаю, – резко сказал он, – а вот автор этой записки не уважает ни меня, ни мою работу. Он упрекает меня в непристойности. Скажите, какой благовоспитанный юноша! Каждый токарь, фрезеровщик, столяр, когда он становится к своему станку или верстаку, снимает пиджак. Так ему сподручнее работать. Автор этой записки сидит в зале и только меня слушает, а я работаю, утомляюсь, и без пиджака мне работать удобней. Надо, товарищи, уважать немножко и работу поэта.
Зал разразился на эту реплику Маяковского громкими аплодисментами».
Афиша творческого вечера В.Маяковского «Как писать стихи» 20 сентября 1926 г.
30 сентября в той же аудитории Политехнического музея проходил диспут о хулиганстве. Ленинградская «Красная газета» написала:
«Маяковский, выступивший в заключение, рекомендовал побольше и посерьёзнее заниматься боксом, для того чтобы каждый мог дать отпор любому хулигану».
Газета «Известия»:
«Заканчивая своё слово, тов. Маяковский зачитывает стихотворение "Хулиган", подчёркивая его конец».
Финал стихотворения звучит так:
«Когда / у больного / рука гниёт —
не надо жалеть её.
Пора / топором закона / отсечь
гнилые / дела и речь!»
В это время в Московском Художественном театре вовсю шли репетиции спектакля по пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных» (сначала она называлась «Белой гвардией»). «Пролетарская» общественность советской столицы устроила невероятнейшую травлю пьесы и готовившегося спектакля. Маяковский в этой травле принял самое активное участие.
Вечером 2 октября 1926 года в Москве, в Коммунистической академии, состоялся диспут на тему «Театральная политика советской власти», на котором с докладом выступил нарком по просвещению А.В.Луначарский. Из пяти ораторов, принявших участие в обсуждении вопроса, предпоследним был Маяковский.
Так как утром того же дня в Художественном театре прошла генеральная репетиция «Дней Турбиных», своё выступление Владимир Владимирович начал так:
«Товарищи, здесь два вопроса: прежде всего, академический доклад товарища Луначарского о политике Наркомпроса в области театрального искусства, а второй – это специальный вопрос о пьесе Булгакова "Белая гвардия", поставленной Художественным театром».
На генеральной репетиции Маяковский не был, содержания булгаковской пьесы не знал, но «второму вопросу» посвятил больше половины своего выступления.
Что же он мог сказать, если в существе дела не разобрался?
По Москве тогда ходили упорные слухи о том, что премьеры, назначенной на 5 октября, не будет, так как спектакль запретят. И Маяковский присоединился к тем, кто разносил крамольную постановку в клочья, сказав, что для Художественного театра…
«… это правильное логическое завершение: начали с тётей Маней и дядей Ваней и закончили "Белой гвардией"».
В зале раздался смех, и воодушевлённый поэт, назвав пьесу «нарывом» («вылезшая, нарвавшая "Белая гвардия"»), добавил менторским тоном:
«Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть – и пискнул. А дальше мы не дадим».
Маяковский произнёс эти карающие фразы так, словно занимал какой-то важный ответственный пост, и от него зависело, допускать или не допускать до советских зрителей пьески сомнительного буржуазного пошиба.
Кто-то из сидевших в зале тут же спросил:
«– Запретить?»
Маяковский ответил:
«– Нет, не запретить. Чего вы добьётесь запрещением? Что эта литература будет разноситься по углам и читаться с таким удовольствием, как я двести раз читал в переписанном виде стихотворения Есенина».
Из зала выкрикнули:
«– Это для любителя!»
Маяковский ответил:
«– Это для человека, который интересуется. Если на всех составлять протоколы, на тех, кто свистит, то введите протоколы и на тех, кто аплодирует. Бояться протоколов с той и с другой стороны не приходится».
Так о чём же всё-таки говорил на этом диспуте Маяковский?
Против чего выступал?
Что и кого поддерживал?
Понять (читая стенограмму) суть его выступления очень трудно. Ведь получается, что он был и против «Белой гвардии» и против её запрещения.
Вероника Полонская
Свою речь Владимир Владимирович завершил словами о ЛЕФе:
«Мы бы хотели от товарища Луначарского по отношению к тем писателям, которые бьются за лозунги и плакаты, за революционное, за лефовское искусство, слышать: "Да здравствует ваша политическая работа, и побольше вашей политической работы и к чёрту аполитичность!" Вот это мы хотели бы слышать».
Зал вновь разразился аплодисментами, и Маяковский, повторивший (в который уже раз!) лефовские притязания на лидерство в области литературы и искусства, гордо покинул трибуну.
В августе-сентябре 1926 года журнал «Новый мир» опубликовал статью Маяковского «Как делать стихи?». В ней Владимир Владимирович сразу заявлял:
«Я должен писать на эту тему…
Я хочу написать о своём деле не как начётчик, а как практик…
Ещё раз очень решительно оговариваюсь: я не даю никаких правил для того, чтобы человек стал поэтом, чтобы он писал стихи. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек, который именно и создаёт эти самые поэтические правила».
Статья довольно большая – в 12-ом томе собрания сочинений Маяковского она занимает 36 страниц.
И сразу вспоминается небольшое стихотворение Константина Бальмонта «Как я пишу стихи» (из сборника «Фейные сказки»):
«Рождается внезапная строка,
За ней встаёт немедленно другая,
Мелькает третья ей издалека,
Четвёртая смеётся, набегая.
И пятая, и после, и потом,
Откуда столько, я и сам не знаю,
Но я не размышляю над стихом,
И, правда, никогда – не сочиняю».
В 1926 году начались съёмки фильма «Стеклянный глаз», о котором Лили Брик написала:
«Эту пародию на коммерческий игровой фильм, которыми были тогда наводнены экраны, и агитацию за кинохронику я сняла вместе с режиссёром В.Л.Жемчужным на студии "Межрабпромфильм" по нашему с ним сценарию».
Нам этот фильм интересен тем, что на одну из главных ролей…
Аркадий Ваксберг:
«На одну из главных ролей была приглашена никому тогда ещё не известная молоденькая и необычайно прелестная Вероника Полонская, дочь одного из известнейших актёров дореволюционного русского кино Витольда Полонского. Лиля очень ей протежировала, как всегда это делала, встречая способных и нуждающихся в поддержке людей…»
Запомним эту «молоденькую и необычайно прелестную» актрису! Через три года и Владимир Маяковский обратит на неё внимание.
Сталин и Моисей
В октябре 1926 года Маяковский вновь отправился в Ленинград и 5 числа выступил там с докладом «Как делать стихи?». Вечерний выпуск ленинградской «Красной газеты» на следующий день сообщил:
«Час своего времени и внимания поэт подарил совершенно зрящному делу: разносу дрянной книжки Шенгели о стихотворчестве. Ну стоит ли ездить по городам Союза, выступать перед всякими аудиториями, чтобы… стрелять из пушек по воробьям? Право, молоть большими жерновами маленьких пауков и тараканов не дело большого поэта».
Как видим, опять лекционная деятельность Маяковского названа стрельбой «из пушек по воробьям».
«Красная газета»:
«Остальное время было поделено между перерывами, записками и стихами. Это большая радость – слушать прекрасное чтение автора, улавливать его интонации, проникаться его образами, сливаться с его ритмом и вдруг понять какую-то большую цельность задуманного и словесно воплощённого куска переживаний поэта… Маяковский-поэт убедителен, как стихия, которую он чувствует и умеет неподражаемо передать».
Тем временем в стране произошло чрезвычайное событие – 23 и 26 октября состоялся ещё один Объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), который вывел из членов политбюро Льва Троцкого, а из кандидатов в члены политбюро – Льва Каменева. Таким образом, все три лидера «Новой оппозиции» перестали быть вождями большевиков.
Откликнулся ли на это судьбоноснейшее для страны событие Маяковский?
Прямых свидетельств на то, что такой отклик существует, нет. Но в октябрьском номере журнала «Крокодил» было помещено стихотворение Маяковского под названием «Три хулигана». Начиналось оно так:
«По улицам, / посредине садов,
меж сияющих клубных тетерей
хулиганов / различных сортов
больше, / чем сортов бактерий.
Из мордоворотной плеяды их
я выбираю троих».
Последние две строки в «Крокодиле» напечатаны не были.
О каких же «хулиганах» писал Маяковский? После приведённого нами вступления в стихотворении говорится:
«По окончании / рабочего дня,
стакан кипячёной зажав в кулачике,
под каждой крышей Союза бубня,
докладывают докладчики.
Каждая тема – / восторг и диво —
вмиг выясняет вопросы бытья…
Иди и гляди – / не жизнь, / а лилия.
Идиллия».
Эти строки явно намекают на политическую ситуацию в стране, когда Троцкий тянул всех в одну сторону, Зиновьев с Каменевым завлекали народ в другую, а сталинское «большинство ЦК» звали страну отправиться по совсем иному пути. Троцкисты заявляли, что только они приведут СССР к процветанию. Зиновьевцы рекламировали свой вариант развития событий. А с ними со всеми категорически на соглашались «цекисты», сторонники генсека Сталина, указывая на третью дорогу. То есть стихотворение Маяковского представляло читателям как бы три типа «докладчиков».
Дальше следовали такие строки:
«А пока / докладчики преют,
народ почему-то / прёт к Левенбрею».
«Левенбрей» – это марка популярного в те годы пива. И Маяковский описывал одного из наиболее характерных представителей народа – простого рабочего парня. У него…
«… один кулак – / четыре кило…
Мат, / а не лекции / соки корней его…
Лозунг дня – / вселенной в ухо! —
всё, что знает башка его дурья!
Бомба / из матерщины и ухарств,
пива, / глупости / и бескультурья».
Этот парень был одним из тех троих, кого имел в виду Маяковский, называя своё стихотворение «Три хулигана».
В комментариях к этому стихотворению в седьмом томе собрания сочинений поэта сказано:
«По-видимому, Маяковский предполагал вывести в последующих стихах ещё два типа хулигана. Замысел этот остался неосуществлённым».
А может быть, «хулиганами» поэт считал тех «докладчиков», которые намеревались повести за собой народ, любивший пиво «Левенбрей»? Трудно сказать. Но в издававшийся тогда пятый том собрания своих сочинений Маяковский внёс этот стих под заголовком «Тип» (так и хочется расшифровать это слово как «Троцкий и прочие»).
Завершающее четверостишие звучало весьма неопределённо, и было совершенно непонятно, к чему призывал поэт, к кому именно он обращался. Ведь последние две строки призывали «докладчиков» (цекистов и оппозиционеров) вести свою пропаганду повеселее:
«Надо помнить, / что наше тело
дышит / не только тем, что скушано, —
надо / рабочей культуры дело
делать так, / чтоб не было скушно».
Иными словами, стихотворение очень и очень странное. Даже сегодня его сходу не растолкуешь. Не пытался ли тут Маяковский передать точку зрения на положение в стране и Осипа Брика, ставшего оппозиционером? Но так как сам поэт в ситуации ещё не совсем разобрался (не понял Брика или не согласился с ним), его стих и получился немного двусмысленным.
1 ноября Владимир Владимирович был уже в Харькове и там в Драматическом театре читал лекцию «Как делать стихи?». Местная газета «Пролетарий» написала:
«Хотя афиша обещала научить писать стихи в пять уроков, никаких рецептов лектор не дал.
– Собственно, моя задача, – съязвил он, – не научить писать стихи в пять уроков, а отучить – в один».
Журнал «Сiлькор Украiни»:
«Маяковский окончил свою лекцию такими словами: "Необходима огромная, нечеловеческая работа над собой, необходимо изучать, исследовать опыт других писателей. Можно было бы всем тем, кто хочет стать писателем, сказать:
– Ты готов вынести все невзгоды этого ремесла, ты готов работать долгие годы, готов заболеть в поисках новой рифмы и поэтического образа? Если готов – тогда просим”».
3 ноября 1926 года на пост председателя ЦКК) ВКП(б) (Центральной Контрольной комиссии) был назначен Георгий Константинович Орджоникидзе. Это назначение неожиданно коснулось и Надежды Аллилуевой, жены Иосифа Сталина. Об этом – Борис Бажанов (он называл Надежду Сергеевну Надей, они были ровесниками):
«Когда Орджоникидзе стал председателем ЦКК, он взял к себе Надю третьим секретарём… Зайдя как-то к Орджоникидзе, я в последний раз встретился с Надей. Мы с ней долго и по-дружески поговорили. Работая у Орджоникидзе, она ожила – здесь атмосфера была приятная, Серго был хороший человек. Он тоже принял участие в разговоре; он был со мною на ты, что меня немного стесняло – он был на двадцать лет старше меня (впрочем, он был на ты со всеми, к кому питал мало-мальскую симпатию). Больше я Надю не видел».
В это время сидевший в Соловках политзаключённый Борис Глубоковский закончил писать книгу «49. Материалы и впечатления». Цифра «49» – это номер статьи Уголовного кодекса о социально-вредных элементах. Книгу напечатал УСЛОН (Управление Соловецкого лагеря особого назначения).
А в московском Доме печати 19 ноября проходил диспут о богеме. Газета «Вечерняя Москва» сообщила читателям:
«Последним из оппонентов говорит Вл. Маяковский. Ему надоела сама тема о богеме… Прежняя богема была иной: в ней люди собирались не для того, чтобы выпить за одним столом, а перебрасываться остроумными талантливыми словами, обсуждать общие интересы, уметь воевать за новое и протестовать. Нынешний богемец это тот, кто со всеми согласен, кто меланхолически пьёт пиво».
Журнал «На литературном посту» (№ 1 за 1927 год) добавил и такие слова поэта:
«У нас же сейчас не богема, а мелкая скука мелких людишек, разгильдяйство, гипертрофия самомнения и потрясающее количество гениев, выросших в 24 часа. На эту "богему" просто плюнуть надо».
Эти слова поразительно точно совпадают с тем, что говорилось в стихотворении «Три хулигана», которое было явно навеяно поэту Осипом Бриком.
Вернувшийся из Парижа Корнелий Зелинский встретился с Маяковским лишь в конце осени:
«Мы увиделись уже в середине или в конце ноября, столкнувшись почти у ворот его дома на Лубянском проезде.
– Послушайте! – пробасил Маяковский. – Вы мне очень нужны. Вы возложили на меня бремя ответственности за вашу жизнь. Когда случилась эта история – я прочитал о ней в газетах в Ростове во время поездки – я тотчас подумал о вас: вот-де выбрал вам спутника для оевропеивания. Впрочем, мы оба с вами можем гордиться таким знакомством».
Вскоре Владимир Владимирович вновь укатил на юг. И 29 ноября прислал из Краснодара письмо Лили Брик:
«Дорогой-дорогой, милый
родной и любимый кисячий детик лис.
Я дико скучаю по тебе и ужасно скучаю по вас всех (по "вам всем"?)».
К словам «кисячий детик лис» Маяковский добавил примечания:
«Так назыв<аемое> солнышко».
К словам «вам всем»:
«Попроси Осю прокорректировать».
С 22 по 29 ноября у Маяковского было девять выступлений, и он написал:
«Езжу как бешеный.
Уже читал: Воронеже, Ростове, Таганроге, опять Ростове, Новочеркасске и опять два раза в Ростове, сейчас сижу Краснодаре, вечером буду уже не читать, а хрипеть – умоляю устроителей, чтоб они меня не возили в Новороссийск, а устроители меня умоляют, чтоб я ехал ещё и в Ставрополь».
По поводу города Ростова, где он пробыл три дня, и где «прорвались и соединились в одно канализационные и водопроводные трубы», Маяковский с грустью написал:
«Я и пил нарзан, и мылся нарзаном, и чистился – ещё и сейчас весь шиплю.
Чаев и супов не трогал целых три дня.
Такова интеллектуальная жизнь.
С духовной и романтической стороной тоже не важно…
Опасно жить, как говорит писательница Эльза Триоле».
А теперь перейдём к любовным увлечениям Лили Брик. Хотя нас они (в отличие от других биографов Маяковского) почти совсем не интересуют, но чувство, которое ожидало её впереди, заслуживает того, чтобы задержать на нём внимание.
Но сначала – небольшая, но очень забавная предыстория о том, как отнёсся к удалению из политбюро Троцкого, Зиновьева и Каменева тогдашний придумщик политических анекдотов Карл Радек.
Борис Бажанов:
«Когда Сталин удалил Троцкого и Зиновьева из Политбюро, Радек при встрече спросил меня: “Товарищ Бажанов, какая разница между Сталиным и Моисеем? Не знаете. Большая: Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин из Политбюро”».
А Яков Блюмкин встречал Новый год в столице Монголии Улан-Баторе, куда его направили представителем ОГПУ в этой стране – ведь вторая экспедиция Николая Рериха тоже закончилась ничем (в столицу Тибета, священный город буддистов Лхасу, путешественников не пустили).
Очень скоро Блюмкин стал Главным инструктором по государственной безопасности Монгольской республики. На новогоднем банкете в ЦК Монгольской народной партии он выпил лишнего и полез целоваться с высоким монгольским начальством, заставляя всех провозглашать тосты за Одессу-маму. Портрету Ленина, что красовался посреди банкетного зала, Блюмкин отдал пионерский салют, но затем его неожиданно стошнило на изображение советского вождя. Однако Главному инструктору по государственной безопасности Монголии всё сошло с рук.
Вот в этот-то момент (когда год 1926-ой подходил к концу) у Лили Брик возникло и начало разгораться новое чувство.
Юбилейный год
1 января 1927 года газета «Известия ЦИК» напечатала стихотворение Маяковского «Наше новогодие»:
«"Новый год!" / Для других это просто:
о стакан / стаканом бряк!
А для нас / новогодие – / подступ
к празднованию / Октября.
Мы / летa / исчисляем снова —
не христовый считаем род.
Мы / не знаем "двадцать седьмого",
мы / десятый приветствуем год…
Всё, что красит / и радует, / всё —
и словa, / и восторг, / и погоду —
всё / к десятому припасём,
к наступающему году».
А Борис Бажанов, покинувший свой невероятно высокий пост в политбюро ЦК ВКП(б), про этот отрезок времени потом написал:
«Забавно, что никто не знает толком, продолжаю ли я быть за сталинским секретариатом или нет, ушёл я или не ушёл, а если ушёл, то вернусь ли (так бывало с другими – например, Товстуха как будто ушёл в Институт Ленина, ан смотришь, снова в сталинском секретариате, и даже прочнее, чем раньше). Но я-то хорошо знаю, что ушёл окончательно; и собираюсь уйти и из этой страны.
Теперь я смотрю на всё глазами внутреннего эмигранта. Подвожу итоги».
А жизнь в стране Советов тем временем продолжалась.
3 января в театре имени Мейерхольда состоялся диспут о только что поставленном спектакле по пьесе Гоголя «Ревизор». На режиссёра дружно обрушились критики, изумлённые тем, что он взялся ставить такое старьё и поставил спектакль, совершенно непонятный пролетарским массам. Маяковский взял Всеволода Эмильевича под защиту, сказав:
«Нужно ли ставить "Ревизора"? Наш ответ – лефовский ответ – конечно, отрицательный. "Ревизора" ставить не надо. Но кто виноват, что его ставят? Разве один Мейерхольд? А Маяковский не виноват, что аванс взял, а пьесу не написал? Я тоже виноват. А Анатолий Васильевич Луначарский не виноват, когда говорит "Назад к Островскому"? Виноват».
А под финал своего выступления Владимир Владимирович и вовсе как бы заслонил режиссёра своей могучей фигурой:
«При первых колебаниях, при первой неудаче, проистекающей, может быть, из огромности задачи, собакам пошлости мы Мейерхольда не отдадим».
9 января «Правда» в отчёте об этом диспуте привела слова наркома Луначарского:
«Когда ругают спектакль за то, что он якобы непонятен массам – это угодничество отсталым слоям. Наша обязанность – поднимать массы…
Вероятно, споры о “Ревизоре” ещё продолжатся. Что же – поспорим».
В том же январе поэт Василий Князев («Красный звонарь», как он сам себя называл) отправил письмо А.М.Горькому и поместил в нём стихотворные строки, в которых сетовал на своё нерадостное существование:
«В 40 лет
В будущее даль – пуста,
Суета сует
И всяческая суета…
Новый свет
Ленина ли, Христа —
Суета сует
И всяческая суета».
В январе вышел и первый номер нового журнала лефовцев, о котором поэт Пётр Незнамов написал:
«“Новый Леф” начал издаваться с января 1927 года и выходил два года подряд».
Безымянная передовая статья (под ней стояла подпись: «Читатель!») была написана Маяковским (главным редактором журнала). В передовице говорилось:
«Мы выпустили первый номер "Нового Лефа".
Зачем выпустили? Что нового? Почему Леф?
Выпустили потому, что положение культуры в области искусства за последние годы дошло до полного болота.
Рыночный спрос становится у многих мерилом ценности явлений культуры».
Последняя фраза и в начале XXI века звучит весьма актуально.
Были в передовой статье и такие слова:
«Леф – журнал – камень, бросаемый в болото быта и искусства, болото, грозящее достигнуть самой довоенной нормы!»
Заканчивалась передовица так:
«"Новый Леф" – продолжение нашей всегдашней борьбы за коммунистическую культуру.
Мы будем бороться и с противниками нашей культуры, и с вульгаризаторами Лефа, изобретателями "классических конструктивизмов" и украшательского производственничества.
Наша постоянная борьба за качество, индустриализм, конструктивизм (т. е. целесообразность и экономию в искусстве) является в настоящее время параллельной основным политическим и хозяйственным лозунгам страны и должна привлечь к нам всех деятелей новой культуры».
Готовясь к вояжу
Как бы желая проверить, правильно ли переориентировались лефовцы, торжественно объявившие в журнале «Новый Леф» о том, что они начинают бросать камни «в болото быта и искусства», Маяковский решил вновь выступить в разных городах Союза.
Павел Лавут:
«Это было в январе 1927 года. Я советовал дождаться навигации, чтоб соединить приятное с полезным. "Сейчас морозные дни. Придётся передвигаться и в бесплацкартных вагонах. Утомительные ночные пересадки…", – говорил я Маяковскому. Но он продолжал настаивать, и меня буквально ошарашил:
– Во-первых, не люблю речных черепах, а во-вторых – это не прогулка, а работа с засученными рукавами».
В самом начале января лефовцы написали заявление в главный партийный орган страны. Документ, подписанный Владимиром Маяковским и Сергеем Третьяковым, был вручён лично Глебу Максимилиановичу Кржижановскому, председателю комиссии по улучшению быта писателей.
«В отдел печати ЦК ВКП(б)
В комиссию по улучшению быта писателей
В Федерацию объединений советских писателей
От литературного объединения ЛЕФ
Заявление
Писатели Лефа настаивают на включении в "Федерацию объединений советских писателей" объединения Леф на равных основаниях с 3 уже вошедшими союзами (ВАПП, Союз писателей и Союз крестьянских писателей) и на предоставлении Лефу 7 мест в совете Федерации».
Поданный в ЦК документ завершал «список работников Лефа» – 38 фамилий, после которых стояло: «и мн.<огие> др.<угие>».
Лили Брик в списке не упомянута. Зато после Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова и Сергея Юткевича (двадцать восьмым работником Лефа) назван и Владимир Силлов.
Вручив Кржижановскому лефовское заявление, лидер лефовцев долго беседовал с большевистским вождём.
11 января нарком Луначарский выдал Маяковскому официальную бумагу, удостоверявшую, что поэт едет в Казань, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Пензу, Ташкент, Баку, Тифлис, Кутаис и Батум «для чтения лекций по вопросам искусства и литературы».
А 12 января «Правда» опубликовала «Злые заметки» Николая Бухарина, в которых громилось творчество Сергея Есенина:
«Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого “национального характера”. Мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще… И всё-таки в целом есенинщина – это отвратительная напудренная и нагло раскрашенная российская матерщина, обильно смоченная пьяными слезами и оттого ещё более гнусная…
… советские устремления… оказались совсем не по плечу Есенину…»
Статью Бухарина Маяковский прочёл и 14 января (читая свою первую лекцию в московском Политехническом музее) высказался и о «советских устремлениях», оказавшихся «не по плечу Есенину». Доклад поэта-лефовца назывался «Даёшь изящную жизнь!». Даже «Комсомольская правда», опубликовавшая на следующий день отчёт об этой лекции, не рискнула употребить слово «даёшь» (с ним будённовцы обычно мчались в атаки) – статья была названа «Долой изящную жизнь (Маяковский за канареек)». В ней говорилось:
«Маяковский дотошным взором обвёл переполненный зал Политехнического музея и сразу же, потрясая своим огромным кулаком, обрушился на "изящную жизнь".
– Мне ненавистно всё то, что осталось от старого, от быта заплывших жиром людей "изящной жизни". "Изящную жизнь" в старые времена поставляла буржуазная культура, её литература, художники, поэты. Старые годы шли под знаком дорогостоящей моды, и всё то, что было дёшево и доступно, считалось дурным тоном, мещанством.
Сам Маяковский неоднократно сворачивал головы "канарейкам", громил кисейные занавески и пыхтящий самоварчик. Но теперь…
– Я за канареек, я утверждаю, что канарейка и кисейные занавески – большие революционные факты. Старые канарейки были съедены в 19-м году, теперь канарейка приобретается не из-за "изящной жизни", она покупается за пение, покупается населением сознательно.
Мы стали лучше жить, показался жирок, и вот снова группки делают "изящную жизнь"…
Это приспосабливаются те, кто привык приглядываться к плечикам, не блестят ли на них эполетики.
Поэты тоже не отстают…
Так стараются выполнить "заказ" старые специалисты. Маяковский против них.
– Пролетариат сам найдёт то, что для него изящно и красиво».
Эти слова Маяковского свидетельствовали о том, что между поэтом-лефовцем и главным его советчиком Осипом Бриком что-то произошло. Ещё не совсем ясное, пока ещё трудноразличимое. Ведь это Осип Максимович убеждал Владимира Владимировича быть сторонником профессионалов-«спецов» и настраивал против «канареек» и «кисейных занавесок». А теперь вдруг поэт-лефовец выступил против «старых специалистов», передавая пролетариям право самим решать, что для них «изящно и красиво». Какая-то кошка явно пробежала между главой Лефа и его главным идеологом.
Из-за чего рассорились давние друзья, сведений не сохранилось. То ли «оппозиционер» Брик слишком резко критиковал советскую власть, которую воспевал в своих стихах Маяковский, то ли соавторы пьесы «Радио-Октябрь» по-разному отнеслись к тем похвалам и к тем критическим замечаниям, которые им довелось услышать. Но Владимир Владимирович неожиданно громогласно объявил о том, что со «старым специалистом» Осипом Максимовичем ему не по пути.
Иными словами, этой лекцией Маяковский как бы начал свою собственную кампанию против тех, кто давал «заказ» на сочинение произведений, направленных против установившегося в стране режима. Очень скоро этих «заказчиков» и исполнителей их «заказов» станут называть «врагами народа».
В этом незаметно стала вырисовываться суть тогдашней советской власти.
Размышлял об этой сути и бывший секретарь политбюро Борис Бажанов:
«Суть власти – насилие. Над кем? По доктрине, прежде всего над каким-то классовым врагом. Над буржуем, капиталистом, помещиком, дворянином, бывшим офицером, инженером, священником, зажиточным крестьянином (кулак), инакомыслящим и не адаптирующимся к новому социальному строю (контрреволюционер, белогвардеец, саботажник, вредитель, социал-предатель, прихлебатель классового врага, союзник империализма и реакции и т. д., и т. д.); а по ликвидации и по исчерпании всех этих категорий можно создавать всё новые и новые: середняк может стать подкулачником, бедняк в деревне – врагом колхозов, следовательно, срывателем и саботажником социалистического строительства, рабочий без социалистического энтузиазма – агентом классового врага. А в партии? Уклонисты, девиационисты, фракционеры, продажные троцкисты, правые оппозиционеры, левые оппозиционеры, предатели, иностранные шпионы, похотливые гады – всё время надо кого-то уничтожать, расстреливать, гноить в тюрьмах, в концлагерях – в этом и есть суть и пафос коммунизма».
Владимир Маяковский над всем этим вряд ли тогда задумывался. 16 января он покинул Москву и поехал в Поволжье.
В тот же день Лили Брик отправилась в очередную зарубежную поездку – на этот раз в Австрию. О её новом романе мы расскажем сразу же после её возвращения домой.
Бенгт Янгфельдт:
«Единственным свидетельством трёхнедельного пребывания в Вене – несколько телеграмм с просьбой к Маяковскому и Осипу перевести деньги. Для этого требовалось разрешение властей, и 3 февраля Маяковский сообщил, что он перевёл 295 долларов в венский Arbeiterbank, а оставшуюся часть пришлёт "наднях"».
Зимний вояж
Приехав в Нижний Новгород, Маяковский, видимо, сразу начал писать стихотворение, которое потом назвал «По городам Союза». Начиналось оно так:
«Россия – всё: / и коммуна, и волки,
и давка столиц, / и пустырная ширь,
стоводная удаль безудержной Волги,
обдорская темь / и сиянье Кашир.
Лёд за пристанью за ближней,
оковала Волга рот,
это красный, / это Нижний,
это зимний Новгород».
В комментариях к восьмому тому 13-томного собрания сочинений поэта даётся пояснение, что под «обдорской ширью»…
«Маяковский имел в виду пустынный Обдорский край в низовьях Оки, на широте Северного полярного круга».
А под «сияньем Кашир»…
«Имеется в виду Каширская электростанция (близ Москвы)».
17 января состоялось первое выступление поэта в Государственном театре Нижнего Новгорода. Доклад назывался «Лицо левой литературы». Афиши перечисляли тех, о ком собирался говорить Маяковский: «Асеев, Кирсанов, Пастернак, Сельвинский, Каменский и др.». Среди стихов, которые будут прочтены, значилось и «Письмо Максиму Горькому».
На следующий день Владимир Владимирович встретился с литературной группой «Молодая гвардия». Входивший в неё Борис Сергеевич Рюриков потом написал:
«Один из наших товарищей читал стихи: "Ты скажи кудрявому поэту, любишь иль не любишь ты его". Маяковский стоял и внимательно слушал. А когда чтение кончилось, он вдруг шагнул к поэту и быстрым движением руки сдёрнул с него кепку. Мы увидели наголо остриженную голову.
– Ну, зачем же вы, – бас Владимира Владимировича звучал укоризненно, – зачем вы пишете о кудрявом поэте? Раньше, до вас, так писали, а вы повторяете…
Кто-то задал ему вопрос:
– Почему, Владимир Владимирович, вы всё пишете о недостатках, о грязи, не пишете о прекрасном, о розах?
– Я не могу не писать о грязи, об отрицательном, потому что в жизни ещё очень много дряни, оставшейся от старого. Я помогаю выметать эту дрянь. Уберём дрянь, расцветут розы, напишу и о них…».
Говоря о «дряни», Маяковский явно имел в виду кампанию, начавшуюся ещё в 1926 году, а в 1927-ом разгоревшуюся с ещё большей яростью. Она была направлена против уехавшего за рубеж и не возвращавшегося на родину А.М.Горького, а также против народного артиста республики Ф.И.Шаляпина, тоже отправившегося за границу и не желавшего оттуда возвращаться.
К травле великих россиян подключился (явно по совету или даже по настоянию друзей-гепеушников) и Маяковский, написавший, как мы помним, стихотворение «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому». Оно было напечатано в январском номере журнала «Новый Леф». Автор некогда знаменитейшей «Песни о Соколе» упрекался в том, что его пребывание за границей слишком затянулось. Но какими резкими словами выражался этот упрёк:
«Алексей Максимыч, / из-за ваших стёкол
виден / Вам / ещё / парящий сокол?
Или / с Вами / начали дружить
по саду / ползущие ужи?»
Пролетарскому писателю предлагалось поскорее вернуться на рабоче-крестьянскую родину. Но опять же – какими словами:
«Говорили / (объясненья ходкие!),
будто / Вы / не едете из-за чахотки.
И Вы / в Европе, / где каждый из граждан
смердит покоем, / жратвой, валютцей!»
С певцом Шаляпиным поэт разделывался уже безо всяких оглядок на тот авторитет, который был у этого артиста. И в стихотворении о Горьком появились слова о великом певце (бесцеремонные и грубые):
«Вернись / теперь / такой артист
назад / на русские рублики —
я первый крикну: / – Обратно катись,
народный артист Республики!»
Здесь уместно вспомнить, как о Шаляпине отзывались другие россияне. Например, Зинаида Гиппиус в «Чёрных тетрадях» писала:
«22 октября 1918 года… Сего дня, входя к Горькому, Ив. Ив. (Манухин) в дверях встретил Шаляпина. Долгий разговор. Шаляпин грубо ругал большевиков, обнимая Ив. Ив-ча и тут же цинично объявляя, что ему – всё равно, лишь бы жратва была. “Получаю 7 тысяч в месяц и всё прожираю”. Милая чёрточка для биографии русской дубины. Незабвенная отвратительность».
Корней Чуковский записал в дневнике:
«5 июля 1919 г. Сегодня был у Шаляпина. Шаляпин удручён:
– Цены растут – я трачу 5–6 тысяч в день. Чем я дальше буду жить? Продавать вещи? Но ведь мне за них ничего не дадут. Да и покупателей нету. И какой ужас: видеть своих детей, умирающих с голоду.
И он по-актёрски разыграл передо мной эту сцену».
И вновь вернёмся в год 1927-ой.
В Казани, куда после Нижнего Новгорода приехал Маяковский, он выступал в Оперном театре. Газета «Красная Татария» обрисовала внешний облик поэта:
«Такой же большой и мощный, как и его образы. Над переносицей – вертикальная морщина. Тяжелый, слегка выдающийся подбородок. Фигура волжского грузчика. Голос – трибуна. Хохлацкий юмор почти без улыбки. Одет в обыкновенный совработничий пиджак, лежащий на нём мешком. На эстраде чувствует себя как дома. К аудитории относится дружески-покровительственно».
Казанская публика встретила Маяковского восторженно.
Павел Лавут:
«Казанский триумф Владимир Владимирович объяснял главным образом тем, что Казань – старинный университетский город и столица республики.
– Обязательно ещё раз сюда приеду! Столпотворение вавилонское! Только Шаляпин может сравниться со мной (Шаляпин был на устах, быть может, ещё и потому, что Казань – родина гениального артиста)».
Однако в городе, где гордились Шаляпиным и уважали Горького, Маяковский свои «антишаляпинские» и «антигорьковские» четверостишия прочесть не рискнул. Видимо, побаивался резко отрицательной реакции зрительного зала. Но, видимо, именно в Казани было сочинено последнее четверостишие к стихотворению «По городам Союза»:
«Вчерашний день / убог и низмен,
старья / премного осталось,
но сердце класса / горит в коммунизме,
и класса грудь / не разбить о старость».
Противодействия выступлениям
Не всё в том зимнем турне шло, как по маслу. Во-первых, Маяковский стал вдруг неважно себя чувствовать. Во-вторых, начались придирки местных партийных органов.
24 января в Народном доме имени Луначарского города Пензы должен был читаться доклад на тему «Идём путешествовать!». Местная газета «Трудовая коммуна» напомнила читателям:
«Вокруг имени Маяковского до сих пор не остыли горячие споры и литературные пересуды».
Об этом, видимо, были прекрасно осведомлены и местные власти, и Павел Лавут особо отметил:
«… в Пензе заведующий Политпросветом отказался разрешить вечер Маяковского на том основании, что ему якобы неведомо его имя. (Не скрывалось ли за этим пренебрежение к поэту?) По моей просьбе вмешался горком, и разрешение было получено. Вскоре политпросветчика освободили от работы».
Любопытный инцидент! Сразу вспоминается вояж по городам России, который совершали в царское время молодые футуристы Бурлюк, Каменский и Маяковский. Тогда выступления стихотворцев тоже иногда запрещали. Теперь вновь стали возникать запреты.
Возникает вопрос, а какой документ предъявлял пензенским властителям администратор Павел Лавут? Ведь если у него в руках была какая-то обычная «бумажка» (пусть даже с подписями и печатями), на неё вряд ли обратили бы внимание в местном горкоме?
Аналогичная ситуация возникла и в следующем городе – Самаре, где 26 января было намечено выступление в местном партийном клубе с тем же докладом о «левой литературе». Павел Лавут писал:
«Политсовет всячески пытался затормозить выступления. Он требовал представить тексты стихов и подробно изложить содержание докладов (мудрый товарищ, что и говорить). Мне удалось убедить не тревожить больного. Потом, как и в Пензе, всё уладилось».
Лавут наверняка предъявил «бумагу», которая сразу «всё уладила». Что это был за документ? Задумаемся над этим.
Итак, выступление поэта-лефовца состоялось. Газета «Трудовая коммуна» дала такой комментарий:
«Зал губкома переполнен. На эстраде – громадный Маяковский. Голосищем своим, рождённым, чтобы перекликаться с громами, он бросает в зал слова вступления доклада. Каждое слово, как громыхающий поезд, наезжает на толпу. Маяковский говорит о "лице левой литературы"…
На столе – груда записок. Маяковский кладёт на них свою громадную руку и говорит, что наверняка большой процент вопросов – об его отношении к Есенину. Есенин, по мнению Маяковского, не был идеологом хулиганства, как теперь пытаются его изобразить некоторые критики. Он перепевал старую лирику… Пьяный угар, кликушество, распутиновщина под маской кудрявого Леля – вот что вредно в жизни Есенина. Он шёл по линии наименьшего сопротивления».
Павел Лавут добавляет, что Маяковский после такого заявления прочёл своё стихотворение «Сергею Есенину», сказав перед чтением:
«—После смерти Есенина появилась целая армия самоубийц. Прослушав стихотворение, я надеюсь, вы не пойдёте по их стопам».
29 января с тем же докладом («Лицо левой литературы») Маяковский выступил в зале Саратовского Народного дворца. Местная газета «Известия» описала поэта так:
«На эстраде – большая монументальная фигура. Почти на голову выше высокого человека. Голос – способный заглушить рёв шторма, покрыть сотни других голосов – дружеских и враждебных. Большие размашистые руки. Такой же размашистый, смелый жест, увеличивающий силу и выразительность речи.
Маяковский по натуре – боец, а боец должен быть и смелым, и дерзким и беспощадным в борьбе. Отсюда – "все его качества". Портрет Маяковского надо рисовать не "киселём и молоком" (выражение друга его Бурлюка), а лепить из цемента, замешанного на купоросе. Маяковский разрушает, разъедает то, что ему ненавистно, и одновременно строит – правильнее: хочет строить новую жизнь и новую "левую" литературу».
В своём докладе поэт заговорил о главной проблеме советской литературы той поры:
«Нашей литературе угрожает опасность: её захлёстывает безграмотность!»
На следующий день доклад поэта призывал уже совсем к другому: «Идём путешествовать!» Эта тема, казалось бы, никакого отношения к стихотворчеству не имела. Но разговор вновь перекинулся на то, понятны ли пролетариям стихи Маяковского, нужно ли рабочему классу вообще его творчество.
Те же саратовские «Известия» отметили:
«Обмен мнениями минутами подымался до предельных градусов полемического термометра… Снова разгорелся продолжительный спор, так и не получивший, конечно, разрешения…»
Этот ли темпераментно бурный диспут стал причиной, но, после того как доклад был прочитан, сам Маяковский путешествовать уже не мог – у него поднялась температура. Произошло, по словам Лавута, «вынужденное заточение в номере». В качестве пояснения Павел Ильич привёл строчки самого Маяковского, сочинённые чуть позднее (они взяты из стихотворения «Фабриканты оптимистов»):
«Не то грипп, / не то инфлуэнца.
Температура / ниже рыб.
Ноги тянет. / Руки ленятся.
Лежу. / Единственное видеть мог:
напротив – окошко / в складке холстика —
"Фотография Теремок,
Т.Мальков и М.Толстиков"».
А заканчивалось стихотворение так:
«Если ты загрустил, / не ходи далеко —
снимись по пояс / и карточку выставь.
Семейному уважение, / холостому альков.
Салют вам, Толстиков и Мальков —
фабриканты оптимистов».
2 февраля 1927 года Владимир Владимирович вернулся в Москву.
«Есенинщина» и «маяковщина»
Выздоровев, Маяковский продолжил прерванное турне, начав готовить новые вояжи.
Вскоре состоялось заседание членов Совета Федерации писателей, на котором группу «Новый Леф» приняли в состав этого объединения, а Маяковский вошёл в Совет и в Исполнительное бюро Федерации.
А 4 февраля 1927 года Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) направило в Моссовет письмо в связи с планировавшейся поездкой поэта-лефовца за рубеж:
«В.В.Маяковский делегируется обществом культурной связи с заграницей в Варшаву, Прагу и Париж для прочтения докладов. Левые писательские круги как Польши, так и Чехословакии приветствуют приезд товарища Маяковского и придают ему большое значение».
Раз речь зашла о новой зарубежной поездке Маяковского, по логике вещей, следует искать и очередную гепеушную акцию, которая должна была напомнить зарубежной аудитории о том, что в стране Советов поэта-лефовца нещадно критикуют, а также преследуют за написанные им строки.
Следы такой акции обнаруживаются сразу – заглянем в Коммунистическую академию, в которой 13 февраля общественность Москвы проводила диспут «Упадочное настроение среди молодёжи (есенинщина)». Слово «есенинщина», как считают, ввёл в обращение журналист Лев Сосновский (тот самый, который, напомним, входил в советскую партийную элиту).
Диспут начался докладом наркома Луначарского. В прениях приняли участие видные партийные и общественные деятели: Е.А.Преображенский, Л.С.Сосновский, В.П.Полонский, К.Б.Радек, В.В.Ермилов и другие. Взял слово и Маяковский:
«– Товарищи!.. Я начну разговор с того именно, на чём кончили товарищи Сосновский и Полонский – с вопроса о литературе: как это упадочничество в литературе отражается, виноват ли в этом Есенин, или какая-то легендарная есенинщина, которая родилась после смерти Сергея Есенина и пошла гулять по Советскому Союзу…
Прежде всего и раньше всего – про ценность Есенина… Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? (Аплодисменты.) И если ты даже скапутился на этом деле, то это гораздо сильнее, почётнее, чем часто повторять: "Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная". (Аплодисменты.)»
Этими словами Маяковский явно стремился обесценить творчество почившего поэта. Но главный свой удар поэт-лефовец наносил не по «есенинщине», а по литературным критикам: Льву Сосновскому, Вячеславу Полонскому, Александру Воронскому и Максиму Ольшевцу, сказав, что…
«… эти ольшевцы делают ежедневную литпогоду…
Я очень советую, товарищи, следующий доклад поставить на тему о редакторской критике, потому что Есенины сами по себе не так страшны, а страшно то, что делают из них товарищи Полонские, товарищи Воронские и товарищи Сосновские…
То, что сейчас делают из Сергея Есенина, это нами самими выдуманное безобразие».
Литераторы, упомянутые Маяковским, конечно же, крепко обиделись. А Вячеслав Павлович Полонский (главный редактор журналов «Красная нива», «Новый мир» и «Печать и революция») через несколько дней (18 февраля) записал в дневнике:
«Вчера очередное (3-е) собрание сотрудников “Нового мира”. Чужие люди. Недоброжелатели. Качалов читал рассказ А.Дымова “Иностранцы”…
Качалов – великолепен. Маяковский – груб. Читал свои стихи, не принятые Степановым – без успеха. Зазывал “высказаться” – выступил Раковский и показал, что его стих (“Послание молодёжи”) реакционен, идеалистичен…
Ив. Ив. Скворцов рассказывал мне, как Маяковский громил его за фельетон Ольшевца о ЛЕФе:
– ЦК партии поручили мне это дело, а вы ругаете.
Скворцов:
– Я также – член ЦК, а не знаю, когда вам ЦК это поручил.
Маяковский ретировался.
Груб, нахален, невыносим».
Поясним приведённую нами дневниковую запись. Она весьма любопытная – ведь, начиная с середины 30-х годов, отрицательных высказываний о Маяковском не печатали. Не случайно «Дневники» Вячеслава Полонского опубликованы только в XXI веке.
Что касается рассказа «Иностранцы» А.Дымова, то, скорее всего, имеется в виду писатель Осип Дымов (Осип Исидорович Перельман), который был популярен в России в начале ХХ века.
Степанов, «не принявший» стихи Маяковского, это Иван Иванович Скворцов-Степанов, бывший ответственный редактор газеты «Известия». Видимо, именно тогда, когда он не пропустил в печать стихи Маяковского, поэт и сочинил четверостишие:
«Я мало верю в признанье отцов,
чей волос белее ваты.
Хороший дядя Степанов-Скворцов,
но вкус у него староватый».
Христиан Георгиевич Раковский – это тогдашний полпред СССР во Франции. «Послание молодёжи», не пропущенное в газету «Известия», – это, скорее всего, стихотворение «Нашему юношеству», напечатанное в февральском номере журнала «Новый Леф». Именно в этом стихотворении были строки, которые, пожалуй, чаще всего цитировали в советские времена:
«Да будь я / и негром преклонных годов,
и то, / без унынья и лени,
я русский бы выучил / только за то,
что им / разговаривал Ленин».
В другом четверостишии этого стихотворения поэт говорил о своём происхождении:
«Три / разных истока / во мне / речевых.
Я / не из кацапов-разинь.
Я – / дедом казак, / другим – / сечевик,
а по рожденью / грузин».
В стихотворении рассказывается о поездке Маяковского из Москвы в Тифлис. По ходу поэт описывает «земли моей племена» и сразу выделяет из них тех, кто живёт в столице Грузии:
«Тифлисцев / узнаешь и метров за сто:
гуляки часами жаркими,
в моднейших шляпах, / в ботинках носастых,
этакими парижаками».
Затем поэт восхищается Парижем («я Париж люблю сверх мер») и наставляет молодых людей словами, которые, надо полагать, и насторожили Раковского:
«Смотрите на жизнь / без очков и шор,
глазами жадными цапайте
всё то, / что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе».
И хотя юношество зазывалось абсолютно советским (пролетарско-большевистским) призывом («Товарищи юноши, / взгляд – на Москву, на русский вострите уши!»), завершался стих строками, которые, видимо, особенно возмутили советского полпреда:
«Москва / для нас / не державный аркан,
ведущий землю за нами,
Москва / не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!..
Три / разных капли / в себе совмещав,
беру я / право вот это —
покрыть / всевозможных совмещан.
И ваших / и русопетов».
Получалось, что Маяковский, взяв на себя «право крыть» омещанившихся сограждан, обращался и к тем, кто проживал на Западе (к «вашим»), и к тем, кто жил в стране Советов (к русакам-«русопетам»).
Не трудно себе представить, как хлёстко отчитал поэта полпред Христиан Раковский, назвав его стихотворение реакционным и идеалистичным.
И сразу возникает предположение: а не придумана ли беспартийность Маяковского в ОГПУ? Лубянке гораздо больше подходил поэт, который не был членом партии, и которого время от времени пощипывали критики в центральных газетах. Гепеушники считали, что так ему будет легче странствовать по свету. И внушали Маяковскому, что именно такой его образ согласован с ЦК. А время от времени из ОГПУ шли рекомендации в редакции газет и журналов, что пора, мол, выплеснуть на стихотворца-лефовца очередной ушат критики.
Задумаемся над этим предположением.
«Поп» или «мастер»?
В тот момент широко распространялась книга-памфлет «Маяковский во весь рост», написанная поэтом Георгием Аркадьевичем Шенгели, председателем Всероссийского союза поэтов. В этой книге творчество поэта-лефовца оценивалось резко отрицательно. А поскольку она являлась текстом доклада Шенгели, и с подобными докладами тот продолжал выступать, Маяковский написал стихотворный ответ под названием «Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели» и впервые прочёл его в Харькове 22 февраля 1927 года. Стих начинается так:
«Я тру / ежедневно / изморщенный лоб
в раздумье / о нашей касте,
и я не знаю: / поэт – / поп,
поп или мастер.
Вокруг меня / толпа малышей, —
едва вкусившие славы,
и волос / уже / отрастили до ушей
и голос имеют гнусавый.
И, образ подняв, / выходят когда
на толстожурнальный амвон,
я, / каюсь, / во храме / рвусь на скандал,
и крикнуть хочется: / – Вон!»
И Маяковский начинает сравнивать поэтическую молодёжь и себя:
«Я зубы в этом деле сжевал,
я знаю, кому они копия.
В их песнях / поповская служба жива,
они – / зарифмованный опиум…
А я / раскрываю / моё ремесло
как радость, / мастером кованную».
Не будем судить, насколько убедительны эти доводы. Но Маяковский сразу же вслед за ними объявлял приговор суда, вынесенный якобы от имени председателя ЦИК («от самого Калинина») и главы правительства («от самого товарища Рыкова»):
«Судьёй, / расцветшим розой в саду,
объявлено / тоном парадным:
– Маяковского / по суду
считать / безусловно оправданным!»
О том, как встретили эту стихотворную «Речь» харьковчане, свидетельств отыскать не удалось. Но следующее стихотворение, названное «За что боролись?», даёт основания предположить, что Владимиру Владимировичу пришлось поругаться – ведь там написано:
«И говорю я, / как поэт,
и ругаюсь, / как Маяковский».
23 февраля 1927 года министр иностранных дел Великобритании Джозеф Остин Чемберлен направил ноту советскому правительству, в которой говорилось о продолжавшемся вмешательстве большевиков во внутренние дела Англии. Министр предупреждал, что если подобная политика будет продолжена, это повлечёт за собой «аннулирование торгового соглашения, условия которого так явно нарушались, и даже разрыв обычных дипломатических отношений».
Резидент ОГПУ в Персии Георгий Сергеевич Агабеков потом написал:
«Политбюро ЦК испугалось ноты Чемберлена. Была дана директива прекратить активную работу до изменения ситуации. Вместе с тем большевики не преминули использовать эту ноту внутри СССР – началась подписка на эскадрилью “Наш ответ Чемберлену”».
А Маяковский тут же написал стихотворение «Посмотрим сами, покажем им», в котором были такие строки:
«Не думай, / чтоб займами / нас одарили.
Храни / республику / на свои гроши.
В ответ Чемберленам / взлетай, эскадрилья,
винтами / вражье небо кроши!»
Жизнь поэта
Тем временем в продажу поступил второй номер журнала «Новый Леф», в котором, кроме стихотворения «Нашему юношеству», были напечатаны и другие произведения Маяковского: четвёртая часть его киносценария «Как поживаете?» и статья «Караул!». О чём они? Заглянем в одиннадцатый том собрания сочинений поэта, где помещён этот сценарий.
Он состоит из пролога и пяти частей (автор назвал их «кинодеталями»). Пролог начинается так:
«Улица. Идёт обыкновенный человек – Маяковский».
Навстречу ему шагает другой «обыкновенный человек» – «Второй Маяковский». Они встречаются, пожимают друг другу руки и, улыбаясь, приподнимают шляпы. Изо рта одного Маяковского «выпрыгивает» буква «К» (фильмы тогда были ещё немые). «Сейчас же из второго немедленно возникают слова: "Как поживаете? "»
На этом пролог завершается. Начинается первая часть:
«Дверь квартиры с дощечкой: "Брик. Маяковский"…
Кровать. В кровати Маяковский».
Он спит. Просыпается. Посылает кухарку за газетой. У газетного киоска…
«… два комсомольца. Берут газету. Разводят руками».
И возникал титр:
«О п я т ь б е з с т и х о в. С у х а я г а з е т а».
Маяковский начинает читать принесённую ему газету, и на него обрушивается поток информации. Среди неё – такая:
«Из тёмного угла газеты выходит фигура девушки, в отчаянии поднимает руку с револьвером, револьвер – к виску, трогает курок…
Маяковский… старается схватить и отвести руку с револьвером, но поздно – девушка падает на пол…
Маяковский… сжимает газету, брезгливо отодвигает чай и откидывается на стуле».
Но газета вновь обрушивает на него массу информации. Становится понятно, что пора писать стихи.
Маяковскому начинают мерещиться деньги (пачки червонцев), которые можно получить за написанные строки:
«Между стихами и червонцами появляются два пера, переходящие в белый знак равенства».
Но редактор газеты, которому Маяковский (уже во второй части фильма) приносит написанное, стихов не любит. Поэтому поэту выписывается счёт на «10 рублей авансом» (всего один червонец). Однако в кассе нет кассира, и Маяковский даже этих денег получить не может.
В третьей части Маяковский, не получивший достойного гонорара, пьёт чай с чёрствым засохшим хлебом, который…
«… не угрызть, смотрит на кусок недовольно, морщится и с отвращением кидает на пол».
Но газета тут же напоминает поэту о недавнем голоде и о демонстрациях с плакатами «Хлеб и мир». Маяковский поднимает хлеб с пола, сдувает с него пыль и кладёт в «подавляющую, богатейшую вазу».
В четвёртой части (без всякой связи с частями предыдущими) возникает дом, в котором справляют свадьбу. Внезапно (но совершенно непонятно, почему):
«В комнате переворачивают свечу, свеча поджигает портьеру, за портьерой занимается комната…
Горит дом.
Выезжает пожарная команда…
Люди окружают дом и ходят вокруг толпами».
В толпе – скучающая девушка и скучающий Маяковский. Поэт вступает с ней в разговор. «Затем берёт под руку и идут вместе». Между ними возникает взаимопритяжение, переходящее в любовь. Но после первого же свидания поэт и девушка «расходятся в противоположные стороны».
В пятой части в квартиру Маяковского приходят непрошенные гости. Он поит их чаем и под благовидным предлогом выпроваживает. Затем хватает такси и мчится на выступление. Читает с эстрады стихи и отвечает на записки. «Усталый Маяковский вваливается в комнату». Ложится в кровать. И ему снится:
«Человек диктует в микрофон.
Аудитория и люди, слушающие громкоговорители.
По гусеничкам и проволочкам тянутся записки…
Темнеет…
Звёзды.
Маяковский спит…
Из-за моря поднимается солнце».
Вот и весь сценарий. Не будем давать ему оценку. Скажем лишь, что за восемьдесят с лишним лет, прошедших со дня его написания, желающих снять по нему фильм не нашлось. Но если такая кинокартина была бы всё-таки снята, зрителей вряд ли заинтересовало то, «как поживает» поэт Маяковский. У тогдашних советских людей своих проблем было невпроворот, и сочувствовать стихотворцу, вирши которого перестали печатать, и который из-за этого зарабатывает совсем не столько, сколько ему хотелось, публика не стала бы.
Но в статье «Караул» Маяковский убеждённо заявлял, что его сценарий написан по передовым зарубежным образцам, так как он…
«… использует специальные, из самого киноискусства вытекающие, незаменимые ничем средства выразительности…
Я хотел, чтобы этот сценарий ставило Совкино, ставила Москва ("национальная гордость великоросса", желание корректировать работу во всех её течениях).
Прежде чем прочесть сценарий, я проверил его у специалистов – "можно ли поставить?" Один из наших лучших режиссёров и знаток техники кино, Л.В.Кулешов, подсчитал и ответил:
– И можно, и нужно, и стоит недорого…
ШКЛОВСКИЙ. – Тысячи сценариев прочёл, а такого не видел. Воздухом потянуло. Форточку открыли».
Начальник Иностранного отдела ГПУ Меер Абрамович Трилиссер
Но когда Маяковский прочёл свой сценарий членам правления Совкино, ему сказали:
«– Сценарий непонятен массам!
– Никогда ещё такой чепухи не слышал!..
– Ориентируйтесь на "Закройщика из Торжка". Мы должны самоокупаться».
Одним словом, сценарий не приняли. И Маяковский опубликовал отрывок из него в «Новом Лефе», сопроводив эту публикацию статьёй под названием «Караул!», в которой рассказал подробности своего фиаско. Статья завершалась так:
«Одно утешение работникам кино:
"Правления уходят – искусство остаётся"».
А вот Борис Бажанов не имел никаких претензий ни к «работникам кино», ни и к партийным вождям, которые правили огромной страной. Он написал:
«Почти со всеми членами партийной верхушки у меня превосходные личные отношения. Даже сталинских сознательных бюрократов – Молотова, Кагановича, Куйбышева – не могу ни в чём упрекнуть, они всегда были очень милы.
А в то же время разве мягкий, приятный и культурный Сокольников, когда командовал армией, не провёл массовых расстрелов на юге России во время гражданской войны? А Орджоникидзе на Кавказе?
Страшное дело – волчья доктрина и вера в неё. Только когда хорошо разберёшься во всём этом и хорошо знаешь всех этих людей, видишь, во что неминуемо превращает людей доктрина, проповедующая насилие, революцию и уничтожение классовых врагов».
А вот как описал своего начальника Меера Трилиссера, главу Иностранного отдела (ИНО ОГПУ), один из его подчинённых Георгий Сергеевич Агабеков:
«Я… смотрел на своего шефа. Вот этот маленький тщедушный человек обличён властью председателя ОГПУ. Он может приказать арестовать и расстрелять любого из нас, сотрудников. Он организовал разведку большевиков во всём мире и крепко держит в руках все нити этой организации. Вот он подписал сейчас какую-то телеграмму. Может быть, это приказ кому-нибудь из резидентов “ликвидировать” кого-нибудь или это распоряжение раскинуть сеть шпионажа в новой стране. По его телеграмме где-то далеко за границей резидент ГПУ начинает бегать, подкупать людей, красть документы…
По его манере аккуратно перелистывать бумаги или осторожно доносить пепел папиросы до пепельницы, было видно, что Трилиссер по натуре очень осторожен и не сделает ни одного необдуманного шага. И невольно я проникался уважением и даже любовью к этому человеку, имевшему власть над сотнями, тысячами жизней и обращавшемуся нежно с данной ему властью и жизнями. Трилиссер был редкий тип среди вождей ГПУ, состоящих в большинстве из садистов, пьяниц и прожжённых авантюристов и убийц, как Ягода, Дерибас, Артузов и многие другие. Вот почему весь иностранный отдел любил его и называл “Стариком” и “Батькой”».
А вот какое мнение о Меере Трилиссере (который, кстати, был и начальником Владимира Маяковского) сложилось у Бориса Бажанова:
«Трилиссер был фанатичный коммунист, подбирал своих резидентов тоже из фанатичных коммунистов. Это были опасные кадры, не останавливавшиеся ни перед чем. Такие дела, как взрыв собора в Софии… были их обычной практикой».
Глава третья Снова зарубежье
Критик Полонский
В феврале 1927 года нелегальный резидент ИНО ОГПУ Яков Исаакович Серебрянский был отозван из Бельгии. Вместе с женой Полиной Натановной он вернулся в Москву. Здесь его наградили личным боевым оружием, приняли в партию и стали готовить к новой работе – на этот раз во Франции.
А Владимир Маяковский (вместе с Николаем Асеевым) выехал в Тулу, Курск, Харьков и Киев. Он снова делал доклады: «Лицо левой литературы», «Идём путешествовать!», «Даёшь изящную жизнь!». И читал стихи.
В Киеве поэта догнал отклик на его выступление по поводу «есенинщины». Павел Лавут потом вспоминал, что однажды утром он пошёл в гостиничный киоск за газетами:
«Я принёс свежий номер "Известий". Развернули. Маяковский вскочил:
– Как могли напечатать такую дрянь?
Вспылил и Асеев.
Подвал за подписью Полонского назывался "Леф или блеф?".
Оба читали, перечитывали, снова возвращались к отдельным местам. Отшвыривали газету и вновь хватались за неё, в пылу раздражения намечая план разгрома автора…
В Харькове получили продолжение этой статьи – в "Известиях" от 27 февраля».
В тот же день (во время выступления в харьковской библиотеке имени Короленко) Маяковский получил из зала записку. О ней – Павел Лавут:
«– Какого вы мнения о Полонском?
Владимир Владимирович наставительно:
– Он и раньше писал ерунду, а теперь пишет гадости. У него куриные мозги».
Это звучало очень оскорбительно. Тем более, если учесть, что Вячеслав Полонский был крепко задет Маяковским на диспуте о «есенинщине» и теперь давал обидчику бой, публикуя рецензии на только что вышедший номер журнала «Новый Леф». В статьях «Заметки журналиста. Леф или блеф?», напечатанных в двух номерах «Известий» (25 и 27 февраля), Полонский, в частности, писал:
«Перебрасываю страницы: статья "Караул" Владимира Владимировича Маяковского. Почему кричит "караул" наш знаменитый поэт? Оказывается, написал он сценарий, про который сам Виктор Шкловский сказал: "Тысячи сценариев прочёл, а такого не видел. Воздухом подуло. Форточку открыли".
Но правление Совкино сценарий отвергло. Об этом вот происшествии и кричит "караул" в редактируемом им журнале Владимир Владимирович Маяковский…
По отрывку трудно судить о достоинствах целого. Но если "целое" походит на опубликованную часть, – я за Совкино! Пусть кричит "караул" один Маяковский. Времени у него много, делать ему, очевидно, нечего. Заставлять же кричать "караул" многотысячную массу кинозрителей нет смысла».
Ещё в статье Полонского наносился удар по программному стихотворению Маяковского «Письмо Горькому» (оно было названо «статьёй, написанной в стихах»):
«В статье, написанной в стихах, Маяковский договаривает то, чего не договорила передовица. В нашем искусстве и реализма всамделишного нет. Настоящие "реалисты" – это они, лефы, а все прочие – "блюдо", "рубле" – и тому подобные "лизы"…
И дальше рубленой прозой сухо рассказывается о том, что они, лефы, без истерики, деловито строят завтрашний мир. Скажите, пожалуйста! А мы этого-то и не заметили!»
И Полонский делал вывод:
«Мы говорим о Маяковском. Его творчество отвергалось буржуазией… Но не признали поэзию Маяковского также многие коммунисты».
В своём дневнике Вячеслав Полонский написал:
«Моя статья “Леф или блеф” – шумит (странно: я не думал, что они <лефовцы> так оторваны, – никакого сочувствия). Звонило несколько человек: “жали руку”… Но лефы готовят гром. Посмотрим».
28 февраля другой журналист, Максим Осипович Ольшевец (главный редактор одесской газеты «Известия»), опубликовал в московских «Известиях» статью на ту же тему – «Почему Леф?». В ней лефовцы обвинялись в формализме, который пропагандировал Виктор Шкловский и его соратники по ОПОЯЗу (Обществу изучения поэтического языка). Их формализм приравнивался к антимарксизму:
«… лефовцы находятся в прочном окружении формальной школы Шкловского, расположенной на противоположном полюсе от марксистского понимания культуры в искусстве».
Вернувшись в Москву, Маяковский срочно созвал совещание сотрудников «Нового Лефа».
Лефовцы о критиках
Собрание состоялось 5 марта 1927 года. Председательствовал Маяковский. Приведём отрывки из сохранившейся стенограммы:
«Маяковский. – Товарищи!.. Вы читали в “Известиях” статьи Ольшевца-Полонского о “Лефе”. Сам факт появления этих статей удовлетворителен. Главное, что угрожало нам, это сознательное замалчивание “Лефа”. Не выдержали – прорвало.
Мы били, но не думали, что так больно. Крик большой – три статьи длинною в целый “Леф”. А если принять в соображение тираж “Известий”, то это больше веса годовой продукции лефов…
Полонскому ненавистна всякая художественная группировка. Отсюда слова: “порознь вы хороши, а вместе не годитесь”. Отсюда испытанные навыки борьбы: обвинения в комплоте, попытки перекупить, сманить отдельные “имена”, временно соблазнить сверхтарифной оплатой, подкупить авансами – и в результате отнивелировать всех под свой средненький вкус…
Полонский уже толкует о каком-то комплоте. Тут он, действительно, попал в комплот, как муха в компот».
Напомним, что слово «комплот» толковый словарь Ушакова объясняет как «преступный заговор, союз против кого-нибудь» (от французского «complot»), и вернёмся к стенограмме:
«Маяковский. – Нельзя же называть комплотом оркестр, готовящийся к общесоветскому выступлению. А то получается: “больше одного не скопляться и осади на плитуар «Нового мира»”…
Полонский не видит иных целей делания литературных произведений, кроме как зашибания рубля. Так, говоря о моём стихе, называя его рубленой прозой, Полонский врёт, утверждая, что рубление делается ради получения двух построчных рублей.
Вы все знаете, что единственная редакция на территории Советского Союза, в которой платят два рубля за строчку, – это “Новый мир”. В “Лефе” всем, и мне в том числе, платят 27 к<опеек> за строчку. Причём вы все отлично знаете, что весь свой гонорар мне приходится отдавать “Лефу” на неоплачиваемые Госиздатом канцелярские расходы. Это мелочь, но об этом надо орать, чтобы перекрыть инсинуаторов, видящих в “Лефе” устройство чьих-то материальных дел…
Но неприятнейшей для “Лефа” частью являются заключительные слова, где Полонский выхваливает “своих” сотрудников – Асеева, Маяковского, Пастернака, Кушнера и т. д., – стараясь отбить их для себя от “Лефа”…
Полонский обвиняет “Леф” в том, что “Леф” “узурпирует свои лозунги у коммунистической партии”. Чудовищна сама мысль о введении права собственности на лозунги и превращение отдельных отрядов советской культуры в Добчинских и Бобчинских, дерущихся из-за того, кто первый сказал “э!”
Такая пошлость могла прийти в голову только человеку, не переварившего ещё богемского старья, где вопрос – “кто первый сказал” – был основным. Вот почему надо говорить о статьях Полонского-Ольшевца.
Голос с места. – Говорите одним словом – Пошлевца!»
После вступительного слова Маяковского началось обсуждение. Выступили самые активные лефовцы. Что же именно не понравилось им в статьях, критиковавших «Леф»?
«Третьяков. – Полонский один из крупнейших оптовиков строк и имён. Он хочет иметь дело с разобщёнными поставщиками товара (писателями) и торговать желает товаром стандартным и обезличенным. В номере 2-м “Нового Лефа” в статье “Бьём тревогу!” я писал, что лефовца согласны брать “как спеца, но не как лефовца”, т. е. как человека с некоей принципиальной линией. Статья Полонского это подтвердила, расхвалив лефов в розницу и разругав оптом…
Шкловский. – Неправильно начинать критическую статью – “я развернул книжку”, или – “я заинтересовался”, “я перелистал”, “я заглянул”… Всё крайне беспомощно, так как начать читать книжку, не развернув её, невозможно…
Я не считаю вещь напечатанную в “Известиях” с подписью Вяча Полонского – заметками журналиста. Статья неумелая, непрофессиональная. Это не произведение журналиста, а – администратора».
Слова попросил и Н.Чужак (Николай Фёдорович Насимович), с которым лефовцы неоднократно спорили и даже конфликтовали. Он сказал:
«Чужак. – Полонский больше всего боится “комплота” “Лефа”, но он вовсе не против отдельных лефовцев. Владимир Владимирович, Николай Николаевич – всё это такие талантливые люди, а главное, их так удобно, распыляя по унылым “Мирам Божьим”, – расставлять как пешки…
Если каждого в отдельности вас можно ставить в угол, школить, осерять и обращать в образ подобия мещанина, то ведь “комплот”, – простите за начатки политграмоты! – это ведь “сметь своё суждение иметь”!»
Поскольку в статье Полонского критиковались и напечатанные в журнале «Новый Леф» письма (из Парижа) фотохудожника-лефовца Александра Родченко, их автор тоже попросил слова:
«Родченко. – Насчёт того, что я увидел в Париже рабочих, которые пляшут и играют в футбол, Полонский спрашивает: “Какие это «рабочие»?” Да обыкновенные. Вроде наших. Только не вроде тех, которые в “Красной ниве” преподносятся руками Юонов, Лансере и Кардовских, – с голыми торсами, в одной руке – молот, а в другой – серп. Таких “рабочих” в действительности нет. Не только в Париже, но и у нас…
Асеев. – Одним из тягчайших обвинений, выдвигаемых Полонским против “Лефа”, является то, будто бы “Леф” недоброжелательно относится к поэтическому молодняку, не желая уступать ему завоёванных позиций…
Не наша вина, что свои поэтические симпатии мы не умеем подчинить вкусам Полонских. Не наша вина, что мы отбираем наиболее обещающих, наиболее даровитых молодых, которые прежде чем пойти к Полонскому, ищут утверждения своей поэтической квалификации именно в “Лефе”».
Журналисту Михаилу Юльевичу Левидову (в своё время заведовавшему иностранным отделом РОСТА, состоявшему в рядах комфутов и славившемуся своим остроумием, из-за чего его даже прозвали «советским Бернардом Шоу»), тоже предоставили слово:
«Левидов. – Тут Полонский по моему адресу острит. Я, мол, не комфут, а коммифут. Но я не сержусь: я понял Полонского, и я его прощаю.
Голос с места. – Всё понять, всё простить?
Левидов. – Ведь это полное собрание сочинений Полонского о “Лефе” – оно чем характерно? Стремлением пожурить, но и похвалить, сделать выговор, но и поднести конфетку, одёрнуть, но и погладить по головке… Одним словом, психология уютной бабушки…
Давайте, товарищи, Полонского поймём, давайте его простим! Пусть пасёт или пасётся, пусть острит на здоровье!..
Я предлагаю простить Полонского!»
В ответ на предложение «простить Полонского» Маяковский зачитал письмо литературного критика Виктора Осиповича Перцова, который по болезни не мог присутствовать на собрании. В письме, в частности, говорилось:
«Перцов. – Лефы – профессиональные разоблачители. Они вскрывают реакционные пережитки в нашей культуре, и этого достаточно, чтобы противники обвинили их в том, что они противопоставляют себя всей советской и коммунистической культуре…
Полонскому не удастся устроить разрыв между “Лефом” и советской культурой, а также мало ему удастся поссорить лефовцев между собой, захваливши одного или не дохвалив другого. Эта сомнительная тактика борьбы вряд ли имеет что-нибудь общее с марксистским объяснением литературных явлений.
Маяковский. – Среди нас присутствует в качестве гостя т. Малкин. Хотя он организационно и не принадлежит к “Лефу”, но он хорошо знает нашу работу с момента Октябрьской революции, и нам было бы интересно выслушать его мнение о выступлении Полонского.
Малкин. Я считаю выступление Полонского крайне неудачным и глубоко ошибочным… “Леф” должен встретить бережное и самое внимательное отношение к своей настоящей революционной работе у всех, кому дороги интересы советской культуры, в её борьбе с мещанскими элементами распада и упадочничества, которые имеют сейчас место и которым мы не даём надлежащего отпора. По ним нужно бить, а не по “Лефу”».
В заключение дискуссии выступил Осип Брик, с которым Маяковский, надо полагать, к тому времени уже примирился:
«Брик. – Отвечать на статью Полонского считаю невозможным, потому что она написана в состоянии истерической запальчивости…
Полонский взъярился на нас, лефовцев, за то, что мы держимся обособленной группой и защищаем писателей нашей “системы”… Вместе с тем Полонский считает, что лозунги “Лефа” являются лозунгами нашей коммунистической литературной борьбы, и что имена лефовцев – “среди самых видных в рядах советской литературы”… Грозиться прикрыть журнал “самых видных советских писателей”, пропагандирующих коммунистические лозунги, можно только в истерическом припадке.
Отвечать Полонскому нельзя. Предлагаю голосовать и перейти к следующему пункту повестки.
Маяковский. – В виду полного единодушия в оценке Ольшевца-Полонского прения прекращаю. Ставлю на голосование вопрос: отвечать ли им на страницах “Нового Лефа”? Кто против – поднимите руки. Подавляющее большинство против».
Таким образом, лефовцы постановили: в своём журнале на критику не отвечать, а дать авторам «клеветнических статей» открытый бой.
Но если ещё раз со вниманием перечитать всё то, что высказывалось на лефовском собрании, то поражает несерьёзность «обвинений», с которыми решили сражаться «обидившиеся» на критику лефовцы. Ведь в чём «обвиняли» Маяковского и его соратников? В том, что они выступают под большевистскими лозунгами и даже «узурпировали» их. Но под этими лозунгами жила тогда вся страна. Также лефовцев «обвиняли» в том, что они организовали «комплот» против других литераторов, и этот заговор был нужен им для того, чтобы свои собственные сочинения продавать повыгодней, подороже. Но в этом не было ничего преступного – все литераторы жили тогда так.
С другой стороны, сами лефовцы любили «бить» других литераторов («били больно», как сказал Маяковский), обвиняя своих критиков в отсутствие профессионализма. Но при этом жаловались, что их, лефовцев, хвалят поодиночке, а ругают лишь тогда, когда они выступают сплочёнными рядами. Мало этого, Осип Брик предложил на критику «не отвечать», а Михаил Левидов и вовсе посоветовал «простить Полонского».
Разве не складывается впечатление, что весь этот литературный «переполох» был устроен для того, чтобы весь мир узнал о том, как в Советском Союзе преследуется беспартийный поэт Владимир Маяковский? Но если это так, то возникает другой вопрос: кому нужно было всё это устраивать? Ответ напрашивается только один: ОГПУ.
Как бы там ни было, открытый бой было решено устроить в самом центре Москвы.
Леф или блеф?
23 марта в Большой аудитории Политехнического музея состоялся диспут «Леф или блеф?». Афиши сообщали:
«Выступают от Лефа: Н.Асеев, О.Брик, В.Жемчужный, М.Левидов, А.Лавинский, В.Маяковский, В.Перцов, А.Родченко, В.Степанова, В.Шкловский. Против: Л.Авербах, А.К.Воронский, О.Бескин, И.Гроссман-Рощин, В.Ермилов, И.Нусинов. Приглашён В.П.Полонский и все желающие из аудитории.
Вечер иллюстрируется новыми стихами Лефов».
Обратим внимание, что против Лефа (а стало быть, и против Маяковского) готовились выступить Осип Бескин и Гроссман-Рощин. Первый был лефовцем, а второй ещё не так давно считался закадычным другом Маяковского. Видимо, бывшие друзья чего-то не поделили и на диспуте в Политехническом оказались по разные стороны баррикад.
Павел Лавут:
«Выступали не все перечисленные на афише, а Маяковский и Полонский (два основных полемиста), затем Асеев, Шкловский, Нусинов, Авербах, Левидов, Бескин.
Аудитория не вместила всех желающих.
Бой разгорелся жаркий…
Маяковский произнёс вступительное слово. Он же заключил».
Вступительное слово Маяковского было довольно продолжительным (двадцать страниц в двенадцатом томе 13-томного собрания сочинений поэта). Владимир Владимирович начал с определения существа самого диспута:
«Тема сегодняшнего дня – “Леф или блеф?”. Прежде всего нужно выяснить, что такое слова “Леф” и “блеф”, ибо оба слова в обиходе не встречаются.
“Леф” – это слово на сто процентов советское, то есть оно не могло быть составлено иначе, как только после Октябрьской революции, когда было узаконено слово “левый”, когда после войны и революции вступило в свои права слово “фронт”, и когда получило узаконенное составление слов посредством складывания первых букв нескольких входящих в него слов. “Леф” – это “Левый фронт искусств”, слово советское.
В противовес ему слово “блеф” – типично карточное… “Блеф” – это слово английских покеристов, которое показывает, что человек, не имеющий карты, запугивает, блефирует своего противника, своего партнёра. “Блеф” предполагает полную пустоту за этим словом…
Третье слагаемое этого диспута – Полонский. Перейдём к нему.
Кто такой Полонский, и почему он пишет о Лефе?»
И Маяковский решил сразу же расправиться с критиком Лефа, напомнив о той борьбе, которая существовала в середине 20-х годов между литературными группами (ВАППом, литераторами, вернувшимися из эмиграции, и Лефом). Он спросил:
«Полонский принимал участие в этой борьбе? Какая-нибудь крупица его литературной мысли на весах, перевешивающих в ту или другую сторону, была? Какой-нибудь не то что фронт, не то что фронтик, – двух гимназистов он представлял в то время? Нет, товарищи, в то время имя Полонского в литературных кругах не произносилось. И понятно: его незачем было произносить».
Низвергнув (как ему казалось) Вячеслава Полонского, Маяковский обратился к его статье о Лефе:
«Чем же вредна эта статья? Тем, что она идёт против всей современной литературной линии, которой после резолюции ЦК за художественными группировками признано право на максимальное художественное оформление и самоопределение.
Товарищ Полонский вместо этого пытается взвалить на нас вину в несуществующем комплоте…
На нас указывают, что Лефы – эпоха старая, что они не могут быть мерилом молодой советской поэзии и потому не пускают её вперёд. Есть действительно один молодой человечек, которого Леф создал, этот молодой человечек – Кирсанов».
И глава лефовцев с гордостью продекламировал посвящённые ему строки из недавно вышедшей книги молодого поэта:
«Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
я радостью скручен, как вьюгой, —
что мне с капитаном таким довелось
шаландаться пó морю юнгой».
В заключительном слове Маяковский заявил:
«Леф прежде всего есть объединение одинаково мыслящих, одинаково думающих людей и никогда на монопольное руководство не претендующих…
У нас существует очень простой способ разговора, его применил Полонский. “Меня, – говорит он, – назначил ЦК на должность редактора журнала”. Получается такая вещь: меня назначил ЦК, вы против меня, значит, вы против партии… А вы думаете, что партия нас, поэтов, как игрушек рассматривает, думаете, что нам не даются директивы? А мы кем представлены? Что же, нас Врангель придумал?»
И поэт подвёл итоги дискуссии:
«Но этот разговор о Лефе мы считаем незаконченным. Леф будет проводить свою линию ненависти к старой культуре, линию спайки с пролетарскими группировками, с пролетарскими писателями и линию обновления и новаторства на всех участках нашего культурного фронта…
На левом фронте искусства будем продолжать борьбу как один из отрядов советской культуры».
Таким образом, обе конфликтовавшие стороны обменялись ударами, но каждая осталась при своём мнении. И ещё в журнале «Новый Леф» была опубликована стенограмма обсуждения лефовцами газетных статей о них под названием «Протокол о Полонском» (фрагменты из неё мы и привели в предыдущей главе).
После диспута
В автобиографических заметках «Я сам» в главке «1927 ГОД» Маяковский написал:
«Восстанавливаю (была проба “сократить”) “Леф”, уже “Новый”. Основная позиция: против выдумки, эстетизации и психоложества искусством – за агит, за квалифицированную публицистику и хронику».
Критики лефовцам тоже ответили. Об этом – Павел Лавут:
«Спустя два месяца Полонский в “Новом мире”, как бы продолжая диспут, опубликовал статью “Блеф продолжается”».
В этой статье, появившейся в пятом номере журнала «Новый мир», который выпускало тогда всё то же издательство «Известий ЦИК», говорилось:
«Я не хочу сказать, будто Маяковский – Хлестаков русской поэзии. Это было бы чудовищной недооценкой поэтической роли, сыгранной Маяковским. Я нисколько её не преуменьшаю, она очень велика. <…> Я предлагаю лишь отделить в поэзии Маяковского то, что есть в ней лучшего и настоящего от "маяковщины", т. е. от всех тех отвратительных и смешных богемских черт…»
Павел Лавут добавляет:
«… а в журнале “Красная новь” появилось “сочинение” А.Лежнева с уничтожающим заголовком “Дело о трупе”. Автор в недостойном тоне нещадно громил “Леф”».
И вновь возникают всё те же вопросы: эти антилефовские статьи появились сами по себе или они были написаны по чьему-то указанию? Например, ОГПУ? Не создавали ли гепеушники образ поэта, преследуемого властью? И не был ли Маяковский в курсе готовившихся на него нападок, заранее предупреждённый о них Меером Трилиссером или тем же Яковом Аграновым?
Владимир Маяковский громогласно ответил всем своим критикам, разносившим в пух и прах его стихи, которые воспевали советскую власть, и статьи, в которых отдельные промахи этой власти критиковались. Ответил в стихотворении «Не всё то золото, что хозрасчёт». Оно начинается так:
«Рынок / требует / любовные стихозы.
Стихи о революции? / На кой они чёрт!
Их смотрит / какой-то / испанец “Хозе”
– Дон Хоз-Расчёт».
Затем, приводя доводы своих недоброжелателей, поэт решительно отвечает:
«Певице, / балерине / хлоп да хлоп.
Чуть ли / не над ЦИКом / ножкой машет.
– Дескать, / уберите / левое барахло,
разные / ваши / левые марши. —
Большое-де искусство / во все артерии
влазит, / любые классы покоря.
Довольно! / В совмещанском партере
Леф / не раскидает свои якоря.
Время! – / Судья единственный ты мне…
Я чту / искусство, / наполняющее кассы.
Но стих / раструбливающий / октябрьский гул,
но стих, / бывший / оружием класса,
мы не продадим / ни за какую деньгу».
16 апреля 1927 года в стране отмечалось десятилетие с того дня, как в Петроград из эмиграции вернулся Ленин. И газета «Труд» поместила на своих страницах стихотворение Маяковского «Ленин с нами». Начиналось оно так:
«Бывают события: / случатся раз,
из сердца / высекут фразу.
И годы / не выдумать / лучших фраз,
чем сказанная / сразу.
Таков / и в Питер / ленинский въезд
на башне / броневика.
С тех пор / слова / и восторг мой / не ест
ни день, / ни год, / ни века».
Заканчивалось стихотворение напоминанием о том, что не за горами и десятилетний юбилей октябрьской революции:
«Коммуна – / ещё / не дело дней,
и мы / ещё / в окруженье врагов,
но мы / прошли / по дороге к ней
десять / самых трудных шагов».
В это же время политический заключённый Борис Глубоковский, проходивший по одному делу с расстрелянным поэтом Алексеем Ганиным, принял участие самодеятельном театре, который был в Соловках. Он назвался «ХЛАМ», так как этот коллектив состоял из Художников, Литераторов, Актёров и Музыкантов. Зек Глубоковский участвовал в создании спектакля «Соловецкое обозрение», которое местное начальство стало показывать приезжавшему начальству как пример успешной работы по перековке непримиримых врагов советской власти в её верных друзей.
А Яков Серебрянский вместе с женой Полиной весной 1927 года отправился в Париж, где заступил на пост нелегального резидента ИНО ОГПУ.
Впрочем, мы, пожалуй, слишком увлеклись вопросами политическими и литературными, в то время как обещали рассказать о новом романе Лили Брик.
Очередное увлечение
Но сначала – совсем немного о том, что в тот момент происходило в Лефе.
Бенгт Янгфельдт:
«Осенью и зимой 1926–1927 годов квартира в Гендриковом переулке уже превратилась в "штаб" Лефа. Еженедельно устраивались "лефовские вторники", которые посещали все, кто был близок к группе: Николай Асеев, Сергей Третьяков, Борис Пастернак, молодой Семён Кирсанов, Виктор Шкловский, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Виталий Жемчужный и Лев Кулешов. Если бы не размер гостиной, это явление можно было бы назвать "салоном"».
Среди этих «посетителей» Лили Брик и наметила себе очередную «жертву».
Биографы Маяковского считали (а многие продолжают считать), что между Лили Брик и Владимиром Маяковским тогда всё ещё существовало некое невероятнейшей силы чувство, связывавшее их крепчайшими узами. Янгфельдт об этом даже написал книгу, назвав её «Любовь – это сердце всего».
Но это необыкновенное чувство не мешало Лили Юрьевне (да и Маяковскому тоже) постоянно иметь увлечения на стороне, иногда – сильные, но чаще – не очень.
Янгфельдт в своих книгах не пропустил, пожалуй, ни одного Лилиного увлечения, подробно описывая все обстоятельства и называя имена и фамилии её многочисленных возлюбленных. Поэтому всех, кто интересуется этими подробностями, отсылаем к книгам этого автора.
Но роман Лили Юрьевны, вспыхнувший в 1927 году, особенный. О нём нельзя не рассказать. Поэтому предоставим слово тем биографам поэта, для которых «любовь – это сердце всего».
Начнём с Аркадия Ваксберга. Об этом увлечении Лили Брик он сказал следующее:
«Очередным объектом её внезапно вспыхнувшего чувства стал очень известный в ту пору кинорежиссёр Лев Кулешов, активный лефовец, друг Маяковского и Осипа Брика.
Льву Владимировичу Кулешову, которого позже справедливо назовут патриархом советского кино, было тогда двадцать семь лет (Лиле – тридцать пять), он был мужественно красив и поражал женщин не только талантом, но и привлекательной внешностью: серо-синие глаза, каштановые волосы, белозубая улыбка в сочетании с благородной спортивностью (он увлекался охотой, мотоциклом, пластикой движений) заставляли трепетать не только Лилино сердце…»
Бенгт Янгфельдт (с более точным представлением о возрасте героя этой истории) добавил к портрету, нарисованному Ваксбергом, следующее:
«Двадцативосьмилетний Лев Кулешов был на восемь лет младше Лили. Несмотря на молодость, он уже много лет занимался кино и считался одним из тех, кто способствовал революционному развитию советской кинематографии в двадцатые годы. Среди его учеников были Дзига Вертов ("Киноглаз"), Сергей Эйзенштейн ("Стачка", "Броненосец «Потёмкин»") и Всеволод Пудовкин ("Мать"). Сам Кулешов заявил себя в 1924 году фильмом по сценарию Николая Асеева "Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков", где в одной из ролей снялась его жена».
Лев Кулешов, надо полагать, очень напоминал Лили Брик молодого Владимира Маяковского. Ведь родился Кулешов тоже в тихом провинциальном российском городке (в Тамбове). Так же, как и Маяковский, рано (в пятнадцать лет) потерял отца, после чего (вновь так же, как когда-то Маяковский) вместе с матерью переехал в Москву. В 1915 году поступил в Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище и стал заниматься в студии художника Ивана Фёдоровича Смирнова, что тоже очень напоминает студию Келина, в которой постигал азы рисования молодой Маяковский. Впоследствии Кулешов написал:
«Школа Смирнова помогла мне легко поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества, ибо там умение рисовать очень ценилось».
Поступление в Училище произошло в 1916 году – ровно через два года после того, как из него исключили Маяковского. И здесь Кулешов проучился столько же, сколько и Маяковский – три года.
Но Лев Кулешов не только с увлечением рисовал, он ещё сочинял стихи, играл на гитаре и увлекался кинематографом. В 1916 году он устроился ни кинофабрику Александра Алексеевича Ханжонкова, где начал работать вместе с известным тогда актёром и режиссёром Витольдом Альфонсовичем Полонским (отцом актрисы Вероники Полонской, которую снимала Лили Брик). В «Журнале для дам» Кулешов публиковал иллюстрации, подписывая их Лео Клер.
О том, как он относился к стихотворцам, Кулешов впоследствии высказался так:
«Особенно мне импонировала фигура Маяковского. Его стихи затрагивали во мне те чувства, которые не мог затронуть другой поэт. Поражала невиданная до этого, ещё никем не высказанная, понятная мне правда, ритм».
Во время Гражданской войны Кулешов был кинооператором, снимая красноармейцев, митинги, беспризорных, бездомных и прочие признаки новой жизни. Когда в 1919-ом в Москве организовали Государственную киношколу, двадцатилетний Лев Владимирович стал преподавать в ней актёрское мастерство и кинорежиссуру.
Среди его учеников была и молодая актриса Александра Сергеевна Хохлова (Шура, как называли её друзья и подруги). Она была внучкой выдающегося русского врача и общественного деятеля Сергея Петровича Боткина (по отцовской линии) и внучкой (по линии материнской) известного мецената, основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова. В кино Хохлова снималась с 1916 года и в том же году познакомилась с Маяковским. На этой своей ученице Кулешов вскоре женился.
Написанному Николаем Асеевым сценарию фильма «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» Кулешов дал потом такую оценку:
«… осуществить на экране то, что написал поэт, было нельзя, …настолько автору были незнакомы технические возможности кинематографа того времени, и настолько он представлял себе наше искусство изобразительно-плакатным».
Творческий коллектив Льва Кулешова переписал этот сценарий заново…
«… оставив в нём от асеевского только имена действующих лиц».
Фильм, поставленный в 1924 году, имел шумный успех. Кулешова пригласили на кинофабрику «Межрабпром-Русь», где ему (по договору) предоставили подержанный мотоцикл «BSA» c коляской.
В 1925 году по сценарию Всеволода Пудовкина Кулешов снял фильм «Луч смерти», не принятый ни критикой, ни зрителями. В 1926-ом по сценарию Виктора Шкловского (вновь основательно его переработав) Кулешов поставил кинокартину «По закону», которая тоже была воспринята без энтузиазма. Во всех этих фильмах Александра Хохлова исполняла главные роли. Она потом вспоминала:
«По примеру Маяковского Кулешов с тех пор подписывает свои письма к близким людям рисунком льва».
А вот воспоминания о Маяковском, оставленные Хохловой и Кулешовым:
«Помним его беседующим с друзьями в столовой за бутылкой полуналивки-полуликёра "Алаша".
– Милости прошу к нашему Алашу! – говорил в таких случаях Владимир Владимирович.
Однажды разговор зашёл о том, что художники должны писать фрески в ресторанах, пивных и т. д. На что Маяковский сразу заметил:
– Сижу под фрескою и пиво трескаю».
Итак, жизнь шла своим чередом, как вдруг на Кулешова, который благодаря Асееву и Шкловскому стал своим человеком в Лефе, «положила глаз» Лили Брик.
Лев Кулешов, 1926 г. Фото: А.Родченко
Аркадий Ваксберг:
«В отличие от романа с Краснощёковым, очередное увлечение Лили развивалось постепенно, вызывая страх перед неизбежным у Шуры и очередной приступ ревности у Маяковского, которому, казалось бы, уже пора было смириться: обычаи Лили ему были хорошо известны, а любовные отношения с ней – прерваны… Но сердцу, как видно, действительно не прикажешь».
И тут (в середине весны 1927 года) поэт решил (или, говоря точнее, подобная надобность возникла у ОГПУ) вновь съездить за рубеж.
Аркадий Ваксберг:
«В очередное заграничное путешествие он отправился как раз тогда, когда отношения между Лилей и Кулешовым стремительно приближались к "высшей фазе"».
На этом нам придётся вновь на время прервать рассказ о новом романтическом увлечении Лили Юрьевны Брик, поскольку жизнь диктовала свой распорядок дням, неделям и месяцам, а людям – свои оттенки отношений.
Седьмая «ездка»
Как мы уже не раз могли убедиться, в зарубежные турне Маяковского отправляла Лубянка. Если в тот момент проводилась какие-либо гепеушные операции, эти поездки увязывались с ними. Так, как мы помним, в 1922-ом Маяковского из Берлина направили на неделю во Францию, а Бриков срочно отозвали из Германии в Москву (нужно было дать возможность Лили Юрьевне «раскрутить» Краснощёкова). В 1923-ем, напротив, сначала в Москву из Германии вернулся Маяковский, а Бриков задержали в Берлине (арестовывать Краснощёкова было удобнее в их отсутствие). В 1924-ом Лили Брик отправили в Париж и Лондон (судебный процесс по делу Краснощёкова лучше было проводить в её отсутствие).
Складывается впечатление, что и на этот раз тоже была некая «увязка»: как только отношения Лили Брик и Кулешова стали приближаться к «высшей фазе», Маяковского, который этому «приближению» явно мешал, тут же отправили за границу.
Вполне возможно, что это просто случайное совпадение. А если сказать точнее, то очередное случайное совпадение. Но не слишком ли много появлялось этих очередных случайностей?
Как бы там ни было, но в апреле 1927 года Маяковский в седьмой раз отправился за границу.
Бенгт Янгфельдт:
«На этот раз заграничное путешествие привело Маяковского в Варшаву, Прагу, Берлин и Париж. Почти за месяц отсутствия он редко телеграфировал в Москву и написал всего одно письмо…»
Из всего того, что происходило с поэтом в этот месяц, Янгфельдта заинтересовало только одно – весьма настойчивая просьба Лили Юрьевны (изложенная в её письме): купить автомобиль.
Аркадий Ваксберг приводит это Лилино послание:
«Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста. Мы много думали о том – какой. И решили – лучше всех – Фордик. 1) он для наших дорог лучше всего, 2) для него легче всего достать запасные части, 3) он не шикарный, а рабочий, 4) им легче всего управлять, а я хочу обязательно управлять сама. Только купить надо непременно Форд последнего выпуска на усиленных покрышках-баллонах…»
Прочитав это письмо, Маяковский (как полагал Янгфельдт) вполне мог призадуматься: кто же они такие – эти «мы», которые «много думали» об автомобиле «Форд». И Янгфельдт дал такое разъяснение:
«"Мы" – это, разумеется, Лили и Кулешов…»
Ваксберг продолжает:
«Лилина просьба, за которой незримо стоял Кулешов, хотя бы только поэтому не могла вызвать у Маяковского бурного энтузиазма. Во всяком случае, выполнить её он не спешил».
Но Бенгт Янгфельдт с подобным мнением был не согласен категорически, написав:
«…"форд" (спортивной модели) был куплен и доставлен в Москву. Маяковский был очень щедрым и всегда возвращался из заграничных поездок с полным чемоданом подарков».
Откуда у Янгфельдта такие сведения?
Ведь Аркадий Ваксберг заявил прямо противоположное:
«Никаких последствий просьба Лили об "автомобильчике" на этот раз не возымела. Возможно, он воспринял её просто как прихоть».
Иными словами, никакого автомобиля Маяковский из-за границы не привёз. Но перейдём к самой «ездке» за рубеж (по счёту – седьмой).
На этот раз официальную «крышу» путешествующему поэту Лубянка придумала достаточно надёжную. Ваксберг о ней пишет:
«На этот раз Маяковского пригласили для встреч с писателями и для публичных выступлений четыре национальных центра Международного ПЕН-клуба. По такому случаю он получил командировку от Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС), которое возглавляла Ольга Каменева, жена ближайшего сотрудника Ленина Льва Каменева и сестра уже впавшего в немилость Льва Троцкого».
Напомним, что ПЕН-клуб – это международная неправительственная организация, образованная в 1921 году. Её название произошло из начальных букв слов: «poet» («поэт»), «essayist» («эссеист») и «novelist» («новеллист» или «романист»), сложившихся в слово «PEN» («авторучка»). ПЕН-клуб, который возглавлял тогда английский писатель Джон Голсуорси, защищал писательские права, боролся против цензуры, а также за свободу слова и личности.
О седьмой «ездке» Владимира Маяковского оставил воспоминания и Борис Бажанов:
«В последний раз я встретился с поэтом в ВОКСе, куда зашёл по какому-то делу к Ольге Давидовне Каменевой. За границу на очередную подкормку поэта выпускали, но, экономя валюту, снабжали его, по его мнению, недостаточно, и поэт высказывал своё неудовольствие в терминах не весьма литературных».
Видимо, напор разгневанного поэта возымел действие. Во всяком случае, в книге Аркадия Ваксберга сказано:
«Впервые при поездке за границу Маяковского снабдили весьма неплохими деньгами. Обеды и ужины в его честь, проходившие с огромным успехом многолюдные поэтические вечера в Праге, Париже, Берлине, Варшаве несколько отвлекли Маяковского от тревожных дум – при полном отсутствии информации о событиях в новом семейном кругу».
«Новый семейный круг» – это всё те же Осип и Лили Брик плюс Лев Кулешов.
Сообщив об этом, Ваксберг тут же переходит от описания турне поэта по Европе, не несущего ничего нового и интересного, к захватывающим событиям нового романтического увлечения Лили Брик.
Но мы торопиться не будем и поищем в «скучных» буднях этого вояжа интересную для нас информацию. Не может быть, чтобы посланный с очередным гепеушным заданием поэт не оставил ни одного «следа», который наводил бы на размышления.
Варшава – Прага
Уже вернувшись на родину, Маяковский опубликовал в шестом номере журнала «Новый Леф» очерк, озаглавленный «Ездил я так». Вот его начало:
«Я выехал из Москвы 15 апреля. Первый город Варшава. <…> В Польше решаю не задерживаться. Скоро польские писатели будут принимать Бальмонта. Хотя Бальмонт и написал незадолго до отъезда из СССР почтительные строки, обращённые ко мне:
"И вот ты написал блестящие страницы.
Ты между нас возник, как некий острозуб…" и т. д. —
я всё же предпочёл не сталкиваться в Варшаве с этим блестящим поэтом, выродившимся в злобного меланхолика.
Я хотел ездить тихо даже без острозубия».
Как видим, турне только-только началось, ещё никаких особо ярких впечатлений не появилось, а Бальмонт (тот самый, кого в 1913 году Маяковский встречал «от имени врагов»), уже назван «злобным меланхоликом».
Интересно, а как Маяковский назвал бы самого себя, если бы ему показали фразы из его собственных писем из-за границы:
«Основное моё чувство – тревога, тревога до слёз и полное отсутствие интереса ко всему здешнему» (3 мая 1924 года).
«Здесь мне очень надоело» (6 декабря 1924 года).
«Я живу здесь ещё скучнее, чем всегда» (9 июля 1925 года).
Разве это не точно такая же меланхолия, за которую Маяковский корил Бальмонта?
В «Хронике жизни и деятельности Маяковского» Василий Абгарович Катанян приводит воспоминания польского поэта Витольда Вандурского о встрече советского поэта с польскими стихотворцами, в частности, с Владиславом Броневским:
«Броневскому Маяковский не понравился. Во время встречи Маяковский прочёл наряду с другими произведениями своё излюбленное "Сергею Есенину". Броневский, близкий Есенину, блестящий переводчик его "Пугачёва" и печальной лирики, был уязвлён, когда Маяковский декламировал звонким баритоном со свойственной только ему нотой глубокой убеждённости:
"Вы ушли, / как говорится, / в мир иной.
Пустота… / Летите, в звёзды врезываясь.
Ни тебе аванса, / ни пивной.
Трезвость".
Владек запротестовал, произнося русские слова на польский лад:
– Позвольте, ведь Есенин писал кровью…
На что Маяковский спокойно:
– Зачем же кровью? Кровь жидкость дорогая.
Он вынул из кармана ватермановское вечное перо:
– Я пишу вот этим.
Маяковский обещал приехать через месяц».
В очерке «Ездил я так» описаны дальнейшие события:
«На другой день… выехали в Прагу.
На Пражском вокзале – Рома Якобсон. <…> Работа в отделе солидного пражского полпредства прибавила ему некоторую солидность и дипломатическую осмотрительность в речах».
Как видим, Роман Якобсон стал сотрудником советского полпредства в Праге, куда брали на работу только сотрудников ОГПУ.
В Чехословакии советского поэта встречали восторженно. Роман Якобсон в письме, посланном вдогонку уже уехавшему Маяковскому, привёл некоторые отклики местной прессы на его вечера:
«В газете социалистических легионеров… "Narodni osvobozrni" от 29/IV сообщается, что было свыше тысячи человек, что голос сотрясал, и что такого успеха в Праге не имел ещё никто».
Сотрудник газеты «Прагер пресс», бравший интервью у Маяковского, написал:
«Можно много подобрать прилагательных для описания лица Владимира Владимировича: волевое, мужественно красивое, умное, вдохновенное. Все эти слова подходят, не льстят и не лгут, когда говоришь о Маяковском. Но они не выражают основного, что делало лицо поэта незабываемым. В нём жила та внутренняя сила, которая редко встречается во внешнем проявлении. Неоспоримая сила таланта, его душа».
Интервьюер вспомнил и про стихотворение «Письмо Горькому», спросив:
«– За это "Письмо" на вас, кажется, сильно нападали?»
Поэт ответил:
«– Это потому, что Горький – это традиция. Я был совершенно объективен и не касался его личности, однако мне ставили в вину тот факт, что я осмелился нарушить эту традицию. Впрочем, я не гарантирую, что не могу писать плохих стихов».
Этот ответ Маяковского Александр Михайлов прокомментировал так:
«Последняя фраза имеет двойной смысл – частный и общий. Частный состоит в том, что он не настаивает на этической безупречности "Письма" к Горькому. Общий – о, это особый случай! Где ещё вы найдёте у Маяковского признание, что он не гарантирует вам качество – стихов ли, поэм, агиток, рекламы?!»
В этой поездке спутницей Маяковского была писательница Лидия Николаевна Сейфуллина (входила в состав одной с поэтом делегации ВОКСа). Вот что ей запомнилось:
«Из чехословацких воспоминаний наиболее яркими сохранились в моей памяти пение чешскими крестьянами "Левого марша" и выступление коллектива "Синей блузы" в Праге.
Прекрасно звучали на чешском языке не только стихи поэта, но и вся программа выступления, проникнутая его ритмом, его духом».
Маяковский в Праге, 1927 год
Берлин – Париж
О дальнейшем маршруте Маяковского в очерке «Ездил я так» сказано:
«Из Праги я переехал в Германию».
Лидия Сейфуллина:
«В Берлине я узнала, каким изумительным товарищем, весёлым и простым, был на чужбине в отношении к своим, советским людям этот знаменитый и великодушный человек».
Узнала Сейфуллина и ещё одну черту характера стихотворца:
«Этот грозный поэт-трибун любил неожиданно сошкольничать…
Я очень маленького роста. Когда мы стояли рядом, моя голова была чуть повыше его локтя».
И Маяковский принялся «от скуки» подтрунивать над Сейфуллиной:
«Возьмёт и догонит меня неожиданно на улице, пройдёт несколько шагов рядышком, старательно вытянувшись во весь свой высокий рост, потом улыбнётся и быстро скроется в каком-нибудь подъезде. Долго сердиться на него, когда он школьничал, было невозможно. Очень непосредственно это у него выходило: внезапно и по-детски».
Но когда Сейфуллина потеряла ключи (от пансиона Анны Кербер на окраине города, где она остановилась), а затем потеряла вторично, Маяковский, встретив её, спросил:
«– Когда день вашего рождения?
– А что? Вам зачем?
– Пусть будет сегодня. Я привёз вам подарок.
Достав из кармана кольцо с ключами, он побренчал ими:
– Фрау Анна Кербер по моей просьбе заказала запасные. Я вам их дарю, но до вашего отъезда из Берлина они будут у меня. Подарок дорогой, вы можете не благодарить: не люблю.
И снова его чудесная улыбка. Для меня такие шутки были действительно дороги. В них таилась большая дружеская теплота, на излучение которой Маяковский расточительным не был».
29 апреля Маяковский приехал в Париж.
Поселился всё в том же отеле «Истрия», где сразу же получил весточку из Москвы (от Лили Брик). Но ответ писать не торопился.
Первомай встречал в нашем полпредстве, почувствовав себя как бы оказавшимся в родной стране. Об этом – Лидия Сейфуллина:
«Ещё накануне, 30 апреля, в полпредстве, на внутренней стене, появилось отпечатанное на пишущей машинке обращение. Всем общественно-известным во Франции советским подданным предлагалось находиться с очень ранних утренних часов в день Первого мая в стенах полпредства.
Когда нас проверяли, все ли мы находимся в стенах полпредства, Владимир Владимирович глухо, сердито, как на тюремной перекличке, отозвался:
– Здесь.
Плотно заперты ворота старинного особняка. Все привратники внутри двора. На улице, за воротами, дежурят французские полицейские в увеличенном для улицы Гренель составе…
Они всех нас знали, мы – их. Одного из них мы запомнили хорошо. Маленький, длиннорукий, вертлявый, он был похож на обезьяну. Кто-то назвал его "маго" (бесхвостая обезьянка)…
И вот как сейчас вижу я высокую фигуру Маяковского. Непривычно сжав свои широкие плечи, непривычно повторяясь, он бубнил:
– Хоть бы паршивого "магошку" дали мне распропагандировать… Товарищ полпред, одного "магошку" можно? А?»
Парижские тяготы
Только 7 мая Маяковский сел писать ответное письмо Лили Юрьевне:
«Мой изумительный, дорогой и любимый Лилик.
Как только я ввалился в "Истрию", сейчас же принесли твоё письмо – даже не успел снять шляпу. Я дико обрадовался и уже дальнейшую жизнь вёл сообразно твоим начертаниям – заботился об Эльзе, думал о машине и т. д. и т. д.».
В комментариях к этому письму в 13-томном собрании сочинений Маяковского говорится:
«Письмо не окончено и не было отправлено. Сохранилось в бумагах поэта, находящихся у адресата».
По поводу «раздумий» поэта «о машине» в комментариях сказано:
«… это удалось осуществить только в следующую поездку – полтора года спустя».
Что же касается самого письма, то на первый взгляд оно выглядит самым обычным письмом, написанным человеком, который, путешествуя по разным странам, соскучился по своим.
Но вслед за простыми (дежурными) фразами тут же зазвучала нудьга, знакомая нам по предыдущим письмам:
«Жизнь моя совсем противная и надоедная невероятно. Я всё делаю, чтоб максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах».
И это всё писалось в тот момент, когда вот-вот должно было состояться торжественное мероприятие в его честь. Поэт сообщал Лили:
«Сегодня у меня большой вечер в Париже».
7 мая обучавшиеся во Франции советские студенты организовали большой поэтический вечер, посвящённый Маяковскому, в кафе «Вольтер».
Лидия Сейфуллина:
«… одним рядом окон оно выходит на площадь. Задолго до начала вечера на этой площадке встал на дежурство отряд конной полиции. Но не мог помешать скопиться на площади плотной людской толпе, не имеющей возможности проникнуть в кафе, ещё днём заполненное людьми, желающими слышать Маяковского».
Послушать советскую знаменитость пришли и русские поэты-эмигранты. В очерке «Ездил я так» Маяковский упомянул и их:
«Странно смотреть на потусторонние, забытые с времён "Бродячих собак" лица. Насколько, например, противен хотя бы один Георгий Иванов со своим моноклем. Набалдашник в чёлке. Сначала такие Ивановы свистели. Пришлось перекрывать голосом. Стихли. Во Франции к этому привыкли. Полицейские, в большом количестве стоявшие под окнами, радовались – сочувствовали. И даже вслух завидовали: "Эх, нам бы такой голос".
Приблизительно такой же отзыв был помещён и в парижских "Последних новостях".
Было около 1200 человек».
Лидия Сейфуллина:
«В открытые окна на площадь и прилегающую к другой стороне здания улицу достаточно ясно доносилось каждое слово поэта, благодаря замечательной его дикции и сильному голосу.
Среди собравшихся были и злостные эмигранты, ненавистники Советской России. Ярыми выкриками они требовали, чтобы Маяковский читал свои дореволюционные стихи. Но поэт упрямо читал свои произведения, созданные уже после Октябрьской революции. Тогда усилились враждебные выкрики. За всю мою жизнь я знала только одного человека, который под яростные крики враждебной толпы, под натиском множества таких криков, внешне сохранял полное достоинства спокойствие.
Реплики он ловил на лету, отвечал на них быстро, но хладнокровно и умно».
Вполне возможно, что среди тех, кто пришёл послушать советского поэта, был и Нестор Махно, живший тогда в Париже.
Не забывал Маяковский и своих друзей, сопровождавших его на том вечере.
Лидия Сейфуллина:
«Мы, советские товарищи, в тот вечер сидели около Маяковского, за его спиной. Перед Владимиром Владимировичем стоял маленький стол. На нём – графин с водой и стакан…
У меня от волнения пересохло в горле. Я протянула руку, чтобы налить себе воды. Владимир Владимирович быстро, слегка отстранив меня, налил воду в стакан и, подавая его мне, сказал:
– Я подаю воду замечательной советской писательнице. Приветствуйте её!
Я уверена, что во всём многолюдном собрании о моём творческом существовании знали только представители редакции "Юманите", где начался печатанием перевод моей повести "Перегной". Но так властен был голос, приказавший меня приветствовать, так силён авторитет приказавшего, что раздались аплодисменты. Но тут же послышался смех и какой-то женский возглас:
– А где она? Её не видно!.. Пусть встанет повыше!..
Маяковский ответил:
– Сейфуллина достаточно высоко стоит на собрании своих сочинений.
Снова аплодисменты, смех, шум отдельных восклицаний. Едва сдерживая слёзы, я сказала:
– Владимир Владимирович, как вам не стыдно…
– Оставьте, Сейфулинка!.. Мне так надо.
"Сейфулинкой" он стал меня звать ещё в Берлине, находя, что это слово короче моей фамилии и больше подходит к моему маленькому росту. В его устах это слово звучало для меня ласкательно, как "ягодка". Но в описываемый момент я подняла на него огорчённые и недружелюбные глаза. И встретила его взгляд.
Я никогда не видела замученного людьми орла. Но мне кажется, что у него должны быть именно такие глаза. Маяковский устал от любовного и враждебного внимания. Ему было необходимо хоть короткое переключение такого острого внимания на кого-нибудь другого…
Вечер продолжался. Всё менее слышным становился враждебный ропот, всё громче звучали голоса друзей.
Из кафе Маяковский вышел, окружённый такой восторженной охраной, что немедленно отступил с площади отряд конной полиции. И на площади Парижа я услышала такую же громкую хоровую декламацию, в которой когда-то, в Москве эпохи военного коммунизма, участвовала сама:
– Кто там шагает правой?
– Левой!
– Левой!
– Левой!»
Аркадий Ваксберг:
«После вечера вместе с Эльзой, Эренбургом и ещё несколькими друзьями все отправились в ночное кафе, где играл оркестр, и где его снова чествовали, теперь уже в узком кругу».
О том чествовании поэта «в ночном кафе» свидетельств почти не сохранилось, поэтому трудно сказать, кто именно входил в круг тех «нескольких друзей», которые «вместе с Эльзой и Эренбургом» завершали там вечер. Но среди них наверняка был бывший финансовый директор РОСТА Лев Гринкруг, давний приятель Бриков и Маяковского. Он, как мы помним, в конце 1925 года уехал во Францию и стал заниматься банковскими операциями. Как сообщается в его биографиях, вскоре он принял решение в Советскую Россию не возвращаться. Но это не могло помешать встрече с ним Владимира Маяковского – слишком давней и слишком крепкой была их дружба.
На этом в рассказе о том поэтическом вечере можно было бы поставить точку. Но Александр Михайлов обратил внимание на событие, которое произошло на следующее утро:
«В воспоминаниях И.Эренбурга, который тоже был в этот вечер в кафе "Вольтер", есть момент, чуть-чуть приоткрывающий внутренние сомнения Маяковского по поводу его лефовских увлечений. Во время выступления Маяковского кто-то из присутствовавших в зале попросил:
– Прочитайте теперь ваши старые стихи!
Тогда он отшутился, не стал читать дореволюционное. А когда на следующий день, утром рано Эренбург зашёл к Маяковскому в номер отеля "Истрия", то увидел, что постель была не разобрана – он не ложился. Маяковский был мрачен и, даже не поздоровавшись, сразу спросил:
– Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?
Просьбу насчёт "старых стихов" он воспринял как намёк потому, что и сам в перерывах между сражениями за Леф, в периоды затишья, задумывался о своём истинном призвании, о своём месте в русской поэзии. Намёк указал на больное место – под сомнение ставилось не только всё направление его литературной деятельности, но и творчество».
Как видим, Маяковский очень переживал из-за того, что ему всё чаще говорили о том, что до революции он писал лучше, что до революции поэзия у него была настоящая, а после Октября…
Валентин Катаев (в романе «Трава забвения») привёл слова Маяковского, которые поэт высказал «разъярённым голосом»:
«Никогда не смейте просить поэта прочесть что-нибудь старое, вчерашнее. Нет хуже оскорбления. Потому что у настоящего мастера каждая новая вещь должна быть лучше прежних. А если она хуже, то, значит, поэт кончился. Или во всяком случае – кончается. И говорить ему об этом – феерическая бестактность. Зарубите себе на носу. Фе-е-ри-чес-кая!..»
Вероятно, и поэтому тоже (как пишет о Маяковском Александр Михайлов):
«… покидал он Париж без сожаления».
Однако в неотправленном письме Лили Юрьевне об оставленном Париже уже вообще не говорится, а всё дальнейшее описано в приподнято-деловом тоне:
«Девятого еду Берлин (на восьмое не было билетов), десятого читаю в Берлине и оттуда в Москву через Варшаву (пока не дают визы – только транзитную)».
Маяковскому зачем-то очень нужна была остановка в Варшаве. Какие именно неотложные дела ждали его в Польше, в письме он не сообщил. Но попытки получить желанную визу всё же продолжил.
Александр Михайлов:
«Скучал Маяковский и в Берлине. И встретив здесь актрису Нино Вачнадзе, вцепился в неё и не отпускал от себя. <…> Водил по магазинам, просил помочь выбрать подарки знакомым и непременно – оригинальные. И повторял: "Надоел Париж, надоел Берлин! Задыхаюсь я здесь, в Москву скорее, домой!"»
Сразу вспоминаются слова из его письма, написанного в Париже 6 декабря 1924 года:
«Здесь мне очень надоело – не могу без дела».
Не потому ли так скучал Маяковский, что настоящим «делом», ради которого его и отправили за границу, ему предстояло заняться только под самый занавес поездки?
Столица Польши
В очерке «Ездил я так» про свой приезд в столицу Польши Маяковский написал:
«В Варшаве на вокзале встретил чиновник министерства иностранных дел и писатели "Блока" (левое объединение)».
Сразу с вокзала Владимир Владимирович направился в гостиницу, где снял недорогой номер.
О том, что произошло на следующий день, в том же очерке сказано:
«На другой день начались вопли газет:
– Милюкову нельзя – Маяковскому можно!
– Вместо Милюкова – Маяковский и т. д.
Оказывается, Милюкову, путешествующему с лекциями по Латвии, Литве и Эстонии, в визе в Польшу отказали. Занятно.
Я попал в Варшаву в разгар политической борьбы: выборы».
Итак, о Павле Николаевиче Милюкове, бывшем министре иностранных дел Временного правительства России, которого не пустили в Польшу, Маяковский написал. И про польские выборы упомянул. Но ни словом не обмолвился о том, что его приезд в Варшаву совпал с гораздо более важными (и поэтому более шумными) политическими событиями.
Сначала (6 апреля 1927 года) китайцы совершили налёт на советское полпредство в Пекине. Было захвачено более ста коробок секретных документов. Их стали публиковать в газетах, сообщая о том, как Советский Союз готовил в Китае восстание, чтобы установить советскую власть.
А в Лондоне с 12 по 15 мая отряд полиции численностью в 200 человек произвёл внезапный обыск в здании, которое занимала Англо-русская торговая компания («Аркос»). На эту чрезвычайную акцию власти Великобритании пошли потому, что имели неопровержимые доказательства кражи сотрудниками этого советского учреждения секретного документа британского министерства воздушных сообщений.
В результате обыска было установлено, что под крылышком «Аркоса» действовал шпионско-диверсионный центр, который вёл активную работу по дестабилизации политической ситуации в Великобритании.
Бенгт Янгфельдт:
«… в списке "опасных коммунистов", которых следовало выслать из Англии, оказалась мать Лили. На допросах в британской службе безопасности Елена Юльевна уверяла, что "не является членом коммунистического кружка Аркоса и совсем не интересуется политикой", что она "из буржуазной семьи, и что её муж поддерживал царский режим", что "в результате русской революции она потеряла всё достояние, оставленное её мужем". Не ясно, что подействовало на следователя – эти аргументы или тот факт, что она "хорошая пианистка и играла на собраниях в клубе Аркоса", но в итоге Елену Юльевну вычеркнули из списка и позволили остаться в стране».
Всех подробностей событий, происходивших в британской столице, Маяковский, конечно же, не знал. Но о том, что случилось в Лондоне, ему было известно из газет, и он откликнулся на это происшествие стихотворением «Осторожный марш»:
«Гляди, товарищ, в оба!
Вовсю раскрой глаза!
Британцы / твердолобые
республике грозят…
Стучат в бюро Аркосовы,
со всех сторон насев:
как ломом, / лбом кокосовым
ломают мирный сейф».
О том, насколько «мирными» были «Аркосовы сейфы», можно судить по воспоминаниям Георгия Сергеевича Агабекова, резидента ОГПУ в Иране:
«Каждое утро, проснувшись, я наскоро одевался и шёл в канцелярию. У входа в коридоры стояли бидоны с быстро воспламеняющимся веществом, на случай, если нужно будет поджечь архивы. Эту предосторожность Москва предписала принять после обысков лондонского “Аркоса” и пекинского посольства».
Польская пресса тоже вовсю трубила о разоблачении очередной бесцеремонной попытки Советского Союза вмешаться в дела суверенного государства. Но в очерке «Ездил я так» Маяковский не упомянул об этом ни словечком. Он сообщил о другом событии (более «важном», с его точки зрения): на следующий день после приезда в столицу Польши советскому поэту пришлось сменить место своего пребывания.
Зачем?
Об этом – в очерке «Поверх Варшавы», опубликованном по возвращении в Москву в июльском номере журнала «Молодая гвардия»:
«Утром я перешёл из крохотного номера в номер за 19 злотых – для представительства. Я начал атаковываться корреспондентами, и карикатуристами, и фотографами. Понятно. Я – первый поэт, приехавший из красной Москвы».
Вряд ли приезд обычного стихотворца – пусть даже большевистской ориентации – мог вызвать такой ажиотаж у пишущей братии Варшавы. И вовсе не из-за отказа в визе Милюкову зачастили к советскому поэту «корреспонденты, карикатуристы и фотографы», а из-за невероятного шума, возникшего в мировой прессе в связи с делом Аркоса. Гепеушные посягательства на жизнь суверенной державы возмутили тогда всю Европу.
А весьма подозрительное поведение свободно разъезжавшего из страны в страну Маяковского давно уже успело привлечь внимание спецслужб Латвии, Франции и Великобритании. Польских журналистов явно кто-то проинформировал о связях поэта с лубянским ведомством, и они устроили ему форменный допрос с пристрастием.
Ответы корреспондентам
Какие вопросы задавались Маяковскому, и как он на них отвечал, можно судить по отчёту, который – под заголовком «Визит известного русского поэта» – опубликовала 14 мая варшавская газета «Эпоха»:
«Прежде всего, мы спрашиваем его о цели приезда в Польшу.
– Я прибыл сюда в целях установления связи с польскими литераторами и нахожусь здесь в качестве члена ВОКСа.
– Что это такое?
– Всероссийское общество культурной связи с заграницей».
Редактор журнала «Польска вольность», беседуя с советским поэтом, тоже спросил:
«– Можно ли узнать, с какой целью вы приехали в Варшаву?
– Познакомиться с людьми, посмотреть город… Я приехал по своей инициативе, на собственный счёт, сам по себе.
– Вы являетесь членом партии?
– Нет…»
Странное впечатление производят ответы Маяковского. Его спрашивают о цели приезда, а он – как бы с порога отметая все подозрения в его сотрудничестве с ОГПУ – заявляет о своём членстве в ВОКСе и трижды (!) объявляет себя исключительно частным лицом (приехавшим «по своей инициативе», «на собственный счёт», «сам по себе»).
Вновь возникает впечатление, что образ «частного лица», путешествующего по загранице «на собственный счёт», придуман на Лубянке. Ведь в стране Советов всюду, где бы Маяковский ни выступал, он говорил, что поддерживает политику, проводимую большевиками, а за рубеж ездит за счёт советских граждан («за ваш, за ваш счёт, товарищи!» – заявлял поэт, отвечая на вопросы своих слушателей).
А в Варшаве Владимир Владимирович говорил то, что придумали для него лубянские товарищи:
«Я свободный человек и писатель. Я ни от кого материально не завишу. А морально я связан с тем революционным движением, которое перестраивает Россию на началах всеобщего равенства».
Полякам было хорошо известно, каким невероятным преследованиям подвергаются в Советской России противники большевистского режима. Поэтому Маяковского спросили:
«– Вы не испытываете никаких стеснений?
– Никаких. В том случае, разумеется, если писательская деятельность не направлена в сторону контрреволюции…
– Сидели ли вы в тюрьмах?
– Сидел до революции. А теперь выступал несколько раз с чтением своих произведений в тюремных клубах…»
Непонятно, что за «тюремные клубы» имел в виду поэт. В советские концентрационные лагеря он, вроде бы, не заглядывал, а в большевистских застенках, которые размещались в бывших царских тюрьмах, никаких «клубов» не существовало.
Кстати, любопытное совпадение! Владимир Маяковский (давая интервью польским журналистам) и Елена Юльевна Берман (отвечая на вопросы британской службы безопасности), не сговариваясь, упомянули о «клубах»: Владимир Владимирович – о «тюремном», Елена Юльевна – о «клубе Аркоса».
Но вернёмся к беседе редактора журнала «Польска вольность» с гостем «из красной Москвы»:
«В это время появился фотограф, чтобы запечатлеть на пластину образ русского поэта. Маяковский садится, позирует около стола.
Спрашиваю:
– Так вы напишете о Польше по возвращении в Россию?
– Напишу.
– Хорошее или плохое?
Маяковский уклончиво улыбается».
Александр Михайлов обратил внимание ещё на одно заявление Маяковского в его беседе с польскими журналистами:
«Отвечая на вопрос, какую роль сейчас в России играет поэт, Маяковский отвечает:
– Важнейшую. Он является учителем народа, воспитателем его ума и совести».
Высказывание любопытное. Ведь «учителем народа» называл себя человек, который с трудом одолел четыре класса гимназии, писал с ошибками и за 34 года жизни так и не научился расставлять знаки препинания.
Александр Михайлов приводит в своей книге слова Василия Катаняна (не уточняя, какого именно – отца или сына):
«Кто-то однажды высказал предположение, что Маяковский, разъезжая столько по заграницам, наверное, хорошо владеет языками. Владимир Владимирович удивился:
– Почему вы так думаете?
– А как же – гимназическое образование плюс заграничные поездки…
– К сожалению, – возразил Маяковский, – заграничные поездки минус гимназическое образование».
Иными словами, сам поэт считал, что гимназического образования у него нет.
А что же тогда у него было?
Если сказать по-современному, то всего лишь начальное образование. Среднего он не осилил.
Вернувшись в Москву, Маяковский опубликовал в печати несколько очерков: «Ездил я так», «Поверх Варшавы» и «Наружность Варшавы». В них страна, гостеприимно принимавшая поэта, подверглась язвительному осмеянию:
«Варшава на Париж похожа так, как киоск Моссельпрома на Сухаревскую башню…
Если Париж кишит наряднейшими модницами и модниками, то здесь десяток-другой пижонов кокетничает вышедшими на пенсию модами…
Военщина Польши назойлива и криклива…
Магазины полны – но… есть всё, кроме того, что вам нужно…
У многих поляков уже яснеет ответ на вопрос – быть ли советской республикой в союзе других республик или гонористой демократической колонией…»
Даже поэта Юлиана Тувима, который перевёл на польский язык «Облако в штанах» («Облак в споднях»), Маяковский представил насмешливо-уничижительно – как…
«… вдохновенно глядящего, поэтически трясущего руку…».
Такие ли отчёты о проделанном путешествии должен был предоставлять своему народу его «учитель» и воспитатель его «ума и совести»? В своих отчетах Маяковский говорил:
«Мне жаль Европу! Не знать стихов Асеева, Пастернака, Сельвинского – это большое лишение!»
Есть ещё одна непонятная загадочность в поведении странствовавшего поэта – за одиннадцать дней своего пребывания в польской столице он дважды менял место своего пребывания. Зачем?
Загадочные переселения
Если первую смену жилья ещё как-то можно понять: захотелось предстать перед польскими журналистами этаким преуспевающим литератором, и более дорогой номер, конечно же, придавал солидности, то второй переезд из-за чего?
И зачем вообще надо было оповещать советских читателей о том, в каком именно номере давалось то или иное интервью, где именно приходилось позировать карикатуристам и фотографам? Маяковский никогда об этом не писал, рассказывая о своём пребывании в Париже, Риге, Берлине, Праге и Нью-Йорке.
О своём переезде из мексиканского отеля в советское полпредство (полномочное представительство) Владимир Владимирович поведал. Но только в письме Лили Брик, объяснив смену места пребывания тем, что в полпредстве малолюднее и дешевле.
П.Л.Войков фотографирует В.Маяковского и секретаря полпредства А.Ульянова во дворе советского посольства в Варшаве. 1927 год
А тут вдруг поэт объявил на весь Союз (в очерке «Поверх Варшавы») о своём очередном переселении:
«Я переселился в пустующую до приезда курьеров дипкурьерскую комнату полпредства».
Зачем об этом надо было сообщать читателям? Ведь полпредство – это не гостиница, куда вселяются по собственному желанию. Стало быть, в этом была какая-то надобность. Или (рискнём предположить) поступило какое-то распоряжение из Москвы, для выполнения которого понадобилось присутствие поэта на территории представительства.
Известно ли что-нибудь о том, чем именно занимался там Маяковский?
Сохранились фотографии: Маяковский во дворе советского полпредства (как всегда, с папиросой во рту), рядом с ним – секретарь полпредства (он же резидент ОГПУ) Александр Фёдорович Ульянов («товарищ У», как называли его коллеги-чекисты). Напротив – с фотоаппаратом в руках – посол Пётр Лазаревич Войков.
Заглянем в энциклопедический словарь.
«ВОЙКОВ Пётр Лазаревич. Знал греческий и латинский языки, блестяще закончил математический факультет университета в Женеве. После Октябрьской революции был послан на Урал комиссаром снабжения. Принимал участие в расстреле царской семьи. Как человек сохранил в себе очень ценные качества: был задушевным, беззлобным, ценил юмор, являлся интересным оратором. С октября 1924 года – полпред в Польше».
Добавим к этому, что из эмиграции в Россию Пётр Войков (тогда ещё Пинхус Вайнер) возвращался в одном из «пломбированных вагонов» (вместе с Мартовым и Луначарским). А в Варшаве он носил перстень с рубином, снятый, по его же собственным словам, с пальца убитого Николая Второго.
В августе 1922 года Войкова назначили полномочным представителем страны Советов в Канаде, но правительство Великобритании воспротивилось этому из-за причастности кандидата в дипломаты к уничтожению царской семьи.
Работавший в варшавском полпредстве советский дипломат Григорий Зиновьевич Беседовский охарактеризовал своего тогдашнего шефа так:
«Высокого роста, с подчёркнуто выпрямленной фигурой, как у отставного капрала, с неприятными, вечно мутными глазами (как потом оказалось, от пьянства и наркотиков), с жеманным тоном, а главное, с беспокойно-похотливыми взглядами, которые он бросал на всех встречавшихся ему женщин, он производил впечатление провинциального льва. Печать театральности лежала на всей его фигуре. Говорил он всегда искусственным баритоном, с длительными паузами, с пышными эффектными фразами, непременно оглядываясь вокруг, как бы проверяя, произвёл ли он должный эффект на слушателей. Глагол “расстрелять” был его любимым словом. Он пускал его в ход кстати и некстати, по любому поводу. О периоде военного коммунизма он вспоминал всегда с глубоким вздохом, говоря о нём как об эпохе, “дававшей простор энергии, решительности, инициативе”».
И ещё, как мы поняли, Войков увлекался фотографией и с удовольствием фотографировал заезжую знаменитость. А «товарищ У» (чекист Ульянов) щёлкал фотоаппаратом посла и поэта.
Фотографическая история
Известно, что в Москву Маяковский вернулся 22 мая 1927 года. Стало быть, Варшаву он покинул числа 20-го.
В тот же день – 20 мая – в небольшом польском городке Вильно (ныне Вильнюс) неожиданно засобирался в дорогу двадцатилетний корректор местной газеты «Белорусское слово». Вечером 23 мая он прибыл в Варшаву. Звали его Борис Софронович Коверда.
27 мая газеты сообщили о том, что Великобритания разорвала дипломатические отношения с Советским Союзом. А 7 июня советский полпред в Польше Пётр Войков встречал на Центральном вокзале Варшавы высланного с британских островов Аркадия Павловича Розенгольца, исполнявшего обязанности поверенного в делах СССР в Великобритании.
За 15 минут до отхода поезда к беседовавшим на перроне дипломатам приблизился Борис Коверда и начал стрелять в Войкова из пистолета. От полученных ран полпред скончался в больнице.
Осенью в Варшаве состоялся суд над убийцей советского дипломата. Было установлено, что с Войковым он знаком не был, в лицо его не знал, но имел на руках фотографию полпреда, по которой и опознал его.
Суд не стал выяснять, как к виленскому корректору попал этот фотоснимок.
Но сделать это нетрудно!
След Лубянки в убийстве Войкова просматривается вполне отчётливо.
Советское руководство, надо полагать, было очень обеспокоено неожиданным разрывом дипломатических отношений с Великобританией, и кремлёвские вожди напряжённо размышляли о том, какой сделать ответный шаг, чтобы как-то выправить ситуацию. Краже секретного документа в британском министерстве надо было противопоставить инцидент, гораздо более громкий, демонстративно вызывающий и, желательно, непременно кровавый.
Для восстановления подмоченного престижа СССР было решено пожертвовать одним из советских полпредов – тем более, чуть ли не все они являлись участниками троцкистско-зиновьевской оппозиции, стало быть, жалеть их было нечего. И в сообщении советского правительства, опубликованном 8 июня (на следующий день после роковых выстрелов на варшавском вокзале), было прямо заявлено, что убийство Войкова последовало…
«… за целым рядом прямых и косвенных нападений со стороны английского правительства на учреждения СССР за границей и разрывом дипломатических отношений с СССР со стороны Великобритании».
В качестве жертвы Кремль избрал Петра Войкова.
Почему именно его?
Выдвинем версию, весьма неплохо объясняющую всё то, что произошло тогда.
Незадолго до всех этих событий полпред Войков настоятельно предлагал своему московскому руководству осуществить ликвидацию тогдашнего премьер-министра и военного министра Польши Юзефа Пилсудского. Вспомним, что говорил о Войкове Григорий Беседовский:
«Глагол "расстрелять" был его любимым словом. Он пускал его в ход кстати и некстати, по любому поводу».
Кремлёвские вожди этот план «ликвидации» отвергли. Но на Лубянке было хорошо известно о романе, который Войков закрутил с дворянкой Марией Скаковской, одной из сотрудниц Разведуправления Красной армии. Марию направили в Варшаву в 1924 году для того, чтобы восстановить резидентуру, разгромленную поляками. Но роман советского полпреда привлёк внимание польских властей, и в 1926 году Скаковскую арестовали, приговорив её (как шпионку) к тюремному заключению на пять лет.
В Москве глава Разведупра Ян Карлович Берзин пожаловался на Войкова в ЦК. Поскольку подобным увлечениям полпреда чекисты уже счёт потеряли, разразился скандал. Войкова исключили из партии и собирались лишить должности полпреда. Вот тут-то и появился план ликвидации самого Петра Войкова.
ОГПУ отправило Маяковскому соответствующее распоряжение: переселиться из варшавского отеля в полпредство.
Маяковский мог даже не знать, для каких именно целей просят его об этом. Ведь в ОГПУ было чёткое распределение обязанностей: одни занимались тем, что «мягко стелили», а другие обеспечивали «жёсткость спанья». Сеанс фотографирования поэта и полпреда организовывал «товарищ У» (Александр Ульянов).
А исполнителя покушения на Войкова готовил тридцатилетний гепеушник Иосиф Казимирович Опанский, занимавший пост заместителя председателя ГПУ Белоруссии и заместителя постоянного представителя ОГПУ в Белорусском военном округе. Мы с ним уже встречались – 16 августа 1924 года чекист Опанский исполнял роль «хозяина» конспиративной квартиры, куда привели нелегально прибывшего из Польши Бориса Савинкова. Этот же Иосиф Опанский и арестовывал «гостя». В феврале 1926 года Иосиф Казимирович организовал «инцидент» с перестрелкой в поезде Москва-Рига, в результате которого погиб дипкурьер Теодор Нетте. Теперь Опанский готовил покушение на Войкова.
Двадцатилетнего Бориса Коверду (перед тем, как отправить его на варшавский вокзал) снабдили пистолетом и фотографиями советского полпреда. Видимо, теми самыми, что были сняты «товарищем У» (при участии Владимира Маяковского).
Около восьми часов вечера того же дня, когда был убит полпред Войков (7 июня), неподалёку от полустанка Ждановичи под Минском перевернулась дрезина, на которой Иосиф Опанский вёз задержанного нашими пограничниками польского поручика. Опанский погиб. Вроде бы, совершенно случайно. Но официально было объявлено, что его смерть произошла в результате террористического акта врагов революции.
Не удаляло ли ОГПУ лишних свидетелей так блестяще завершившейся акции с полпредом Войковым?
Но не слишком ли много возникло загадочных «случайных» совпадений: «случайно» захотели пофотографироваться, затем «случайно» возник стрелок с фотографией в руке, и, наконец, в тот же день совершенно «случайно» погиб чекист, организовывавший это покушение?
Как бы там ни было, но после знакомства со всеми этими подробностями совсем иначе воспринимается фраза, прозвучавшая из уст Маяковского на диспуте 29 марта 1929 года:
«Писателям советую купить фотографические аппараты и научиться ими снимать».
В том же году в одной из статей он добавит:
«Мы знаем – будущее за фотоаппаратом».
Вполне возможно, что Маяковский что-то всё-таки подозревал, о чём-то догадывался. Не случайно же в «Дневнике моих встреч» Юрия Анненкова появилась запись:
«Было бы ложным думать, что наезды в Париж оставались для Маяковского простым туристическим развлечением. Далеко не так. Фаворит советской поэзии, Маяковский должен был всякий раз после возвращения в Советский Союз давать отчёт о своём путешествии».
Как видим, Юрий Анненков подошёл почти вплотную к разгадке истинной подоплёки зарубежных «ездок» поэта. А может быть, даже разгадал чекистскую тайну, которой был опутан Маяковский, весьма прозрачно намекнув о ней читателям своей книги.
Тем временем террористические акты в Советском Союзе резко участились.
Борис Бажанов:
«Летом 1927 года я отдыхаю в Крыму. Перед моим отъездом я получаю из ЦК предостережение всем ответственным работникам – быть осторожным: по Москве бродит опасный террорист. Я уезжаю в Крым и узнаю, что террорист бросил бомбу на собрании в Ленинградском партийном клубе; десятки убитых и раненых. С этим террористом я потом познакомился в Париже и Берлине. Это очаровательный и чистейший юноша Ларионов».
Да, 7 июня тройка боевиков Русского общевоинского союза (Виктор Ларионов, Сергей Соловьёв и Дмитрий Мономахов) нелегально проникла на территорию СССР и пробралась в здание Агитпропагандного Отдела Ленинградской Коммуны, забросав гранатами заседавших там коммунистов. В результате один человек погиб, а двадцать шесть получили ранения. Боевики же благополучно скрылись и вернулись за рубеж.
Впрочем, так везло далеко не всем террористам. Об этом – Борис Бажанов:
«В это время (1927 год) начальник Общевоинского Союза Кутепов ведёт борьбу против большевиков. Ряд жертвенных мальчиков и девушек отправляются в Россию бросать бомбы по примеру старых русских революционеров. Но они не знают силы нового гигантского полицейского аппарата в России. Им как будто бы помогает большая и сильная антибольшевистская организация – “Трест”. На самом деле “Трест” этот организован самим ГПУ. Все его явки, квартиры, сотрудники – все чекисты. Террористы переходят советскую границу, прямо попадают в лапы ГПУ, и их расстреливают.
Больше того. Помещение Общевоинского Союза в Париже, в котором ведёт свою антибольшевистскую работу генерал Кутепов, находится в доме, принадлежащем Третьякову, русскому капиталисту, председателю Русского Торгово-Промышленного Союза (объединение крупных торговцев и фабрикантов). И никто не знает, что Третьяков – агент ГПУ, что в стене кабинета Кутепова он установил микрофон, и всё, что делается у Кутепова, сейчас же точно известно ГПУ. Все детали о террористах, которые поедут в Россию, ГПУ знает задолго до их поездки».
Что же касается взрыва, произведённого боевиками в городе на Неве, то ленинградское ГПУ тотчас же арестовало четырёх «монархистов», якобы пособничавших в совершении этого террористического акта и осенью расстреляло их.
Реакция на убийство
Вряд ли Маяковского тяготила необходимость «давать отчёты» о результатах своих вояжей – уж чего-чего, а писать он умел. Правда, с ошибками и без знаков препинания, но правщиков у него было предостаточно.
2 июня «Комсомольская правда» опубликовала стихотворение Маяковского «Господин "народный артист"». Оно предварялось прозаическим пояснением:
«Парижские "Последние известия" пишут: "Шаляпин пожертвовал священнику Георгию Спасскому на русских безработных в Париже 5000 франков. 1000 отдана бывшему морскому агенту, капитану 1-го ранга Дмитриеву…"»
Маяковский прокомментировал эту прозу стихами:
«Ишь сердобольный, / как заботится!
Конечно, / плохо, если жмёт безработица.
Но… / удивляют получающие пропитанье.
Почему / у безработных / званье капитанье?»
Несколько десятков поэтических строк (лесенкой) выражали негодование из-за такой щедрости знаменитого певца. Заканчивалось стихотворение очередным призывом:
«И песня, / и стих – / это бомба и знамя,
и голос певца / поднимает класс,
и тот, / кто сегодня / поёт не с нами,
тот – / против нас.
А тех, / кто пoд ноги атакующим бросится,
с дороги / уберёт / рабочий пинок.
С барина / с белого, / сорвите, наркомпросцы,
народного артиста / красный венок!»
Когда (через пять дней после публикации стихов о Шаляпине) был застрелен Войков, Маяковский откликнулся на это событие сразу, написав несколько стихотворений.
9 июня в «Комсомольской правде» появилось стихотворение «Да или нет?»:
«Сегодня / пулей / наёмной руки
застрелен / товарищ Войков.
Зажмите / горе / в зубах тугих,
волненье / скрутите стойко…
Сегодня / взгляд наш / угрюм и кос,
и гневен / массовый оклик:
– Мы терпим Шанхай… / Стерпим Аркос…
И это стерпим? / Не много ли?».
В тот же день газета «Рабочая Москва» опубликовала другое стихотворение Маяковского – «Слушай, наводчик!»:
«Читаю… / но буквы / казались
мрачнее, чем худший бред:
"Вчера / на Варшавском вокзале
убит / советский полпред"».
В ночь с 10 на 11 июня 1927 года гепеушники прибыли в Столешников переулок Москвы, где в 12-й квартире дома № 5 проживал поэт-имажинист Иван Васильевич Грузинов. В квартире был произведён обыск, а её хозяин арестован. В ОГПУ, куда его доставили, ему предъявили обвинение в «пропаганде, направленной в помощь международной буржуазии».
Похороны Войкова. Тверская улица, 11 июня 1927 г.
11 июня на Красной площади, где проходили похороны Войкова, с речами выступили А.И.Рыков (председатель Совнаркома) и Н.И.Бухарин (глава Коминтерна). В стихотворении «Голос Красной площади» Маяковский прокомментировал выступления большевистских лидеров так:
«Слушайте / голос Рыкова —
народ его голос выковал —
стомиллионный народ
вам / "Берегись!" / орёт.
В уши наймита и барина
лезьте слова Бухарина,
это / мильон партийцев
слился, / чтоб вам противиться.
Крой, / чтоб корона гудела,
рабоче-крестьянская двойка
закончим, / доделаем дело,
за которое – / пал Войков».
12 июня «Комсомольская правда» напечатала сразу ещё два стихотворения Маяковского: «Ну, что ж» и «Призыв». Оба произведения посвящались событиям в Варшаве. Первый стих начинался очень тревожно:
«Раскрыл я / с тихим шорохом
глаза страниц…
И потянуло / порохом
от всех границ».
Через полгода в поэме «Хорошо!» появятся строчки:
«Вот с этим / виделся, / чуть ли не за час.
Смеялся. / Снимался около…
И падает / Войков, / кровью сочась, —
и кровью / газета / намокла».
А ещё через полгода – 13 февраля 1928 года – выступая на диспуте о художественных произведениях, представленных на выставке Совнаркома к десятилетию Октября, Владимир Владимирович уже пугал тех, кто что-то делал не так, как требовалось:
«… революции нет без насилия, нет революции без насилия над старой системой понимания задач в области культуры, и вы, которые идёте по проторенной дорожке старой культуры, вы которые умеете растушёвкой разделывать ноздри у старичков, вы даже молодого не умеете разрисовать, вы себе подписываете смертный приговор».
В стихотворении «Слушай, наводчик!» есть такие строки:
«Паны воркуют. / Чистей голубицы —
не наша вина, мол… / – подвиньтесь, паны,
мы ищем тех, / кто ревóльвер убийцы
наводит на нас / из-за вашей спины.
Не скроете наводчиков!
За шиворот молодчиков!»
В «Призыве» поэт повторил то, что говорилось в разъяснении советского правительства:
«Теперь / к террору / от словесного сора —
перешло / правительство / британских тупиц:
на территорию / нашу / спущена свора
шпионов, / поджигателей, / бандитов, / убийц.
В ответ / на разгул / белогвардейской злобы
твёрже / стой / на посту, / нога!
Смотри напряжённо! / Смотри в оба!
Глаз на врага! / Рука на наган!»
Поэт Бальмонт тоже откликнулся на убийство Войкова Борисом Ковердой – стихотворением «Буква "К"» (вспомнив и других молодых людей, поднимавших руку на большевистских лидеров: Леонида Каннегисера, Фаину Каплан и Мориса Конради):
«Люба мне буква "Ка",
Вокруг неё сияет бисер.
Пусть вечно светит свет венца
Бойцам Каплан и Канегисер.
И да запомнят все, в ком есть
Любовь к родимой, честь во взгляде,
Отмстили попранную честь
Борцы Коверда и Конради».
Тем временем в Москву проникла ещё одна группа белогвардейцев-террористов. Ей удалось заминировать общежитие, в котором проживали сотрудники ОГПУ. Взрыва произвести им не удалось, но сама попытка совершения террористического акта в советской столице сильно встревожила Кремль и Лубянку.
А ушедший из ЦК ВКП(б) Борис Бажанов продолжал работать в Народном комиссариате финансов (Наркомфине). И написал об этом:
«В Наркомфине я беру ещё на себя редактирование “Финансовой газеты”. Это ежедневная газета финансового ведомства, специально занимающаяся финансово-экономическими вопросами. Меня очень интересует газетная техника, а кстати и типографская. Здесь можно многому научиться. Само руководство газетой для меня затруднений не представляет – финансовую политику власти я знаю превосходно; кстати, замена Сокольникова Брюхановым в ней ничего не меняет.
Кроме того, я беру на себя руководство Финансовым издательством. Оно издаёт финансово-экономическую литературу. В нём работает 184 человека».
Собрав всех руководящих работников этого ведомства, Бажанов стал разбираться…
«… что делает Издательство и как. Все ответственные работники на мои деловые вопросы несут утомительную чушь насчёт бдительности, партийной линии, а когда я настаиваю насчёт фактов и цифр, никто ничего не знает, и в конце концов спрашиваемый обращается к очень пожилому человеку, скромно сидящему в самом конце стола за углом: “Товарищ Матвеев, дайте, пожалуйста, цифры”. Товарищ Матвеев сейчас же нужные цифры даёт. Через час я убеждаюсь, что это сборище паразитов, которые ничего не делают, ничего не знают и главное занятие которых – доносы, интриги и подсиживание “по партийной линии”. Я их разгоняю и закрываю заседание. Прошу остаться только товарища Матвеева…»
Выясняется, что товарищ Матвеев – беспартийный специалист, и что работает он в издательстве техническим консультантом. Это единственный человек в учреждении, который всё знает и во всём разбирается. Когда же Бажанов спросил, откуда у него эти знания, тот ответил, что он бывший буржуй-издатель, выпускавший в царской России ту же самую финансово-экономическую литературу.
«Я интересуюсь, как велики были штаты его издательства. Он объясняет, что штатов никаких не было. А кто же был? Да он – издатель, и одна сотрудница, она же секретарша и машинистка. И это всё. А какое помещение вы занимали? Опять же, никакого помещения не было. Была комнатка, в которой за конторкой работал издатель и за столом машинистка. И выполняли они ту же работу, что сейчас 184 паразита, занимающие огромный дом. Для меня это – символ, картина всей советской системы».
После Варшавы
Вернувшийся из зарубежной поездки Маяковский окунулся в повседневные дела. В опубликованном в «Комсомольской правде» стихотворении «Призыв» он неожиданно провозгласил:
«Товарищи, / опасность / вздымается справа,
не доглядишь – / себя вини!
Спайкой, / стройкой, / выдержкой / и расправой
спущенной своре / шею сверни!»
Какую «правую» опасность имел в виду Маяковский и кому призывал «шею свернуть»? Ведь ещё с «левой» опасностью – со стороны левого уклона в партии – большевики не расправились до конца. С чего же вдруг поэт заговорил об опасности справа? Или ему о ней кто-то подсказал?
Скорее всего, так оно и произошло – ведь Маяковский получал самые свежие новости от Агранова и его соратников. Поэтому многое узнавал раньше других и мог оперативно откликаться на события, которым ещё только предстояло произойти.
На помещённую в майском номере журнала «Новый мир» статью Вячеслава Полонского, направленную против лефовцев («Критические заметки. Блеф продолжается»), отвечало стихотворение Маяковского «Венера Милосская и Вячеслав Полонский», напечатанное в майском номере журнала «Новый Леф». Создавая образ недруга лефовцев, поэт подбирал слова пообиднее:
«Он просит передать, / что нет ему житья.
Союз наш / грубоват для тонкого мужчины.
Он много терпит там / от мужичья,
от лефовцев и мастеровщины.
Он просит передать, / что, “леф” и “праф” костя,
в Элладу он плывёт / надклассовым сознаньем».
Под словами, взятыми в кавычки («леф» и «праф»), подразумевались, надо полагать, «левые» и «правые», которым поэт призывал «шею свернуть».
Завершался стих так:
«Товарищ Полонский! / Мы не позволим
любителям / старых дворянских манер
в лицо строителям / тыкать мозоли,
веками / натёртые / у Венер».
Поскольку наступило лето, Маяковский переехал на дачу в Пушкино. Но практически ежедневно он приезжал в Москву и непременно заходил в редакцию газеты «Комсомольская правда», с которой у него началось активное сотрудничество. Любил общаться с журналистами. Был среди них и Михаил Константинович Розенфельд, впоследствии написавший в воспоминаниях:
«Я не был с ним близко знаком, но меня поражало, что он в редакции был совсем другим. Об этом страшно было говорить в те времена, но мне он казался… застенчивым. Человек, который кричит всегда, ругается – и вдруг застенчивый!
Встретишься с ним в коридоре редакции, начнёшь говорить, а он заметно смущается и говорит тихим, спокойным, несколько застенчивым голосом и совсем не горлопанил, не кричал. Он мне казался застенчивым человеком.
Но стоило подойти группе человек в шесть-семь, как он уже совершенно преображался, начинал хорохориться, брать другой тон и уже говорил громко, раскатисто. А с глазу на глаз разговаривал как самый скромный, обычный товарищ по редакции».
В ту пору комсомольская газета часто устраивала читательские конференции, на которых обсуждались самые разные (но непременно животрепещущие) вопросы. Публика на подобные мероприятия почти не ходила – никому не интересно было выслушивать длинные (и, как правило, скучнейшие) доклады, переполненные призывами и лозунгами, которые и без того навязли в зубах. Поэтому (в качестве приманки) программу вечера составляли в двух отделениях: в первом – политический доклад, во втором – художественная часть, то есть выступления известных поэтов, писателей, артистов балета, музыкантов, певцов и так далее.
На этих конференциях появлялся и Владимир Маяковский, чьё участие привлекало народ.
Михаил Розенфельд обратил внимание на то, как вёл себя на этих мероприятиях поэт:
«Если перед началом конференции (а на конференции было человек шестьсот-восемьсот) его окружала рабочая молодёжь, комсомольцы, он с ними тоже никогда не хорохорился, не вёл себя "громко", не шумел. Он к ним прислушивался, не возражал – настолько он уважал этих ребят.
Это же была не аудитория Политехнического музея, где он каждое ехидное слово противников блестяще отбривал. Он тут совершенно не был похож на того Маяковского, которого мы видели в различных литературных домах. Если его спрашивали "Почему ваше стихотворение непонятно?" – он подробно отвечал и убеждал. А ведь он мог бы сразу какой-нибудь остротой "убить" этого человека. Но он с глубоким уважением отвечал! Он очень чутко, внимательно, с большим уважением относился к этим простым рабочим ребятам».
12 июня Маяковский выехал в Тверь и выступил там в городском совете с докладом «Лицо левой литературы» и с чтением стихов. «Тверская правда» через четыре дня дала отчёт:
«Маяковский идёт в первых рядах современной литературы, вернее поэзии. После Демьяна Бедного – его место…
Маяковский, безусловно, ценный для нашей современности писатель. Он – живое эхо своих дней, он – рупор чувств и настроений массы. Но Маяковский далёк от нашего быта, от понимания рабочих и крестьян. Мало рабочих комнат, где бы на этажерке хранилась книжка Маяковского. Писатель надеется на жизнь в грядущих поколениях, – не будем отнимать у него этой надежды, не станем разочаровывать…
Уже и сейчас хорошо воздействует на слушателя этот детина от литературы, бас которого громит с трибуны пошлость, трафарет во всех углах писательства, и от которого веет свежестью и здоровьем».
2 июля газеты сообщили о том, что на аэродром Минска приземлились два польских лётчика. Московский комитет комсомола и редакции газет «Молодой ленинец» и «Комсомольская правда» тотчас объявили «Неделю обороны» (с 10 по 17 июля). А 5 июля «Комсомолка» напечатала стихотворение Маяковского «Сплошная неделя», в котором говорилось, что война может начаться со дня на день:
«Бубнит / вселенная / в ухо нам,
тревогой напоена:
идёт война, / будет война,
война, / война, / война!
На минское поле, / как мухи на блюдце,
поляки, / лётчики, / присели уже!
Говорят: / "заблудились!" – / небось не заблудятся,
не сядут / в Париже / на аэродром Бурже…
Ещё / готовятся, / пока – / не лезут,
пока / дипломатии / улыбка / тонка…
Но будет – / двинут / гром и железо,
танками / на хаты / и по станкам…
Круг сжимается / уже и уже.
Ближе, / ближе / в шпорах нога.
Товарищ, / готовься / во всеоружии
встретить / лезущего врага…»
А 10 июля газета «Рабочая Москва» поместила стихотворение Маяковского «Посмотрим сами, покажем им», в котором тоже был призыв готовиться к войне:
«Сегодня / советской силы показ:
в ответ / на гнев чемберленский
в секунду / наденем / противогаз,
штыки рассияем в блеске».
18 июля в «Пионерской правде» появилось стихотворение Маяковского, которое называлось «Возьмём винтовки новые»:
«Возьмём винтовки новые,
на штык – флажки!
И с песнею / в стрелковые
пойдём кружки.
Раз / два!
Все / в ряд!
Впе-/рёд,
от-/ряд!
Когда / война-метелица
придёт опять —
должны уметь мы целиться,
уметь стрелять.
Ша-/гай
кру-/че!
Цель-/ся
луч-/ше!»
А теперь, наконец, пришла пора вернуться к очередному увлечению Лили Юрьевны Брик.
Часть вторая Огепеушивание бунтарей
Глава первая Жизнь продолжается
Личная жизнь
Александр Михайлов, которого гораздо больше интересовало творчество поэта Владимира Маяковского, чем его романтические увлечения, о лете 1927 года написал:
«Его ждала напряжённая работа дома. Обязательство написать поэму к десятилетию Октября».
А Аркадий Ваксберг, чья книга посвящена не Маяковскому, а Лили Брик, о новом её романе с энтузиазмом сообщал читателям:
«Как раз в это время её отношения с Кулешовым достигли своего пика».
Бенгт Янгфельдт добавил некоторые подробности:
«Лили в естественной для неё манере открыто демонстрировала свои отношения с Кулешовым. Этим она также давала понять Маяковскому, что их любовная связь бесповоротно закончена».
Аркадий Ваксберг:
«Шура Хохлова, потрясённая предательством мужа и коварством "подруги", пыталась покончить с собой»
Лили Брик:
«Шуру остановили на пороге самоубийства, буквально поймали за руку. Из-за чего?».
Когда увлечение Кулешовым завершилось, Лили Юрьевна подвела итог:
«Вот видите – всё благополучно закончилось, никто не пострадал, все снова дружат домами. А что было бы, если бы и вправду из-за таких пустяков люди стали накладывать на себя руки?»
Впрочем, эти слова были произнесены уже в конце года. А в его середине, летом… Ваксберг пишет:
«В июле 1927-го Лиля, ни от кого не таясь, отправилась с Кулешовым в поездку на Кавказ».
Что это была за поездка?
Сам Кулешов о ней написал так:
«Неожиданно я и Хохлова были приглашены в Госкинопром Грузии снимать отличный историко-революционный сценарий Сергея Третьякова "Паровоз Б 1000". Мы уехали в Тбилиси (тогда Тифлис) и начали готовиться к работе… Оператором мне дали молодого человека, бывшего шофёром студии Михаила (Мишако) Калатозова».
В Грузию пригласили Кулешова и Хохлову, а он поехал туда с Лили Юрьевной Брик.
Фотографом на эту картину был утверждён 21-летний молодой человек Роман Лазаревич Корнман, впоследствии ставший знаменитым советским кинорежиссёром Романом Карменом. Здесь мы на время расстанемся со Львом Кулешовым и Лили Брик и обратимся к Маяковскому. Он тоже собирался в это время покинуть Москву – ему предстояли поэтические вечера на Украине, в Крыму и на Кавказе.
Маяковский в это время тоже собирался покинуть Москву – ему предстояли поэтические вечера на Украине, в Крыму и на Кавказе. И вдруг он вновь встретился с Наташей Брюханенко, с которой познакомился год назад, и которая неожиданно куда-то пропала.
Вот что она сама написала о своём внезапном возникновении:
«Получилось так, что встретились мы вновь лишь через год, в июне двадцать седьмого года…
…я неожиданно наскочила на него в бухгалтерии. Скрыться было уже невозможно. Мы поздоровались, и он сразу стал упрекать меня за то, что я прошлым летом от него убежала, "даже не помахав лапкой".
Он пригласил меня в тот же день пообедать с ним. Я согласилась и обещала больше от него не бегать.
С этого дня мы стали встречаться очень часто, почти ежедневно.
Ровно в половине пятого я кончала работу, тогда уже помощника редактора отдела агитпроплитературы, переходила лишь улицу в ресторан “Савой”, там встречалась с Маяковским, и мы с ним обедали. Потом катались на машине, ходили в кино…
Обедали мы не всегда в ресторанах, в “Савое” или в “Гранд-Отеле”, а иногда и в комнате “Редакции ЛЕФа”, причём обед готовила и приносила чья-то домработница Надя, живущая в другой квартире этого дома».
Иными словами, у Маяковского начался очередной роман.
А для Натальи Брюханенко началась новая жизнь. Она продолжала учиться в Московском университете на литературном отделении и потом вспоминала:
«Когда однажды он довёз меня на извозчике до университета, и, конечно, это видел кто-то из студентов, и потом эта новость приняла шумную окраску, я была огорчена, хотя естественнее было бы гордиться тем, что “сам Маяковский” проводил меня, и мы подкатили с ним к университетским воротам».
Бывали случаи, когда проявлялся и необыкновенный характер Маяковского. О них Наталья Брюханенко тоже вспоминала:
«Как-то мы были с ним в кино “Дмитровка, 6”. В фойе была лотерея – надо было с большого листа картона срывать бумажки с номерами. Маяковскому эта медленная процедура погони за счастьем не понравилась, и он купил сразу всю лотерею со всеми номерами – и все выиграл. Выигрыши были – мыло, блокноты, что-то из посуды и тому подобные вещи. Всё это со смехом мы забрали с собой и привезли на квартиру в Гендриков переулок».
Узнала Наталья и другие привычки поэта:
«Маяковский научил меня и тому, что одеколон – не роскошь, и тому, что цветы – не мещанство, и что можно и даже нужно иногда ездить на извозчике и в автомобиле…
Иногда я бывала у него в Лубянском проезде. В это время Маяковский интенсивно работал для "Комсомольской правды". В этой комнате он дописывал очередное стихотворение, придумывал "шапки-заголовки" и лозунги и шёл в редакцию сдавать материал. Редакция "Комсомольской правды" была тогда рядом – только перейти Лубянскую площадь».
Сотрудник «Комсомолки» Михаил Розенфельд в своих воспоминаниях уточнил:
«Старый дом, в котором помещалась редакция “Комсомольской правды”, стоял в переулке сразу за Китайгородской стеной, против площади Дзержинского».
Наталья Брюханенко:
«Я приходила, он усаживал меня на диван или за столик за своей спиной, выдавал мне конфеты, яблоки и какую-нибудь книжку, и я часто подолгу так сидела, скучая. Но я не умела сидеть тихо. То говорила что-нибудь, то копалась в книгах, ища, чем бы заняться, иногда спрашивала его:
– Я вам не мешаю?
И он всегда отвечал:
– Нет, помогаете.
Мне кажется, что не так уж именно моё присутствие было ему нужно, когда он работал. Он просто не любил одиночества и, работая, любил, чтобы кто-нибудь находился рядом».
Роман поэта
Как-то в субботу Маяковский пригласил Наташу поехать с ним в Пушкино – на дачу. Сохранились воспоминания В.А.Катаняна об этом времени – начале июня 1927 года, в них описывается комната в Пушкино, в которой жил Маяковский, и то, что в ней тогда было:
«Ничего не то что лишнего, но и вообще почти ничего. Тахта, небольшой стол, на столе – кожаный бювар, который он носил вместо портфеля, револьвер "Баярд", бритва, две очень хорошие фотографии Ленина и несколько книг».
Вот на эту дачу Маяковский и пригласил Наташу. До понедельника.
Наталья Брюханенко:
«Я обещала. Но в воскресенье утром гизовские товарищи уговорили меня поехать с ними в другое дачное место.
Вечером, вернувшись домой, узнаю, что незадолго до моего возвращения заезжал Маяковский, спрашивал меня и оставил записку:
“Я встревожился, не захворали ли Вы и бросился навещать. Рад, что не застал – это очевидное свидетельство Вашего здоровья. Зайду завтра в 5 часов. Если Вы не сможете быть, или Вам понравится не быть – очень прошу черкануть слово.
Привет. Вл. Маяковский”.
Потом я узнала, что он меня очень ждал на даче всё утро, несколько раз ходил встречать на станцию, а под вечер, когда стало ясно, что я уже не приеду, поехал в город и ко мне домой. Я не знала ещё тогда его аккуратности и требовательности к выполнению уговора. Но я обманула его не только в тот раз, с приездом на дачу, а вообще иногда опаздывала на свидания. Он огорчался и сердился на это. Я оправдывалась, ссылаясь на отсутствие часов, хотя задерживалась по совершенно другим причинам.
Тогда однажды Маяковский без предупреждения привёл меня в часовой магазин неподалёку от Госиздата на Кузнецком мосту, купил часы и надел их мне на руку. Деваться было некуда! С тех пор я стала являться в назначенный час очень аккуратно».
Видимо, после этого Наташа была ещё раз приглашена на дачу. Она захватила с собой из библиотеки только что вышедшую книгу стихов поэта Иосифа Уткина и вместе с Маяковским отправилась на вокзал. Там Владимир Владимирович купил несколько номеров свежих журналов.
«Когда мы расположились в вагоне читать, и Маяковский увидел у меня Уткина, он спокойно и молча взял у меня из рук книжку и выбросил её в окно.
Сам он во всех журналах – "Новый мир", "Красная нива" – разрезал, вернее, разрывал пальцем только отдел поэзии, прочитывал стихи и выбрасывал весь журнал в окно, как, не задумываясь, выбрасывают в окно вагона окурок. До дачи мы довезли только номер "Нового Лефа"».
Кстати, о поэте Иосифе Павловиче Уткине. Было ему тогда 24 года. Борис Бажанов о нём написал:
«В Доме поэтов Уткин читал своё последнее, чрезвычайно благонамеренное стихотворение:
Застлало пряжею туманной
Весь левый склон, береговой.
По склону поступью чеканной
Советский ходит часовой.
Советского часового на берегу Днестра убивает стрелок-белогвардеец с румынского берега. Уткин топит белогвардейца в советском патриотическом негодовании.
Уткин кончил. Сейчас будет пора похлопать. Вдруг раздаётся нарочито густой бас Маяковского: “Старайся, старайся, Уткин, Гусевым будешь!” (член ЦК Гусев заведовал в это время Отделом Печати ЦК)».
Но вернёмся к Владимиру Маяковскому и Наташе Брюханенко.
Галина Дмитриевна Катанян в тот день тоже приехала на дачу в Пушкино:
«Маяковский знакомит меня с Наташей Брюханенко и вопросительно смотрит на меня.
Чувствуя, что я попала не во время, я начинаю бормотать, что я приехала снять дачу… Вася говорил, чтобы зайти к вам…
– А, да, да… Сейчас позову кого-нибудь из хозяев, они всех тут знают. Садитесь, пейте чай…
Он наливает мне чашку, пододвигает хлеб, масло, варенье – но всё это делается машинально. По лицу его бродит улыбка, он рассеян, и, выполнив свои хозяйские обязанности, он снова садится рядом с Наташей.
И тотчас же забывает обо мне…
Такой красавицы я ещё не видела. Она высокая, крупная, с гордо посаженной головкой. От неё исходит какое-то сияние, сияют ямочки на щеках, белозубая, румяная улыбка, серые глаза. На ней белая полотняная блуза с матросским воротничком, русые волосы повязаны красной косынкой. Этакая Юнона в комсомольском обличии.
– Красивая? – спрашивает Маяковский, заметивший мой взгляд.
Я молча киваю.
Девушка вспыхивает и делается ещё красивее…
Сначала мне немного неловко, но потом я понимаю, что не мешаю им, так они поглощены друг другом…
Изредка он коротко спрашивает её о чём-нибудь, она односложно отвечает… Папироса в углу его рта перестаёт дымиться, он не замечает этого и сидит с потухшей папиросой…
Покрытые лёгким загаром девичьи руки спокойно сложены на столе. Они нежные и сильные – и добрая, большая, более светлая рука прижимает её ладонь к своей щеке.
… по-моему, они даже не заметили, что я ушла».
А Наталья Брюханенко вспомнила ещё и о походе в лес за грибами:
«Маяковский ходил по лесу очень сосредоточенно, ни о чём не разговаривая. Изредка останавливался и тростью ковырял листья и землю… Мне было странно смотреть, как такой огромный дядя, да ещё “сам Маяковский”, наклоняется за каким-нибудь маленьким грибком или так простодушно радуется, когда найдёт особенно хороший белый гриб».
В тот момент вышел пятый том собрания сочинений Маяковского (его выпустили первым). Одну книжку Владимир Владимирович подарил Льву Кулешову с надписью и рисунком. Кулешов потом вспоминал:
«… поэт нарисовал летящую птичку, держащую в клюве книгу с цифрой "V", и написал:
"Льву Владимрычу.
Иссяк… и строчки никак не выворочу"».
Но, даря этот же пятый том своей «красивой девушке», Маяковский слова нашёл:
«НАТАЛОЧКЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ
Гулять / встречаться / есть и пить
давай / держась минуты сказанной.
Друг друга / можно не любить
но аккуратным быть / обязаны».
Вручив книгу Наташе, Владимир Владимирович показал ей своё рукописное посвящение и, как пишет Наталия Александровна…
«… заставил меня подписаться:
"Согласна
Н. Брюханенко
11 / VII – 27."»
22 июля Луначарский вручил Маяковскому очередное «командировочное удостоверение»:
«Предъявитель сего поэт Владимир Маяковский отправляется для чтения лекций в города Сталино, Харьков, Луганск, Артёмовск, Симферополь, Ялта, Новороссийск, Баку, Батум, Тифлис, Кутаис. Наркомпрос просит оказывать тов. Маяковскому полное содействие в его поездке и работе».
И 24 июля поэт отправился в это турне.
Павел Лавут:
«Ещё до отъезда на юг Маяковский как-то спросил меня:
– Вы не будете возражать против того, чтобы я вставил вас в поэму?
– Каким образом я туда попаду?
– Помните ваш рассказ о бегстве Врангеля? Не зря я вас тогда мучил. Начало готово такое:
“Мне рассказывал тихий еврей
Павел Ильич Лавут…”».
У Лавута возражений не было.
Арест и «читка»
О выступлении Маяковского в столице Украины – Павел Лавут:
«В Харькове он встретил С.Кирсанова и пригласил его выступить в тот же день вместе с ним. Он уговорил Кирсанова продолжать совместную работу и в Донбассе и снова в Харькове – на обратном пути».
А в Тифлисе в это время Лев Кулешов и Лили Брик готовились к съёмкам фильма «Паровоз Б 1000». И вдруг…
В воспоминаниях Льва Кулешова об этом сказано так:
«… неожиданно меня арестовали (не по политическим причинам).
В чём меня обвиняли? В том, что я – самозванец и выдаю себя за "известного Кулешова"».
Напомним, что председателем ГПУ при Совнаркоме Грузинской ССР был тогда недавно назначенный на этот пост Лаврентий Павлович Берия. Так что вся история с арестом Кулешова проходила под непосредственном руководством гепеушного шефа и его ближайшего помощника Всеволода Меркулова.
Лев Кулешов:
«Разумеется, это трагикомическое недоразумение быстро разъяснилось, но всё-таки за решёткой я просидел пять дней.
Продолжать в Тбилиси постановку фильма нам сразу расхотелось. И мы начали немедленно собираться в Москву.
Нас любезно и предупредительно провожали, устроили товарный вагон для моего мотоцикла с коляской, посадили нас с Хохловой в отдельное купе международного вагона и даже преподнесли цветы».
Организовал проводы Кулешова Всеволод Меркулов, который крепко подружился с бывшим подследственным. Что же касается посадки Кулешова и Хохловой в международный вагон, то тут режиссёр явно лукавит – ведь в «отдельное купе» его посадили не «с Хохловой», а с Лили Юрьевной Брик.
Вся эта загадочная история невольно наталкивает на мысль о том, а не на Лубянке ли была задумана «любовь» Лили Брик и Льва Кулешова? Ведь в ОГПУ, видимо, очень хотели, чтобы талантливый кинорежиссёр стал гепеушным осведомителем. Но своенравный Кулешов, надо полагать, никак на это не соглашался. И тогда к делу подключили проверенного агента – Лили Юрьевну Брик. Инцидент в Тифлисе тоже, скорее всего, входил в гепеушный сценарий: гордому режиссёру хотели показать разницу между «нашими» (с теми, кто сотрудничает с органами) и «ненашими» (с теми, кто сотрудничать отказывается). Вот его и посадили за решётку.
Как бы там ни было, но Лили Брик потом написала (весьма неточно указав даты событий – вероятно, запамятовала):
«20 июля 1927 года, перед моим отъездом с Кавказа в Москву, я получила от Маяковского телеграмму: "Понедельник 15-го читаю лекцию Харькове твой поезд будет Харькове понедельник 12.30 ночи встречу вокзале".
Мы не виделись почти месяц, и, когда ночью в Харькове я увидела его на платформе, и он сказал: "Ну, чего ты едешь в Москву? Оставайся на денёк в Харькове, я тебе новые стихи прочту", – мы еле успели вытащить чемодан в окно вагона, и я осталась. Как Маяковский обрадовался! Он больше всего на свете любил внезапные проявления чувства».
Лев Кулешов поехал в Москву один (вместе со своим мотоциклом с коляской). А его недавнюю спутницу Маяковский повёз в харьковскую гостиницу.
Лили Брик:
«Помню в гостинице традиционный графин воды и стакан на столике, за который мы сели, и он тут же, ночью, прочёл мне только что законченные 13-ю и 14-ю главы поэмы "Хорошо!"»
Тринадцатая глава начиналась с описания комнаты, в которой поселились переехавшие в Москву из Петрограда Брики и Маяковский:
«Двенадцать / квадратных метров жилья.
Четверо / в помещении —
Лиля, / Ося, / я
и собака / Щеник».
Далее следовал рассказ о той жутко холодной поре:
«Я / много / в тёплых странах плутал.
Но только / в этой зиме
понятной / стала / мне / теплота
любовей, / дружб / и семей».
Заканчивалась глава признанием:
«Землю, / где воздух, / как сладкий морс,
бросишь / и мчишь, колеся, —
но землю, / с которою / вместе мёрз,
вовек / разлюбить нельзя».
Четырнадцатая глава рассказывала о голоде:
«Не домой, / не на суп,
а к любимой / в гости
две / морковинки / несу
за зелёный хвостик.
Я / много дарил / конфет да букетов,
но больше / всех / дорогих даров
я помню / морковь драгоценную эту
и пол-/полена / берёзовых дров».
Затем шло ещё одно признание поэта:
«Если / я / чего написал,
если / чего / сказал —
тому виной / глаза-небеса,
любимой / моей / глаза».
Завершалась глава признанием-выводом:
«Можно / забыть, / где и когда
пузы растил / и зобы,
но землю, / в которой / вдвоём голодал, —
нельзя / никогда / забыть».
Эту читку двух глав поэмы можно считать своеобразным объяснением в любви, которая ещё не погасла. Ради неё стоило просить Лилю Брик сделать незапланированную остановку в городе Харькове.
А Борис Бажанов в тот момент, досконально изучив все возможности перехода границы страны Советов, нашёл, наконец, место, где это сделать было не очень трудно:
«Я решаю бежать в Персию из Туркмении. Но сначала надо попасть в Туркмению, которая подчинена Среднеазиатскому бюро ЦК партии.
От Финансового факультета я отделываюсь легко – здесь я хозяин…
Затем я делаю экскурсию в Орграспред ЦК, предлагая послать меня в распоряжение Среднеазиатского бюро ЦК… И я получаю путёвку “в распоряжение Среднеазиатского бюро ЦК на ответственную работу”.
С этой путёвкой я приезжаю в Ташкент и являюсь к секретарю Среднеазиатского бюро ЦК Зеленскому. Это тот самый Зеленский, который был секретарём Московского Комитета и проморгал оппозицию осенью 1923 года. Тогда тройка решила, что он слишком слаб для Московской организации, самой важной в стране, и отправила его хозяйничать в Среднюю Азию.
Зеленский удивлён моему приезду (и несколько озабочен): что это? глаз Сталина?».
Но Бажанов успокоил Исаака Абрамовича Зеленского, сообщив ему о своём желании потрудиться на «низовой работе», то есть поехать «подальше в глухие места». И тотчас получил новую путёвку – «в распоряжение ЦК Туркмении»:
«Из Ташкента я не еду в Ашхабад, а возвращаюсь в Москву проститься с друзьями и с Москвой – вернусь ли я когда-нибудь на родину?»
А Яков Блюмкин в это время продолжал работать в Улан-Баторе. Он потребовал от монгольских властей, чтобы ему разрешили расстреливать на месте любого, вызвавшего у него подозрения во враждебных намерениях. Ему разрешили.
Кирсанов и Брюханенко
Из Харькова Лили Брик отправилась в Москву, а Маяковский поехал в Луганск, где 27 июля 1927 года в клубе металлистов сделал доклад «Лицо левой литературы». На следующий день «Луганская правда» написала:
«Во втором отделении Маяковский и молодой поэт Кирсанов читали свои стихи и имели большой успех у публики».
Павел Лавут:
«Всё было бы великолепно, кабы в гостинице не замучили клопы. Своего отвращения к ним и, больше того, своего страха перед ними Маяковский не скрывал, недаром пьесу свою он назвал "Клоп". Не спали всю ночь. Маяковский и Кирсанов пробовали перебраться на пол, но насекомые и там их нашли».
Затем было намечено выступление в городе Сталино (ныне – Донецк). Павел Лавут пишет, что от города Ясиноватая, где оказались поэты, до места назначения было…
«… около двадцати километров. Наняли тачанку. Возница заметил:
– Есть две дороги – подлиннее и получше, покороче и похуже.
Выбрали подлиннее. Тогда возница равнодушно добавил:
– Но здесь, бывает, и грабят!
Маяковский приготовил на всякий случай револьвер. Под сиденье потянулся и Кирсанов – вынул из чемодана допотопный наган, притом незаряженный».
Отчитав после Сталино ещё раз в Харькове, Маяковский расстался с Кирсановым и 2 августа поехал в Ялту.
Из Крыма он послал две телеграммы: Лили Брик («Целую Точка Люблю») и Наташе Брюханенко:
«СРОЧНАЯ МОСКВА ГОСИЗДАТ БРЮХОНЕНКО ОЧЕНЬ ЖДУ ТОЧКА ВЫЕЗЖАЙТЕ ТРИНАДЦАТОГО ВСТРЕЧУ СЕВАСТОПОЛЕ ТОЧКА БЕРИТЕ БИЛЕТ СЕГОДНЯ ТОЧКА ТЕЛЕГРАФЬТЕ ПОДРОБНО ЯЛТА ГОСТИНИЦА РОССИЯ ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ МАЯКОВСКИЙ».
Однако купить билет в тот день Наташа не смогла, и 4 августа получила ещё одну срочную телеграмму:
«ЖДУ ТЕЛЕГРАММУ ДЕНЬ ЧАС ПРИЕЗДА ТОЧКА ПРИЕЗЖАЙТЕ СКОРЕЕ НАДЕЮСЬ ПРОБУДЕМ ЗДЕСЬ ВМЕСТЕ ВЕСЬ ВАШ ОТПУСК ТОЧКА УБЕЖДЕННО СКУЧАЮ МАЯКОВСКИЙ».
Об этих посланиях Наталья потом писала:
«Срочные телеграммы с адресом "Москва Госиздат Брюхоненко" действовали в учреждении так, что приносил их мне торжественно сам заведующий экспедицией, а не просто курьер».
На этот раз билет был куплен, и, оформив отпуск, Наталья Александровна отбыла в Крым.
«Подъезжаем к Севастополю. Раннее утро, а по перрону шагает Маяковский. Загоревший, красивый, такой спокойный и довольный. Мы очень радостно встретились.
Оказывается, Маяковский ещё накануне приехал из Ялты, чтоб встретить меня. Ранним утром побрился, нарядился и пошёл встречать. Об этом он мне рассказал и добавил:
– Цените это!..
В Ялте для меня была приготовлена комната в гостинице "Россия"».
Наташа обратила внимание и на то, как обращался к ней знаменитый на всю страну поэт:
«Звал меня Маяковский большей частью очень ласково – Наталочка. Когда представлял кому-нибудь чужому, говорил:
– Мой товарищ-девушка.
Иногда, хваля меня кому-нибудь из знакомых, добавлял:
– Это трудовой щенок!
Часто и мне говорил:
– Вы очень симпатичный трудовой щенок, только очень горластый щенок, – добавлял он с укором. – Ну почему вы так орёте? Я больше вас, знаменитей вас, а хожу по улицам совершенно тихо…
Громко Маяковский говорил только на эстраде. Дома же говорил почти тихо. Никогда громко не смеялся. Чаще всего вместо смеха была улыбка. А когда на выступлениях из публики просили сказать что-нибудь погромче – он объяснял:
– Я громче не буду, могу всех сдуть…
Я же всегда говорила очень громко – и дома, и на улице, и он часто останавливал меня:
– Я ведь лирик. Надо со мной говорить тихо, ласково».
Вот так оно начиналось – то крымское лето, вдвоём с очаровательной «товарищ-девушкой», которая потом написала:
«… я бывала на всех выступлениях Маяковского! Каждый вечер я слушала, как он читал стихи».
Но 10 августа Маяковский отправил Лили Брик письмо:
«Дорогой, родной, любимый Лучик!..
Я живу в Ялте, вернее, это так называется, потому что езжу читать во все имеющиеся стороны…
Живу в Ялте с Горожаниным, с ним же в большинстве случаев разъезжаю».
Далее в письме следуют просьбы, вопросы, а заканчивается оно так:
«Будь добра, родненькая, ответь мне на всё подробным письмом на Ялту.
Целую тебя и скучаю.
Весь твой Счен».
А ведь в этот момент рядом со «Сченом» находился не только Горожанин (о нём речь впереди), но и Лавут, а также Наташа Брюханенко, «трудовой щенок»!
Кстати, она довольно подробно описала, как организовывались «чтения» или «вечера» Маяковского:
«Администратор Лавут устраивал эти вечера так: сначала по городу или курортному посёлку расклеивались афиши, на которых огромными буквами было напечатано одно слово:
МАЯКОВСКИЙ
Когда все узнавали о его приезде и заинтересованные ждали – где? и когда? – появлялась вторая афиша с точным указанием дня, места выступления с тезисами разговора-доклада».
Павел Лавут:
«Что удивляло и привлекало в авторских вечерах поэта? Пожалуй, всё: разговор с аудиторией, стихи, темперамент, ораторский дар и полемический задор, разящее остроумие. Но главное всё же стихи с их разговорными интонациями, разнообразием размера и ритма, непринуждённостью в переходах не только от одной строфы к другой, но и от строки к строке, а порой – от слова к слову».
Наташа описала, как проходили эти «авторские вечера»:
«Тогда в Крыму каждое выступление начиналось так: Маяковский выходил на эстраду, рассматривал публику, снимал пиджак, вешал его на стул. Затем вынимал из кармана свой плоский стаканчик и ставил его рядом с графином воды и бутылкой нарзана.
Из публики сразу начинались вопросы и летели записки: "Как вы относитесь к Пушкину?", "Почему так дороги билеты на ваш вечер?"
– Это неприлично подтягивать штаны перед публикой! – кричит кто-то.
– А разве приличнее, чтоб они у меня упали? – спрашивает Маяковский.
– А женщины больше любят Пушкина! – снова выкрикивает какая-то задира.
– Не может быть! Пушкин мёртвый, а я живой!
Темы разговора были: против есенинщины, против мещанства, против пошлятины, черёмух и лун. За настоящие стихи, за новый быт…
Однажды в Ялте, в городском саду, Маяковский выступал на открытой сцене. Рядом шумело море. Вдруг поднялся сильный ветер, срывая листья с деревьев, закружил их по эстраде и разметал бумажки на столе.
– Представление идёт в пышных декорациях! – торжественно сказал Маяковский. – А вы говорите – билеты дорогие!».
22 августа состоялось выступление Маяковского в Ливадийском дворце, бывшей летней резиденцией царской семьи. Дворец был превращён в санаторий для крестьян. Об этом – стихотворение «Чудеса!»:
«Звонок. / Луна / отодвинулась тусклая,
и я, / в электричестве, / стою на эстраде.
Сидят предо мною / рязанские, / тульские,
почёсывают бороды русские,
ерошат пальцами / русые пряди…
Пусть тот, / кто Советам / не знает цену,
со мною станет / от радости пьяным:
где можно / ещё / читать во дворце —
что? / Стихи! / Кому? / Крестьянам!»
Торжественный день
24 августа 1927 года было обнародовано постановление Совнаркома РСФСР о лишении Фёдора Ивановича Шаляпина звания Народного артиста и права возвращения на родину. Обосновывалось это тем, что он якобы не хотел «вернуться в Россию и обслужить тот народ, звание артиста которого было ему присвоено».
Чтобы сообщить об этом решении певцу, полпред СССР во Франции Христиан Раковский вызвал жившего в Париже Шаляпина в советское полпредство. О том, что там произошло, написал писатель Лев Разгон:
«По словам Христиана Георгиевича, Шаляпин не давал никаких поводов для репрессий. Не принимал участия в эмигрантских акциях, радостно принимал приглашения на приёмы в посольство, пел на вечерах и приёмах, которые посольство устраивало по торжественным поводам. Никаких денег он эмигрантам не давал. Во-первых, потому, что совсем не любил давать кому бы то ни было своих денег, и, во-вторых, потому, что вёл себя по отношению к активной части эмигрантов очень осторожно. Но любил бывать в русской церкви, находившейся неподалёку от посольства, и иногда петь на клиросе вместе со знаменитым церковным хором Афонского.
Церковь устроила для своих бедных прихожан, т. е., конечно, эмигрантов, платный концерт хора Афонского. И пригласила участвовать своего прихожанина Шаляпина. И тот, естественно, не отказался. Сам посол не придал этому никакого значения, но в посольстве было достаточное количество осведомителей разного ранга. И они – доложили… Очевидно, в Москве указание о лишении Шаляпина советского паспорта было дано тем, чьи приказы не оспаривались…
Раковский объявлял Шаляпину этот жестокий и несправедливый приказ со всей мягкостью и тактичностью, на которую был способен. И тем не менее, рассказывал он, Шаляпин разрыдался. Его с трудом удалось успокоить, он вышел из посольства заплаканный и озлобленный, чтобы больше никогда не возвращаться ни в посольство, ни на родину. Рассказывая об этом эпизоде, Раковский, понятное дело, не выражал никакого осуждения приказу из Москвы, но даже его ортодоксальным слушателям была очевидна дикая несправедливость по отношению к артисту и к русскому искусству».
Маяковский об этом, конечно же, ничего не знал. К тому же приближалось событие, которое занимало тогда все его мысли.
Павел Лавут:
«Маяковский любил угощать: фрукты – всегда горой, коробки конфет (которых он сам почти не ел!)…»
26 августа Наташа Брюханенко отмечала свои именины, и Маяковский вручил ей с утра букет роз, такой огромный, что уместиться он смог только в ведре.
Наталья Брюханенко, 1927 г.
Затем, когда весёлой компанией вышли прогуляться по набережной, Владимир Владимирович принялся заходить во все магазинчики и лавки и покупать в них одеколон. Но не всякий, а «самый дорогой и красивый, в больших витых флаконах». Затем настала очередь цветов, которые Маяковский тоже принялся скупать.
«Я запротестовала – ведь уже целое ведро роз стоит у меня в номере!
– Один букет – это мелочь, – сказал Маяковский. – Мне хочется, чтоб вы вспоминали, как вам подарили не ОДИН букет, а ОДИН КИОСК роз и ВЕСЬ одеколон города Ялты!
И это было ещё не всё. Оказывается, накануне он заказал какому-то повару огромный именинный торт, и вечером были приглашены гости из числа его знакомых, а также моя приятельница…»
Но в тот же день Маяковский отправил телеграмму Брикам, сообщая:
«…Третьего еду лекции Кисловодск. Около пятнадцатого радостный буду Москве. Целую мою единственную кисячью осячью семью.
Весь ваш С ч е н».
Слухи о том, что Маяковского всюду сопровождает очень красивая молодая женщина, на которой, судя по всему, он собирается жениться, всё-таки долетели до Москвы и стали известны Лили Брик. Она тут же отправила в Ялту встревоженное письмо, о котором Галина Катанян написала так:
«С дачи в Пушкино Лиля писала: “Володя, до меня отовсюду доходят слухи, что ты собираешься жениться. Не делай этого…”
Фраза эта так поразила меня, что я запомнила её дословно».
А вот что на самом деле было в письме Лили Брик Маяковскому:
«Ужасно крепко тебя люблю. Пожалуйста, не женись всерьёз, а то меня все всерьёз уверяют, что ты страшно влюблён и обязательно женишься! Мы все трое женаты друг на дружке и нам жениться больше нельзя – грех».
Что ответил на эту просьбу Маяковский, неизвестно. Да ему и не до писем было – график выступлений был очень напряжённый. Крымские города и посёлки сменялись очень быстро.
Наталья Брюханенко описала Маяковского во время той поездки. Так, к примеру, из Симферополя в Евпаторию их попутчицей была Ирина Щёголева, жена художника Натана Альтмана. Так вот она и Владимир Владимирович…
«… в пустом тёмном вагоне почти всю дорогу пели, устроив нечто вроде конкурса на пошлый романс. Пели, стоя у раскрытого окна. Это было очень ново для меня и интересно…
Я совсем не знала этих романсов. Студенты пели тогда "Молодую гвардию" или "Даёшь Варшаву, дай Берлин", и других песен я не знала».
Итак, Маяковский вдруг запел. Здесь, пожалуй, самое время привести высказывание по этому поводу профессионального певца и музыканта Николая Хлёстова. Он писал:
«Многие слышали, как читал Маяковский стихи, свои и чужие, но вот как Маяковский пел, мало кто слышал, а он любил петь.
Кстати сказать, мне приходилось слышать, будто он не имел музыкального слуха. Это неверно. Музыкальный слух у него безусловно был. Он запоминал музыкальные произведения и при повторении их точно называл пьесу и автора.
Голос – бас – у него тяжёлый, большой, ему было трудно с ним справиться. Он мог петь только в низких регистрах… Но к голосу Маяковского надо было подладиться. Я умел это делать, и у нас получалось неплохо».
Когда из Симферополя ехали в Ялту автобусом, то, по словам Натальи…
«… Маяковский купил нам на двоих три места, чтоб не было тесно сидеть».
Вскоре выступления в Крыму закончились – Маяковского ждал Северный Кавказ.
Тем временем покинувший Ташкент Борис Бажанов вернулся в Москву:
«Мне нужно не только проститься с друзьями. Надо обдумать, как сделать так, чтобы для них риск от моего побега был наименьший. После моего бегства ГПУ бросится искать, принадлежал ли я к какой-нибудь антикоммунистической организации, и кто со мной связан. Риск для друзей очень велик.
Друзья мне подают такую идею: когда ты будешь за границей и будешь писать о Москве и коммунизме, сделай вид, что ты стал антикоммунистом не в Политбюро, а за два года раньше – прежде, чем пришёл работать в ЦК… ГПУ и Ягода сейчас же за твоё признание ухватятся: “Ага, вот наш чекистский нюх, мы сразу же определили, что он – контрреволюционер”. Но тогда в поисках какой-то твоей организации они пойдут по ложному следу».
Бажанов так и поступил.
1 сентября 1927 года Особое совещание (ОСО) при коллегии ОГПУ постановило: поэта-имажиниста Грузинова Ивана Васильевича за «пропаганду, направленную в помощь международной буржуазии» выслать в Сибирь сроком на 3 года. Местом ссылки ему был определён город Киренск Иркутской губернии.
Кавказское турне
В начале сентября 1927 года Маяковский и те, кто его сопровождал (Наталья Брюханенко, Павел Лавут и Валерий Горожанин), сели в Ялте на пароход и отправились в Новороссийск.
Павел Лавут:
«Второго сентября 1927 года, точнее – в ночь на третье произошло землетрясение в Крыму.
Маяковский за несколько часов до этого отплыл из Ялты в Новороссийск. Казалось, повезло. Но не совсем. Землетрясение настигло его в открытом море. Ночью внезапно разыгрался сильнейший шторм».
Как утром сообщил пассажирам капитан, шторм был девятибалльный.
Наталья Брюханенко:
«Волны перекатывались через верхнюю палубу, и было довольно страшно. Та к как я знала, что меня укачивает, я решила не спускаться в каюту, а остаться лежать на скамье палубы, на воздухе. Маяковский принёс из каюты тёплое одеяло, укрыл им меня и потом среди ночи несколько раз поднимался наверх навещать меня и заботился обо мне очень трогательно.
Не знаю, когда он написал
…нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку…
но я всегда вспоминаю, что тогда, во время шторма на Чёрном море, это было именно так.
Маяковский потом говорил об этой ночи, что "Черноморско-Атлантический океан разбушевался всерьёз".
Наутро, когда наш пароход с большим опозданием, наконец, прибыл в Новороссийск, мы узнали, что в предыдущую ночь в Крыму было землетрясение».
Далее предстоял путь по железной дороге. На станции Тихорецкая, где должна была произойти пересадка на Минеральные Воды, поезда ждали несколько часов.
Наталья Брюханенко:
«На пыльной площади вокзала стояли два запряжённых верблюда, Маяковский принёс им какую-то еду из вокзального ресторана и кормил их.
Потом он купил в киоске "Записки адъютанта Май-Маевского" и, не видя и не слыша ничего и никого, читал всё время, пока не окончил книжку».
Этот сверхповышенный интерес поэта к каким-то «Запискам» вполне объясним – ведь именно по ним сорок лет спустя был снят нашумевший телесериал «Адъютант его превосходительства» по книге Павла Васильевича Макарова «Адъютант генерала Май-Маевского (из воспоминаний начальника отряда красных партизан в Крыму)».
На Северном Кавказе выступления Маяковского продолжились.
Наталья Брюханенко:
«Помню, как он устраивал нечто вроде литературных игр. <…> Или заставлял всех присутствовавших состязаться в переделывании пословиц или предлагал сочинять слова. Конечно, ни у кого это не выходило, как у него. Не совру, если скажу, что слово "кипарисы" он, переделывая, твердил часами:
Ри-па-ки-сы
Си-па-ки-ры
Ри-сы-па-ки.
И т. д.
И тут же стал вертеть слово "кукуруза": ру-ку-ку-за, зу-ку-ку-ра…
Помню, переделку пословицы "Не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь!"»
Выступления Маяковского были запланированы в Пятигорске, Железноводске, Ессентуках и в Кисловодске.
Павел Лавут:
«В кисловодском "Гранд-отеле" для Маяковского и его спутников – Наташи Брюханенко и Валерия Горожанина – были забронированы три номера».
6 сентября в Пятигорске состоялась лекция-доклад «Всем – всё».
И вдруг начался грипп.
Намеченные выступления в Железноводске (7-го сентября), в Кисловодске (8-го) и в Ессентуках (9-го) были отменены.
Наталья Брюханенко:
«Больной он становился очень мнительным, и сразу у него делалось плохое настроение. Когда к нему пригласили доктора Авазова, Маяковский стал спрашивать у него, не туберкулёз ли горла это, не рак ли пищевода. Тот разуверил его, успокаивал, но всё же Маяковский лежал очень грустный и писал телеграммы в Москву, домой, Лиле и Осе».
Павел Лавут добавил такие подробности:
«Десятки раз больной мерил температуру. Порой он ставил градусник по три-четыре раза кряду. Часто вынимал термометр раньше положенных минут, посмотрит на него, и обратно».
11 сентября поэт всё же выступил в Ессентуках, а 13 числа – в Кисловодске, в Нижнем парке, всё с той же лекцией-докладом «Всем – всё». Оказавшийся в тот момент на Северном Кавказе Александр Тихонов (Серебров) вспоминал:
«Вечер был сырой и туманный – после дождя. На скамейках концертной площадки чернели лужицы. Публики было мало.
Маяковский, заложив пальцы за жилет, шагал вдоль тусклой рампы и, не глядя на публику, чугунным голосом читал стихи.
– Громче! – кричали ему из рядов.
– А вы потише! – отвечал он с эстрады.
Ему бросали записки. Записки были дурацкие. Он отвечал на них резко, кулаком по башке. Одну спрятал в жилетный карман.
– Вам вместо меня ответит ГПУ.
– Не препятствуй! – заорал от забора пьяный курортник. – За тебя деньги плачены!.. Три рубли…
– А вам бы, гражданин, лучше в пивную! Там дешевле! – ответил Маяковский под смех и аплодисменты.
Молодёжь, прильнув к барьеру, ожесточённо хлопала ладонями, Маяковский оживился.
– Мы вас любим!.. Приезжайте ещё! – сказала бойкая девушка, взметнула кудрями и подала ему цветы.
В каморке за концертной раковиной Маяковский подарил букет пожилой уборщице. Прежде чем взять цветы, она вытерла руки об халат и приняла букет, как грудного ребёнка».
После концерта Маяковский, Наташа Брюханенко, Александр Тихонов, Валерий Горожанин и Павел Лавут отправились ужинать в шашлычную. Тихонов пишет:
«– За каким чёртом они ходят меня слушать? – говорил Маяковский, сидя в шашлычной. Голову он подпирал кулаком, а в углу рта висела папироса. – Из двадцати записок – половина ругательных… Что я им – забор, что ли, чтобы марать на мне матерщину? И откуда их столько понаехало? Был буржуй, а теперь прёт мещанин с канарейкой…
У Маяковского было много врагов. Он называл их "буржуями", "фармацевтами" и "обозной сволочью". Они травили Маяковского в прессе, гоготали на его пьесах, дружески внушали ему, что он исписался, и ехидно спрашивали, когда же он, наконец, застрелится.
Горький не раз его учил, что "в драке надо всегда считать себя сильнее противника". Маяковский не всегда следовал этому совету.
На эстраде и вообще на людях он держался плакатно, а кто знает, сколько ночей он провёл без сна, мучаясь от тоски, уязвлённого самолюбия и неуверенности в своих силах».
Ужин в шашлычной был заодно и прощанием с Северным Кавказом. Вечером Маяковский и сопровождавшие его лица сели в поезд. Видимо, в вагоне по пути домой поэт и сказал своему администратору Лавуту слова, которые тому запомнились:
«– Между нами говоря, у меня есть такая мысль: всю свою продукцию сдавать в одно место, в Госиздат, например, а он пусть платит мне зарплату – ну, скажем, рублей пятьсот в месяц. Я думаю, что в конце концов так оно и будет».
15 сентября поезд пришёл в Москву. Брюханенко вспоминала:
«Маяковского встречали Лиля и Рита Райт. Лилю я увидела тогда впервые…
Лилю я на вокзале видела секунду, так как сразу метнулась в сторону и уехала домой. Я даже не могу сказать, какое у меня осталось впечатление об этой замечательной женщине».
Лили Брик тогда заканчивала работу над фильмом «Серебряный глаз», в котором снималась актриса Московского Художественного театра Вероника Полонская. Аркадий Ваксберг написал, что Лили Юрьевна:
«…вероятно, была не прочь, чтобы Маяковский слегка приударил за хорошенькой – не более того, как ей тогда казалось, – к тому же замужней актрисой. Тогда из этого ничего не вышло – Маяковский на съёмочной площадке не появлялся, и надобности в специальном знакомстве не было никакого: отношения Маяковского с Натальей Брюханенко всё ещё продолжались, хотя обоим было ясно, что конец уже близок».
Почему «обоим было ясно», Ваксберг не объяснил. Скорее всего, это утверждение – просто плод его творческой фантазии.
Новая поэма
Вернувшийся из Тифлиса Лев Кулешов однажды приехал к Брикам, сидя за рулём автомобиля. Откуда взялась у него эта машина, точных сведений найти не удалось.
Аркадий Ваксберг:
«Кулешов был тогда обладателем единственного, наверное, по всей Москве личного "Форда". Он катал на нём Лилю по городу, приезжал – иногда вместе с Лилей – на дачу, которую традиционно снимали в посёлке Пушкино. Однажды, отправившись с Лилей в Москву, прихватили по дороге и Маяковского».
Бенгт Янгфельдт:
«Если в Советском Союзе двадцатых годов мотоцикл был редкостью, то частный автомобиль считался неслыханной – и идеологически подозрительной – роскошью».
Впрочем, Янгфельдт при этом не был уверен в том, что у Кулешова в тот момент был автомобиль. Поэтому написал, что он всего лишь «очень хотел» иметь машину.
А Маяковский (после завершения своего летнего турне) принялся в самых разных аудиториях «показывать» свою новую Октябрьскую поэму «Хорошо!»
В советские времена эта поэма была у всех на устах, её строки заучивали в школе, её главы читали с эстрады заслуженные и народные артисты.
Писалась поэма стремительно: зимой и весной было создано шесть глав (со 2-й по 8-ю), в мае-июле – ещё восемь (с 9-й по 17-ю), в августе – последние три (1-я, 18-я и 19-я). Название («"Хорошо!" Октябрьская поэма») тоже родилось в последнем месяце лета 1927 года.
Начиналась поэма так:
«Время – / вещь / необычайно длинная, —
были времена – прошли былинные.
Ни былин, / ни эпосов, / ни эпопей.
Телеграммой / лети, / строфа!
Воспалённой губой / припади / и попей
из реки / по имени —"Факт"».
А вот как первая глава заканчивалась:
«Этот день / воспевать / никого не наймём.
Мы / распнём / карандаш на листе,
чтобы шелест страниц, / как шелест знамён,
надо лбами / годов / шелестел».
Часто цитировалась в советские времена последняя строка 10-й главы поэмы (целиком последнее четверостишие с эстрад читалось очень редко):
«Посреди / винтовок / и орудий голосища
Москва – / островком, / и мы на островке.
Мы – / голодные, / мы – / нищие,
с Лениным в башке / и с наганом в руке».
Не декламировались в переполненных залах и строки из 15-й главы:
«Лапа / класса / лежит на хищнике —
Лубянская / лапа / Че-ка».
Зато постоянно читались четверостишия 17-й главы:
«Я с теми, / кто вышел / строить / и месть
в сплошной / лихорадке / буден.
Отечество / славлю, / которое есть,
но трижды – / которое будет.
Я / планов наших / люблю громадьё,
размаха / шаги саженьи.
Я радуюсь / маршу, / которым идём
в работу / и в сраженья…
И я, / как весну человечества,
рождённую / в трудах и в бою,
пою / моё отечество,
республику мою!»
19-я глава поэму завершала. Её строки заучивали наизусть советские школьники:
«Я / земной шар
чуть не весь / обошёл, —
и жизнь / хороша,
и жить / хорошо.
А в нашей буче, / боевой, кипучей, —
и того лучше».
И эта «жизнь», которая «хороша», энергично (по-маяковски) славилась. И вдруг – в том месте, где речь заходила о советской милиции, оберегавшей страну Советов, – появлялись слова, совершенно не свойственные поэзии Маяковского. Вот это место:
«Розовые лица.
Револьвер / жёлт.
Моя / милиция
меня / бережёт.
Жезлом / правит,
чтоб вправо / шёл.
Пойду / направо.
Очень хорошо».
Как же так? Маяковский практически на всех своих выступлениях (даже за рубежом) читал свой «Левый марш», в котором призывал всех шагать «левой», и который завершался гордыми восклицаниями:
«Грудью вперёд бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой! / Левой! / Левой!»
А теперь получалось, что идти «направо» тоже «очень хорошо». Как же так? И с чего это вдруг?
А случилось вот что. На десятом году советской власти в стране крепла и ширилась «Объединённая левая оппозиция» (Троцкий, Зиновьев, Каменев и их сторонники). Призывать шагать только левой становилось опасно – сталинское ЦК требовало держаться правее «левого уклона». И Маяковский пошёл туда, куда в течение десяти лет призывал не ходить другим, туда, куда указала ему своим «жезлом» розоволицая советская «милиция».
Возникает вопрос: сам ли поэт до этого додумался или кто-то подсказал ему? Но если подсказали, то кто? Брики? Агранов?
Странно, что на этот нюанс никто из биографов поэта внимания не обращал. Впрочем, это понятно, ведь завершалась 19-я глава строками, к которым не придерёшься:
«Другим / странам / по сто.
История – / пастью гроба.
А моя / страна – / подросток, —
твори, / выдумывай, / пробуй!
Радость прёт. / Не для вас / уделить ли нам?!
Жизнь прекрасна / и / удивительна!
Лет до ста / расти
нам / без старости.
Год от года / расти
нашей бодрости.
Славьте, / молот / и стих,
землю молодости».
В автобиографических заметках «Я сам» этой поэме дана такая оценка:
«“Хорошо” считаю программной вещью, вроде “Облака в штанах” для того времени. Ограничение отвлечённых поэтических приёмов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретение приёмов для обработки хроникального и агитационного материала.
Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее (“сыры не засижены – лампы сияют, цены снижены”), введение для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций (“Разговор с Блоком”, “Мне рассказывал тихий еврей Павел Ильич Лавут”).
Буду разрабатывать намеченное».
Оценки поэмы
Первое чтение поэмы состоялось 20 сентября 1927 года на редакционном собрании журнала «Новый Леф». В.А.Катанян отметил, что это был…
«… первый лефовский вторник после летних каникул, после возвращения в Москву. Это было обычное лефовское сборище плюс А.В.Луначарский, плюс Л.Авербах и А.Фадеев. Человек тридцать».
Дав услышанному самую высочайшую оценку, Луначарский сказал, что это:
«Октябрьская революция, отлитая в бронзу. <…> Это великолепная фанфара в честь нашего праздника, где нет ни одной фальшивой ноты».
С наркомом не согласился писатель Александр Фадеев. Ему было тогда 26 лет, но он уже являлся одним из руководителей РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей). Поэма «Хорошо» была им основательно раскритикована. За её показушную помпезность, за излишнюю величавость и даже за фальшивость отдельных эпизодов, не подкреплённых никакими доказательствами.
Александр Михайлов:
«Возник спор. Подоплёка была в резких схватках между РАППом и ЛЕФом, в том, что О.Брик напечатал в "ЛЕФе" разносную рецензию на роман Фадеева "Разгром"».
Выходит, что, пока Маяковский разъезжал по Союзу и читал лекции, Осип Брик печатал в журнале «Леф» статьи со своими идеями. И тем самым накликал разлад между РАППом и Лефом. Рапповцы и в дальнейшем критиковали поэму Маяковского и (как пишет Бенгт Янгфельдт)…
«… использовали малейшую возможность для того, чтобы накинуться на него. Утверждалось, что Маяковский, на самом деле, далёк от понимания Октября, его содержания, его сущности; а то, что он написал – "дешёвая" юбилейная эпика».
Но Маяковский продолжал читать свою поэму и печатать отрывки из неё в газетах и журналах.
Наталья Брюханенко:
«Я была на чтении в "Комсомольской правде" и в Политехническом музее, и всюду успех был огромный».
Примерно в это же время Маяковский пришёл домой к Луначарскому по какому-то делу. Наталья Розенель вспоминала:
«Маяковский только недавно вернулся из своих странствий по югу России. Он был в ярко-синем пиджаке и серых брюках, этот костюм очень шёл к его бронзовому, овеянному морским ветром лицу».
У Луначарского в гостях была народная артистка Варвара Осиповна Массалитинова. По её просьбе Маяковский стал читать свои стихи – «читал много и охотно».
Наталья Розенель:
«Массалитинова просто захлёбывалась от восторга:
– Владимир Владимирович, вы должны написать для меня гениальную роль! Я уж постараюсь не ударить лицом в грязь! Вот спросите Анатолия Васильевича, – я вас не подведу. Дайте слово, что напишете!
– Я бы написал для Варвары Осиповны и не одну роль. Но разве АКи меня поставят? (Академические театры – сокращённо АКи.) Как вы думаете, Анатолий Васильевич?
– А вы напишите, там видно будет, – отвечал Луначарский.
– А не поставит Малый театр, я где угодно буду играть пьесу Маяковского! Хоть на площади! Вот в пику дирекции, если она откажет, будем играть вашу пьесу на Театральной площади! Публика из театров перейдёт на площадь. У нас будет триумф – вот увидите! – горячилась Массалитинова…
– Я покорена, я очарована! – говорила мне на следующий день Массалитинова. – Ты же знаешь, я встречалась с Бальмонтом, Брюсовым, Белым, Есениным, но только о Маяковском я могу смело сказать – великий поэт. Вот брюзжат, что "Юбилейное" – мальчишеская выходка, а ведь он вправе так разговаривать с Пушкиным!»
Вскоре рецензии на новую поэму появились и в периферийной прессе. Выходившая в Ростове-на-Дону газета «Советский юг» чуть позднее довольно чувствительно ударила по Маяковскому. Об этом – Александр Михайлов:
«Рецензия называлась "Картонная поэма". Название в полной мере отражает резко отрицательную оценку поэмы. Срок жизни этому произведению критик отводил один-два месяца…
Неискренность, фальшь, душевная пустота – вот оценки, которые давали Маяковскому в связи с поэмой "Хорошо!"».
Со статьёй «Картонная поэма» Владимир Владимирович встретится, когда посетит Ростов-на-Дону.
А поэту-конструктивисту Илье Сельвинскому в тот момент наконец-то повезло – его поэма «Улялаевщина» была напечатана в журнале «Красная новь». Правда, ходили слухи, что к этому делу приложили руку его соратники по ЛЦК (Литературному центру конструктивистов), подпоившие редактора журнала Александра Воронского, и тот дал своё согласие на публикацию. Но поэма вышла! И встретили её с восторгом. Многие повторяли строки:
«Поэзия – это слова, но такие,
где время дымится из самых пор.
Так дай же в стихи ворваться стихии
всем эстетам наперекор!»
Нередко Маяковский выступал вместе с поэтами-конструктивистами, и однажды (по словам Натальи Брюханенко):
«Однажды, сейчас же после Сельвинского, выступила Вера Инбер. Маяковский, махнув рукой, сказал:
– Ну, это одного поля ягодица».
А роман Маяковского и Наташи Брюханенко продолжался. Все ждали скорой свадьбы.
Брюханенко потом признавалась:
«Я не могу представить себе точно, почему ко мне так относился Маяковский. Ведь не только же за мою внешность. Настоящего серьёзного романа у нас с ним не было, о близкой дружбе между нами тогда смешно было говорить.
Тридцатитрёхлетний Маяковский казался мне очень взрослым, если не старым».
А Лили Брик вновь увлеклась кинематографом.
Аркадий Ваксберг:
«По вполне понятным причинам Лиля пыталась войти в съёмочный коллектив, который под руководством режиссёра Кулешова приступил к работе над новым фильмом. Административными функциями режиссёр не обладал, а дирекция воспротивилась претензиям дилетантки».
Узнав об этом, Маяковский обратился за помощью к Софье Александровне Шамардиной. Вот что она потом написала:
«С 1927 года я в Москве. Встречаемся. Ещё не знакомит с Лилей. Но, встречаясь с ним, чувствую, что он всегда с ней. Помню – очень взволнованный, нервный пришёл ко мне в ЦК РАБИС (была я в то время членом президиума съезда). Возмущённо рассказал, что не дают Лиле работать в кино, и что он не может это так оставить. Лиля – человек, имеющий все данные, чтоб работать в этой области (кажется, в сорежиссёрстве с кем-то – как будто с Кулешовым). Он вынужден обратиться в ЦК РАБИС – "с кем тут говорить?"».
В ту пору профсоюз работников искусства (РАБИС) возглавлял Павел Михайлович Лебедев.
«Повела его к Лебедеву. Своим тоненьким, иезуитским голоском начал что-то крутить и, наконец, задал вопрос:
– А вам-то чего, Владимир Владимирович, до этого?
Маяковский вспылил. Резко оборвал. Скулы заходили. Сидит такой большой, в широком пальто, с тростью – перед крошечным Лебедевым. "Лиля Юрьевна моя жена". Никогда, ни раньше, ни потом, не слышала, чтобы называл её так.
И в этот раз почувствовала, какой большой любовью любит Маяковский и что нельзя было бы так любить нестоящего человека».
Ситуация в обществе
Страна Советов в тот момент энергично боролась за своё существование. Новому руководству ключевыми советскими учреждениями (ОГПУ и Коминтерном), вставшему у руля в 1926 году, кремлёвские вожди дали указание найти новые методы работы, которые позволили бы намного оперативнее прежнего выявлять врагов рабочего класса и ликвидировать их.
Не случайно же Маяковский, прекрасно разбиравшийся в окружавшей его обстановке, на протяжении всего 1927 года пугал в своих стихах советский народ происками врагов внутренних и внешних. Вспомним, что публиковал он тогда в прессе.
В газета «Труд» 16 апреля:
«Коммуна – / ещё не дело дней,
а мы / ещё / в окруженье врагов,
но мы / прошли / по дороге / к ней
десять / самых трудных шагов»
В газете «Рабочая Москва» 25 июня поэт указывал на Польшу:
«А мы, товарищ, / какого рожна
глазеем / с прохладцей с этакой?
До самых зубов / вооружена
у нас / под боком / соседка».
В «Комсомольской правде» 12 июля называл врагов, появившихся справа:
«Товарищи, / опасность / вздымается справа.
Не доглядишь – / себя вини!
Спайкой, / стройкой, / выдержкой / и расправой
спущенной своре шею сверни!»
Даже в стихотворении «Маруся отравилась», напечатанном в «Комсомольской правде» 4 октября и предварённом фразой из той же газеты: «В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у неё не было лакированных туфель…», нашлось место для таких строк:
«Легко / врага / продырявить наганом.
Или – / голову с плеч, / и саблю вытри.
А как / сейчас / нащупать врага нам?
Таится. / Хитрый!»
Выходит, что в этом «сворачивании шей» и срубании голов всем «врагам» страны Советов Маяковский принимал самое активное участие. Ещё находясь в Ялте, он 5 августа заключил договор с местной кинофабрикой. Документ начинался так:
«В.В.Маяковский обязуется до 25 августа 1927 года представить художественный, вполне законченный, кадрированный сценарий на тему т. Горожанина "Борьба за нефть"».
На обороте договора рукою Валерия Горожанина написано:
«Согласен передать кинотему "Борьба за нефть" тов. В.Маяковскому на условиях совместной обработки сценария».
Маяковский и Горожанин работу выполнили в срок, написав "сценарий в 5-ти частях с прологом и эпилогом – «Инженер д'Арси» (история одного пергамента)"».
В комментариях 13-томного собрания сочинений поэта говорится:
«Этот сценарий о происках английского империализма носил очень актуальный характер в 1927 году, когда возникла реальная угроза военного нападения империалистической Англии на Советский Союз».
Но отношения между странами вскоре наладились, и фильм снимать не стали.
Во второй половине ноября 1927 года Маяковский приехал в Харьков, где выступил с чтением поэмы «Хорошо!». На этот раз он остановился не в гостинице, а в квартире Валерия Горожанина, который сделал поэту памятный подарок. На обладание им требовалось специальное разрешение, и Горожанин оформил его поэту:
«С.С.С.Р.
Об'единённое
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
при
Совете Народных Комиссаров
Губ. или Обл. Отдел.
«_» дня 192_»
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 107
Выдано гр. Маяковскому Владимиру Владимировичу, проживающему по Лубянскому проезду, в доме № 3, кв. 12 – в Москве, на право ношения и хранения револьвера «Маузер» № —…
Оружие принадлежит Маяковскому В.В.
Действительно по «1» декабря 1928 г.».
На этом документе – фотография поэта, гербовая печать и подпись Горожанина.
Кто же он такой – этот даритель маузеров?
В «Указателе имён и названий» 13-томника поэта сказано просто и загадочно:
«ГОРОЖАНИН Валерий Михайлович (1899–1941) – знакомый Маяковского».
Что же это за «знакомый»?
Аркадий Ваксберг:
«… предположительно его подлинная фамилия – Кудельский… <…> Скорее всего, Маяковский, познакомился с ним в тогдашней украинской столице Харькове, где Горожанин был крупной чекистской шишкой (возглавлял секретный отдел ГПУ Украины). Настолько крупной, что от щедрот своего сердца тут же сделал Маяковскому необычный подарок: револьвер с удостоверением к нему – "на право ношения"».
Ответным подарком Маяковского стало стихотворение «Солдаты Дзержинского», посвящённое «Вал. М.» (то есть Валерию Михайловичу). Оно было опубликовано в «Комсомольской правде» 18 декабря 1927 года (к десятилетию ОГПУ) и начиналось так:
«Тебе, поэт, / тебе, певун,
какое дело / тебе / до ГПУ?»
Дальше вновь говорилось о грядущих битвах с «врагами Союза»:
«Крепче держись-ка!
Не съесть / врагу.
Солдаты / Дзержинского
Союз / берегут.
Враги вокруг республики рыскают.
Не к месту слабость / и разнеженность весенняя.
Будут / битвы / громше, / чем крымское
землетрясение…
Мы стоим / с врагом / о скулу скула,
и смерть стоит, / ожидает жатвы.
ГПУ – / это нашей диктатуры кулак
сжатый.
Храни пути и речки,
кровь / и кров,
бери врага, / секретчики,
и крой, / КРО!»
Вряд ли тогдашние читатели комсомольской газеты понимали, кто такие эти «секретчики», и что означает зловещее слово «КРО». Ведь только сотрудники ОГПУ называли «секретчиками» своих сослуживцев, работавших в Секретно-политическом отделе ОГПУ, а аббревиатура «КРО» замаскировывала Контрразведывательный отдел.
Маяковский этим стихотворением показал, что он вполне профессионально разбирается в гепеушной специфике.
Ещё более знаменательно то, что в одном из первых вариантов этого стихотворения Маяковский хотел начать свою оду солдатам Дзержинского немного иначе:
«Тебе, Маяковский, / поэт и певун,
какое дело / тебе / до ГПУ?»
В самом деле, какое?
Ответа на этот вопрос стихотворение не давало. Зато у гепеушных «генералов», которые командовали «солдатами» этого ведомства, для поэта «дело» нашлось. Для него самого и для его квартиры. В неё-то и были направлены самые способные чекисты. Чтобы поучаствовать в вечерах, которые проводила творческая интеллигенция. В её среде, по мнению нового руководства ОГПУ, как раз и скрывались надёжно замаскированные классовые враги. Их-то и надо было научиться распознавать и умело разоблачать.
Квартира в Гендриковом переулке, которую, как мы помним, Маяковскому предоставило ОГПУ, была приспособлена теперь для гепеушной практики. Или учёбы. И разрешения на это никто у Маяковского не спрашивал. А у Бриков?
Аркадий Ваксберг:
«Достаточно самого факта: не тайное, а демонстративное лубянское присутствие в обители нашего треугольника было постоянным и непрерывным. Длилось годами. Но можно ли это слишком прямолинейно ставить Лиле в вину? И таким ли пассивным созерцателем в этой компании был Маяковский?
Стремясь отделить его "чистое" имя от "грязного" имени Лили, её обвинители, увлёкшись поиском подтверждений загадочных связей с Лубянкой, нарочито уходят от другого вопроса, ничуть не менее важного: что побуждало самого Маяковского тесно дружить с лубянской компанией, весьма далёкой от его творческих интересов, и какие связи он сам в действительности имел с крупнейшими функционерами этого ведомства?»
Примерно такие же вопросы возникали и у Валентина Скорятина:
«При всём моём уважении и любви к В.Маяковскому, не могу не задаться вопросом: понимал ли поэт, не скрывая знакомства с сотрудниками ОГПУ, … что эти его связи далеко не всем могут показаться безупречными? Догадывался ли, что уже к концу 20-х годов деятельность ОГПУ внутри и вне страны становилась всё более агрессивной, террористической, бесчеловечной по сути?..»
Все, кто задавал подобные вопросы, не могли найти на них ответа, потому что им и в голову не приходило, что поэт Маяковский мог являться штатным сотрудником лубянского ведомства. Поэтому, когда в начале тридцатых годов прошлого столетия на эти вопросы попытался ответить психоневролог Григорий Израилевич Поляков, сотрудник Института мозга, он выдвинул свою версию:
«М<аяковский> не в состоянии волевыми усилиями заставить себя заниматься чем-либо, что его не интересует, или подавлять свои чувства (желание, хотение превалирует над долженствованием). М<аяковский> всегда находится во власти своих чувств и стремлений».
Иными словами, с «лубянской компанией» Маяковский дружил не потому, что эти гепеушники были его сослуживцами, а потому, что дружба с ними вполне соответствовала его «творческим интересам», она была ему интересна, и поэтому связи с «крупнейшими функционерами» ОГПУ у Владимира Владимировича были самые что ни на есть тесные. Такое сложилось мнение у психоневролога.
Как бы там ни было, а осенью 1927 года началось…
«Огепеушивание» Лефа
Когда Валерий Михайлович Горожанин приезжал Москву, он неизменно навещал квартиру Бриков и Маяковского в Гендриковом переулке. И присутствовал на заседаниях участников Левого фронта искусств, у многих членов которого были давние связи с ОГПУ (у того же Осипа Брика, у Сергея Третьякова и у некоторых других, включая и самого Владимира Маяковского).
Владимир Маяковский, Варвара Степанова, Осип Бескин и Лиля Брик на квартире в Гендриковском переулке. 1928 год. Фото: А. Родченко.
О том, что происходило тогда в этой литературной группе, мы знаем по воспоминаниям её участников. Одна из лефовок, художница Елена Владимировна Семёнова, писала:
«На одном из заседаний ЛЕФа Маяковский объявил, что на заседании будут присутствовать один товарищ – Агранов, который в органах безопасности занимается вопросами литературы.
– Довожу это до вашего сведения, – сказал Маяковский.
Никого не удивило это. С тех пор на каждом заседании аккуратно появлялся человек средних лет в принятой тогда гимнастёрке, иногда в штатском. В споры и обсуждения он никогда не вмешивался».
Да, этим новым лефовцем стал знакомый нам Яков Саулович Агранов.
Корнелий Зелинский о нём впоследствии написал, что…
«… в его манере было нечто вкрадчивое, спокойное и заставляющее настораживаться. <…> Этот Агранов заставлял задумываться над вопросом: "Что у тебя на душе, кто ты такой?.."
Когда я видел Агранова у Бриков, то всегда вспоминал строки Лермонтова о Басманове: "с девичьей улыбкой, змеиной душой". Тонкие и красивые губы Якова Сауловича всегда змеились не то насмешливой, не то вопрошающей улыбкой. Умный был человек».
Александр Михайлов:
«Агранов стал постоянным посетителем лефовских собраний и дома в Гендриковом. <…> Собрания же в Гендриковом иногда затягивались до четырёх утра, и Агранов великодушно брал с собой кого-нибудь из участников в автомобиль, чтобы по пути подвезти. А появлялся он на собраниях с молоденькой и смазливой женщиной, поговаривали, будто до этого она была женой одного из подследственных Якова Сауловича…»
Об Агранове – Валентин Скорятин:
«Думал ли Маяковский, числя его в своём ближайшем окружении и вполне доверяя ему (иначе бы раз и навсегда перестал с ним общаться), мог ли он догадываться о том, какая опасность таилась в этом человеке, мог ли допустить, что всё говорившееся за столом, среди своих, возможно, уже сегодня или завтра осядет документом в сейфах ОГПУ?»
На вопрос Скорятина дала ответ Анна Ахматова (её слова приведены в «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской). Когда однажды разговор зашёл о Бриках, и Лидия Корнеевна сказала: «Очень плохо представляю себе там среди них Маяковского», Ахматова резко заметила:
«И напрасно… Литература была отменена, оставлен был один салон Бриков, где писатели встречались с чекистами. И вы, не одни вы, неправильно делаете, что в своих представлениях отрываете Маяковского от Бриков. Это был его дом, его любовь, его дружба, ему там всё нравилось… Он так же, как они, бывал и тёмен, и двуязычен, и неискренен…»
Об отношении Бриков и Маяковского к «милому Янечке» – Аркадий Ваксберг:
«Дружба всей семьи с Аграновым была на виду, и многие современники, в том числе и те, кто был близок к дому, не сомневались в характере его отношений с Лилей. Скрывать свои любовные связи Лиля всегда считала делом ханжеским и никчёмным. Кого хотела, того и выбирала для любовных утех и не видела надобности в этом оправдываться перед современниками и потомками. Но как раз этот альянс, пусть даже и не любовный, имела основания скрывать. Возможно, по просьбе Агранова, вызванной причина ми сугубо делового порядка. Но, возможно, и потому, что понимала, насколько и чем фигура Агранова выделяется из общего ряда её обожателей и друзей».
Вслед за Аграновым в доме на Гендриковом вскоре появились и другие чекисты.
Пришла пора расплачиваться за четырёхкомнатную квартиру, которую «семье» предоставило ОГПУ (и фактически являвшейся служебной квартирой), расплачиваться за возможность беспрепятственно декламировать свои стихи и читать «лекции», разъезжая по городам и весям, а также расплачиваться за возможность ездить за рубеж. Так квартира в Гендриковом переулке превратилась в…
Филиал Лубянки
Художник Елизавета Андреевна Лавинская, жена скульптора и художника Антона Михайловича Лавинского, вместе с которым входила в ЛЕФ, в воспоминаниях написала:
«На лефовских "вторниках" стали появляться всё новые люди: Агранов с женой, Волович, ещё несколько элегантных юношей неопределённых профессий. На собраниях они молчали, но понимающе слушали, умели подходить к ручкам дам и вести с ними светскую беседу. Понятно было одно: выкопала их Лиля Юрьевна».
Вот, стало быть, какой «чай» разливала на лефовских собраниях Лили Брик.
Лавинская продолжает:
«У Агранова была машина, и он почему-то предложил Антону и мне довозить нас до дома. Мы согласились. В дороге разговаривали всегда о Маяковском, о его новых вещах. Тут я узнала отношение Агранова к Маяковскому. Владимир Владимирович также, видимо, хорошо относился к Агранову, во всяком случае, как к своему, как к лефовскому товарищу, называл его ласкательно "Аграныч"».
Агранов действительно был для Маяковского «своим», так как оба они были гепеушниками. А «элегантные юноши» в штатском и гимнастёрках, якобы влюблённые в литературу и ставшие «лефовскими товарищами», являлись сослуживцами Якова Агранова.
Художник-лефовка Елена Владимировна Семёнова писала:
«Группировка превращалась в замкнутый домашний салон».
Борис Пастернак, человек по воспитанию весьма тактичный, давно из осторожности освоил язык полунамёков, поэтому и выразился чуть точнее, сказав впоследствии драматургу Александру Константиновичу Гладкову:
«Квартира Бриков была, в сущности, отделением московской милиции».
Назвать ведомство Агранова его настоящим именем Пастернак явно не решился.
Валентин Скорятин:
«Воистину: Леф словно бы срастался с ОГПУ, становился как бы его ответвлением в литературной среде. И только романтикой, овевавшей в те годы (да и куда позже!) бойцов "невидимого фронта", этот факт не объяснить».
Завсегдатаем лефовских «вторников» был названный Лавинской Захар Ильич Волович (он же Владимир Борисович Янович, он же Виленский). Впрочем, вскоре он стал работать в резидентуре ОГПУ в Париже, так что у Бриков ему доводилось появлялся не очень часто.
Среди «активистов» ЛЕФа был и другой соратник Агранова, которого Аркадий Ваксберг представил так:
«Наиболее видным из них был Михаил Сергеевич Горб (его подлинное имя: Моисей Савельевич Розман), в то время заместитель начальника Иностранного отдела ОГПУ, руководившей работой советской резидентуры во Франции. С 1921-го по самый конец 1926 года он, пребывая в глубоком подполье, возглавлял сеть лубянских агентов, обосновавшихся в Германии, жил по подложным документам в Берлине и почти наверняка встречался там и с Лилей, и с Осипом и с Маяковским.
Появление Горба в Гендриковом и лёгкое вхождение в привычный круг друзей дома, несомненно, как раз тем и объяснялось, что отношения с хозяевами "салона" уже имели свою историю, а поездки Лили и Маяковского (всегда порознь!) в Париж представляли теперь для Горба, с учётом его новой служебной ориентации, особо большой интерес».
А вот как охарактеризовал Михаила Горба (в книге «ГПУ. Записки чекиста») тогдашний резидент ОГПУ в Персии Георгий Сергеевич Агабеков:
«Тщедушный физически и морально, он никакой ценности не представляет и держится лишь на беспрекословном выполнении приказов начальства».
Но даже у Аркадия Ваксберга, казалось бы, вплотную подошедшего к разгадке главной тайны «горлана-главаря» и называвшего ЛЕФ «филиалом ГПУ», рука так и не поднялась, чтобы написать, что Лили Брик и Маяковский служили в ОГПУ, и что в Гендриковом переулке собирались их сослуживцы. Ваксберг чистосердечно признался:
«По правде сказать, мне не совсем ясно, почему всю эту публику – столь высокого чекистского уровня и столь большим числом – так тянуло в Гендриков переулок. Неужели – всех до одного – лишь по служебным делам? Для надзора за политическими настроениями вполне хватило бы и одного. Даже (это куда полезней и проще) могли бы обойтись вербовкой какого-либо завсегдатая и с его помощью черпать нужные сведения: ведь в присутствии лубянских шишек даже у слишком говорливых, наверное, отнимался язык.
Неужели их всех, не отлипавших от Маяковского профессиональных убийц, у которых руки по локоть в крови, – неужели их связывала с ним только любовь к литературе? И ничто больше? Их с ним – допустим. А его с ними?»
С этим рассуждением трудно не согласиться. Ведь «Аграныч» со товарищи не просто посещали заседания литературной группы и молча выслушивали выступления её участников. Гепеушники знакомились с лефовцами поближе, заводили с ними разговоры на самые разные (не только литературные) темы, задавали вопросы, выслушивали ответы, мотали себе на ус, а потом, вернувшись на Лубянку, составляли подробные отчёты обо всём, что видели и что слышали. И в этих бумагах фиксировались высказывания лефовцев – откровенные суждения людей, порою не предполагавших, что их слова станут свидетельскими (а иногда и обвинительными) показаниями.
Приведём ещё одно замечание Ваксберга:
«Как случилось, что Лубянка опутала своими цепями этот дом и всех его обитателей, всех посетителей? Чего хотела от них? На что толкала? Даже сейчас, почти три четверти века спустя, при, казалось, доступных архивах, концы невозможно свести с концами и заполнить не версиями, а достоверной информацией великое множество зловещих пустот».
На подобные вопросы пробовал найти ответы и поэт-конструктивист Илья Сельвинский:
«Есть, конечно, люди, которым всё по силам. Лефовцы, например. Эти просто изменяют условия задачи, подгоняя их под готовое решение. Эпоса не нужно, психологии не нужно, философии, лирики, художественности, искренности и т. д. и т. п. – всего этого не нужно. Остаётся зарифмовка газетных фактов и да здравствует культурная революция!»
Теперь самое время посмотреть, как работали тогда другие осведомители ОГПУ. Например, Аркадий Максимов, двоюродный брат Якова Блюмкина, который поставлял Лубянке информацию о Борисе Бажанове.
Борис Бажанов:
«Когда осенью 1927 года я прощался с Москвой, Максимов был очень грустен. С моим отъездом он терял лёгкую и хорошо оплачиваемую работу. Я решил созорничать. Я знал, что он поставляет обо мне рапорты в ГПУ, но он не знал, что я это знаю. Наученный разнообразным советским опытом, я считал, что если враг хочет иметь о вас информацию, то удобнее всего, если вы её поставляете сами – вы выбираете то, что надо. Так я и сделал…
Встретив Максимова перед отъездом в Ашхабад, я спросил его: “А как у вас с работой?” – “Да, по-прежнему плохо”. – “Хотите, я вас возьму с собой, в Среднюю Азию?” – О да, он бы с удовольствием, разрешите, он завтра даст мне окончательный ответ – надо прервать какие-то начатые переговоры. Я хорошо понимаю, что он побежит в ГПУ спрашивать, что делать. Ему говорят – превосходно, конечно, поезжай, продолжай давать рапорты. И в Ашхабад я поехал с Максимовым».
А теперь вновь вернёмся в Москву и посмотрим, что происходило в тот момент в некогда дружном лефовском (ставшем новолефовском) коллективе, незаметно превратившемся в «филиал ГПУ».
Настроения новолефовцев
Проходившему в октябре 1927 года VIII Московскому губернскому профсоюзному съезду Маяковский посвятил стихотворение «Рапорт профсоюзов», опубликованное 14 октября в «Комсомольской правде». Начиналось оно так:
«Прожив года, / и голодные и ярые,
подытоживая десять лет,
рапортуют / полтора миллиона пролетариев,
подняв / над головою / профсоюзный билет.
Голосом, / осевшим от железной пыли,
рабочему классу / клянёмся в том,
что мы / по-прежнему / будем, как были, —
октябрьской диктатуры / спинным хребтом».
Обратим внимание на то, кому рапортуют пролетарии в этом стихотворении?
Рабочему классу.
То есть самим себе!
Но зачем же самим себе клясться?
Ведь в ту пору было принято рапортовать, клясться партии и её вождям.
Вполне возможно, что именно партии и рапортовали поначалу пролетарии в стихотворении Маяковского, но, видимо, по чьей-то настойчивой просьбе слово «партия» было заменено «рабочим классом».
Могло такое произойти? Вполне! Потому как большевистская партия в тот момент продолжала быть расколотой на сторонников «большинства ЦК» (сталинцев) и сторонников «Объединённой левой оппозиции» (троцкистов и зиновьевцев). Партийцы должны были определиться, с кем они. И это «определение» должно было произойти на очередном съезде. После этого рабочий класс и мог клясться победившим вождям, а пока было рановато.
Даже о том, как воплощать образ вождя революции, можно было ещё поспорить.
Кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн, успевший к тому времени прославиться фильмами «Стачка» и «Броненосец Потёмкин», к 10-летию Октября снял кинофильм «Октябрь».
Наталья Брюханенко:
«Помню, как осенью двадцать седьмого года я была с Маяковским в кино на "Октябре" Эйзенштейна. Маяковскому картина не понравилась, он сказал, что это "Октябрь и вазы", потому что половину картины занимают люстры и вазы и прочие красоты Зимнего дворца».
Мало этого, Маяковский тотчас собрал соратников на обсуждение кинокартины. Один из лефовцев, Пётр Незнамов, вспоминал:
«Когда на квартире Сергея Третьякова в Спиридоньевском переулке состоялась встреча лефовцев с Эйзенштейном, Маяковский резко напал на Эйзенштейна за эстетизм. Эйзенштейн был совершенно растерян и не защищался…»
Роль Ленина в этом фильме исполнял рабочий цементного завода Василий Николаевич Никандров, внешне очень походивший на вождя революции.
Маяковский был решительно против создания образа Ленина методами художественного кино. Поэт ратовал за кинохронику. Это была его убеждённая точка зрения, которую было трудно поколебать.
8 октября 1927 года в московском Доме печати состоялся диспут на тему «Пути и политика Совкино». Это мероприятие было организовано ЦК ВЛКСМ, редакцией газеты «Комсомольская правда» и Обществом друзей советской кинематографии. 15 октября в Центральном доме работников искусств диспут был продолжен. Владимир Маяковский выступил там дважды. В первый раз он покритиковал лишь руководство Совкино:
«Указывают на Эйзенштейна, на Шуб. Нечего говорить, что эти режиссёры – наша кинематографическая гордость, но они помимо Совкино стали такими. "Броненосец Потёмкин" по первому просмотру пускали только на второй экран, и только после того, как раструбила германская пресса, он пошёл на первом экране…»
Завершая своё второе выступление, Владимир Владимирович обрушился на Эйзенштейна:
«Мы отошли от хроники. Что же мы имеем к десятилетию Октября?.. Нам Совкино в лице Эйзенштейна будет показывать поддельного Ленина, какого-то Никанорова или Никандрова… Я обещаю, что в самый торжественный момент, где бы это ни было, я освищу и тухлыми яйцами закидаю этого поддельного Ленина».
В небольшой заметке, опубликованной 7 ноября в ленинградской газете «Кино», Маяковский вновь затронул эту тему:
«Пользуюсь случаем при разговоре о кино ещё раз всяческим образом протестовать против инсценировок Ленина через разных похожих Никандровых. Отвратительно видеть, когда человек принимает похожие на Ленина позы и делает похожие телодвижения – и за всей этой внешностью чувствуется пустота, полное отсутствие мысли. Совершенно правильно сказал один товарищ, что Никандров похож не на Ленина, а на все статуи с него. Давайте хронику!»
Возникает вопрос, почему поэт-лефовец (а в недалёком прошлом – активнейший футурист), всегда во весь голос отстаивавший право художника экспериментировать, так категорично протестовал против попыток кинорежиссёра (и тоже, кстати, лефовца) на эксперименты в своей кинематографической епархии?
Да, вполне возможно, у Эйзенштейна что-то не получилось, что-то вышло совсем не так, как хотелось. Но он искал новые формы выражения, новые способы показа на экране того, о чём Маяковский высказывался на бумаге.
Сергей Эйзенштейн, конечно же, очень обиделся.
Но Маяковскому казалось, что он держит руку на пульсе политической ситуации. А сделать вывод, соответствовавший текущему моменту, сказать то слово, которое требовалось, ему всегда готовы были помочь те самые молчаливые молодые люди, одетые в штатское или в гимнастёрки, которые стали в квартире Маяковского и Бриков своими людьми. Они приходили сюда запросто, вместе отмечали революционные праздники, справляли дни рождения. И всё это происходило под неусыпным надзором главной новолефовской «чаеразливательницы».
Елизавета Лавинская:
«В этот период Лиля Юрьевна почему-то очень нервничала. То ей хотелось ставить картину, то она требовала, чтобы ей такую картину немедленно дали, то она с азартом принималась за свои мемуары и зачитывала нам их. В конце концов, она заявила, что поскольку ей на лефовских собраниях делать нечего, она хочет "председательствовать". Это самоназначение было воспринято некоторыми лефовцами со стыдливыми улыбками, некоторыми – явно неприязненно: докатились! Но вообще все молчали: неудобно пойти против желания – хозяйка всё-таки!»
Между тем, Аркадий Ваксберг не считал, что самовыдвижение Лили Брик на руководящий пост в лефовской группе что-то в этой группе сильно изменило – ведь гепеушники продолжали появляться в Гендриковом, и они пока помалкивали:
«Но – главное, главное!.. Ведь круг Маяковского-Бриков заведомо просоветский. Абсолютно лояльный – как минимум. Для чего же тогда денно и нощно не покидали свою вахту в злосчастном "салоне" именитые лубянские генералы? Может быть, вовсе не для того, чтобы за кем-то следить? Может быть, этот круг просто был им интересен, льстил самолюбию, возвышал в своих же глазах? Разве не знаем мы, как уже в недавнюю нашу эпоху к поэтическим "наследникам" Маяковского тянулись чекистские генералы – "наследники" "милого Яни" – и как звонкие "бунтари" из литературного цеха, выдававшие себя за оппонентов режима и принятые за таковых доверчивой публикой, сами тянулись к ним?»
О том, как очередной каприз Лили Юрьевны воспринял Маяковский, Лавинская написала:
«Маяковский молчал, и по его виду трудно было определить его отношение к этому новшеству».
В ту пору Маяковский стал часто общаться с лефовкой Еленой Семёновой, и, по её словам, часто у неё спрашивал:
«Лена, кому можно верить? Можно кому-нибудь верить?»
Александр Михайлов прокомментировал эти неожиданные вопросы так:
«Трудно, конечно, гадать, что терзало его душу в данный момент, но можно предположить, что это – и ЛЕФ и "семья", и весь узел личных связей, сходившихся в небольшом, замкнутом кружке литераторов и художников. В такие моменты он напоминал человека, готового сорваться с места и совершить что-то невероятное, он искал другое общество, но в другом обществе оказывался ещё более чужим».
Лили Брик в Гендриковом переулке, конец 20-х. Фото: О.Брик
Как видим, гепеушников Александр Михайлов даже не упоминает.
Между тем с Семёновой Маяковский общался всё чаще, что насторожило бдительную Лили Юрьевну, и она как-то пригласила Елену Владимировну в зоосад, где завела с нею разговор на разные темы. Семёнова вспоминала:
«Их этого разговора в Зоосаде стало ясно, что Лиля Юрьевна заинтересовалась некоторым вниманием ко мне Маяковского и решила "дать мне установку", чтобы, не дай бог, я не приняла его всерьёз. Опасения были излишни. При всём моём восхищении Маяковским как поэтом и человеком, мне и в голову не приходило влюбиться в него, а тем более завести лёгкий романчик, так принятый в "новом быте"».
Разговор с Лили Брик, считавшейся в лефовском коллективе женщиной новых (самых передовых, если не сказать, революционных) взглядов на отношения между людьми и на окружавшую всех жизнь, открыл неизвестные ранее черты её характера. И Семёнова написала:
«Поездка в Зоосад позволила разглядеть в "женщине другой породы" новые отталкивающие черты – собственницы, которая может одолжить принадлежащее ей, но не отдать».
Эту Лилину черту вскоре почувствовали и другие лефовцы. Впрочем, не почувствовать было просто невозможно – ведь у Лефа (при отступившем в сторону и молчавшем Маяковском) объявился новый предводитель: Лили Брик, которая принялась «хозяйничать» в этом литературном кружке по своему усмотрению.
В результате в группе разразился грандиозный скандал.
Таянье Лефа
Всё началось с невиннейшего, как может показаться, поступка Бориса Пастернака. Елизавета Лавинская:
«Пастернак отдал в другой журнал своё стихотворение, которое должно было быть… напечатано в "ЛЕФе". Начал его отчитывать Брик. Пастернак имел весьма жалкий вид, страшно волнуясь, оправдывался совершенно по-детски, неубедительно и, казалось, вот-вот расплачется. Маяковский мягко… просил Пастернака успокоиться…
И вдруг раздался резкий голос Лили Юрьевны. Перебив Маяковского, она начала просто орать на Пастернака. Все растерянно молчали, только Шкловский не выдержал и крикнул ей:
– Замолчи! Знай своё место! Помни, что ты только домашняя хозяйка!
Немедленно последовал вопль Лили:
– Володя! Выведи Шкловского!
Что случилось с Маяковским! Он стоял, опустив голову, беспомощно висели руки, вся фигура выражала стыд, унижение. Он молчал. Шкловский встал и уже тихим голосом произнёс:
– Ты, Володечка, не беспокойся, я сам уйду и больше никогда сюда не приду!»
Сама Лили Брик впоследствии описала этот инцидент по-своему:
«В одно из заседаний, посвящённых кино, Жемчужный выругал какой-то сценарий. Ося его поддержал. Оказалось, что сценарий Шкловского. Тот отреагировал необычайно самолюбиво – пришёл в ярость и, не помня себя, стал крыть Жемчужного и Осю чуть ли не жуликами. Жемчужный вообще человек тихий и только удивился, а Ося всегда относился к Шкловскому как к неврастенику, с которым не стоит связываться, и промолчал. Володи не было. А я не выдержала и предложила вместо сценария Шкловского обсудить любой другой плохой игровой сценарий. Шкловский вышел из себя, вскочил, крикнув мне, что хозяйка дома должна знать своё место, не вмешиваться в разговоры и убежал. Назавтра он прислал мне извинительное письмо, я прочла его с гадливым чувством. На следующий день – ещё одно письмо, которое я, не читая, бросила в печь».
Пастернака, как видим, Лили Юрьевна даже не упомянула, а про Маяковского сказала, что его вообще «не было». Странно только, что никто из очевидцев инцидента, а также никто из биографов Владимира Маяковского ни слова не сказал о сценарии, который «выругал» Виталий Жемчужный, а его «поддержал» Осип Брик. Неужели из-за неудачно написанного сценария могла порушиться многолетняя дружба Виктора Шкловского с Бриками?
Профессиональных сценаристов, хорошо знавших законы кинематографа, тогда вообще почти не было. Кинорежиссёры (тот же Лев Кулешов, например) переписывали попавшие в их руки сценарии заново, оставляя лишь имена действующих лиц.
«Ругать» же на заседании Лефа принялись сценарий фильма «Третья Мещанская», премьера которого состоялась 15 октября 1927 года. Его поставил режиссёр Абрам Роом – тот самый, что снимал по сценарию Виктора Шкловского документальную кинокартину «Евреи на земле». Видимо, тем же летом 1926 года режиссёр и предложил Шкловскому написать сценарий игрового фильма. Так появилась «Третья Мещанская», ставшая одной из лучших картин в творчестве Абрама Рома. Чуть позднее этот фильм имел довольно большой успех и в европейских странах.
В титрах значилось, что авторами сценария являются Роом и Шкловский. Причём последний всюду утверждал, что в основу фильма лёг реальный случай, о котором рассказала газета «Комсомольская правда».
Казалось бы, что здесь криминального? За что Виталий Жемчужный и Осип Брик могли так дружно «ругать» Шкловского?
Ведь даже Маяковский довольно спокойно упомянул фильм «Третья Мещанская» в стихотворении «“Общее” и “моё”», опубликованном в «Комсомольской правде» 5 июля 1928 года. В нём главный герой («Иван Иваныч») описан так:
«Распустит / он / жилет… / и здесь,
– здесь / частной жизни часики! —
преображается / весь
по-третье-мещански».
Всё дело в том, что у фильма было два названия, причём трудно даже сказать, какое из них главное. Одно – «Третья Мещанская». Но сохранилась афиша, на которой кинокартина названа так: «ЛЮБОВЬ ВТРОЁМ (Третья Мещанская)». И рассказывалось в ней о женщине, которая никак не могла определиться, кого она любит больше – мужа или любовника. Так что на Шкловского набросились не из-за того, что он написал плохой (неудачный) сценарий, а за то, что он описал в нём кое-что из тех взаимоотношений, которые утвердились в «семье» Маяковского-Бриков. Хотя на эти взаимоотношения ОГПУ смотрело сквозь пальцы, вполне возможно, что «бестактность» Шкловского вызвала неудовольствие Якова Агранова, который и высказал его Брикам. В результате Шкловский был вынужден покинуть Леф.
Расстался с лефовцами и Пастернак.
Причиной его ссоры с Лефом стала, конечно же, не корпоративная ревность (связанная с тем, что он опубликовал своё произведение в другом журнале). Шум поднялся из-за того, что поэт вышел из-под контроля, стал чересчур независимым. А это было нарушением основного гепеушного правила подчинения всех строгой субординации.
Пастернак написал тогда Маяковскому:
«Ваше общество, которое я покинул и знаю не хуже Вас, для Вас ближе, живее, нервноубедительнее меня».
Когда более чем через полвека были опубликованы воспоминания Бориса Пастернака, в них можно было прочесть его объяснение ухода из Лефа:
«ЛЕФ удручал и отталкивал меня своей избыточной советскостью, то есть угнетающим сервилизмом, то есть склонностью к буйству с официальным мандатом на буйство в руках».
Сергей Эйзенштейн назвал ситуацию ещё резче:
«… агония "Нового Лефа", этого хилого последыша когда-то бойкого и боевого "Лефа". Вера во вчерашние лефовские лозунги ушла, новых лозунгов не выдвинуто. Заскоки и зазнайство, в которых не хочется сознаваться. И в центре уже не дух Маяковского, а "аппарат редакции". Длинные споры о лефовской "ортодоксии". Я уже в списке "беглых". Уже имею "нарушения": посмел вывести на экран Ленина в фильме "Октябрь" (1927). Плохо, когда начинают ставить чистоту жанрового почерка впереди боевой задачи.
Не вступая в "Новый Леф", поворачиваюсь к нему спиной. С ним нам не по пути. Впрочем, так же и самому Маяковскому. Вскоре "Новый Леф" распадётся».
Отставляя Маяковского в сторону от гепеушного «Нового Лефа», Эйзенштейн как бы вступал в спор с Анной Ахматовой (или даже возражал ей). Вспомним ещё раз, как Анна Андреевна назвала эту литературную группу:
«Салон Бриков, где писатели встречались с чекистами».
Вспомним также, чем, по мнению Ахматовой был этот «салон» для Маяковского:
«Это был его дом, его любовь, его дружба, ему там всё нравилось».
Впрочем, это в присутствии лефовцев Маяковский «молчал», когда Лили Брик требовала вывести Шкловского. А что он говорил, когда в квартире осталась одни лишь представители «семьи», неизвестно.
Как бы там ни было, но некогда знаменитый литературный кружок стал постепенно таять. Очень скоро его покинули художники Елена Семёнова, Варвара Степанова, Антон и Елена Лавинские.
Конец Лефа
26 сентября, выступая с докладом «Левей Лефа», Маяковский неожиданно призвал:
«– Пора бросить нелепейшую и бессмысленную игру в организации и направления, в которую выродилась наша литературная действительность».
А в конце выступления объявил:
«Леф в том виде, в каком он был, для меня больше не существует!»
Это означало, что с Левым фронтом искусств Маяковский тоже расстаётся.
Художник Самуил Адливанкин:
«Мне казалось, что Владимир Владимирович одинок среди своих соратников по Лефу. Он как-то был сам по себе, хотя был вожаком, лидером этой группы. Поэтому выход его из Лефа не был для меня неожиданностью».
Бенгт Янгфельдт:
«Решение вызвало шок, так как он ни с кем – за исключением Осипа – не посоветовался. <…> Виктор Шкловский утверждал, что Маяковский попал в поэтический тупик, и что именно это стало одной из причин кризиса Лефа (помимо конфликта Шкловского и Лили)».
Александр Михайлов:
«Уход из Лефа Пастернака и некоторых художников ударил по самолюбию Маяковского. Тяжким грузом висели на нём чисто человеческие обязательства перед ближайшим окружением. Распусти Маяковский Леф – и что делать Брику? Где, в каком кружке царить Лиле Юрьевне? Вот какие совсем не литературные, но непростые для него вопросы должен был решать Маяковский».
Но возникает и такой вопрос: от чего (или, точнее, от кого) разбегались лефовцы? Не от Агранова ли и его коллег, появление которых в доме, что в Гендриковом переулке, превратило литературное объединение в «филиал ГПУ»?
Вряд ли стоит сомневаться в том, что гепеушники вербовали завсегдатаев лефовских «вторников» в осведомители. Хотя (и мы уже говорили об этом) многие из лефовцев были давними сотрудниками Лубянки.
Члены Литературного центра конструктивистов (ЛЦК), которых ещё совсем не так давно Маяковский звал присоединиться к Лефу, к уходу со своего поста лидера Левого фронта искусств отнеслись осуждающе. А конструктивист Николай Адуев обратился к нему со стихотворным обращением:
«И чтобы стать таким маститым и древним,
недоставало только от ЛЕФа уйти,
как Толстому – от Софьи Андреевны!».
Но Маяковский Новый Леф всё же оставил.
Вслед за ним это творческое объединение покинули Осип и Лили Брики.
И вновь обратим внимание на одну загадочную странность! Описывая эти, прямо скажем, драматические события, никто из тех, кто в них участвовал, ни словечком не обмолвился о том, как отреагировали на произошедший скандал те молодые люди в гимнастёрках и в штатском, которые присутствовали на каждом заседании Лефа.
Они тоже молчали? Точно так же, как Маяковский, который явно не хотел огорчать Лили Юрьевну, объявившую себя «хозяйкой» Левого фронта искусств?
Впрочем, нам известен (по воспоминаниям самих же лефовцев) лишь официоз событий, то есть то, что происходило у всех на виду. А когда лефовцы расходились, и в Гендриковом оставались только Маяковский и Брики, у них возникали разговоры. Были наверняка и споры, бурные, нелицеприятные. И Владимир Владимирович, никого уже не смущаясь, открыто высказывал всё то, что он думал о сложившейся ситуации.
И Агранов наверняка тоже высказывал Брикам и Маяковскому свою (гепеушную) точку зрения.
Между тем Борис Бажанов в октябре 1928 года прибыл в Ашхабад и получил там ответственный пост заведующего секретным отделом местного ЦК:
«Через несколько дней я заявил, что я страстный охотник, но на крупную дичь (должен сказать, что охоту я ненавижу). Позвонил Дорофееву, начальнику 46-го Пограничного Отряда войск ГПУ, который нёс там охрану границы, и сказал ему, чтоб он мне прислал два карабина и пропуска на право охоты в пограничной полосе на меня и Максимова. Что я сейчас же и получил.
В течение двух-трёх месяцев я изучал обстановку, а Максимов, которого я устроил на небольшую хозяйственную работу, исправно посылал на меня донесения в Москву».
Сгущались тучи и над головой Якова Блюмкина, являвшегося Главным инструктором по государственной безопасности Монголии и представителем ОГПУ в этой стране. По уже приводившимися нами словам Бориса Бажанова, он очень «злоупотреблял расстрелами», за что другой гепеушник, Георгий Агабеков, назвал его «диктатором Монголии». А начальник Разведуправления Красной армии Ян Берзин в октябре 1927 года отправил докладную наркому обороны Клименту Ворошилову. В ней сообщалось:
«Поведение Блюмкина весьма разлагающим образом действует на боеспособность Монгольской армии… Считаю, что в ближайшее время его нужно отозвать из Монгольской армии».
До Бориса Бажанова тоже дошли слухи о том, что Блюмкин в Монголии…
«… так злоупотреблял расстрелами, что даже ГПУ нашло нужным его отозвать… ГПУ не знало, куда его девать, и он был в резерве».
И Блюмкина из Монголии отозвали.
Глава вторая Октябрьская поэма
«Читки» поэмы
Своё второе выступление на диспуте «Пути и политика Совкино» (15 октября 1927 года) Владимир Маяковский завершил так:
«Говорят, что вот Маяковский, видите ли, поэт, так пусть он сидит на своей лавочке… Мне наплевать на то, что я поэт. Я не поэт, а прежде всего поставивший своё перо в услужение, заметьте, в услужение, сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику её – Советскому правительству и партии… (Аплодисменты.)
Я хочу сделать своё слово проводником идей сегодня… Я буду учить вас всем вопросам сценария.
Я один напишу двести сценариев… (Аплодисменты.)».
И ещё Маяковский продолжал всюду читать поэму «Хорошо!». Льву Кулешову он подарил её экземпляр с дарственной надписью:
«Милому Кулешову от Вл. Маяковского».
Чтобы ознакомить с этим произведением жителей «колыбели революции», Владимир Владимирович 25 октября отправился в Ленинград. Остановился в гостинице «Европейская». Первые вечера прошли в Ленинградской Академической капелле, в Доме печати и на Путиловском заводе.
«Ленинградская правда» оповестила читателей:
«В Аккапелле и Доме печати состоялись выступления В.Маяковского с октябрьской поэмой "Хорошо!". 24 эпизода поэмы в блестящем исполнении автора встретили горячий приём многочисленной аудитории».
Сам Маяковский после завершения вечера сказал:
«– Хотя публика здесь и скучней московской, академичнее, не дерётся и почти не ругается, но поэму приняли хорошо, я на них не в обиде».
Однако не везде приём был восторженным. Об этом – «Красная газета»:
«В Доме печати позавчера мы были свидетелями позорнейшего, в сущности говоря, явления. Литературная обывательщина, некогда прикрывавшаяся модой к Маяковскому, нынче резко повернула руль – и большой поэт, приехавший в город революции читать свою поэму о великой годовщине, – был встречен более чем сдержанно.
Но сдержанность – это ещё куда бы ни шло. Хуже, что литературная обывательщина под конец вечера совершенно рассупонилась и публично хамила. Маяковскому подавались записки о гонораре, о том, что, мол-де, его поэма написана "неискренне", и даже одна записка явилась обыкновенным хулиганством: "А скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?" Обывательщина всегда остаётся обывательщиной. Против этого не возразишь. Но удивительно было всё-таки, что ареной для этой обывательщины явился Дом печати».
31 октября после шестого выступления в Ленинграде (в Колонном зале Дома просвещения) Маяковский и сопровождавшие его лица зашли поужинать в ресторан гостиницы «Европейская».
Павел Лавут:
«За соседним столиком сидели Л.Авербах, Ю.Либединский, А.Фадеев. Решили соединить столы.
Около часа ночи Маяковский предложил Фадееву прогуляться, и мы долго бродили по Невскому. Их разговор главным образом касался советской литературы. Посвящали друг друга в творческие планы».
На следующий день Маяковский написал и отправил письмо в Харьков Наталье Борисовне Хмельницкой (той самой, с которой у него закрутился курортный романчик минувшим летом):
«Милая и хорошая Наталочка!
Неужели мог быть такой случай, что я, находясь в Харькове, не устремился к Вам?
Если я мог совершить такую гадость, то, конечно, сам к себе отношусь с полным презрением и негодованием. Во всяком случае это обстоятельство будет мною исправлено в первый же, очень скорый, приезд мой в Харьков.
Пишу Вам из Ленинграда – читаю бесконечно (12-й раз!) свою поэму «Хорошо!» и помогаю её репетировать в б<ывшем> Михайловском театре. С этой же поэмищей надеюсь въехать в Харьков…
… не гневитесь на меня и, если будете в Москве, немедленно требуйте меня перед свои ясные очи…
Жму руку.
Ваш МАЯКОВСКИЙ.
1. XI.27.»
4 ноября Маяковский вернулся в Москву.
А через два дня в Ленинградском Малом оперном театре (бывшем Михайловском) состоялась премьера спектакля «Двадцать пятое» (по поэме «Хорошо!»). Маяковский, специально приехавший в город на Неве, чтобы «помочь репетировать», на представление не остался, так как был (по словам Александра Михайлова)…
«… недоволен постановкой и сценарием. Убедил себя, что это не то, что надо писать настоящую пьесу. И спектакль, в общем, не имел успеха».
«Красная газета»:
«В отличие от реалистических постановок своих собратьев Малый театр строит на основе поэмы Вл. Маяковского "Хорошо!" обобщённое символическое изображение революционного десятилетия…
Эпизоды последних лет даются то в форме массовых динамических сцен, то коллективной читкой голосовых групп, танцевальными пантомимами или театрализованными сатирическими сценками. Действие объединяется чтецом, ведущим рассказ от лица автора. Особенно волнует момент "взятия Зимнего", когда в действие вовлекается весь зрительный зал».
7 ноября 1927 года в Москве и Ленинграде прошли массовые демонстрации оппозиционеров. В столице эти выступления организовали ректор Московского института народного хозяйства Ивар Тенисович Смилга и видный большевик, написавший в октябре 1919 года совместно с Николаем Бухариным книгу «Азбука коммунизма», а совсем недавно исключённый из партии («за организацию нелегальной антипартийной типографии») Евгений Алексеевич Преображенский. В Ленинграде демонстрантов выводили на улицы Григорий Зиновьев, Карл Радек и Михаил Лашевич.
Навстречу мирно шествовавшим оппозиционерам были брошены специально организованные отряды сторонников ЦК. Их организатором был первый секретарь Краснопресненского райкома партии верный сталинец Мартемьян Никитич Рютин. Он создал бригады боевиков, вооружённых дубинками и свистками. Дубинки использовались для разгона митингующих, а свистки должны были заглушать выступавших ораторов. С криками «Бей оппозицию!», «Долой жидов-оппозиционеров!», «Да здравствует ЦК!» бригады Рютина нападали на тех, на кого им указывали вожди.
Запомним этого человека – Мартемьяна Рютина, встреча с ним нам ещё предстоит.
А Маяковский в эти дни читал свою поэму в Москве. 15 ноября читка проводилась в Политехническом музее. Афиши, расклеенные по городу, сообщали, что после чтения состоится диспут:
«При участии т.т. Авербаха, Брика, Пельше, Раскольникова, Ингулова. Приглашаются т.т. Полонский, Воронский, Серафимович, Либединский и все желающие из публики. Весь чистый сбор поступит на усиление средств Шефской комиссии над Красной Армией при Наркомпросе».
Василий Абгарович Катанян:
«Маяковский начал своё выступление с краткого изложения повестки, как вдруг увидел в первом ряду человека средних лет, который, аккуратно устроив на коленях портфель, читал газету.
Маяковский остановился и резко спросил:
– Вы долго будете читать газету?
Человек средних лет сделал вид, что не слышит.
– Я к вам обращаюсь! – повысил голос Маяковский.
– Я сижу на своём месте и делаю то, что мне нравится, – возразил человек с газетой. – Я вам не мешаю.
– Нет, мешаете! – крикнул Маяковский. – Если вы не прекратите эту демонстрацию, я отберу у вас газету!..
Публика стала волноваться. Некоторые кричали: "Вон!", другие – "Оставьте его в покое!" Я сидел в глубине эстрады, и весь зал был передо мной – назревала драка.
И тогда человек средних лет сложил газету, спрятал её в портфель, встал и… был таков.
Как выяснилось потом, это был Р.А.Пельше, заведующий отделом художественного просвещения Главполитпросвета, один из предполагавшихся участников диспута».
Дополним к этому, что 41-летний Роберт Андреевич Пельше был тогда редактором журнала «Советское искусство», а незадолго до этого возглавлял Главрепертком (Главное управление по контролю над зрелищами и репертуаром), то есть был главным цензором страны. Ему ли было не демонстрировать свой начальственный гонор!
На следующий день газета «Вечерняя Москва», сообщив, что «ни один из плеяды критиков», перечисленных на афише, на диспут не явился, продолжала:
«Никогда ещё не проявилось так отчётливо, как вчера, отношение к поэту обывателя, который за свой целковый считает вправе с высоты своего обывательского величия и в отдельных выкриках и – тем более – в анонимных записках самым вызывающим образом глумиться над поэтом.
– Я сросся с Октябрьской революцией, – заявил Маяковский. – Советскую республику я считаю своею!.. И я горжусь своими выступлениями с эстрады!.. Но революция выдвинула поэта на эстраду вовсе не для того, чтобы можно было безнаказанно над ним глумиться. Поэтому, если на мой вечер приходит публика с явным предубеждением против меня, если она не желает меня слушать, предпочитая демонстративно читать, я вырываю у таких слушателей газету и кричу им: "Или слушайте меня, или уходите из зала!".
Шумные аплодисменты, покрывшие эти слова Маяковского, показали, что значительная часть вчерашней аудитории поддержала Маяковского за его выступление в защиту поэта и поэзии».
Примерно в это же время произошла встреча Владимира Маяковского с Ильёй Сельвинским, написавшим «роман в стихах» под названием «Пушторг». О состоявшемся между ними разговоре поэт-конструктивист потом вспоминал:
«Маяковский. – Ну, вот я встретил 10-летие Октября поэмой "Хорошо!", а вы – "Пушторгом". Я воспеваю революцию, а вы придираетесь к ней.
Сельвинский. – Я придираюсь не к ней, а к тем, кто, гримируясь под коммунистов, тянет революцию в мещанское болото.
Маяковский. – Извините, но писать такую поэму в юбилейный год – это верх бестактности.
Сельвинский. – А я считаю верхом бестактности ваше "Хорошо!": "Сыры не засижены", "лампы сияют", "цены снижены", "бьём грошом – очень хорошо!" Тишь да гладь. А в это время партию раздирает на части внутрипартийная борьба.
Маяковский. – Сегодня поэт должен делать то, что нужно партии.
Сельвинский. – Вот я и борюсь против ржавчины, которая разъедает её изнутри.
Маяковский. – Ваша проблема интеллигенции сегодня никого не интересует.
Сельвинский. – Но без интеллигенции построить коммунизм нельзя!»
Надо полагать, что в тот момент с точкой зрения Ильи Сельвинского был солидарен и Осип Брик, ставший оппозиционером и вряд ли поддержавший то, как восторженно в поэме «Хорошо!» представлялась ситуация в советском обществе. Никаких свидетельств о разговорах на эту тему не сохранилось, но оппозиционно настроенный Брик наверняка тоже критиковал поэму Маяковского. А тот, в свою очередь, говорил, что ему хорошо известны запросы читающей массы. В «Я сам» главка «1927-й ГОД» завершается так:
«Ещё продолжал менестрелить. Собрал около 20 000 записок, думаю о книге "Универсальный ответ" (записочникам). Я знаю, о чём думает читающая масса».
Здесь явный ответ Осипу Брику.
А Павел Лавут прокомментировал вторую фразу, в которой речь идёт о двадцати тысячах собранных записок:
«Скорей всего, что это лишь свойственная поэту гипербола. Но если реальна лишь половина этого количества, то и тут есть что почитать и над чем задуматься.
Говорил Владимир Владимирович и о том, что он собирается написать книгу под названием “Универсальный ответ записочникам”. И, хотя уже был составлен план работы, к сожалению, замысел остался неосуществлённым».
«Читки» продолжаются
16 ноября 1927 года Луначарский выдал Маяковскому сроком на один год удостоверение, подтверждающее, что его предъявитель направляется «для чтения своих произведений в города…», и перечислялись 20 городов Союза – от Ленинграда до Владивостока. Кроме того, для предотвращения случаев, когда местные власти встречали поэта весьма насторожённо, Анатолий Васильевич сопроводил его ещё одной бумагой:
«Поэт Владимир Владимирович Маяковский направляется в города СССР с чтением своей октябрьской поэмы "Хорошо!". Считая эту поэму имеющей большое художественное и общественное значение, прошу оказывать тов. Маяковскому полное содействие в устройстве его публичных выступлений».
Павел Лавут:
«Маяковский мечтал о большой читательской аудитории.
– Один мой слушатель, – говорил он, – это десять моих читателей в дальнейшем.
Поездки питали его творчество, они же прокладывали путь к сердцам читателей».
20 ноября Владимир Владимирович отправился в турне.
21 ноября состоялось первое его выступление в Драматическом театре Харькова. Местная газета «Пролетарий» на следующий день сообщила:
«Поэма "Хорошо!" чересчур растянутое, чересчур риторическое и притом слишком схематичное произведение, которое держится только на отдельных очень немногих ярких удавшихся местах. Только огромный талант Маяковского и его уверенное мастерство спасает новую вещь от полного провала.
Маяковский – как это ни покажется спорным – поэт лирической темы, он лирик по преимуществу… Но эпос – не его сфера. Здесь он сплошь и рядом срывается и не возвышается над публицистикой невысокого уровня».
Харьковская газета «Вечернее радио»:
«Можно спорить с Маяковским, не соглашаться с его художественными приёмами, но нельзя не признать его уверенного дарования и мастерства. Наконец, Маяковский остроумен. В этом ему нельзя отказать. Но зачем эти грубые недостойные нападки на представителей других литературных течений, на т. Полонского, например: "Полонский раньше писал ерунду, а теперь пишет гадости…"?
Нехорошо, т. Маяковский!»
Найти информацию, встречался ли Владимир Владимирович в Харькове с Натальей Хмельницкой, к сожалению, не удалось.
Из Харькова Маяковский направился в Таганрог и Новочеркасск, где читки (почти ежедневные) были продолжены.
Таганрогская газета «Красное знамя»:
«Это последнее произведение вызывает интерес и по своей героической теме, и по своим ядрёным и звонким стихам, построенным на самых неожиданных рифмах, на самой неожиданной игре ритма».
28 ноября состоялось два выступления – в Нахичевани-на Дону и в Ростове.
Павел Лавут:
«В Москве у Маяковского была маленькая комната. Поэтому в гостиницах он любил большие номера, где можно было бы пошагать, а, значит, лучше поработать. В Ростове ему предоставили самый большой номер. Он обрадовался:
– Повезло!»
Но это «везение» длилось недолго – ростовская газета «Советский юг» ещё 27 ноября опубликовала статью Юзовского, которую явно была приурочена к приезду поэта.
У статьи было вызывающе обидное название – «Картонная поэма». В ней говорилось:
«Маяковский не дал художественно-идеологической характеристики революционных периодов. Только убогая информация: такой-то полк покинул батарею, такая-то шестидюймовка бабахнула. Как слабо! Неглубоко! Несерьёзно!
Ни одна искра октябрьского пожарища не попала в Октябрьский переворот Маяковского. Были прохладноватые восторги, официальный пафос, картонный парад событий… За исключением места об обывателе, сатира в поэме поверхностна, не зла, не бьёт…»
Заканчивалась эта статья так:
«К 10-летней годовщине трудящиеся СССР преподнесли республике ценные подарки: электростанции, заводы, железные дороги.
Поэма Маяковского похожа на юбилейные из гипса и картона, расцвеченные, приготовленные к празднику арки и павильоны.
Такая арка, как известно, недолговечна. Пройдёт месяц, другой, арка отсыреет, потускнеет, поблекнет, встретит равнодушный взгляд прохожего».
У другой ростовской газеты, «Молот», сложилось несколько иное мнение:
«"Хорошо!" – поэма, написанная обычным для Маяковского динамическим, сжатым, полным стремительности и в то же время своеобразной размеренностью темпа языком, она блещет целым рядом образных, заражающих своим пафосом мест».
Но определяя место, которое поэт занимал в советской поэзии, та же газета «Молот» писала:
«Поэзия Сельвинского так относится к поэзии Маяковского, как последняя – к поэзии символистов. Сельвинский значительно сложнее, богаче, смелее и подчас труднее для восприятия, чем Маяковский. Зато он даёт высокий художественный эффект».
Павел Лавут:
«В Ростове сказалась усталость. У Маяковского начался грипп. А тут ещё рецензия на поэму "Хорошо!" с оскорбительно-хлёстким названием "Картонная поэма", появившаяся в газете "Советский юг". В ней сказано, что Маяковский “не отразил революцию”, и что под его возгласом “Хорошо!” подпишется “любой обыватель”».
30 ноября Маяковский выступил в Армавире (в кинотеатре «Солей»). Об этой читке высказалась местная газета «Трудовой путь»:
«К сожалению, армавирской аудитории не пришлось познакомиться со всей поэмой, т. к. Маяковский, по болезни, читал лишь отдельные места, а не всю поэму».
После чтения поэмы и стихов как всегда начался диспут, о котором тот же «Трудовой путь» высказался так:
«Одни из выступавших говорили, что поэзия Маяковского для широких масс малопонятна и трудна, и что Маяковскому нужно опроститься, спуститься на фабрику, завод, быть поближе к коллективу, чтобы понять и потом воспеть его…
Относительно "опрощения" Маяковский заявил, что он не хочет подлаживаться и опускаться до степени понимания отдельных слоёв рабоче-крестьянских масс, – что его поэзия рассчитана, главным образом, на авангард, наиболее сознательную передовую часть массы».
4 декабря – выступление в Баку – в особняке бывшего миллионера, в доме, который стал Дворцом тюркской культуры. Присутствовавший в зале М.Юрин написал:
«В зале – зверский холодище. Помещение совершенно не приспособлено для читки стихов. Даже при таком сильном голосе, каким обладал Маяковский, отдельные строчки и отдельные звуки еле-еле доходили до последних рядов. И вот уставший, совершенно потерявший голос Владимир Владимирович ведёт заключительную беседу с аудиторией.
Как это ни странно, но даже в Баку аудитория состояла наполовину из людей, пришедших поглазеть на "душку" Маяковского, послушать, как он будет издеваться над публикой, из жажды острых ощущений».
И из этого зала поэту передали записку с вопросом:
«Когда у человека на душе пустота, то для него есть два пути: или молчать, или кричать. Почему вы выбрали второй путь?»
Маяковский, по словам Юрина, ответил мгновенно:
«– Автор этой записки забыл, что есть ещё и третий путь: это – писать вот такие бездарные записки.
Аудитория залилась хохотом. Аудитория была довольна».
На следующий день Маяковский выступил в клубе имени Шаумяна. Газета «Бакинский рабочий» сообщила читателям:
«Клуб им. Шаумяна битком набит рабочей молодёжью. Пришли послушать Маяковского…
Накинув на плечи пальто, Маяковский со сцены говорит:
– В вашем районе я выступаю впервые. Надеюсь, вы будете себя держать скромно: будете кричать, свистеть, двигаться – это будет признак моего у вас успеха.
Все дружно смеются».
9 декабря поэта принимал Тифлисский театр имени Руставели. О новой поэме, которая там читалась, газета «Рабочая правда» написала:
«Маяковского постигла большая удача. После "Двенадцати" Блока это самая сильная вещь из всех, написанных за десять лет…
Можно с уверенностью сказать, что даже противники Маяковского должны будут признать, что "Хорошо" – ценнейший вклад в революционную поэзию».
12 декабря четвёртое выступление в Тифлисе было отменено. В записной книжке поэта сохранился черновик его обращения к тифлисцам:
«Крайнее утомление и болезнь горла, непрерывные выступления с 26 октября, 3 раза в день в больших нетопленных помещениях, вынуждают меня уехать из Тифлиса, прервав свои доклады и чтения. Прошу прощения у товарищей, которым я дал обещания выступить и не мог этого сделать, в первую очередь у тифлисских лефовцев и пролетписателей».
Но 13 декабря «Рабочая правда» всё-таки объявила ещё одно выступление – в Центральном рабочем клубе:
«Маяковский прочтёт поэму "Хорошо" и выступит с докладом "Даёшь изящную жизнь". Этот вечер надо отметить как первое выступление Маяковского в Тифлисе в рабочей аудитории».
Читая свою поэму лефовцам Тифлиса и пролетарским писателям Грузии, Владимир Владимирович, по словам Лавута, сказал о ней так:
«Вещь, судя по всему, сделана неплохо. Я пронёс её через десятки городов и десятки тысяч людей, и везде слушали с интересом. Ругня отдельных рецензентов – не в счёт. Важно мнение масс».
17 декабря 1927 года поэт вернулся в Москву. И 20 числа он уже выступал на «Вечере журналов» Госиздата, что было отмечено газетой «Правдой»:
«Конец ровному и спокойному началу вечера положил т. В.Маяковский, выступивший от редакции "Нового Лефа". Маяковский похвалил все журналы ГИЗ и назвал "литературным охвостьем" не гизовские "Новый мир", "Красную новь", "Огонёк", "Экран" и др., которые якобы играют роль рака, тащащего назад коммунистическую культуру, и своим тиражом забивают хорошие журналы Госиздата».
А Павел Лавут заканчивавшийся год охарактеризовал так:
«1927 год можно назвать “болдинским” годом Маяковского. Поэт провёл вне Москвы 181 день – то есть полгода (из них пять недель – за границей), посетил 40 городов и свыше 100 раз выступал (не считая литературных вечеров в Москве). Часто приходилось выступать по два-три раза в день. Каждое выступление требовало огромного напряжения: оно длилось в среднем около трёх часов. В том же году он написал 70 стихотворений (из них 4 для детей), 20 статей и очерков, 3 киносценария и, наконец, поэму “Хорошо!”».
К этому перечню достижений, которые характерны для Маяковского в 1927 году, нелишне добавить и сопровождавшие их негативные события. Ведь пока поэт разъезжал по стране и зарубежью, Леф возглавили Брики. Их верховенство завершилось распадом Левого фронта искусств, что окружило Маяковского множеством трудноразрешимых проблем. А тут ещё в общественной жизни страны Советов произошло событие, многим показавшееся невероятным.
Побег из страны
В декабре 1927 года состоялся очередной (XV-ый) съезд ВКП(б), на котором подавляющее число делегатов голосовало за позицию ЦК, то есть за Сталина.
О том, во что превратилась партия большевиков, Борис Бажанов (давно уже покинувший пост секретаря политбюро ЦК) написал:
«… это была не партия, а сборище трусливых и терроризированных холуёв, которые подымали руки по сталинской указке».
Иосиф Сталин поднялся почти на самую вершину власти. Видимо, именно этот момент человеческой жизни имел в виду Горький, когда писал:
«Нет яда более подлого, чем власть над людьми».
Борис Бажанов:
«На XV съезде партии, когда Сталин наметил свой преступный путь на коллективизацию, Сокольников выступил против этой политики и требовал нормального развития хозяйства, сначала лёгкой промышленности».
Григорий Сокольников, ещё недавно работавший заместителем председателя Госплана, а в 1928-ом назначенный председателем Нефтесиндиката, за свою речь был выслан из страны – он стал полпредом СССР в Великобритании.
Съезд большевиков-сталинистов единодушно исключил из партии семьдесят пять «активных деятелей троцкистской оппозиции» (тех, кто входил в Объединённую левую оппозицию, включая её лидеров). Всех исключённых вскоре отправили в ссылки или заключили под стражу.
Эти репрессии коснулись и лефовцев – ведь среди выдворенных из партии оппозиционеров оказалась и 26-летняя активная троцкистка Мария Яковлевна Натансон, ещё совсем недавно бывшая секретарём комфутов (коммунистов-футуристов). О ней Маяковский написал (незадолго до съезда партии) в журнале «Новый Леф», посвящённом десятой годовщине октябрьской революции (в статье «Только не воспоминания…»). Речь шла о том моменте, когда бывшие футуристы только-только объявили себя комфутами:
«С первых дней семнадцатилетняя Муся Натансон стала водить нас через пустыри, мосты и груды железного лома по клубам, заводам Выборгского и Василеостровского районов».
Запомним эту оппозиционерку – Марию Натансон. Мы с нею ещё не раз встретимся.
Надо полагать, что и ставший оппозиционером беспартийный Осип Максимович Брик, некогда возглавлявший комфутов, тоже высказывался о том, что происходит в партии, и как она расправляется с теми, кто не согласен с точкой зрения генсека Сталина.
Для резидента ОГПУ во Франции Якова Серебрянского 1927 год завершился успешно – в связи с десятилетием ВЧК-ОГПУ его наградили личным боевым оружием.
А для Бориса Бажанова год 1927-ой стал последним годом его пребывания в стране Советов. Вот что написал он в воспоминаниях:
«Я решил перейти границу 1 января (1928 года)…
Вечером 31 декабря мы с Максимовым отправляемся на охоту. Максимов, собственно, предпочёл бы остаться и встретить Новый год в какой-либо весёлой компании, но он боится, что его начальство (ГПУ) будет очень недовольно, что он не следует за мной по пятам. Мы приезжаем по железной дороге до станции Лютфабад и сразу же являемся к начальнику пограничной заставы. Показываю документы, пропуска на право охоты в пограничной полосе…
На другой день, 1 января рано утром, мы выходим и идём прямо на персидскую деревню. Через один километр в чистом поле и прямо на виду пограничной заставы я вижу ветхий столб: это столб пограничный, дальше – Персия. Пограничная застава не подаёт никаких признаков жизни – она вся мертвецки пьяна. Мой Максимов в топографии мест совершенно не разбирается и не подозревает, что мы одной ногой в Персии. Мы присаживаемся и завтракаем.
Позавтракав, я встаю; у нас по карабину, но патроны ещё все у меня. Я говорю: “Аркадий Романович, это пограничный столб, и это – Персия. Вы – как хотите, а я – в Персию, я навсегда оставляю социалистический рай – пусть светлое строительство коммунизма продолжается без меня”. Максимов потерян: “Я же не могу обратно – меня же расстреляют за то, что я вас упустил”. Я предлагаю: “Хотите, я вас возьму и довезу до Европы? Но предупреждаю, что с этого момента на вас будет такая же охота, как и на меня”. Максимов считает, что у него нет другого выходы – он со мной в Персию».
Войдя в персидскую деревушку, Бажанов с Максимовым отыскали представителей местной власти. Те послали гонца в административный центр, а там потребовали доставить беглецов к ним.
«Но местные власти решительно отказываются организовать нашу поездку ночью, и нам приходится ночевать в Лютфабаде.
Тем временем информаторы Советов переходят границу и пытаются известить пограничную заставу о нашем бегстве через границу. Но застава вся абсолютно пьяна, и до утра 2 января никого известить не удаётся. А утром 2 января мы уже выехали в центр дистрикта и скоро туда прибыли. Не подлежит никакому сомнению, что, если бы это не было 1 января и встреча Нового года, в первую же ночь советский вооружённый отряд перешёл бы границу, схватил бы нас и доставил обратно. Этим бы моя жизненная карьера и закончилась».
Оставшиеся в «раю»
Поэма «Хорошо!» продолжала подвергаться критике. Поэт-конструктивист Николай Адуев опубликовал такое обращение к поэту-лефовцу:
«Как недавно ещё на афише в Минске
вы печатали среди бела дня,
что глава конструктивистов – Сельвинский
попросту – Лефовский "молодняк".
Но и этот номер не прошёл,
ибо ещё Прутков сказал:
"Узрев на плохих стихах – «Хорошо» —
не верь своим глазам!"».
А Осип Брик написал вдруг киносценарий, который студия «Межрабпомфильм» запустила в производство. Маяковского этот творческий успех Осипа Максимовича не мог не задеть – ведь сценарии Владимира Владимировича ни один кинорежиссёр-лефовец ставить не захотел, а что касается киностудий, то все творения знаменитого поэта там безжалостно отвергали. А к чужому успеху Маяковский относился очень ревниво.
У Лили Брик под занавес года произошёл, по образному выражению Аркадия Ваксберга, «первый в её жизни любовный крах».
Всеволод Пудовкин в х/ф «Мать», 1926 г.
На этот раз она обратила внимание на известного уже тогда кинорежиссёра Всеволода Илларионовича Пудовкина, на того самого, что взялся снимать фильм по сценарию Осипа Брика. Ему было тридцать четыре года, и он был режиссёром кинокартины «Шахматная горячка», экранизировал роман Горького «Мать» (фильм обошёл весь мир) и снял фильм «Конец Санкт-Петербурга».
С Бриками Пудовкина познакомил Лев Кулешов, и Всеволод очень быстро вошёл в лефовский круг. Он был заядлым теннисистом, бегло изъяснялся по-французски и отличался светским лоском. Одним словом, обладал всеми теми достоинствами, которые обычно пленяли Лили Брик.
Но на этот раз, как говорится, коса нашла на камень – Пудовкин устоял, магические Лилины чары на него не подействовали.
Аркадий Ваксберг:
«Через год он поставит ещё один фильм, которому суждено войти в историю мирового кино, – "Потомок Чингисхана", сценарий которого напишет Осип, и это в ещё большей мере сблизит их всех. Но отказ блистательного мужчины откликнуться на призыв блистательной женщины, всех сводившей с ума и не знавшей до сих пор ни одного поражения, не мог не ранить самолюбия Лили. Она стойко выдержала этот удар».
Этими словами рассказ о той несостоявшейся любви Аркадий Ваксберг закончил. Но история эта имела продолжение. Или, выражаясь точнее, из неё можно извлечь весьма неожиданные выводы.
Вспомним бурный роман Лили Брик и Александра Краснощёкова. Их любовь завершилась тем, что Александра Михайловича посадили в тюрьму, а его финансовая деятельность прекратилась.
А чем завершилось не менее бурное увлечение Лили Юрьевны Львом Кулешовым?
В 1929 году актёры и режиссёры мастерской Кулешова (его ученики: Всеволод Илларионович Пудовкин, Леонид Леонидович Оболенский, Сергей Петрович Комаров и Владимир Павлович Фогель) написали:
«Кинематографии у нас не было – теперь она есть. Становление кинематографии пошло от Кулешова… Кулешов – первый кинематографист, который стал говорить об азбуке, организуя нечленораздельный материал, и занялся слогами, а не словами… Мы делаем картины, – Кулешов сделал кинематографию».
Но вот в чём загадка – после завершения романа с Лили Брик «создатель» советской кинематографии ничего выдающегося больше не создал. В начале 60-х годов прошлого столетия вообще мало кто знал о существовании такого кинорежиссёра как Лев Кулешов. А ведь он был жив, здоров, преподавал во ВГИКе. И фильмы иногда снимал.
А отвергнувший Лили Юрьевну Всеволод Пудовкин, напротив, успешно продолжил свою творческую деятельность.
О чём это говорит?
Не о том ли, что в 1927 году Лубянке очень хотелось, чтобы знаменитый деятель кинематографа Лев Кулешов стал её осведомителем. А тот на это не соглашался. И тогда Лили Брик получила гепеушное задание: обворожить Кулешова и заставить его дать согласие. И Лили Юрьевна обворожила. Но выявила какие-то антибольшевистские настроения и взгляды. И блистательная кинокарьера Льва Кулешова тотчас же завершилась.
А Всеволод Пудовкин на Лилину «удочку» не попался. С ОГПУ он, видимо, разобрался сам.
Никаких документальных подтверждений того, что директор Промбанка Краснощёков и кинорежиссёр Кулешов стали жертвами гепеушных операций, до сих пор не обнародовано. Существуют лишь косвенные, но весьма убедительные факты. С ними можно не соглашаться, но именно они продолжают порождать новые вопросы и версии.
Что же касается Лили Брик, то вот что о ней написала Софья Шамардина:
«Наконец-то или в конце 1927 года или в начале 1928 я её увидела в Гендриковом переулке, уже давно подготовленная Маяковским к любви к ней. Красивая. Глаза какие! И рот у неё какой!..
Помню – сказал о какой-то своей вещи: "Этого читать не буду. Это я ещё не прочёл Лиличке!" (А может быть, это так – отговорка?)».
Но возникает вопрос: а как же Наталья Брюханенко? Что стало с любовью поэта к девушке необыкновенной красоты? И куда делась ожидавшаяся всеми свадьба?
Вот что обо всём этом рассказала сама Наталья Александровна, описывая один из дней конца 1927 года:
«Мы шли поздно вечером по Лубянской площади, возвращаясь с вечера, где Маяковский читал "Хорошо!" и говорил о политической поэзии. Такой настоящий Маяковский, поэт-трибун.
Он провожал меня домой. Он шёл. Как всегда, с толстой палкой. Идёт и волочит её по земле, держа за спиной. Гоняет папиросу из одного угла рта в другой. Мы шагаем вдвоём по пустой большой площади.
В этот день я вернулась из Харькова, куда ездила в гости к одному знакомому. Маяковскому это не нравилось. Он шёл грустный и тихо говорил мне:
– Вот вы ездили в Харьков, а мне это неприятно. Вы никак не можете понять, что я всё-таки ЛИРИК. Дружеские отношения проявляются в неприятностях.
Я оправдывалась, но его совсем не понимала. Маяковский сказал:
– Я люблю, когда у меня преимущества перед остальными».
Прошло несколько дней после той прогулки по вечерней Москве, и Маяковский отправился в очередную поездку по городам Союза.
Наталья Брюханенко:
«Он заехал ко мне домой попрощаться, он очень торопился и попросил меня выйти на улицу, дойти с ним до машины. Я накинула на себя пальто, то самое летнее, в котором я приезжала в Крым. Маяковский посмотрел на моё пальто и сказал:
– Вы простудитесь, возвращайтесь скорей домой.
Через несколько дней, в день моего рождения, 28 ноября, я получила от Маяковского телеграмму из Новороссийска: "Поздравляю жму лапу Маяковский", – и подарок – денежный перевод на пятьсот рублей.
Я была тронута и обрадована. Рано утром я позвонила Лиле Юрьевне, наверно, разбудив её, и попросила дать мне точный адрес Маяковского. Она не спросила, ни почему такая срочность, ни что случилось, а просто сказала:
– Ростов, гостиница такая-то.
Я тут же телеграфировала и поблагодарила его, а на подарочные деньги купила зимнее пальто».
Выходит, что, не выйди Наталья вслед за Маяковским на улицу, он так и не узнал бы о том, что ей не в чем ходить в наступившую холодную пору. Складывается ощущение, что в их отношениях что-то произошло. Подумаем надо этим.
Судьба беглецов
Борис Бажанов и Аркадий Максимов («через горы, снега, обвалы, провалы и кручи») добрались до персидского городка Мешед. Бажанов потом написал:
«2 января наконец проснувшаяся застава доложила Ашхабаду о моём бегстве. Заработал телефон с Москвой. Ягода, видимо, проявил необычайную энергию. Сталин приказал меня убить или доставить в Россию во что бы то ни стало. В Персию был послан отряд, который ждал меня по дороге в Кучан, но так и не дождался».
Беглецов спасло то, что начальник персидского дистрикта (территориального округа) не отправил их через городок Кучан, а послал с проводниками через горы, по заснеженным тропинкам.
Тридцатидвухлетний резидент ИНО ОГПУ в Иране (Персии) Георгий Сергеевич Агабеков потом напишет (в книге «ЧК за работой» в главе «Смерть предателям»):
«3 января 1928 года, просматривая персидские газеты, я обратил внимание на следующую маленькую заметку: “Из Мешеда сообщают, что два крупных советских чиновника, Максимов и Бажанов, убежав из СССР, прибыли в Мешед. До распоряжения из Тегерана они содержатся в полиции. На днях беглецы будут высланы в Тегеран”».
Вечером того же дня Агабеков получил «свежедешифрованную телеграмму из Москвы»:
«Из Асхабада в Персию бежали Бажанов и Максимов. Бажанов (повторяем: Бажанов), будучи Москве, занимал ответственный пост и может быть чрезвычайно опасен. Выясните их место пребывание и примите все меры ликвидации. Трилиссер».
Пришла телеграмма и из Мешеда от тамошнего гепеушного резидента Михаила Лагорского:
«Прибыли Мешед перебежчики Бажанов и Максимов. Имею распоряжение Москвы и Ташкента срочно их “ликвидировать”. Не имею достаточно возможностей для выполнения задания. Приезжайте лично. Михаил».
Утром следующего дня Агабеков пришёл на совещание к советскому полпреду в Персии Якову Христофоровичу Давтяну (он был самым первым начальником ИНО ВЧК):
«На совещание как старый чекист был приглашён также советник Логановский. По линии Наркоминдела уже поступила телеграмма добиться во что бы то ни стало уничтожения Бажанова. Это был чуть ли не первый случай, когда Наркоминдел выступил согласованно с ГПУ. Тогда это меня сильно удивило. Потом же я узнал, что приказ убить Бажанова был дан по всем линиям самим Сталиным, в секретариате которого работал Бажанов до своего отъезда в Туркестан…
К вечеру следующего дня аэроплан “Юнкерс”, вылетевший рано утром из Тегерана, сделав над Мешедом несколько плавных кругов, опустился на покрытый снегом аэродром».
Борис Бажанов:
«На аэроплане из Тегерана в Мешед прилетает резидент ГПУ в Персии Агабеков, и ему сразу же переводятся большие средства на организацию моего убийства. Агабеков энергично берётся за работу. Подготовка идёт по разным линиям и успешно (обо всём этом в 1931 году в своей книге расскажет сам Агабеков). И когда всё готово, вдруг Агабеков получает приказ из Москвы – всё остановить».
Вот тот секретный приказ, прилетевший в Мешед зашифрованной телеграммой:
«Во изменение нашего намерения, никаких активных мер против Бажанова и Максимова, повторяю, не принимать. Нарушение приказа подлежите революционному суду. Трилиссер».
Борис Бажанов:
«Агабеков не понимает, почему, когда всё подготовлено. Агабеков очень обескуражен. Он не знает, что Москва получила заверения о моей выдаче, переданные по линии, о которой он не догадывается».
Беглецы тем временем добрались из Мешеда в пограничный городок Дуздаб, а оттуда перебрались в Индию. И стали ждать, когда им разрешат отправиться в Европу.
Новые стихи
В январе 1928 года началась высылка из Москвы исключённых из партии оппозиционеров. Операцию по выдворению из столицы Льва Троцкого возглавлял Николай Бухарин. На квартиру бывшего наркомвоенмора был прислан отряд гепеушников, которые силой вынесли его из квартиры, усадили в автомобиль, и вместе с женой и сыновьями отвезли на железнодорожный вокзал, где водворили в вагон, отправлявшийся в Алма-Ату.
В ссылку были отправлены Григорий Зиновьев, Карл Радек, Христиан Раковский, Евгений Преображенский и многие другие оппозиционеры, среди которых был журналист Лев Сосновский (его выслали в Барнаул) и бывшая комфутка Мария Натансон (её сослали в Среднюю Азию). Льва Каменева отозвали из Италии и тоже отправили в ссылку.
Маяковский на эту расправу с оппозиционерами не откликнулся. 11 января газета «Комсомольская правда» опубликовала его стихотворение «Даёшь хлеб!», в котором были такие строки:
«Добреет крестьянство / и дом его,
и засухой / хлеб / не покаран.
Так в чём же заминка? / И отчего
хвосты / у наших пекарен?»
Поэт, ни одного раза не съездивший в деревню, чтобы узнать, как и чем живут там его соотечественники, вновь выступил с призывом:
«Несись / по деревне / под все дымки:
– Снимай, / крестьянин, / с амбара замки!
Мы – / общей стройки участники.
Хлеб – / государству! / Ни пуда муки
не ссыпем / отныне / у частника!»
Последнюю фразу жирным шрифтом выделил сам Маяковский.
Александр Михайлов:
«За несколько выездов из Москвы в конце 1927 и начале 1928 года Маяковский выступил, кроме Москвы и Ленинграда, в Харькове, Ростове, Новочеркасске, Таганроге, Армавире, Баку, Тифлисе (пять раз!), Казани, Свердловске, Перми, Вятке, Днепропетровске, Запорожье, Бердянске, Житомире, Киеве, Виннице, Одессе, снова в Киеве… Это по март включительно…
Поездки и выступления прерывались, как это было в Баку, из-за проклятого, преследовавшего его простудного заболевания, и всё же за осень 1927 и зиму 1928 года Маяковский провёл около восьмидесяти вечеров в различных городах».
Мнительного Маяковского все его болезни тревожили необыкновенно. Стоило чуть сорваться уставшему от многочисленных выступлений голосу, как поэт начинал спрашивать лечивших его врачей, не рак ли горла у него. Внезапная боль в животе рождала другой вопрос: не рак ли у него пищевода? Как только возникала простуда, он принимался интересоваться: не туберкулёз ли это?
В последней декаде января поэт приехал в Свердловск и сразу написал стихотворение «Екатеринбург – Свердловск»:
«Из снегового, / слепящего лоска,
из перепутанных / сучьев / и хвои —
встаёт / внезапно / домами Свердловска
новый город: / работник и воин…
У этого / города / нету традиций,
бульвара, / дворца, / фонтана и неги.
У нас / на глазах / городище родится
из воли / Урала, / труда / и энергии!»
В самом конце января, всё ещё продолжая находиться в Свердловске, Маяковский написал ещё одно стихотворение – «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру»:
«Я пролетарий. / Объясняться лишне.
Жил, / как мать произвела, родив.
И вот мне / квартиру / даёт жилищный,
мой, / рабочий, / кооператив.
Во – ширина! / Высота – во!
Проветрена, / освещена / и согрета.
Всё хорошо. / Но больше всего
мне / понравилось – / это:…»
Понравившееся литейщику Козыреву «это» было ванной, в которой имелись водопроводные краны:
«На кране / одном / написано: / "Хол.",
на кране другом – / "Гор."».
Стихотворение заканчивается словами искупавшегося в ванной литейщика:
«Себя разглядевши / в зеркало вправленное,
в рубаху / в чистую – / влазь.
Влажу и думаю: / – Очень правильная
эта / наша, / советская власть».
18 февраля «Рассказ литейщика Козырева» напечатала газета «Правда». Юрий Анненков, ознакомившись с этим стихотворением, написал:
«Впрочем, не следует забывать, что своего литейщика Маяковский недаром назвал Козыревым, то есть – козырь, удачник.
Рассматривая эту поэму с точки зрения литературной формы, мы видим, что Маяковский просто стёр самого себя».
Иными словами, никакой поэзии в этом стишке про «удачливого» литейщика Анненков не увидел.
А за две недели до публикации стихотворения в «Правде» другая всесоюзная газета («Пионерская правда») ещё раз напечатала стихи Маяковского для детей – «Возьмём винтовки новые». Но на этот раз рядом с текстом были помещены ноты композитора Климентия Корчмарёва, которые превращали строки поэта, призывавшего подрастающее поколение учиться стрелять (и убивать людей), в песню.
Диспуты и спектакли
Тем временем в столице Франции произошло событие, о котором стоит упомянуть. В феврале 1928 года в Париж вместе с женой Фаиной (Александрой Осиповной) прибыл Захар Ильич Волович, давний знакомец Владимира Маяковского и друг «семьи» Маяковского и Бриков. В книге Валентина Скорятина говорится, что 15 февраля Волович…
«… был зачислен в штат Генконсульства СССР делопроизводителем 1-го разряда. Однако уже спустя месяц он “откомандирован в полномочное представительство в непосредственное распоряжение полпреда т. Довгалевского В.С. и советника тов. Беседовского Г.З.”»
Ещё недавно занимавшего пост полпреда СССР во Франции троцкиста Христиана Раковского отправили в ссылку, а вместо него назначили Валериана Савельевича (Сауловича) Довгалевского, бывшего наркома почт и телеграфа РСФСР и дипломата, представлявшего свою страну в Швеции и в Японии. Его заместителем стал Григорий Зиновьевич Беседовский, который до этого служил в полпредстве СССР в Польше, возглавлявшемся Петром Войковым, затем был торгпредом СССР в Японии, а в 1927 году стал работать во Франции.
Захар Ильич Волович в Париже стал Владимиром Борисовичем Яновичем, сотрудником парижского отдела ОГПУ, размещавшегося в том же здании, что и полпредство. Начальником Владимира Яновича стал резидент ОГПУ во Франции Яков Серебрянский.
Григорий Беседовский потом написал о Владимире Яновиче и его жене:
«Список секретных сотрудников, освещавших жизнь эмиграции, хранился у Яновича в его несгораемом шкафу вместе с шифрами. В этом списке секретные сотрудники были под разными кличками, но даже к этому законспирированному списку никто не имел доступа, кроме Яновича и его жены… Жена Яновича ведала его специальным шифром, который хранился в несгораемом шкафу. Она шифровала все телеграммы…Она считалась, между прочим, одним из способнейших работников ГПУ и часто выполняла самые ответственные поручения».
А в Москве 18 февраля 1928 года, выступая на очередном диспуте, где вновь жёстко критиковали Леф и лефовцев, Маяковский заявил, что ведутся…
«… совершенно недопустимые, буржуазные разговоры относительно художников-лефовцев, левых и так далее!»
Из зала крикнули, что лефовцам следует уехать за границу. Маяковский мгновенно отреагировал, вспомнив художников Казимира Севериновича Малевича и Леонида Осиповича Пастернака:
«Зачем нам? Вы идите на Запад. У вас уже есть на Западе. Где у вас Малевич? Где у вас Пастернак? Все они на Западе, вырисовывают буржуазных дам, все они на Западе. А назовите мне одного левого художника, который бы уехал на Запад и остался там. Единственный – товарищ Бурлюк, который сейчас находится в Америке, собирая там пролеткульт и выпускает… <пропуск в стенограмме> к десятилетию Октября, где на первой странице – портрет Ленина. Это, товарищи, надо запомнить, и надо запомнить второе – что европейская левая живопись даёт работников, нужных для коммунистической культуры, для коммунистического искусства».
В зале кто-то выкрикнул фамилию Юрия Анненкова, и Маяковский сразу же откликнулся:
«Например, ваш Анненков до войны, может быть… <пропуск в стенограмме>, но сейчас он только ноздри и носики рисует».
С места крикнули:
– Это ваш Анненков!
– Возьмите его себе! – парировал Маяковский.
Юрий Анненков впоследствии написал в воспоминаниях:
«Во время своего пребывания в Париже в 1928 году Маяковский ни разу не обмолвился при мне, даже в шутку, об этом выступлении. Я его понимаю».
Так как вся левая оппозиция была отправлена в ссылку, могло показаться, что противостояние во властных структурах завершилось, и страна вздохнёт с облегчением.
Однако нет!
21 февраля 1928 года в «Комсомольской правде» появилось стихотворение Маяковского под названием «Сердечная просьба». Начиналось оно так:
«"Ку-ль-т-у-р-р-рная р-р-р-еволюция!"
И пустились! / Каждый вечер
блещут мысли, / фразы льются,
пухнут диспуты / и речи.
Потрясая истин кладом
(и не глядя / на бумажку),
выступал / вчера / с докладом
сам / товарищ Лукомашко.
Начал / с комплиментов ярых:
распластал / язык / пластом,
пел / о наших юбилярах,
о Шекспире, / о Толстом».
Для тех, кто внимательно следил за общественной жизнью страны, сразу было ясно, кого имел в виду автор под фамилией «Лукомашко»: «Лу» – это Анатолий Васильевич Луначарский, «ко» – известный в ту пору литературный критик Пётр Семёнович Коган, «шко» – нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко. Все трое славились своим умением читать доклады на самые разные темы. Причём иной раз каждый из них выступал по нескольку раз в день. В разных аудиториях. Но то, о чём они зачастую говорили, удивляло Маяковского мелочностью тем:
«– Рыбу / ножиком / не есть,
чай / в гостях / не пейте с блюдца… —
Это вот оно и есть
куль-т-у-р-р-ная р-р-революция».
Поэт (явно по совету Осипа Брика или Якова Агранова) высмеивал подобных докладчиков, которых узнавали всюду, встречая громом аплодисментов:
«И пока / гремело эхо,
и ладони / били в лад,
Лукомашко / рысью ехал
на шестнадцатый доклад.
С диспута, / вздыхая бурно,
я вернулся / к поздней ночи…
Революция культурная,
а докладчики… / не очень».
О том, какую реакцию вызвала эта публикация, написала Наталья Брюханенко:
«21 февраля у меня с Маяковским был разговор по телефону:
– Когда увидимся? – спрашиваю я.
– Сегодня я занят, – говорит он, – но завтра приду к вам, помахивая билетами, и мы пойдём в кино, потом – в концерт, а потом – в театр, сначала – в Большой, потом – поменьше, потом – в самый маленький.
Я смеюсь:
– Ладно, жду.
На следующий день, как всегда верный слову и аккуратный, Маяковский заехал ко мне с билетами в театр Корша на спектакль "Проходная комната".
Он приехал усталый и расстроенный. Когда я сказала, что мне очень нравятся его стихи о культурной революции "Сердечная просьба", напечатанные в "Комсомольской правде", он озлобленно сказал:
– Вещь-то хорошая, а из-за неё столько шума теперь. Луначарский написал официальное письмо с протестом. Я не думал, что про наркомов нельзя писать. Тем более, предварительно звонил Луначарскому, и мне передали от его имени, что он на стихи не обижается».
Маяковский всё ещё не замечал (или делал вид, что не замечает) наступившие в стране Советов новые времена. Они принесли с собой новые порядки, к которым надо было приспосабливаться. Всё это Владимиру Владимировичу наверняка растолковывал Осип Максимович Брик. И тогда на происходившие события поэт реагировал мгновенно. Когда «Рабочая газета» опубликовала жизнеописания уголовников (как бы в приключенческом жанре), Маяковский тотчас же опубликовал в «Комсомольской правде» свой стихотворный ответ под названием «Хочу воровать (“Рабочей газете”)»:
«Я в “Рабочей”, / я в “ Газете”
меж культурнейших даров
прочитал / с восторгом / эти
биографии воров…
Ну и романтика!
Хитры / и ловки,
деньгу прикарманьте-ка
и марш / в Соловки».
Да, в Соловках отбывали сроки уголовники. Но главными заключёнными тех мест являлись представители другого человеческого «ХЛАМа»: Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты, которых советская власть начинала именовать «врагами народа».
Вот что написал о Соловках писатель Лев Разгон:
«Как мне кажется, идея создания на Соловках концентрационного лагеря для интеллигенции имела то же происхождение, что и массированная отправка за границу всего цвета русской философской мысли. Тех – за границу, а которые “пониже”, не так известны, не занимаются пока политической борьбой, но вполне к этому способны – изолировать от всей страны. Именно – изолировать. Ибо в этом лагере не должно быть и следа не только каторжных работ, но и никаких-либо других работ для высланных…
Запёртые на острове люди могли жить совершенно свободно, жениться, разводиться, писать стихи или романы, переписываться с кем угодно, получать в любом количестве любую литературу и даже издавать собственный литературный журнал, который свободно продавался на материке в киосках “Союзпечати”.
Единственное, что им запрещалось делать, – заниматься какой-либо физической работой, даже снег чистить! И дрова заготавливать, и обслуживать такую странную, но большую тюрьму. И для этой цели стали привозить на Соловки урок – обыкновенных блатных… И постепенно стал превращаться идиотски задуманный идиллический лагерный рай в самый обычный, а потом уже и в необычный лагерный ад».
В Соловецкий театральный коллектив под названием “Хлам” вошёл и Борис Глубоковский, поэт, писатель, актёр и режиссёр, проходивший по одному делу с поэтом Алексеем Ганиным и сосланный на Соловки.
Двадцатидвухлетний студент Ленинградского университета Дмитрий Сергеевич Лихачёв (будущий российский академик), за «контрреволюционную деятельность» арестованный 8 февраля 1928 года и тоже сосланный в Соловки, писал в своих «Воспоминаниях» об этом соловецком театре («Солтеатре»), «чекистском чуде» Соловков:
«В годы моего пребывания на Соловках душой Солтеатра, как и журнала “Соловки”, был Борис Глубоковский – актёр Камерного театра Таирова, сын известного в своё время богослова и историка Николая Никаноровича Глубоковского…
Это был высокого роста человек, стройный, красивый, живой, с хорошими манерами…
Солтеатр был главным “показушным” предприятием на Соловках. Театром хвастались перед различными комиссиями, перед приезжавшим из Москвы начальством, перед Горьким, побывавшим на Соловках весной 1929 года».
Борис Глубоковский запомнился Дмитрию Лихачёву его «обозрением»:
«Чрезвычайной популярностью пользовалась на Соловках его постановка “Соловецкое обозрение”. Постановка остро иронизировала над соловецкими порядками, бытом и даже начальством. Однажды, когда одна из “разгрузочных комиссий” в подпитии смотрела в театре “Соловецкое обозрение” в переполненном заключёнными зале, Б.Глубоковский (тоже, очевидно, хлебнувший), который вёл представление, выкрикнул со сцены: “Пойте так, чтобы этим сволочам (и он указал рукой на комиссию) тошно было”».
Глубоковский писал в Соловках и песни, о чём Дмитрий Лихачёв тоже упомянул:
«Стихи писал сам Глубоковский, а мотивы он подбирал главным образом из оперетт. Но всё ж таки один мотив сочинил, говорят, сам: к его песне “Огоньки”, которую в начале 30-х гг пела вся Россия. Заканчивалась эта песнь следующими словами:
От морозных метелей и вьюг
Мы, как чайки, умчимся на юг,
И мелькнут вдалеке огоньки —
Соловки, Соловки, Соловки…
Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами,
Посидите здесь годочков три иль пять —
Будете с восторгом вспоминать».
Давая в 1995 году интервью, академик Лихачёв сказал:
«Ведь что такое… Октябрьский переворот? Против кого он был направлен? Против интеллигенции. Первый год во власти стояли полузнайки. Стали арестовывать профессоров…»
Каким же провидцем оказался Дмитрий Мережковский, который ещё в 1905 году предупреждал, что Россию могут захватить хамы! И они страну захватили.
Вот воспоминания другого узника Соловков Бориса Николаевича Ширяева (из его книги «Неугасимая лампада»):
«Занавес раздвинулся. На сцене вся труппа, приветствующая гостей (в организованный заключёнными в Соловках театр “ХЛАМ” приехал начальник всех лагерей того времени Глеб Бокий). К рампе выходит куплетист Жорж Леон во фраке и с хризантемой в петлице. Он по-эстрадному кланяется Бокию:
Шептали все… Но кто мог верить?
Казался всем тот слух нелеп.
Нас разгружать сюда приедет
На “Глебе Боком” – Бокий Глеб.
“Глеб Бокий” – пароход, курсирующий на Соловки.
Звучит первый куплет приветствующий “разгрузку” (пересмотр дел заключённых) песни. Хор подхватывает рефрен:
Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюда сами.
Поживёте здесь годочка три иль пять, —
Будете с восторгом вспоминать!
Далее солист жалуется на свой врождённый пессимизм и заканчивает своё приветствие словами:
В волненье все, но я спокоен.
Весь шум мне кажется нелеп.
Уедет так же, как приехал
На “Глебе Боком” – Бокий Глеб.
Результаты “разгрузки” были незначительны: были освобождены лишь 20–30 человек уголовников и хозяйственников, а 2–3 сотням уменьшены сроки. Но в числе этих последних были руководитель “ХЛАМа” Б.Глубоковский (с 10 на 8 лет) и куплетист Жорж Леон (с 3 на 2 года)».
Лев Разгон:
«Бокий в последний раз был на Соловках в 1929 году вместе с Максимом Горьким, когда для того, чтобы сманить Горького в Россию, ему устроили грандиозный балет-шоу, по сравнению с которым знаменитые мероприятия Потёмкина во время путешествия Екатерины кажутся наивной детской игрой».
Но вернёмся в Москву в бывший театр антрепренёра и драматурга Фёдора Адамовича Корша, куда 21 февраля 1928 года Владимир Маяковский и Наталья Брюханенко отправились на спектакль «Проходная комната». Посмотреть его поэту явно посоветовал Осип Брик, сопроводив свои рекомендации негативными комментариями (ведь Маяковский по театрам ходить не любил, а Брики были заядлыми театралами).
Наталья Брюханенко:
«В театре мы сидели где-то в первых рядах, на виду у всех. Когда опускался занавес после первого действия, Маяковский начал очень громко свистеть. В публике шипели и возмущались. Тогда он встал во весь рост и ещё громче пересвистел аплодисменты зала».
Маяковский явно пришёл в театр с уже готовым мнением о спектакле, иначе как он мог судить о нём, просмотрев только одно действие.
Наталья Брюханенко:
«После третьего действия мы ушли из театра, не досмотрев пьесу до конца. Маяковский, как бы грозясь, сказал:
– Теперь я им напишу про это…
Уже возвращаясь из театра, Маяковский написал четыре строчки. Он шёл, бормотал, останавливался и писал. Записывал прямо на Петровке, поднося к свету магазинных витрин альбомчик с розовенькими и жёлтыми листочками, как у гимназисток для стихов.
В результате в начале марта появились в печати стихи "Даёшь тухлые яйца! («Проходная комната»)"».
Вот как выглядит начало этого стихотворения:
«ДАЁШЬ ТУХЛЫЕ ЯЙЦА!
(Рецензия № 1)
Проходная комната. Театр б. Корш
Комната / проходная во театре Корша / (бе).
Ух ты мать… / моя родная!
Пьеска – / ничего себе…
Сюжетец – / нету крепче…»
Далее следовал пересказ содержания пьесы, после чего Маяковский с негодованием восклицал:
«Под потолком / притаилась галёрка,
места у неё / высоки…
Я обернулся, / впиваясь зорко:
– Товарищи, / где свистки?!
Пускай / партер / рукоплещет – / "Браво!" —
но мы, – / где пошлость / везде, —
должны, / а не только имеем право,
негодовать / и свистеть».
Стихотворение, опубликованное в «Рабочей газете» 4 марта 1928 года, было помещено среди подборки отзывов зрителей, которые с возмущением требовали «немедленно и навсегда» снять этот спектакль с репертуара советских театров.
Складывается впечатление, что Владимиру Владимировичу была неизвестна настоящая фамилия автора пьесы «Проходная комната». На афишах значилось, что написал её В.Пушмин. Но это был псевдоним. Драматурга звали Всеволод Юрьевич Мусин-Пушкин. Интересно, если бы Маяковский знал об этом, стал бы он замахиваться на «святую» фамилию?
Как бы там ни было, но Маяковский весьма решительно и агрессивно выступил против спектакля, который по каким-то причинам ему не понравился. А впереди были премьеры собственных пьес Маяковского, которые тоже нравились далеко не всем.
29 февраля 1928 года вышла статья Корнелия Зелинского «Идти ли нам с Маяковским?», начинавшаяся с воспоминаний:
«Л.Троцкий закончил свою статью о Маяковском, написанную пять лет тому назад (до "Ленина" и "Хорошо!") выражением уверенности, что поэт переживает кризис».
Теперь, когда Троцкий и его соратники были отправлены в ссылки, любой возникший кризис стали объяснять происками враждебных партии оппозиционеров.
Новые враги
Исключённая из партии и высланная в Среднюю Азию сторонница Троцкого и бывшая комфутка Мария Натансон познакомилась в городе Фрунзе (нынешнем Бишкеке) со своим ровесником Юсупом Абдрахмановым, который, хоть и происходил из рода местных феодалов (манапов), но состоял членом большевистской партии и занимал высокий пост в Киргизской АССР. Было ему тогда всего 26 лет. Через четыре года Юсуп записал в дневнике:
«Кто я? – Сын манапа, малограмотный батрак, красный партизан, доброволец Красной Армии и Председатель Совнаркома Советской Киргизии. Из 30 лет жизни 13 отдал делу революции, партии и класса, рабочего класса. Прошёл не плохую школу гражданской войны, сражался на фронтах гражданской войны…»
Между Марией Натансон и Юсупом Абдрахмановым вспыхнуло чувство, про которое Юсуп потом напишет в своём дневнике, что это «большая любовь и дружба двух молодых пламенных коммунистов».
То, что Мария Натансон в 1919 году являлась коммунисткой-футуристкой и была хорошо знакома с Маяковским, вскоре приведёт Юсупа Абдрахманова в круг распавшихся лефовцев. Но это случится чуть позднее.
А пока (25 февраля 1928 года) Владимир Маяковский, ничего ещё не знавший о Юсупе, отправился в очередное турне по украинским городам: в Днепропетровск, Запорожье, Бердичев, Житомир и Киев. Там ему предстояло читать лекции и стихи.
27-го было запланировано два выступления в Днепропетровске: днём – на заводе имени Петровского, вечером – в театре имени Луначарского.
28-го – Запорожье, где афиши зазывали: «Слушай новое! Разговор-доклад». Про это выступление газета «Красное Запорожье» написала:
«Хотя Маяковский, ссылаясь на нездоровье, и отказался выступать с докладом, однако, по его же собственным словам, "его втянули в это дело": поэта засыпали градом записок, ставящих как раз те вопросы, которые Маяковский должен был затронуть в своём докладе. Завязалось своеобразное "собеседование" (говорил один Маяковский, а с мест только подавали реплики)…»
Потом пришлось и стихи прочесть. И газета подводила итог:
«Несомненно, Маяковский – крупнейшее явление в нашей революционной литературе, а его выступление в Запорожье ценно тем, что всколыхнуло слушателей и выявило большой интерес к революционному искусству, интерес, который у нас ещё никак не реализован».
Павел Лавут:
«Возвращаемся в Днепропетровск. Ни машин, ни извозчиков. Еле добрались до гостиницы на грузовике. Маяковский так ослаб, что мне пришлось ему помочь подняться на третий этаж.
Врач категорически запретил выступать: температура тридцать девять, грипп, ангина».
В результате все запланированные выступления пришлось перенести на более поздний срок.
А газета «Комсомольская правда» в этот момент объявила читателям, что сотрудники ОГПУ обнаружили новых врагов советской власти. Началась кампания по их дискредитации, проходившая под заголовком «Лицо – на врага!». В очерках и корреспонденциях с мест эти «враги», которым до поры до времени каким-то образом удавалось искусно маскироваться, теперь разоблачались бдительными журналистами.
К этим «разоблачителям» оперативно подключился и Маяковский, чьё стихотворение «Лицо классового врага» газета напечатала 29 февраля. Поэт разъяснил, что новыми врагами рабоче-крестьянской державы являются «новый буржуй» и «новый кулак», и что они «почти неотличимы» от прочих советских граждан. В самом деле, как, к примеру, опознать «нового буржуя», если у него…
«Вид / под спеца, / худ с лица —
не узнаешь подлеца»?
Да и «новый кулак» стал совсем не таким, каким он был ещё совсем недавно, так как коренным образом изменил своё обличие. Поэт представлял его читателям:
«Хотя / кулак / лицо перекрасил,
и пузо / не выглядит грузно —
он враг / и крестьян / и рабочего класса,
он должен быть / понят / и узнан».
Иными словами, заявлял Маяковский, расслабляться советским гражданам нельзя ни в коем случае, поскольку, хотя времена ещё, вроде бы, мирные, тайная война – в самом разгаре:
«Не тешься, / товарищ, / мирными днями,
сдавай / добродушие / в брак.
Товарищи, / помните: / между нами
орудует / классовый враг».
Заодно к позорному столбу пригвождался и Михаил Булгаков – вместе с его «белогвардейской» пьесой «Дни Турбиных». Нет, нет, в разряд врагов поэт его не причислил, а всего лишь объявил любимцем «классового врага»:
«На ложу, / в окно / театральных касс
тыкая / ногтем лаковым,
он / даёт / социальный заказ
на "Дни Турбиных" – / Булгаковым».
Откуда у Маяковского, осень и зиму колесившего по городам и весям России, взялась эта неожиданная информация о новых «классовых врагах», вовсю орудовавших в стране, понять трудно. Поэта явно в очередной раз просветили Брики и Агранов.
Обстановка в стране
Тем временем Кремль весьма решительно нацеливал всех на всеобщую индустриализацию страны и на ускоренную коллективизацию её сельского хозяйства. Очень скоро на это откликнулась экономика – ситуация в стране резко ухудшилась. Вновь были введены карточки на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости.
Возникло всеобщее недовольство. В партийных ячейках вспыхнули жаркие дискуссии, в газеты стало поступать множество писем, в которых ставились очень резкие вопросы. Кое-где начались забастовки.
Аркадий Ваксберг о той поре написал:
«1928-й… Начались массовые раскулачивания. НЭП доживал последние дни, а тем, кто поверил басням про "всерьёз и надолго", в самое ближайшее время предстояло расплатиться за свою наивность. <…> Концентрационные лагеря были переполнены заключёнными – пока что их скопом ещё не расстреливали, а лишь подвергали "социальной перековке", но звуки грядущих выстрелов уже были слышны каждому, кто не затыкал уши».
Было ясно, что власть должна предпринять что-то чрезвычайное.
Вот только что?
Расправившись с левыми оппозиционерами, неучи-большевики лишились тех, на кого можно было свалить вину за непрекращавшиеся трудности жизни. Но кремлёвские вожди по-прежнему заявляли, что во всём виноваты враги – как явные (внешние), так и замаскированные (внутренние). Однако мало было об этом заявить, надо было предъявить этих врагов народу.
Бенгт Янгфельдт:
«В марте 1928 года служба госбезопасности объявила о разоблачении сговора так называемых буржуазных специалистов в городе Шахты Донецкого бассейна. ("Буржуазными специалистами" называли инженеров и других квалифицированных работников, с которыми после революции сотрудничала коммунистическая власть в отсутствие собственных экспертов – ещё в 1927 году только 1 % коммунистов имели высшее образование.) Как утверждалось, инженеры и техники работали на контрреволюционный центр в Париже, и их обвинили в том, что они подрывали шахты в попытках саботировать советскую экономику».
А Маяковский в это время переехал из Днепропетровска в Киев, где 8 марта ему предстояло сделать доклад «Слушай новое». Местная «Пролетарская правда» написала:
«На эстраде поэт Маяковский…
– Мне говорят: зачем вы разъезжаете и читаете свои стихи? Это ж дело эстрады, а не ваше, не поэта это дело! Ер-р-рунда! Именно моё! Только моё! И я гораздо более рад этому многоуважаемому микрофону, который разносит слова мои, чем трём тысячам тиража какого-либо издания…
– Я, товарищи, болел, семь дней пролежал в постели, поэтому прошу все знаки одобрения и порицания оставить на конец».
Запланированные на 9 и 10 марта выступления в Виннице и Одессе из-за болезни Маяковского были перенесены на более поздний срок.
10 марта поэт вернулся в Москву, где уже вовсю продавался новый номер журнала «На литературном посту» со статьёй Корнелия Зелинского «Идти ли нам с Маяковским?». В ней приводились доказательства того, что поэт страдает «печоринской беспочвенностью», что он не умеет «ориентироваться в культурном наследстве», отчего его творчество стало «поверхностным» и поражает своим «выхолащивающим упрощенчеством». Вывод, который делался Зелинским был убийственно-разящим:
«… к новому пониманию революции можно прийти, уже перешагнув через Маяковского».
Дать достойный ответ этой нелицеприятной критике, шедшей от бывшего соратника лефовцев, было поручено Николаю Асееву. И в четвёртом номере «Нового Лефа» он опубликовал статью «Страдания молодого Вертера ("Вы думаете легко предавать идеалы молодости?")».
Как видим, началась очередная литературная заварушка.
Ленинградский журнал «Искусство» (№ 4 за 1928 год) вновь принялся сравнивать:
«Маяковский занят лозунгом. Сельвинский, вооружённый однородной поэтикой, идёт дальше – к быту, к фабуле, развёрнутой иногда с детективной остротой».
Не случайно, наверное, встретившись незадолго до этого с писателем Юрием Карловичем Олешей, Маяковский воскликнул:
«Олеша! Вступайте к нам в "Новый Леф", будем вместе бороться против Сельвинского!»
15 марта 1928 года Маяковский обратился к заведующему Госиздатом Артемию Багратовичу Халатову с письмом:
«Тов. Халатову
Государственное издательство
Уважаемый товарищ!
Вынужден обратить Ваше внимание на бесконечную и недопустимую волокиту в деле издания моего собрания сочинений…»
В самом деле, Госиздат начал издавать собрание сочинений Маяковского в пяти томах с пятого тома, и поэт с возмущением писал Артемию Халатову:
«Один разрозненный V том издан, очевидно, в насмешку, специально для срыва продажи книги…».
Халатов наложил на письмо поэта резолюцию:
«… жалоба т. Маяковского справедлива – действительно просрочили издание на год с лишним».
В мае второй и третий тома были подписаны к печати.
16 марта Маяковский отправил ещё одно письмо в Госиздат – в его литературно-художественный отдел. На этот раз поэт признавался в том, что и он не всегда выполняет договорённости:
«Прошу отсрочки на три месяца по договорам на “Драму” и “Роман”.
Вл. МАЯКОВСКИЙ».
Ситуация очень странная. На «отсрочки» Госиздата Маяковский жаловался, считая их «бесконечной и недопустимой волокитой», а собственные «отсрочки» были для него явлением вполне допустимым.
18 марта, когда страна Советов отмечала День Парижской коммуны, газета «Труд» опубликовала стихотворение Маяковского, посвящённое этой дате. Поэт вновь заговорил о приближавшейся войне и о том, что последует после неё:
«Густятся / военные тучи,
кружат / Чемберлены-вороны,
но зрячих / история учит —
шаги / у неё / повторны.
Будет / война / кануном —
за войнами / явится близкая,
вторая / Парижская коммуна —
и лондонская, / и римская, / и берлинская».
В тот же день (18 марта) Маяковский выехал в Киев, Винницу и Одессу – отрабатывать пропущенное из-за болезни. Вернувшись в Москву, он стал собираться в новую поездку – в Смоленск, Витебск и Минск. Но новый приступ гриппа вновь надолго уложил его в постель.
Старые пристрастия
Очередная кампания борьбы с новыми врагами трудового народа страны Советов, а вместе с ней и противостояние бывших новолефовцев со старыми недругами – всё это ещё только начиналось. А у Лили Брик вновь проснулась охота к перемене мест.
Аркадий Ваксберг:
«Весной 1928 года Лиля снова собралась за границу. Собралась вместе с Маяковским – их союз не распался и распасться уже не мог, слишком много общего связывало этих двух людей, чья духовная близость ни у кого не вызывала сомнений. Ни у кого, кроме недругов, разумеется: те – ни раньше, ни позже – не могли смириться с их образом жизни, не подходившим не под какие, доступные их пониманию, стандарты, даже литературные, и с добровольным рабством, которое Маяковский сам на себя наложил – абсолютно сознательно».
В приведённых фразах больше всего удивляет то, что в «духовную близость» Маяковского и Лили Брик поверил даже Аркадий Ваксберг, столь близко подошедший к пониманию характера отношений Маяковского и ОГПУ, Маяковского и Лили Юрьевны.
Чтобы отмести возможные подозрения относительно истинных целей своих чересчур частых заграничных вояжей, Владимир Владимирович заговорил об этой поездке сам – в журнале «Огонёк» от 28 марта 1928 года:
«Я путешествую для того, чтобы взглянуть глазами советского человека на культурные достижения Запада. Я стремлюсь услышать новые ритмы, увидеть новые факты и потом передать их моему читателю и слушателю. Путешествую я, стало быть, не только для собственного удовольствия, но и в интересах всей нашей страны».
Видимо, «интересы всей страны» потребовали, чтобы и Л.Ю.Брик отправилась за границу. На этот раз она ехала для просмотра зарубежных кинобоевиков и закупки отдельных их фрагментов для последующего использования приобретённого материала при монтаже кинокартины, которую Лили Юрьевна предполагала делать совместно с режиссёром Львом Кулешовым.
На вопрос, для чего создателям советской кинокартины понадобились иностранные кинокадры, Аркадий Ваксберг ответил, что этот материал…
«… предполагалось использовать для осмеяния западного образа жизни. Было у Лили и множество других заданий: издательских, сценарных, театральных и прочих, связанных с творческими планами двух её "мужей"».
Но может быть, существовала и какая-то другая причина необходимости этой поездки?
Вспомним ещё раз, что, когда отношения Лили Брик и Александра Краснощёкова надо было поскорее раскрутить, Лили Юрьевне дали приказ срочно вернуться в Москву, а Маяковского отправили во Францию. А когда Владимир Владимирович вернулся на родину, Лили устроила ему скандал и на два месяца разорвала с ним все отношения – чтобы не мешал.
Когда настал срок отправить Краснощёкова за решётку, находившихся в Германии Бриков на несколько дней задержали в Берлине. Надо полагать, для того, чтобы не мешали препровождению в Лефортовскую тюрьму арестованного директора Промбанка.
На время, когда проходил суд над Краснощёковым, Лили Юрьевну вновь отправили в заграничную поездку. Видимо, тоже для того, чтобы не мешала судить своего возлюбленного.
С чем (или с кем) была связана новая поездка Лили Брик и Маяковского, установить пока не удалось – никаких официальных свидетельств о том, какое новое задание могли дать им в ОГПУ, нет. Да и никто, собственно, не пытался искать эти доказательства. Известно лишь, что сопровождать «закупщицу» кинофрагментов должен был поэт и киносценарист Владимир Маяковский, стремившийся также пополнить свою коллекцию зарубежных «ритмов и фактов», чтобы в дальнейшем использовать их в «интересах страны».
В начале марта 1928 года в Сибирь отправилась и экспедиция режиссёра Всеволода Пудовкина – снимать фильм по мотивам ещё не опубликованного романа сибирского писателя Ивана Михайловича Новокшонова, сценарий для которого и написал Осип Брик, работавший тогда заведующим сценарным отделом кинофабрики «Межрабпомфильм».
28 марта Владимир Владимирович получил новый заграничный паспорт. Но…
В планы поэта-путешественника и его спутницы вновь вмешалась проза жизни: Маяковский снова заболел жесточайшим гриппом.
Пётр Незнамов:
«… в эти годы он часто недомогал, он стал восприимчив к гриппу. Привязчивая болезнь мешала этому большому человечищу. Он ходил по комнате в Гендриковом и недоумевал:
– Не понимаю, что делается с моим горлом!»
Аркадий Ваксберг:
«Маяковский тяжело заболел – грипп, которому он вообще был очень подвержен, …на сей раз был осложнён "затемнением" в левом лёгком, что грозило опасностью туберкулёза. Болезнь, которую тогда ещё не умели лечить, наводила на Маяковского панический страх».
А участники киноэкспедиции Пудовкина 2 апреля прибыли в город Верхнеудинск (ныне Улан-Уде) и приступили к съёмкам. Режиссёр Всеволод Пудовкин был очень расстроен тем качеством сценария фильма, который предстояло снять. Он потом написал:
«У меня не было заранее придуманного сценария, существовал только его сюжетный план».
Но Осип Брик, надо полагать, с гордостью сообщил о начале съёмок Маяковскому.
9 апреля харьковская газета «Вечернее радио» опубликовала заметку «Театр и искусство», в которой говорилось:
«Особенная сила и поэтический язык, которым в таком совершенстве владеет Сельвинский, делают его одним из лучших (если не самым лучшим) из современных поэтов».
В квартиру Маяковского и Бриков периферийная пресса вряд ли поступала. Но немало подобных высказываний заполняло тогда и страницы московских газет и журналов.
А тут ещё из Киева 10 апреля пришла телеграмма от Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ), в которой говорилось, что два киносценария Маяковского («Долой жир» и «Жизнь одного нагана») украинским Реперткомом отклонены.
В ответной телеграмме поэт попросил разъяснений.
За границу Лили Юрьевна была вынуждена поехать одна.
Впрочем, она ещё надеялась, что Маяковский её нагонит, и 22 апреля отправила из Берлина письмо, адресованное Владимиру Владимировичу и Осипу Максимовичу, со словами:
«Жду Волосика!»
24 апреля в Берлин полетел телеграфный ответ:
«Доктор велел неделю высидеть дома. Надеюсь выехать первых числах мая. Если проболею больше телеграфирую. Очень скучаю. Целую. Твой Счен».
А 25 апреля 1928 года в Брюсселе, внезапно заразившись туберкулёзом, скоропостижно скончался генерал Пётр Николаевич Врангель. Родственники барона считали, что он был отравлен братом своего слуги, который являлся большевистским агентом.
Преемником Врангеля на посту главы Русского Общевоинского союза (РОВСа) стал великий князь Николай Николаевич Романов Младший, являвшийся также Верховным Главнокомандующим Русской Армии. Вскоре (29 апреля) великий князь назначил председателем РОВСа генерала Александра Павловича Кутепова, который был сторонником самых активных акций против Советского Союза.
Майские события
1 мая 1928 года Маяковский встал с постели и вышел из дома. Но направился не на вокзал, чтобы поехать за рубеж, а на Красную площадь, чтобы посмотреть военный парад и демонстрацию трудящихся.
Сохранился фотоснимок, сделанный в тот день: Маяковский в кепке, в плаще (видимо, боялся простудиться) и с неизменной папиросой в углу рта.
У читателей могут возникнуть резонные вопросы: а что случилось с Натальей Брюханенко, почему она не появляется в нашем рассказе, куда исчезла?
Известно, что вплоть до весны 1928 года она встречалась с Маяковским. И потом написала:
«Этой весной наши лирические взаимоотношения прекратились».
Но почему?
Ведь ещё осенью 1927 года всё было прекрасно! И вдруг…
Владимир Маяковский на Красной площади. Москва, 1 мая 1928 г.
Что произошло?
О том, как была поставлена окончательная точка в их отношениях, сама Наталья Александровна рассказала так:
«Второй разговор о любви был весной двадцать восьмого года. Маяковский лежал больной гриппом в своей маленькой комнате в Гендриковом переулке. Лили Юрьевны не было в Москве, навещали его немногие. По телефону он позвал меня к себе:
– Хоть посидеть в соседней комнате…
В соседней – чтоб не заразиться.
Я пришла его навестить, но разговаривать нам как-то было не о чем. Он лежал на тахте, я стояла у окна, прислонившись к подоконнику. Было это днём, яркое солнце освещало всю комнату, и главным образом меня.
У меня была новая мальчишеская причёска, одета я была в новый коричневый костюмчик с красной отделкой, но у меня было плохое настроение, и мне было скучно.
– Вы ничего не знаете, – сказал Маяковский, – вы даже не знаете, что у вас длинные и красивые ноги.
Слово "длинные" меня почему-то обидело. И вообще от скуки, от тишины комнаты больного я придралась и спросила:
– Вот вы считаете, что я хорошая, красивая, нужная вам. Говорите даже, что ноги у меня красивые. Так почему же вы мне не говорите, что вы меня любите?
– Я люблю только Лилю. Ко всем остальным я могу относиться хорошо или ОЧЕНЬ хорошо, но любить я уж могу только на втором месте. Хотите – буду вас любить на втором месте?
– Нет! Не любите лучше меня совсем, – сказала я. – Лучше относитесь ко мне ОЧЕНЬ хорошо.
– Вы правильный товарищ, – сказал Маяковский. – "Друг друга можно не любить, но аккуратным быть обязаны…" – вспомнил он сказанное мне в начале нашего знакомства, и этой шуткой разговор был окончен.
Я вышла в столовую. Он лежал у себя и как будто какой-то зверь тянул басом, не то в шутку, не то всерьёз:
– У – у–у – у–у…
Как и в Кисловодске, во время болезни он был мрачный и мнительный и даже от простого гриппа сразу делался таким большим, беспомощным зверем».
Так их любовь и погасла.
А жизнь тем временем продолжалась.
Пьеса для Мейерхольда
В первой декаде мая 1928 года Маяковский получил из Киева разъяснения, касавшиеся судьбы его сценариев. Поэту сообщалось, что ещё 6 апреля Высший кинорепертуарный комитет Украины не разрешил ставить фильмы по двум сценариям Маяковского. Причины запрещения не указывались.
А Лили Брик всё ещё надеялась на приезд «Волосика» в Берлин, о чём в начале мая сообщила в письме, заодно попросив и денег. Денежный перевод ей тотчас же отправили, присовокупив к нему телеграмму, в которой о состоянии здоровья Маяковского не было ничего утешительного.
Бенгт Янгфельдт:
«… его болезнь затягивалась, врачи настаивали на том, чтобы их пациент воздержался от каких бы то ни было дальних поездок. Мнительный Маяковский мог ослушаться всех, но только не врачей, которым подчинялся и полностью доверял».
10 мая из Берлина пришёл ответ:
«Деньги получила. Еду сегодня Париж в полном отчаянье от Володиной болезни. Телеграфируйте. Ваша Киса».
Как видим, переезд Лили Юрьевны из Германии во Францию проходил без заминок – с получением визы никаких препятствий не возникло. Из этого Аркадий Ваксберг сделал вывод (вполне естественный для него, но, возможно, для кого-то несколько неожиданный):
«Эти поездки, кстати сказать, неопровержимо свидетельствуют о том, что обитатели квартиры в Гендриковом имели тогда, в отличие от миллионов своих сограждан, не только возможность беспрепятственно покидать страну и в неё возвращаться, но и ещё без всяких проблем, никого и ничего не боясь, пересекать границы по своему усмотрению и иметь на то пусть не слишком большие, но вполне приличные средства. Они особенно не шиковали и всё же могли позволить себе не менять устоявшихся привычек, не жаться, не экономить, получая от жизни то, что хотели бы получить».
В тот момент ГосТИМ (Государственный театр имени Мейерхольда) находился на гастролях в Свердловске, откуда Всеволод Эмильевич послал телеграмму одному из своих сотрудников Александру Февральскому:
«Москва Гостеатр Мейерхольда, Февральскому, передать Маяковскому».
Далее шло непосредственное обращение режиссёра к поэту:
«Последний раз обращаюсь твоему благоразумию. Театр погибает. Нет пьес. От классиков принуждают отказаться. Репертуар снижать не хочу. Прошу серьёзного ответа: можем ли мы рассчитывать получить твою пьесу в течение лета. Телеграфь срочно: Свердловск, Центральная гостиница Мейерхольду».
Февральский позвонил больному Маяковскому и прочёл ему текст телеграммы.
Владимир Владимирович поделился этой новостью с Осипом Бриком, и тот наверняка высказал своё особое мнение о том, что происходило в стране, и о чём стоило написать пьесу. Его точка зрения сильно расходилась с тем, о чём твердил в своих стихотворениях поэт Маяковский. И у Владимира Владимировича вполне могла появиться мысль: а не соединить ли то, что случилось в их «семье», когда Лили Брик увлеклась Львом Кулешовым, со старой идеей воскрешения из мёртвых, которая появилась после знакомства поэта с теорией относительности Эйнштейна? И 12 мая в Свердловск полетел телеграфный ответ:
«Если договоримся, обсудить тобой предварительно, хорошая пьеса выйдет. Привет. Маяковский».
Тем временем из Лондона в Берлин засобиралась мать Лили Брик, Елена Юльевна Каган.
Эльза Триоле тогда очень нуждалась, зарабатывая на жизнь тем, что делала бусы из жемчуга, а иногда даже и из макарон.
Бенгт Янгфельдт:
«Маяковский шлёт ей деньги из Москвы, а Лили даёт десять фунтов, чего должно было хватить на два месяца. Деньги получает и Елена Юльевна. Но Лили не забывает и о себе: "Я купила дюжину чулков, шесть смен белья (три чёрных и три розовых), 2 пары плетёных туфлей с переплётами, тапочки, носовые платки, сумку"».
И Янгфельдт тоже начинает задаваться вопросами, на которые у него нет ответа:
«Откуда появились деньги? В Париже Лили взяла деньги на покупки в долг, который вернула переводом из Берлина на обратном пути в Москву. Возможно, у них были деньги в Берлине? Не поэтому ли Елена Юльевна встретилась с Лили там, а не в Париже, который намного ближе к Лондону?»
Ваксберг обратил внимание и на другое загадочное обстоятельство:
«Случайна ли, однако, такая странность: бывая в Париже порознь не один раз, Лиля и Маяковский никогда там не пересекались, не провели вместе в городе, который оба страстно любили, ни одного дня? Может быть, кто-то сознательно мешал им встретиться в Париже? Скорее всего, именно так! Но даже если и нет, всё равно в этой странности есть какая-то мистическая закономерность».
Проведя какое-то время во Франции, Лили Юрьевна вернулась в Германию, где её поджидала телеграмма от Маяковского и Брика:
«Володя поправился начал выходить. Очень целуем. Ждём. Твои Счен Киса».
А что в тот момент происходило в стране Советов?
18 мая 1928 года газета «Ленинградская правда» опубликовала стихотворение Маяковского «Кто он?», которое было как бы продолжением истории про товарища Лукомашко, любителя делать доклады на самые разные темы:
«Кто мчится, / и едет, / и гонит, / и скачет?
Ответ – / апельсина / яснее и кратче,
ответ / положу / как на блюдце я:
то мчится / наш товарищ докладчик
на диспут / “Культурная революция”».
Но на этот раз поэт отстал от политических событий – главным событием Москвы стал не какой-то диспут, а судебный процесс по Шахтинскому делу. Он начался в Москве 18 мая. На скамье подсудимых оказались 56 инженерно-технических работников Донбасса: 53 советских и трое немецких специалистов.
Поэтому Маяковскому пришлось срочно сочинять стихотворение, которое должно было продемонстрировать всей стране, что он со временем шагает в ногу.
Дачный случай
30 июня 1928 года в «Комсомольской правде» появилось стихотворение Маяковского, которое называлось «Дачный случай». Начиналось оно с сообщения о том, где поэт проводит лето:
«Я / нынешний год / проживаю опять
в уже / классическом Пушкино».
Посёлок Пушкино Маяковский назвал «классическим», видимо, потому, что именно там произошло событие, описанное им ещё летом 1920 года в весьма популярном в советские времена стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» – к поэту явилось солнце и беседовало с ним. Стихотворение заканчивалось словами, ставшими вскоре крылатыми:
«Светить всегда, / светить везде,
до дней последних донца,
светить – / и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой – / и солнца!»
На этот раз с Маяковским тоже произошло некое «приключение», которое, впрочем, вряд ли можно назвать «необычайным» – на дачу в подмосковное Пушкино в праздничный (или просто воскресный) день приехали гости. Кто они такие, стихотворение не уточняет, сказано только – «товарищи». И всё.
Что же с ними «приключилось»?
Аркадий Ваксберг:
«Воспоминания Лили и людей её круга, их письма, которые нам известны, заполнены информацией о множестве разных забот, личных и деловых, но тщетно искать там даже намёк на ту обстановку, которая – хочешь, не хочешь – их окружала, на бурные события за стенами их квартиры или подмосковной дачи. Словно жизнь их проходила вне времени и социальные бури, сотрясавшие всю страну, непостижимым образом обходили их всех стороной».
Стихотворение «Дачный случай» как раз и описывает одно из «судьбоносных» примет того тревожного времени – судебный процесс по Шахтинскому делу. Во всех 13 томах собрания сочинений Маяковского другую такую «зарисовку» вряд ли отыщешь.
Стихотворение рассказывает о том, как после сытного обеда обитатели дачи и их гости («товарищи») отправились прогуляться по лесу. И там…
«Пошли / вола вертеть / и врать,
и тут – / и вот – / и вдруг…»
Иными словами, начался разговор ни о чём, о пустяках, то есть все стали, как говорили тогда, просто «трепаться». И «вдруг» вышли на участок леса со спиленными деревьями – из земли торчали одни пни. Вот тогда-то…
«Офренчились / формы / костюма ладного,
яркие, / прямо зря,
все достают / из кармана / из заднего
браунинги / и маузера».
И вытащившие оружие «товарищи» открыли по пням пальбу. Сразу становится ясно, кто же они такие – дачные «гости» поэта Маяковского. Это работники ОГПУ: Яков Агранов и его сослуживцы. Каждый удобный случай они использовали для того, чтобы потренироваться в стрельбе, поскольку являлись передовыми борцами с врагами страны Советов. И уже не за горами был тот день, когда прозвучит приказ не только искать, но и безжалостно уничтожать «врагов» советского народа. И эти борцы примутся ликвидировать их. Рука, привыкшая к прицельной стрельбе, не дрогнет ни у кого.
Может возникнуть вопрос, а чем занимался Маяковский в тот момент, когда его «товарищи» (и сослуживцы) развлекались, расстреливая пни? В стихотворении сказано, что «все достают из кармана из заднего браунинги и маузера», стало быть, поэт тоже «достал» оружие, которое всегда носил с собой. Если Агранов и его сослуживцы решили поупражняться в расстреле пней, разве мог Маяковский остаться в стороне, разве мог не продемонстрировать всем свою меткость? Конечно, он тоже стрелял, и от выпущенных им пуль тоже «разлетался пень».
Точно такой же случай (не тот ли самый?) описан Львом Кулешовым и Александрой Хохловой в книге «50 лет в кино»:
«Помним Маяковского в саду на даче в Пушкино, помним его стреляющим из браунинга по пню…»?
Стихотворение «Дачный случай» заканчивается обычным для Маяковского панегириком, восхваляющим молодых стреляющих «гостей»:
«… знаю: / революция / ещё не седа,
в быту / не слепнет кротово, —
революция / всегда,
всегда / молода и готова».
Иными словами, нестареющие стражи революции были «всегда готовы» в любой момент всадить «за пулей пулю» и даже направить «ливень пуль» в лоб классового «врага».
Что и говорить, стихотворение жуткое! Но оно наглядно демонстрирует то, чем жили, чем вдохновлялись тогда «поэт революции» и его «товарищи» из ОГПУ.
О том, как к этому дачному событию и к написанным о нём стихам отнёсся Осип Брик, никакой информации найти не удалось.
От «пней» к «вредителям»
5 июля 1928 года судебный процесс по Шахтинскому делу завершился. Из обвинявшихся к расстрелу приговорили одиннадцать человек, остальных – к различным срокам тюремного (лагерного) заключения.
Это событие в «семье» Бриков и Маяковского наверняка обсуждали. Осип Максимович, как дипломированный юрист, наверняка высказывал своё особое мнение по поводу того, что происходило на суде. Его точка зрения, к сожалению, нигде не зафиксирована. Известно лишь мнение Маяковского, которое поэт высказал в стихотворении «Вредитель», опубликованном 7 июля «Комсомольской правдой». В нём осуждённые укорялись за то, что хорошему к ним отношению советской власти противопоставили саботаж:
«Прислушайтесь, / на заводы придите,
в ушах —
навязнет / страшное слово – / “вредитель” —
навязнут названия шахт…
Пускай / статьи / определяет суд.
Виновного / хотя б / возьмут мишенью тира…
Меня / презрение / и ненависть несут
под крыши / инженеровых квартирок…
В голодный / волжский мор / работникам таким
седобородые, / доверясь по-девически,
им / отдавали / лучшие пайки:
простой, / усиленный, / академический!»
А вот как стихотворение завершалось:
«Орут пласты угля, / машины и сырьё,
и пар / из всех котлов / свистит и валит валом:
“Вон – / обер-/штаб-офицерьё
генералиссимуса / капитала!!”»
Даже Бенгт Янгфельдт, который на творчестве поэта внимания не заострял, и тот написал:
«Стихотворение примитивно и политически наивно; возможно, Маяковский написал его по заказу – в то время "Комсомольская правда" была его главным работодателем. Но это не оправдание…
Маяковский не был ни оппортунистом, ни циником, но он был политически наивен и, в своём стремлении участвовать в построении нового и лучшего общества, проявлял слепоту…»
О той же «слепоте» поэта говорилось и в статье Корнелия Зелинского «Идти ли нам с Маяковским?», которая как бы подводила итог наскокам критиков, называвших творчество поэта-лефовца «кумачёвой халтурой», «рифмованной лапшой». Зелинский писал:
«Маяковский чужд философии. Он рисует себе идеал весёлого мастерового, который, засучив рукавчики, …отвинчивает себе буржуазные гайки теории относительности…
Безвкусным, опустошённым и утомительным выходит мир из-под пера Маяковского».
Вполне возможно, что именно Зелинскому отвечал поэт, публикуя 24 мая в «Комсомольской правде» стихотворение «Писатели мы». В нём Владимир Владимирович называл себя газетчиком:
«И мне, / газетчику, / надо одно,
так, чтоб / резала / пресса,
чтоб в меня, / чтобы в окно
целил / враг / из обреза.
А кто / и сейчас / от земли и прозы
в облака / подымается, / рея —
пускай / растит / бумажные розы
в журнальных / оранжереях».
Маяковский как будто забыл, что в поэме «V Интернационал» он хвалился тем, что стал Людогусем, то есть «закрутил» свою шею так, что получил возможность наблюдать за происходящим с заоблачных высот. Мы предположили, что в этом образе было закамуфлированное признание поэта в том, что он стал работать в ГПУ.
Но «слепота» Маяковского, о которой написал Янгфельдт (в его «стремлении участвовать в построении нового и лучшего общества»), гепеушников вполне устраивала, и они вновь решили направить поэта за рубеж. На этот раз под видом корреспондента одной из центральных газет.
Сохранилось письмо в Главискусство, написанное 14 июня:
«Тов. Маяковский командируется ЦК ВЛКСМ и редакцией газеты "Комсомольская правда" в шестимесячную поездку по маршруту: Москва, Владивосток, Токио, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Париж, Рим, Константинополь, Батум.
ЦК ВЛКСМ и “Комсомольская правда” просят дать тов. Маяковскому разрешение на вывоз необходимой для поездки и жизни за границей суммы в иностранной валюте.
Вопрос о поездке согласован с Агитпропом ЦК ВКП(б).
Секретарь ЦК ВЛКСМ МИЛЬЧАКОВ
Ответственный редактор “Комсомольской правды” КОСТРОВ».
Судя по маршруту предполагавшейся «кругосветки», Маяковский стремился вновь побывать в Соединённых Штатах, повидать Элли Джонс, а главное – дочь, которую ещё ни разу не видел.
Для такого грандиозного вояжа, прежде всего, требовалось немало валюты. И 25 июня Владимир Владимирович обратился за помощью к Алексею Ивановичу Свидерскому, тогдашнему руководителю Главискусства:
«В Главискусство
Тов. Свидерскому
Уважаемый товарищ!
Прошу Вас оказать содействие в деле моей командировки (кругосветное путешествие по маршруту: Москва— Владивосток – Токио – Буэнос-Айрес – Нью-Йорк – Рим – Париж— Константинополь – Одесса) для корреспонденций, для освещения в газете “Комсомольская правда” быта и жизни молодёжи и для продолжения серии моих работ о странах мира после революции и войны.
Прошу Главискусство:
1. Поддержать ходатайство перед Валютным управлением о выдаче мне разрешения на вывоз 6000 рублей в иностранной валюте из расчёта оплаты проездных билетов, 10 рублей суточных (6 месяцев) и 500 долларов для внесения залога при переезде границы САСШ…
5. Выдать мне необходимое в поездке командировочное удостоверение».
Главискусство обещало оказать помощь.
Но сначала Маяковский собрался съездить на три недели в Крым, где ему предстояли встречи с отдыхавшими на черноморских курортах советскими гражданами. Заметим, что курорты в ту пору простые люди не особенно посещали. На крымских пляжах поправляли своё здоровье, главным образом, те, кому зарплата позволяла ездить отдыхать к морю.
11 июля «Рабочая газета» напечатала стихотворение Маяковского «Готовься…», в котором поэт, вспомнив почившего барона Врангеля, вновь пугал читателей войной, которая, по его мнению, должна была вот-вот начаться:
«Думай, / товарищ, / о загранице —
штык у них / на Советы гранится…
Врангель / теперь / в компании ангельей.
Новых / накупит / Англия Врангелей».
17 июля в Москве открылся Шестой Всемирный конгресс Коминтерна, и Маяковский в «Рабочей газете» опубликовал стихотворение «Шестой», в котором опять знакомил читателей со зловещими планами коммунистов всего мира:
«Как будто / чудовищный кран
мир подымает уверенно —
по ступенькам / 50 стран
подымаются / на конгресс Коминтерна…
Велело / 50 стран:
“Шнур / динамитный / вызмей!
Подготовь / генеральный план
взрыва капитализма”».
О том, какое мнение относительно планов Коминтерна «взорвать капитализм» было у Осипа Брика мы, конечно же, не знаем. Но известен такой любопытнейший факт: в середине 1928 года Маяковский окончательно вышел из состава Нового Лефа, и последние пять номеров журнала «Новый Леф» были сделаны без его участия. Почему это произошло? У Маяковского явно случился какой-то серьёзный раздор с Осипом Максимовичем. Поразмышляем об этом.
Глава третья Рассорившись с Бриком
Запреты и кража
В середине июля 1928 года Маяковский получил письмо из Харькова от Валерия Горожанина. В письме говорилось:
«Предлагаю вам приехать ко мне на несколько дней… В отпуск еду 1 августа. Ещё не знаю куда. Вы проедете раньше, дайте телеграмму…».
21 июля Маяковский такую телеграмму послал:
«Дорогой Валерий Михайлович. Выезжаю Севастополь двадцать третьего, семь двадцать. Если ваш отпуск совпадает, хорошо поездить вместе. Обеспечиваю боржоми, стихами, изысканной дружбой. Встречайте.
МАЯКОВСКИЙ»
.
В Харькове поэт и гепеушник встретились. Дальше поехали вместе.
По пути (25 июля) Маяковский написал и отослал письмо председателю правления Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ) Ивану Онисимовичу Воробьёву:
«Уважаемый товарищ!
В апреле мной было получено извещение ВУФКУ о “запрещении” реперткомом моих сценариев “История одного нагана” и “Долой жир” и в связи с этим предложение о возврате 2000 аванса.
Трёхмесячная болезнь и лёжка не позволили мне немедленно обратиться к вам…
Думаю, что у каждого непредубеждённого человека вызовет удивление запрещение по идеологическим соображениям (очевидно) сценария писателя, литератора, ведущего одиннадцать лет большую литературно-публицистическую работу без единого вымаранного нашими органами слова…
Если мы не сумеем сговориться о сданных сценариях, я, конечно, возвращу авансы (за вычетом, в согласии с союзным тарифом, следуемого за безусловно проделанную работу), но предпочёл <бы> возвратить их работой – сценарием по заданию ВУФКУ.
Жду вашего ответа».
В комментариях к 13 тому собраний сочинений поэта сказано:
«ВУФКУ не приняло предложения Маяковского погасить задолженность другими сценариями и не согласилось с требованием поэта учесть его расходы, связанные с поездками в Киев, где помещалось правление ВУФКУ».
В середине 1928 года резидент ОГПУ в Персии Георгий Агабеков приехал в Москву, где был назначен начальником восточного сектора ИНО ОГПУ. О том, как обеспечивались тогда сотрудники Лубянки, он написал следующее:
«Как начальник отделения я получал 210 рублей жалования. Из них 50 рублей я платил за квартиру. Как и все остальные сотрудники, я должен был записаться в кооператив ГПУ, в АВИАХИМ, МОПР, Добролёт, общество “Друг детей”, Автодор, шефство над деревней и др., не говоря о профсоюзе и партии, где я состоял раньше. Во все эти организации нужно было вносить членские взносы. Кроме того, каждый из нас должен был подписаться на внутренние займы и вносить ежемесячно по 25–30 рублей без права продавать или заложить облигации, ибо мы, чекисты-коммунисты, должны были подавать пример остальным. Наконец, периодически приходилось “жертвовать” в пользу тех или иных бастующих иностранных рабочих. Так что в итоге за вычетом всех этих статей на руки я получал не больше 70–80 рублей, отсюда можно судить о положении других мелких работников ГПУ, получавших от 100 до 150 рублей, естественно, что приходилось вечно залезать в долги у того же кооператива ГПУ, не имея возможности покупать себе не только новой одежды, но даже белья.
Так живут мелкие служащие ГПУ, но совсем другое представляет собой жизнь высших чинов ГПУ, начиная с начальников отделов».
О том, как жили «высшие чины ГПУ», речь пойдёт немного позднее. А пока напомним, что означает сокращённое название организаций, упомянутых Агабековым.
Авиахим – это общественная организация, занимавшаяся пропагандой достижений авиации и собиравшая средства для постройки самолётов и создания авиационных клубов. В 1927 году Авиахим объединился с Обществом содействия обороне и стал называться Осовиахимом.
МОПР – это Международная организация помощи борцам революции. Создана Коминтерном в виде некоего подобия Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца, главная цель которого – «Помогать всем страждущим без какого-либо неблагоприятного различия, способствуя тем самым установлению мира на Земле». МОПР имела отделения во многих странах, оказывая материальную помощь осуждённым революционерам.
«Автодор» – это название созданного в 1927 году добровольного общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог в стране Советов.
«Друг детей» – название добровольного общества помощи беспризорным и нуждающимся детям, созданного в конце 1923 года.
«Добролёт» – название созданной в 1923 году советской авиатранспортной организации (в тридцатых годах она стала называться «Аэрофлотом»). Её рекламировал плакат поэта Владимира Маяковского и художника Александра Родченко со словами:
«ТОТ / НЕ / гражданин / СССР
кто / ДОБРОЛЁТа / не / акционер».
Обратимся к воспоминаниям писателя Виссариона Саянова. В них есть любопытный эпизод, относящийся к лету 1928 года. Виссарион Михайлович привёл рассказ одного своего знакомого, который описал встречу с Маяковским по дороге в Сухум (так тогда называли город Сухуми). Правда, летом 1928 года поэт в Сухуме не был, на пароходе добирался только до Ялты, но рассказ интересный и заслуживает того, чтобы привести его:
«Это произошло на Чёрном море. Пароход шёл в Сухуми, и меня немного укачало. Поднялся на палубу и вдруг вижу: сидит на скамеечке Маяковский, читает какую-то книгу, и вид у него недовольный. Прочтёт страничку, вырвет её, свернёт в комок и бросит за борт, прочтёт дальше – и снова бросает в море новый лист.
Меня заинтересовало, почему он это делает, и я его спросил:
– Скажите, товарищ Маяковский, почему вы так обращаетесь с книжкой?
– Очень плохая и скучная книга, – угрюмо сказал Маяковский. – Вот и не хочу, чтобы кто-нибудь другой тоже мучился, читая её.
– А чьё сочинение, позвольте полюбопытствовать?
Он, ничего не отвечая, протягивает мне книгу, и я, представь, узнаю собственный роман, изданный недавно "Московским товариществом писателей".
Вернул я книгу Маяковскому, отошёл от него, ничего не сказал. А уже на Сухумском рейде признался:
– Обидели вы меня, Владимир Владимирович… Книжица-то ведь мною написана!
И знаешь, удивил меня он.
– Ещё больше ругать стал?
– Нет, совсем наоборот. Очень смутился. Знаешь, мне кажется, что он нежнейшей души человек, и не так ему легко даются литературные схватки, в которых он сражается с буслаевской силой».
В Чёрном море у Маяковского произошла ещё одна встреча – со старым знакомцем, почти земляком, Иваном Богдановичем Караханом, одним из тех, кто приобщал его, ещё юного гимназиста, к революционной деятельности. Карахан впоследствии вспоминал:
«Как-то встретились мы с Володей летом 1928 года на пароходе по дороге в Ялту. Он вспоминал о прошлом очень задушевно и тепло, как о чём-то хорошем, чего он никогда не забудет».
В разгар крымского турне (30 июля) в Евпаторию пришла телеграмма от вернувшейся из-за границы Лили Брик:
«Дачу обокрали. Переехала город. Люблю и целую. Твоя одинокая Киса».
Маяковский встревожился и тотчас отправил ответное послание:
«Если украли револьвер удостоверение номер 170 выданное Харьковом прошу заявить ГПУ опубликовать газете… Целую люблю. Весь твой Счен».
Бенгт Янгфельдт по этому поводу написал:
«У Маяковского было несколько револьверов: американский байярд, подаренный ему в 1925 рабочими Чикаго, один маузер 6,35 и один браунинг, о котором идёт речь в телеграмме. Револьверы в те годы имели многие».
Последняя фраза вызывает недоумение. На чём основывал Янгфельдт свои слова о «револьверах», которые в стране Советов якобы «имели многие»? Боевым оружием обладали в ту пору только те, кто имел отношение к спецслужбам (армии, милиции, органам госбезопасности). Обычным советским гражданам владеть «револьверами» не дозволялось категорически. И в телеграмме Маяковского речь шла не о браунинге, а о маузере, подаренном поэту Валерием Горожаниным.
Впрочем, все тревоги оказались напрасными – 1 августа Лили Брик телеграфировала в Евпаторию:
«Револьвер цел… Если можешь пришли денежков. Отдыхай. Люблю целую. Твоя Киса».
О револьверах, маузерах и прочих браунингах нам ещё предстоит поговорить, но – в своё время. А пока…
Снова о дряни
Сначала вернёмся к рассказу начальника восточного сектора ИНО ОГПУ Георгия Агабекова о том, «какие преимущества» полагаются «чекистам на заграничной работе»:
«Резидент ГПУ получает 250 долларов в месяц на всём готовом, которые почти целиком остаются в его кармане. За рубежом чекист не обязан состоять в бесчисленных “добровольных” обществах, о которых я упомянул выше, и не вносит никаких членских взносов. Кроме того, пользуясь своей неограниченной властью в хозяйственных советских учреждениях, резидент обычно устраивает на службу своих жён и родственников…
С другой стороны, резидент ГПУ получает полную самостоятельность действий, так как подчинён только Москве. А Москва – далеко. Подсматривать и доносить на него некому, ибо он сам монопольно уполномочен за всеми следить и на всех доносить. Вот тут-то у резидента и выявляется его подлинная натура. Одних он милует, других предаёт. Как ему вздумается! До тех пор, пока не разыграется какой-нибудь крупный скандал. Тогда ГПУ его тихонько отзывает и направляет в другую страну. Ни ЦК, ни ЦКК не вмешиваются во внутренние дела ГПУ, а если что и всплывает на свет, то закрывают глаза».
Высказался Георгий Агабеков и о некоторых руководителях ГПУ:
«Председатель ОГПУ Менжинский, состоящий одновременно членом ЦК ВКП(б), не в счёт. Он – член правительства, больной человек. Живёт всё время на даче и выполняет предписания врачей.
Зато первый его заместитель Ягода – другого поля ягода… Все работники знают садистские наклонности Ягоды, но все боятся говорить об этом вслух, ибо иметь Ягоду врагом – это минимум верная тюрьма».
В этот момент Борис Бажанов, один из врагов Ягоды, сумевший увернуться от гепеушной тюрьмы, находился в Индии и подводил итоги своего пребывания в руководящем штабе большевистской державы. Он пытался понять, что ожидает партию, которая совершила Октябрьскую революцию:
«Постепенно партия (и в особенности её руководящие кадры) делится на две категории: те, кто будет уничтожать, и те, кого будут уничтожать. Конечно, все, кто заботится больше всего о собственной шкуре и о собственном благополучии, постараются примкнуть к первой категории (не всем это удастся: мясорубка будет хватать направо и налево, кто попадёт под руку); те, кто во что-то верил и хотел для народа чего-то лучшего, рано или поздно попадут во вторую категорию.
Это, конечно, не значит, что все шкурники и прохвосты благополучно уцелеют; достаточно сказать, что большинство чекистских расстрельных дел мастеров тоже попадут в мясорубку (но они – потому, что слишком к ней близки). Но все более или менее приличные люди с остатками совести и человеческих чувств наверняка погибнут».
Приведём ещё несколько высказываний Георгия Агабекова о гепеушных начальниках, которые жили припеваючи, а некоторые ещё и беспробудно пьянствовали:
«Стоит ли приводить факты деяний всех начальников отделов? Не ясна ли картина морально разложившегося, бюрократического аппарата, за которым “вожди” стараются ещё сохранить звание “меча в руках пролетариата”, а по существу уже ставшего орудием подавления трудящихся?
Многие до того привыкли к своему положению привилегированных, что даже не замечают его. В распоряжении каждого из них автомобиль и секретарь, и этот секретарь обо всём заботится. Иногда целыми днями в сопровождении жены своего начальника мечется по магазинам и возвращается к вечеру с нагруженной продуктами, винами, материей машиной. И всё это без всякой оплаты, без денег. Да и какой председатель кооператива или магазина посмеет просить денег или отказать в чём-нибудь начальнику отдела всесильного ГПУ, куда он может быть приведён каждую минуту как арестованный?
А ведь не только верхушка ГПУ, но и верхушки всех советских наркоматов живут вот так, без денег, на всём готовом. Не отсюда ли то, что среди верхушки держится идея, что “мы уже вступили в царство социализма, где труд оплачивается по потребностям и где отпадает надобность денежного знака”.
Ибо на самом деле среди этой верхушки “социализм” в полном расцвете. Жри, сколько хочешь, и делай, что тебе вздумается, только ратуй за ЦК партии – “вот программа такого социализма”.
Но ведь число этой верхушки – всего несколько тысяч, а как же в остальной России? Остальные 160 миллионов живут впроголодь или голодают.
Таковы мои наблюдения за двухлетнее пребывание в Москве…»
Владимир Маяковский тоже высказался на эту тему, но он рассматривал не «верхушку» советского общества, а рядовых обывателей, поместив в августовском номере журнала «Экран» стихотворение «Стих / не про дрянь, / а про дрянцо. Дрянцо / хлещите / рифм концом»:
«Всем известно, / что мною / дрянь
воспета / молодостью ранней.
Но дрянь не переводится. / Новый грянь
стих / о новой дряни…
Теперь – / затишье. / Теперь не народится
дрянь / с настоящим / характерным лицом.
Теперь / пошло / с измельчанием народца
пошлое, / маленькое, / мелкое дрянцо…
Об этот / быт, / распухший и сальный,
долго / поэтам / язык оббивать ли?!
Изобретатель, / даёшь / порошок универсальный,
сразу / убивающий / клопов и обывателей».
Обратим внимание, что в этом стихотворении «клопы и обыватели» названы не просто «дрянью», а «мелким дрянцом». Не является ли это очередным подтверждением раздора между Владимиром Маяковским и Осипом Бриком? Поэт явно копил материал против своего «друга» и «наставника».
Поэт-конструктивист Илья Сельвинский в 1928 году выпустил книгу «Записки поэта», в которой были строки о Маяковском:
«Но тут мне показали в окно Великого конферансье земли русской – Владима Владимыча Маяковского. Знаменитость колокольным литьём командора шагала по плитам. Ему в спешном порядке требовалась пуля Дантеса. Друзья и враги, как говорят, объявили конкурс».
Что это? Шутка? Или очередной укол, очередная подковырка?
Ответа на эти вопросы «Записки поэта» не давали.
А Якова Блюмкина в тот момент Иностранный отдел ОГПУ забросил резидентом в Палестину. Для прикрытия своей нелегальной деятельности он отправился туда под видом персидского купца Якуба Султанова, который торговал древними еврейскими книгами. Знание восточных языков, полученное во время учёбы в академии Генерального штаба, очень помогло Блюмкину заняться этим новым для него делом. Он открыл в Константинополе букинистический магазин, в котором продавались раритеты, конфискованные большевиками в синагогах страны Советов и изъятые из библиотек и музеев.
11 августа Владимир Маяковский вернулся в Москву из очередного лекционного турне и стал готовиться к новой зарубежной поездке.
Осипу Брику, отдыхавшему под Ленинградом вместе со своей гражданской женой Евгенией Жемчужной (Соколовой), Лили Юрьевна написала:
«Володя приехал с твёрдым решением строить дом и привести автомобиль из-за границы».
О планах Маяковского Лили Брик сообщила и своей приятельнице Рите Райт:
«Через 1/2 месяца он едет через Японию в Америку. А может быть не в Америку, а в Европу, но в Японию – непременно».
Сохранилась записка Свидерского народному комиссару финансов:
«Наркомфину И.П.Брюханову.
Очень прошу удовлетворить просьбу т. Маяковского в сумме 1000 долларов, о которой мы с вами договорились по телефону два месяца назад».
Между тем центральные советские газеты чуть ли не каждый день публиковали статьи, направленные против Всеволода Мейерхольда, который неожиданно уехал за границу и, судя по всему, назад возвращаться не собирался.
Как реагировал на эту газетную кампанию Маяковский, обещавший написать пьесу для театра, носившего имя уехавшего режиссёра, неизвестно. Впрочем, о Мейерхольде речь впереди. Сейчас нас будут интересовать…
Тальников и другие
В августе 1928 года журнал «Красная новь» напечатал статью Давида Тальникова «Дежурное блюдо Маяковского».
В «Указателе имён и фамилий» 13-томного собрания сочинений Маяковского сказано:
«ТАЛЬНИКОВ (Шпитальников) Давид Лазаревич (р. 1882), критик».
Его осуждающая статья обрушивалась на очерк «Моё открытие Америки» и американские стихи поэта, названные «газетными агитками», Тальников писал:
«Галопный маршрут, …повествование в свойственном ему вульгарно-развязном тоне “газетчика” – то, что Сельвинский очень остро определил как “рифмованную лапшу кумачовой халтуры” и “барабан с горшком а-ля Леф”»
По поводу строк, которыми поэт особенно гордился («я хочу, чтоб к штыку приравняли перо»), Тальников написал:
«Какой же это штык, с позволения сказать, и поэтическое перо? Просто швабра какая-то…»
Сопоставляя творчество поэтессы-конструктивистки Веры Инбер с творчеством Владимира Маяковского, Тальников (явно намекая на связи поэта с лубянским ведомством) сказал, что она (в отличие от поэта-лефовца) «пьёт из своей собственной чашечки».
Подобных откровенно резких высказываний в статье «Дежурное блюдо Маяковского» было невероятно много, поэтому возмущению ознакомившегося с ними поэта не было предела. И он тут же написал короткое письмо:
«В редакцию журнала "Красная новь".
Не откажите в любезности опубликовать следующее:
Изумлён развязным тоном малограмотных людей, пишущих в "Красной нови" под псевдонимом Тальников.
Дальнейшее моё сотрудничество считаю излишним.
Владимир Маяковский.
16/VIII-28 г.».
А теперь вернёмся к судьбе Бориса Бажанова, который написал:
«В середине августа 1928 года я с моим Максимовым сажусь в Бомбее на пароход “Пэнд О компани”, двадцатитысячетонную “Малойю” и через две недели путешествия высаживаюсь в Марселе. Беру поезд в Париж, приезжаю в Париж и на Лионском вокзале говорю шофёру такси, наслаждаясь моментом, который я предвидел ещё в Москве: “Отель Вивьен на улице Вивьен”».
А 18 августа в далёкой от Парижа и от Москвы Средней Азии председатель Совнаркома Советской Киргизии двадцатисемилетний Юсуп Абдрахманович Абдрахманов приобрёл общую тетрадь и написал на первой её странице:
«Сов. Секретно. Дневник Абдрахманова Юсупа».
Затем последовала первая запись:
«18.08.1928.
По воле “судеб” я оказался свидетелем событий величайшей исторической эпохи. Поэтому исторически небезынтересна фиксация того, что ты видел, пережил, перечувствовал за каждый день. Это можно сделать при помощи дневника, и я постараюсь сделать. Правда, я это делаю с большим опозданием, но “лучше поздно, чем никогда”.
Моему дневнику… Ты отныне мой единственный, верный и молчаливый друг. Верный до поры и до времени. Ты верный мне до тех пор, пока в моих руках, а можешь стать предателем, когда перейдёшь в чужие руки…
Мой друг! Всё то, что тебе рассказываю, ты не должен рассказывать никому. Этого я требую до тех пор, пока я живу, а когда меня не станет, рассказывай кому хочешь, как хочешь. Итак, слушай мои мысли, рассказы о том, что было и будет».
На следующий день появилась новая запись, в которой упоминалась «М.Н.». Это была знакомая нам Мария Натансон, девять лет назад бывшая секретарём коммунистов-футуристов, а теперь исключённая из партии и высланная в Среднюю Азию:
«Выехал из Ташкента в Москву. Еду по вопросу о ж/д ветке. В положительном решении вопроса не уверен, но еду, чтобы добиться окончательного решения: да или нет. Так лучше. Провожала М.Н. На вокзале, в ожидании поезда, сидел больше полутора часов и разговаривал с ней. Говорили по многим вопросам, но больше всего по личным. Это единственный человек в моей жизни, которого я крепко полюбил, и с которым крепко подружился. У меня нет и не было тайн от неё. Все мои действия, мысли и намерения – известны ей, потому что я сам рассказывал и рассказываю…
Несчастный киргизский народ! Ты доверил свою судьбу несчастному мальчику, который из-за неумения устраивать свою личную жизнь, из-за любви к одному – хочет уйти от тебя…
Что я с ума сошёл! Неужели… уйду, уйду навсегда и от всех? Неужели она дороже, чем то дело, за которое я боролся и продолжаю бороться. Нет, нет и нет! Я должен жить. Ведь я обещал самому дорогому для меня человеку жить и бороться, бороться вместе с ним за общее дело, за дело революции. Ведь и она обещала скоро прийти ко мне и вместе со мной и с армией Ленина бороться за дело, помочь мне в моей работе и борьбе за интересы самого несчастного из народов.
Что творится со мной? Не пойму».
А в Москве в это время Владимир Маяковский, посчитав, что для достойного ответа на статью в «Красной нови» письма в редакцию журнала явно недостаточно, сочинил стихотворение «Галопщик по писателям». Начиналось оно так:
«Тальников / в "Красной нови" / про меня
пишет / задорно и храбро,
что лиру / я / на агит променял,
перо / променял на швабру.
Что я / по Европам / болтался зря,
в стихах / ни вздохи, ни ахи,
а только / грублю, / случайно узря
Шаляпина / или монахинь».
А Юсуп Абдрахманов, находясь уже в вагоне поезда и вспоминая об оставленной в Ташкенте Марии Натансон, сделал новую запись в дневнике:
«20.08.1928.
Начал читать “Коммивояжёры” Шолом-Алейхема. Интересно написанная книжка, но специфически еврейская. Читаю книгу и думаю о ней и потому – нет сосредоточенности и полного понимания того, что читаешь…
Скверный же ты, Ю<суп>. Почему ты не можешь устраивать свою жизнь так, как остальные, то есть жить минутами, днями. Последняя жизнь – несчастный народ. Доверил руководство организации своей жизни такому негодяю, как я. Неужели я такой подлец, что не стою доверия своего народа? Нет. Это неверно. Я был не из худших, из детей моего народа. Да, был не из худших. А теперь? Теперь последний и самый слабый. Слабому и последнему не место среди руководителей. Нужно уйти, уйти с руководящей работы. Пусть выбирают того, кто более силён и достоин доверия. Ю. – без М. – ходячий труп. Мёртвые не руководят живыми…»
А Владимир Маяковский, обращаясь к Давиду Тальникову (как к «милому барчуку»), писал (с язвительным снисхождением):
«… вы знаете, / 10 лет назад
у нас / была / революция.
Лиры / крыл / пулемёт-обормот,
и, взяв / лирические манатки,
сбежал Северянин, / сбежал Бальмонт
и прочие / фабриканты патоки.
В Европе / у них / ни агиток, ни швабр —
чиста / ажурная строчка без шва.
Одни – / хореи да ямбы,
туда бы, / к ним бы, / да вам бы».
Из дневника Юсупа Абдрахманова:
«22.08.1928.
Начал читать – “Железный поток” – Серафимовича. Эпизод героической борьбы восставшего народа. Эту книжку мне подарила моя родная М. <…>
Почему в голову не приходит ни одна здоровая, деловая мысль! Не является ли это началом конца Юсупа, работника, политического деятеля, борца революции? Может быть. Если это так, то М. заплатила очень дорогую цену за своего В. Разве счастье М. не стоит того, чтобы одним стало меньше? Стоит…»
В автобиографических заметках Маяковского «Я сам» об этом периоде сказано:
«Пишу поэму "Плохо". Пьесу и мою литературную биографию. Многие говорили: "Ваша автобиография не очень серьёзна". Правильно. Я ещё не заакадемичился и не привык няньчиться со своей персоной, да и дело моё меня интересует, только если это весело. Подъём и опадение многих литератур, символисты, реалисты и т. д., наша борьба с ними всё это, шедшее на моих глазах: это часть нашей весьма серьёзной истории. Это требует, чтобы об нём написать. И напишу».
Этими словами автобиографические заметки Маяковского заканчиваются. Продолжения не последовало.
Из дневника Юсупа Абдрахманова:
«23.08.1928.
Прибыл в Москву с опозданием на 4 с половиной часа. Это возможно только в Советском Союзе. Это характеризует состояние нашего железнодорожного транспорта. Плачевное состояние. Что дальше? Аллах ведает…
24.08.1928.
Был в поспредстве… Узнавал о московских делах. Неважно. Внутрипартийное положение, положение в стране и международное – не сулят ничего хорошего. Придётся… воевать. Кто кого?.. Ну, что же повоюем. Буду ли я в числе солдатов революции. Не знаю…»
28 августа в Москве состоялся премьерный показ художественного фильма «Трое», снятого по сценарию Маяковского «Дети». В нём рассказывалось о том, как маленькая девочка Ирма, дочь американки Элли Джонс, «выбрана пионерами всех школ делегаткой в Россию на осмотр жизни русских пионеров». И Ирма приезжает в лагерь Артек. Владимир Маяковский наверняка был на той премьере.
Судьба Лашевича
30 августа 1928 года Илья Сельвинский написал письмо поэту Эдуарду Багрицкому, усиленно зазывая его вступить в ЛЦК (Литературный центр конструктивистов):
«Дорогой Эдуард!..
Огромный Ваш талант более чем чей-либо нуждается в конструктивизме. Не забудьте, что если Маяковский разрушил лирику, то Вам предстоит её возродить. Но возрождать её нужно не в том виде, в каком она была уничтожена футуризмом».
В тот момент страну облетела потрясшая многих весть: в китайском городе Харбине попал в автокатастрофу Михаил Михайлович Лашевич, бывший первый заместитель наркомвоенмора Фрунзе и заместитель председателя РВС СССР. Снятый ещё в 1926 году со всех своих постов (за то, что сделал доклад фракционерам-антисталинцам, собравшимся в подмосковном лесу), он был назначен заместителем председателя правления Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). В 1927 году его, как активного троцкиста и зиновьевца, исключили из партии, но в 1928-ом (после его заявления о выходе из оппозиции) восстановили в ВКП(б).
Из дневника Юсупа Абдрахманова:
«31.08.1928.
Телеграмма из Харбина. Положение Лашевича безнадёжно, уходит ещё один лучший сын партии, лучший боец из ленинской гвардии…
Редеют ряды старой ленинской гвардии, а среди смены много и очень много таких, которых можно было бы отдать сотнями, чтобы спасти одного большевика типа Лашевича. Как будет реагировать М., она, кажется, очень его любила».
В этот момент по Москве пронёсся слух, что никакой автокатастрофы не было – просто Лашевич решил покончить жизнь самоубийством.
Юсуп Абдрахманов:
«1.09.1928. Умер Лашевич. ЦК с прискорбием извещает. Кто виноват в трагической смерти? Во всяком случае не автомобиль, который потерпел аварию.
Испытанные бойцы революции выбывают из строя, а положение страны ухудшается. Хлебозаготовки идут слабо. Промтоваров нет. Репрессии в отношении крестьянства применяются на деле: на горизонте чёрная туча».
А Владимир Маяковский, активно готовившийся к предстоящей зарубежной поездке, решил (или ему опять порекомендовали гепеушники?) ещё раз громко заявить о себе как о поэте, путешествующем по собственной инициативе. И редакция газеты «Комсомольская правда» организовала в Красном зале Московского комитета партии его встречу с читателями «Комсомолки» (подобные мероприятия тогда принято было называть конференциями).
Организовывал это мероприятие журналист Михаил Розенфельд, впоследствии написавший:
«А ведь народ шёл на эти конференции главным образом потому, что после докладов устраивались выступления. Выступал Молчанов, Уткин, который гремел в то время. Огромной популярностью пользовались Жаров, Безыменский. С успехом выступал Кирсанов».
Поэтов, перечисленных Михаилом Розенфельдом (Ивана Молчанова, Иосифа Уткина, Александра Жарова, Александра Безыменского, Семёна Кирсанова), в наши дни мало кто помнит. А тогда все они действительно «гремели». И от этого их «громыхания» организаторам «конференций» было очень нелегко.
Михаил Розенфельд:
«Адской мукой было для меня "работать" с поэтами. Идёт конференция. После конференции должны быть литературные выступления. Публика с нетерпением ждёт художественной части. И вот тут-то и начиналась мука, потому что, если приезжал Уткин и видел Кирсанова, он забирал свою шапку и уходил:
– Я не буду выступать, если выступает Кирсанов.
Приезжает Жаров, видит Безыменского:
– Я не буду выступать!
Надо было проявлять чудеса изобретательности, чтобы вечер не сорвался. Я говорил Уткину, что Кирсанов не будет выступать. А потом всё-таки выступал Кирсанов, и Уткин заявлял, что в следующий раз он не приедет.
С Маяковским никогда этого не было. Он никогда не спрашивал, кто будет выступать, и никогда не заявлял о том, что "если выступает такой-то товарищ, я выступать не буду". Маяковский всегда приезжал к самому началу конференции, садился за сценой и слушал выступления читателей!».
Тем временем в Ленинграде на Марсовом поле состоялись похороны Михаила Лашевича, на которые оппозиционеры допущены не были.
Юсуп Абдрахманов:
«10.09.1928.
Лашевич старый солдат ленинской гвардии, герой Октября, трибун революции и чудовищно глупо, когда его друзьям запрещается быть на его похоронах. Тяжело сознавать, что и ЦК делает глупости, но это так…»
В тот же день (10 сентября) в Москве состоялась конференция читателей «Комсомольской правды». Открывая это мероприятие, редактор газеты Тарас Костров (псевдоним Александра Сергеевича Мартыновского) обратился к собравшимся:
«… перед отъездом за границу Маяковский хочет получить задание – "командировку", не ту "командировку", по которой надлежащие ведомства выдают заграничный паспорт, а словесный мандат, "наказ" от своей аудитории».
Случайно ли упомянул комсомольский редактор о «надлежащих ведомствах», выдающих «командировку-задание», или хотел просто напомнить присутствовавшим в зале об особом статусе поэта, сказать трудно. Но 12 сентября «Комсомольская правда» напечатала статью об этом «прощальном» вечере (она называлась «Маяковский получил "командировку"»), где особо подчеркивалось, что за границу Маяковский едет исключительно с литературными целями. Об этом поэт и заявил собравшимся:
«– Я пришёл получить от вас командировку. Мой лозунг – одну разглазей-ка к революции лазейку!»
Фразу эту (о лазейке к революции) Владимир Владимирович взял из своего стихотворения о Тальникове, опубликованного 8 сентября в газете «Писатель и читатель»:
«Не лезем / мы / по музеям,
на колизеи глазея.
Мой лозунг – / одну разглазей-ка
к революции лазейку…
Теперь / для меня / равнодушная честь,
что чудные / рифмы рожу я.
Мне / как бы / только / получше уесть,
уесть покрупнее буржуя.
Поэту, / по-моему, / слабый плюс
торчать / у веков на выкате.
Прощайте, Тальников, / я тороплюсь,
а вы / без меня чирикайте».
Юсуп Абдрахманов:
«12.09.1928.
В одиннадцать часов пошёл на заседание президиума ЦИК Союза… Был там ещё Каганович, этот законченный бюрократ, беспринципный, держиморда. Еврейский народ дал немало талантов революции, но дал ещё и этого…»
Левей Лефа
15 сентября 1928 года отмечался «День книги», и Маяковский откликнулся на это событие стихотворением «Лучше тоньше, да лучше», напечатанном в газете «Читатель и писатель». Начиналось он удивительным заявлением:
«Я / не терплю книг:
от книжек / мало толку…»
Но выступать с лекциями поэт, не читавший «книжек», очень любил. И в сентябре 1928 года в Москве появились афиши, зазывавшие на «разговор-доклад» Маяковского «Левей Лефа!» в Большой аудитории Политехнического музея. Среди тем, которые должны были быть подняты в докладе, назывались и такие: «Кого изменил Леф? Кто изменил Леф? Кто изменил Лефу? Крах групп».
Объясняя Главлиту необходимость этого мероприятия, Маяковский написал в записке, поданной цензорам:
«Задача доклада показать, что мелкие литературные дробления изжили себя, и вместо групповых объединений литературе необходимо сплотиться вокруг… газет, агитпропов, комиссий, организуемых к дням революционных празднеств».
26 сентября доклад «Левей Лефа» был прочитан. Маяковский, в частности, сказал:
«В своё время лефовцы выбросили лозунг борьбы за газету как за единственный вид литературы. С сегодняшнего дня я отказываюсь от лозунга "Только газета есть литература" и выдвигаю другой лозунг: "Да здравствует стихотворение! Да здравствует поэма!" В своё время лефовцы аннулировали живопись, заменив её фотографией. С сегодняшнего дня я амнистирую Рембранта. Я борюсь против тех, которые пытаются превратить в Леф в "общество любителей левого искусства". Леф в том виде, в каком он был, больше не существует. Но это не значит, что борьба за левое искусство, которую мы ведём, ослабеет хотя бы на минуту!»
Доклад Маяковского, по свидетельству Павла Лавута, вызвал «множество кривотолков», так как в нём во всеуслышание заявлялось о разброде мнений, возникшем в Лефе. А ведь было очень хорошо известно, что против сочинения поэм и против живописи выступал идеолог Левого фронта искусств Осип Брик, ратовавший за газеты, рекламу и фотографии. Получалось, что именно против него и выступил Маяковский. Стало быть, это выступление Владимира Владимировича оказалось, пожалуй, ещё одним публичным ударом по Осипу Максимовичу (ведь поэт заявил: «Я борюсь…»).
В.В. Маяковский в квартире в Гендриковом пер. Москва, 1928. Фото: О. Брик
Обратим внимание на этот неожиданный выпад! Кое-кому он даже показался «злым». Например, газета «Вечерняя Москва» на следующий день написала:
«Зло и остроумно говорил Маяковский о "бессмысленной, нелепейшей игре в литературные организации", …жаловался, что в СССР насчитывается 4000 поэтов, а ему одному приходится работать за всех и писать по заказу газет "по 3 стихотворения каждый день", так что к вечеру "он ходит выдоенный, с отвислым брюхом, и почти не на чем держаться подтяжкам…"».
Художник Самуил Адливанкин одним из первых обсудил с Маяковским его новый курс:
«Вскоре после объявления им известной "амнистии" Рембрандту, я встретился с Владимиром Владимировичем в Наркомпросе.
– Что? Довольны вы, что я признал вашего Рембрандта?
– Ну, теперь он не только мой, он наш.
И тут он впервые заинтересовался моей живописной работой. Стал расспрашивать, что я делаю, что пишу и, главное, как я пишу. Узнав, что я стал писать по-новому, он спросил:
– Скажите, на что это похоже? На Рембрандта? На импрессионистов? Или на АХРР?»
Брики наверняка были очень обижены переменой курса Маяковского. И, видимо, устраивали с ним споры, категорически не соглашаясь с его критикой позиций Осипа Максимовича. Поэту наверняка предлагали смягчить свой критический напор.
Как бы отвечая своей «семье», Владимир Владимирович поместил в сентябрьском номере журнала «Крокодил» стихотворение «Столп». В нём он вновь ополчился против «дряни» (приведя «перепуганное» высказывание «партийца», названного по фамилии: «Товарищ Попов»):
«Раскроешь газетину – / в критике вся, —
любая / колеблется / глыба.
Кроют. / Кого? / Аж волосья
встают / от фамилий / дыбом.
Ведь это – / подрыв, / подкоп ведь это…
Критику / осторожненько / должно вести.
А эти – / критикуют, / не щадя авторитета,
ни чина, / ни стажа, / ни должности.
Критика / снизу – / это яд.
Сверху – / вот это лекарство!
Ну, можно ль / позволить / низам / подряд —
всем! – / заниматься критиканством?!»
Завершалось стихотворение четверостишием, которое в советское время часто читали с эстрады и по радио:
«Мы всех зовём, / чтоб в лоб, / а не пятясь,
критика / дрянь / косила.
И это / лучшее из доказательств
нашей / чистоты и силы».
Кто знает, может быть, ознакомившись именно с этим стихотворением, поэт-конструктивист Григорий Гаузнер записал в дневнике (26 сентября):
«Все эти “интеллигенции”, “конструктивизмы”, “перевалы” и т. д. и т. п. – просто ерунда и больше ничего. Для настоящего искусства это ничто, сволочь, дрянь. С этой точки зрения нужно глядеть и на Леф и на конструктивизм».
И всё-таки Маяковский не стал форсировать события, не стал сходу расправляться с Бриками, которых он и так уже откровенно назвал «дрянью». 28 сентября Владимир Владимирович поехал в Ленинград, где в зале Академической капеллы прочёл тот же доклад («Левей Лефа»). Но в появившемся в журнале «Жизнь искусства» отчёте об этом мероприятии Брик был отделён от «засахарившихся»:
«На вопросы ред<акции> "Жизнь искусства" о "разброде мнений" в Лефе, о моей позиции "левее Лефа" – отвечаю:
– Никаких лефовских расколов нет. Просто инициативнейшие из лефов – Брик, Асеев, Родченко, Жемчужный и др. – вновь расширяют, ещё и ещё раздвигают постоянно меняющуюся и развивающуюся лефовскую работу. Это – один из тех переходов, которые и раньше были у нас: от футуристов – к "Искусству коммуны", от "Искусства коммуны" – к Лефу и т. д.
Засахарившиеся останутся и отстанут, а мы будем…
Мы опять родились, и мы опять назовёмся. Как? Шило своевременно вылезет из мешка.
Будет ли этим мешком журнал "Новый Леф"?
Нет».
А между тем, как мы уже говорили, от журнала «Новый Леф» Маяковский давно отстранился, и там всеми делами заправлял Осип Брик.
В октябрьском номере журнала «Крокодил» было напечатано стихотворение «В чём дело?», откликавшееся на ситуацию в стране. В этих стихах Маяковский вновь поднимал, казалось бы, давно забытую тему:
«“Хлеб давайте!” / Хлеба мало —
кулачок / хлеба припрятал.
Голову / позаломала
тыща / разных аппаратов…
Конкуренция / и ругань,
папок / “жалоб” / пухнут толщи.
Уничтожить / рад / друг друга
разный / хлебозаготовщик».
То есть поэт продолжал громить всё плохое, где бы оно ни возникало – в его собственной «семье» или в стране Советов.
Между тем время отъезда за рубеж стремительно приближалось.
В комментариях к 13 тому собрания сочинений Маяковского говорится:
«Особое валютное совещание при Наркомфине, рассматривавшее заявление Маяковского 5 октября 1928 года, разрешило Маяковскому вывезти за границу “1000 (одну тысячу) долларов с правом покупки валюты в банке”».
6 октября необходимую для поездки валюту Маяковский получил, а 7 октября…
Стоп!
Здесь мы остановимся, чтобы поделиться одним наблюдением. Дело в том, что зарубежная «ездка» 1928 года очень напоминает путешествие в Европу, предпринятое Маяковским в 1922-ом. Отъезд тогда тоже происходил осенью, в октябре.
И, перед тем, как покинуть Москву, поэт тоже собирал народ (в Большом зале консерватории), чтобы получить некое «напутствие». И даже заявление написал тогда (во ВХУТЕМАС, Е.В.Рывделю), в котором заявлял, что уезжает в «служебную командировку».
В 1928-ом Маяковский тоже оставил аналогичную бумагу. Вот она:
«В литер. – худож. отдел Гиза
Прошу отсрочить мне на 3 месяца сдачу драмы и романа. Я в настоящее время отправляюсь в отпуск для заканчивания почти выполненной работы.
В. МАЯКОВСКИЙ
8/Х-28 г.».
В формулировках появилось различие. Почему? В 1922-ом прямо говорилось: «я уезжаю в служебную заграничную командировку», и 9 октября поэт выехал в Берлин. А в 1928-ом (хотя 8 октября Маяковский выехал в тот же Берлин) слова в заявлении употреблены совсем другие: «отправляюсь в отпуск». А ведь у читателей «Комсомолки» Владимир Владимирович просил «командировку» для своей рабочей поездки за рубеж (когда уезжают в отпуск, никаких командировок не оформляют).
Может быть, поэт в своём заявлении просто лукавил, стараясь в чём-то убедить несговорчивых редакторов Государственного издательства?
Или он, отправляясь выполнять очередное гепеушное задание, просто хотел замести свои следы поосновательней?
Оба вопроса заслуживают того, чтобы поломать над ними голову. Во всяком случае, обратим на них внимание – они перед нами ещё встанут.
Добавим к этому ещё одну деталь: Маяковский вновь отказывался от договора, под которым стояла его подпись. Он же сам обещал представить Госиздату «драму» и «роман» в срок. И вдруг взял и отказался от своего обязательства. Это вновь напоминает о «молитве», которую поэт произнёс в еврейском лагере «Нит гедайге» под Нью-Йорком, когда там отмечался праздник «Йом-Киппур». Этой «молитвой» («Кол Нидре» – «Все обеты») произносивший её отрекался от всех своих договоров и обязательств.
Как бы там ни было, но 8 октября Маяковский покинул Москву.
15 октября он был уже в Париже.
А накануне (14 числа) нетерпеливая Лили Брик отправила во Францию послание с напоминанием:
«Про машину не забудь…
Завтра утром начинаю учиться управлять».
А Юсуп Абдрахманов записал в дневнике:
«Растут кадры “честных” чиновников-подхалимов. Выиграет ли от этого партия и революция? Сомнительно».
Восьмая «ездка»
С кругосветным путешествием и на этот раз у Маяковского ничего не получилось. Видимо, у тех, кто затевал этот вояж, основательно поменялись планы. И в ответном письме поэта, отправленном Лили Юрьевне 20 октября 1928 года, вновь зазвучали знакомые нотки:
«К сожалению, я в Париже, который мне надоел до бесчувствия, тошноты и отвращения…
Разумеется, ни дня больше двух месяцев я в этих дохлых для меня местах не останусь…
Люблю и целую тебя, родненькая. Обнимаю Оську и лобызаю Бульку.
Твой С ч е н».
Обратим внимание, что, несмотря на явный раздор, случившийся в «семье» в 1928 году, в письмах Лили Юрьевна именуется «родненькой», а Осипа Максимовича Маяковский, «обнимая» и «лобызая», ласково называет «Оськой».
Но как ни «тошно» было Владимиру Владимировичу находиться за рубежом, порученное ему задание он намеревался выполнить исправно. Потому и обещал вернуться в Москву сразу же по истечении данного ему двухмесячного срока.
Одним из первых, с кем Маяковский встретился в Париже, был его старый приятель Лев Александрович Гринкруг, занимавшийся во Франции финансовыми делами и не собиравшийся возвращаться в СССР. О чём говорили старые друзья после полуторагодовой разлуки? Вполне возможно, они обсуждали и намечавшееся кругосветное путешествие поэта. Но так как оно не состоялось, возникает вопрос: а чем же занимался тогда во Франции Владимир Маяковский? Неужели главным его занятием за границей было лишь приобретение «автомобильчита», как стала называть желанную автомашину Лили Брик?
Над этими вопросами размышлял и Аркадий Ваксберг, написавший:
«Если исключить (а стоит ли исключать?) отсутствие (или, напротив, наличие) соответствующих указаний Лубянки, то, по всей вероятности, главной помехой его кругосветному путешествию, которое так и не состоялось, был не столько "автомобильчит", сколько "американская тайна", о которой Лиля что-то знала, а что-то не знала».
Элли Джонс сама решила приехать в Европу, и необходимость Маяковскому плыть в Америку отпала сама собой. Поэтому в том же письме появились строки, которые для Лили Юрьевны могли показаться загадочными:
«Сегодня еду на пару дней в Ниццу (навернулись знакомицы) и выберу, где отдыхать. Или обоснуюсь на 4 недели в Ницце или вернусь в Германию.
Без отдыха работать не могу совершенно!»
О какой «работе» шла речь в этом письме? И что за «знакомицы» так внезапно «навернулись» Маяковскому?
Некоторая отгадка содержится в предпоследнем абзаце письма Маяковского – поэт упоминает некоего Хайкиса и спрашивает у Лили Юрьевны:
«Был ли у тебя т. Хайкис? Он размилейший».
Об этом «размилейшем» человеке в 13-ом томе собраний сочинений поэта говорится весьма кратко:
«Хайкис Лев Яковлевич, работник Наркоминдела».
И всё. Но мы ведь уже встречались с ним, только тогда он именовался Леоном Хайкисом (и даже Леонидом Гайкисом) и занимал пост 1-го секретаря советского полпредства в Мексике, одновременно являясь резидентом ОГПУ в этой стране. Именно Леонид Хайкис (Гайкис) пробил Маяковскому визу на въезд в Америку. И, видимо, он помог достать поэту деньги (500 долларов), требовавшиеся для внесения залога при въезде в страну.
В 1928 году Хайкиса из Мексики отозвали (он пять лет потом проработал в системе Профинтерна). Леонид Яковлевич возвращался в Москву и встретился в Париже с Маяковским. Надо полагать, Хайкис был в курсе того, что в Ницце поэта поджидает Элли Джонс с дочерью, и вполне мог (проконсультировавшись с резидентом ОГПУ во Франции) познакомить Владимира Владимировича с теми, кто будет сопровождать его в пути (вот откуда могли взяться эти «знакомицы»).
А «работать» во Франции поэт собирался над пьесой, которую обещал Всеволоду Мейерхольду. Лили Брик об этом знала.
Но Мейерхольд в тот момент (вместе с Зинаидой Райх) тоже находился во Франции. С ним переписывался Илья Сельвинский, тоже создававший пьесу для его театра.
Всеволод Эмильевич покинул страну Советов ещё летом, покинул внезапно, породив тем самым слухи о том, что назад он не вернётся. Мы уже писали о том, что в советских газетах тотчас началась кампания травли уехавшего режиссёра, многие требовали закрыть ГосТИМ. Маяковский и Брики были во всех подробностях осведомлены об этом. И приехавший в Париж поэт наверняка встречался там с Мейерхольдом. Но об этом в маяковсковедении нет ни словечка.
Зато личной жизни поэта, оказавшегося в Париже, его биографы уделяют внимание самое пристальное. Так, неожиданных «знакомиц», с которыми поэт отправился в Ниццу, довольно подробно описал Бенгт Янгфельдт, назвавший также и «настоящую цель» этого вояжа на юг Франции:
«"Знакомицами" Маяковского были две говорившие по-французски молодые женщины, которых Маяковский взял с собой, чтобы скрыть настоящую цель поездки – встречу с Элли Джонс и их дочерью, проводившими лето в Ницце. Поездка заранее не планировалась – о том, что обе Элли находятся во Франции, Маяковский узнал случайно, встретив в Париже общую нью-йоркскую знакомую».
Две приведённые нами фразы противоречат друг другу. Если «настоящей целью поездки» была встреча Маяковского с Элли Джонс и дочерью, то как же могло случиться, что поездка эта «заранее не планировалась», а о пребывании во Франции двух Элли Владимир Владимирович «узнал случайно»? Янгфельдт явно что-то напутал.
Кстати, из рассказа Янгфельдта следует, что «знакомицами» Маяковского были две молодые россиянки (про француженок не понадобилось бы уточнять, что они владеют французским языком). Это явно были юные эмигрантки, с которыми, как мы помним, Маяковский усиленно «работал» в прошлый свой приезд в Париж. Воспоминания, оставленные об этой «работе» Эльзой Триоле, теперь воспринимаются совсем по-другому:
«Володя начал брать с собой в качестве переводчиц и гидов подворачивавшихся ему на Монпарнасе молоденьких русских девушек, конечно, хорошеньких. Ухаживал за ними, удивлялся их бескультурью, жалеючи, сытно кормил, дарил чулки и уговаривал бросить родителей и вернуться в Россию, вместо того чтобы влачить в Париже жалкое существование».
Маяковский явно выполнял какое-то ответственное задание, данное ему парижским резидентом.
У Аркадия Ваксберга о поездке поэта в Ниццу – своя информация, и он пишет:
«Элли Джонс с "малой Элли" – дочерью Маяковского – приехали в Европу, во Францию, несомненно, с единственной целью: показать дочь её отцу и как-то определиться.
Переписка Элли и Маяковского была не слишком обильной, но всё же она была (письма из Нью-Йорка приходили в Москву на Лубянский проезд). Маяковский знал, когда мать с дочерью приезжают во Францию и где именно будут».
Иными словами, он помчался на юг Франции навестить свою невенчанную жену и повидаться с ещё ни разу не виданной дочерью.
О том, как они встретились, Янгфельдт пишет:
«Визит в Ниццу получился коротким: из Парижа Маяковский уехал 20 октября, а вернулся уже 25-го. Об этой встрече известно только то, что Элли рассказывала Патриции через пятьдесят лет. <…> Они проговорили всю ночь в слезах».
Почему в слезах?
Встреча в Ницце
Что же такого трагически-печального знали (или узнали?) Маяковский и Элли, что заставило их расчувствоваться до слёз?
Здесь вполне вероятен такой ответ: о том, что поэт собирался встретиться во Франции с Элли Джонс, было известно не только им обоим. Об этом знали и в ОГПУ. И перед самым отъездом за рубеж с Маяковским, вне всяких сомнений, серьёзно обо всём этом побеседовали. Ему наверняка говорили, что Элли Джонс является гепеушным агентом, что страна, в которой она обосновалась, очень интересует Советский Союз. Потеря такого важного оперативного работника нанесёт СССР весьма ощутимый урон, и допустить это никак нельзя.
Вполне возможно, что, по просьбе гепеушных начальников, об этом с поэтом беседовали и члены его «семьи»: Лили Юрьевна и Осип Максимович Брики. Они-то и могли сказать Владимиру Владимировичу, что теоретически у него два выхода: либо распрощаться с Элли Джонс навсегда, либо, став таким же агентом, как она, поехать вместе с нею в Америку.
Точно такой же разговор должен был провести с Элли Джонс и резидент ОГПУ в Северо-Американских Соединённых Штатах.
Что после всего этого мог сказать Маяковский своей дочери и её матери?
Ехать в Америку, чтобы осесть там, он не мог, так как не знал языка. Не случайно в одном из американских очерков поэт как бы обращался к англоговорящим жителям САСШ:
«… если бы знали они русский, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек…»
Чем мог заняться в Америке поэт, не владевший английским языком и совершенно не знавший Соединённые Штаты? Где, в каком качестве работать? На какие заработки кормить семью?
Ответов на все эти вопросы у Маяковского не было. Вот поэтому, по словам Бенгта Янгфельдта, Элли Джонс и Маяковский всю ночь и провели в слезах.
Продолжая эту тему, Аркадий Ваксберг задался весьма логичными вопросами:
«Кто в точности знает, какие слова он услышал от Элли? Что она ему предложила? На что толкала?
Ничего общего – в смысле духовном – у них, разумеется, не было. Свершившийся "факт" – общий ребёнок – мог стать искусственным мостом между ними. Мостом – по необходимости. И значит – обузой. Притом такой, в которой он, по причинам этическим, даже не мог бы признаться. Маяковский бежал сломя голову. Уже 25-го он вернулся в Париж и сразу же отправил в Москву телеграмму…».
Телеграмма, адресованная Лили Брик, была стандартно короткой:
«Пиши телеграфируй. Очень скучаю целую люблю. Твой Счен».
В это же время уже вернувшийся из Москвы в родную Киргизию Юсуп Абдрахманов записывал в дневнике:
«27.10.1928.
Да, ещё новость. …на меня есть заявление в ЦК о том, что я нахожусь в связи и под влиянием оппозиционерки Натансон…
Кто решился на этом нажить капиталец?
Жаль, что меня об этом, вероятно, не будут спрашивать. Сотню партийных подхалимов я бы не задумываясь отдал бы за одну такую оппозиционерку».
И вновь вернёмся к Маяковскому, который якобы из Ниццы «бежал сломя голову». Этого быть просто не могло! Ведь он же встретился не просто с двумя очаровательными американками, а со своей настоящей семьёй, хотя и не зарегистрированной официально. Поэтому вслед за телеграммой в Москву в Ниццу полетело трогательное послание:
«Две милые две родные Элли! Я по Вас уже весь изсоскучился. Мечтаю приехать к Вам ещё хотя б раз на неделю. Примите? Обласкаете? Ответьте пожалуйста. <…> Боюсь только не осталось бы и это мечтанием. Если смогу выеду Ниццу среду четверг. <…> Целую Вам все восемь лап. Ваш Вол».
Дочь Маяковского Патриция много лет спустя написала:
«… в этом письме отец просил о повторной встрече. Но мать считала, что больше им не стоит встречаться».
И в воскресенье 28 октября Элли Джонс написала письмо, в котором говорилось:
«Если не сможете приехать – знайте, что в Ницце вас будут ждать две огорчённые Элли – и пишите нам часто. Пришлите комочек снега из Москвы. Я думаю, что помешалась бы от радости, если очутилась бы там. Вы мне опять снитесь всё время».
28 октября Лили Юрьевна тоже написала письмо Маяковскому (в ответ на его телеграмму из Парижа):
«Щеник!
Неужели не будет автомобильчита? Я так замечательно научилась водить!!!..
Где ты живёшь? Почему не телеграфируешь? Пишешь: еду в Ниццу, а телеграммы из Ниццы нет…»
Как видим, телеграмму, сообщавшую Лили Брик о прибытии в Ниццу, Маяковский не послал. Даже Александр Михайлов, которого (судя по его книге) любовные увлечения поэта не очень интересовали, и тот не удержался от изумления, написав:
«О романе с Элли Маяковский, кажется, никому не говорил, кроме своей сестры Ольги, через которую и шла переписка. Кого он боялся? В первую очередь, конечно, Лили Юрьевны. Но Лили Юрьевна была связана с органами ЦК-ГПУ – с Аграновым. Знал ли об этом Маяковский? И не потому ли всему встреча в Ницце и переписка прикрыты завесой тайны, а письма и фотографии Элли хранились в комнате на Лубянке?»
В записных книжках Маяковского, куда он записывал «заделы» (отдельные строки и четверостишия), примерно в то же самое время (конец 1928 года) появились стихи:
«Море уходит вспять
море уходит спать
Как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчёте
И ни к чему перечень
взаимных болей бед и обид».
Кому посвящены эти строки?
К кому обращался поэт?
Фрагмент начинается с описания уходящего моря. Не в Ницце ли родились эти удивительные строки? Там, где поэт навсегда распрощался со своей невенчанной женой и со своей трёхлетней дочерью.
Обратим внимание, что Маяковский употребил не расхожее выражение «инцидент исчерпан» (то есть завершён окончательно), а взял его несколько изменённый вариант: «инцидент исперчен» (то есть случившееся переполнено горечью). А ведь именно подобное и произошло с ним в Ницце! В этом – ещё одно доказательство того, что стихотворная «заготовка» посвящена и адресована Элли Джонс.
Как бы там ни было, но вторая поездка Маяковского на юг Франции так и не состоялась, поскольку вечером 25 октября произошла…
Неожиданная встреча
Вечером 25 октября 1928 года, сопровождая Эльзу Триоле (по её просьбе) к доктору Сержу Симону, в доме, где шёл врачебный приём, Маяковский встретил 22-летнюю русскую эмигрантку Татьяну Алексеевну Яковлеву.
Эльза Триоле:
«Я познакомилась с Татьяной перед самым приездом Маяковского в Париж и сказала ей: "Да вы под рост Маяковскому". Так из-за этого "под рост", для смеха, я и познакомила Володю с Татьяной.
Маяковский же с первого взгляда в неё жестоко влюбился».
Бенгт Янгфельдт:
«Встреча у доктора Симона не было случайностью. Эльза дружила с русской женой доктора Надеждой и рассказывала ей о том, что Маяковскому в Париже скучно и ему нужен кто-то, с кем бы он мог проводить время. Татьяна, с которой она познакомилась незадолго до этого, полностью соответствовала его вкусам: красавица, говорит по-русски и к тому же интересуется поэзией. Когда Татьяна позвонила к доктору Симону с жалобами на тяжёлый бронхит, он велел ей прийти немедленно, а его жена тут же связалась с Эльзой и пригласила её с Маяковским…»
Татьяна Яковлева писала (матери в Пензу) об этом знакомстве с Маяковским так:
«Ему… Эренбург и др. знакомые бесконечно про меня рассказывали, и я получала от него приветы, когда он меня ещё не видел. Потом пригласили в один дом специально, чтобы познакомить».
Приведём ещё один абзац из книги Бенгта Янгфельдта, в котором рассказывается о том, как отнёсся Маяковский к новой своей знакомой:
«Молодая женщина сильно кашляла, но, вопреки своей мнительности, он предложил проводить её домой. В такси было холодно, и он снял с себя пальто и укрыл ей ноги. “С этого момента я почувствовала к себе такую нежность и бережность, не ответить на которую было невозможно”, – вспоминала Татьяна».
Все, кто так или иначе описывал это неожиданное знакомство, вряд ли догадывались, что существовал ещё один «устроитель» встречи советского поэта с парижской красавицей – ОГПУ. Если с Маяковским ещё в Москве «беседовали» Трилиссер, Агранов и Брики, убеждая его в совершенной бесперспективности отношений с Элли Джонс, то эти «собеседники» должны были предусмотреть и дальнейшее развитие событий.
Якову Серебрянскому, тогдашнему резиденту ОГПУ во Франции, наверняка было послано распоряжение найти подходящую красотку и познакомить её с Владимиром Маяковским, чтобы отвлечь его от печальных размышлений, которые могли возникнуть после расставания с Элли Джонс. Серебрянский и прибывший во Францию Леонид Гайкис свели Маяковского сначала со «знакомицами», а потом резидент отыскал среди своих агентесс подходящую кандидатуру для «завлечения» опечаленного поэта.
Яков Серебрянский, вне всяких сомнений, обсуждал этот вопрос и с Эльзой Триоле, которая явно проговорилась, написав в воспоминаниях:
«Я познакомилась с Татьяной перед самым приездом Маяковского в Париж…».
То есть до этого Эльза её не знала. И познакомил их явно Серебрянский. О том, как всё это происходило, речь впереди. А пока просто приглядимся к «случайному» знакомству Владимира Маяковского и Татьяны Яковлевой. Оно очень быстро переросло в любовное увлечение, вскоре достигшее апогея.
29 октября в Москву полетела телеграмма Лили Юрьевне:
«Веду сценарные переговоры Рене Клер. Если доведу надеюсь машина будет. Целую.
Твой С ч е н».
Тридцатилетний француз Рене Клер был известным французским кинорежиссёром. Он снял несколько фильмов, имевших у публики успех. Маяковский предложил ему сценарную заявку под названием «Идеал и одеяло» и повёл переговоры по экранизации.
Что это за заявка?
В 11 томе собрания сочинений поэта есть её перевод с французского. Начинается она так:
«Маяковский любит женщин. Маяковского любят женщины. Человек с возвышенными чувствами, он ищет идеальную женщину. Он даже принялся читать Толстого. Он мысленно создаёт идеальные существа, он обещает себе связать свою судьбу только с женщиной, которая будет отвечать его идеалу, – но всегда наталкивается на других женщин.
Такая “другая женщина” однажды выходила из своего “Роллса” и упала бы, если бы идеалист не поддержал её. Связь с ней – пошлая, чувственная и бурная – оказалась как раз такой связью, которую Маяковский хотел избежать. Эта связь тяготила его, тем более, что, вызвав по телефону чей-то номер, указанный в письме, которое случайно попало ему в руки, он пленился женским голосом, глубоко человечным и волнующим».
Далее в этой сценарной заявке говорится о том, что проходят годы, прежде чем Маяковский добивается согласия таинственной незнакомки на встречу. И вот:
«Окружённая тайнами, незнакомка увезена к месту великолепной встречи. Преисполненный счастливого предчувствия, Маяковский идёт навстречу началу и концу своей жизни.
Первый поворот головы – и его незнакомка – это та женщина, с которой он провёл все эти годы, и которую он только что покинул».
О ком этот сценарий?
О Лили Брик, с которой у Владимира Маяковского давно уже не было никаких романтических отношений? Или, действительно, это всего лишь «идеал» стихотворца, запутавшегося в женщинах?
Тем временем Лили Брик из далёкой Москвы продолжала внимательнейшую слежку за поведением поэта. Вот что говорилось в её письме Маяковскому от 2 ноября:
«Ты писал, что едешь в Ниццу, а телеграммы всё из Парижа. Значит, не поехал? Когда же ты будешь отдыхать? Ты поганейший Щен. И я тебя совершенно разлюблю…
Отчего ты не пишешь? Мне это интересно!
Обнимаю тебя мой родненький зверит и страшно нежно целую…»
Тревожилась и искренне переживала от внезапного молчания Маяковского и Элли Джонс. И 8 ноября она отправила ему письмо, в котором говорилось, как ждала приезда отца маленькая Елена-Патриция, которая…
«… всё время выбегала на балкон, думала, что Вы должны приехать в автомобиле. Потом я плакала, и она меня утешала и грозилась, что сладкого не даст».
И Элли Джонс просила:
«… страшно нужно для нашего спокойствия, чтобы мы знали, что о нас думают. Ну раз в месяц (пятнадцатого день рождения девочки) подумайте о нас! Напишите – и если некогда, вырежьте из журнала, газеты что-нибудь своё и пришлите. Книги обещались!»
Ещё Элли заботилась:
«Берегите себя, да? Попросите человека, которого любите, чтобы она запретила Вам жечь свечу с обоих концов! К чему? Не делайте этого!
Приезжайте! Только без переводчиков! Ваша каждая минута и так будет если не полна – то во всяком случае занята!!!»
Когда читаешь письма Элли Джонс Маяковскому, то первое впечатление от них – как не похожи они на послания «Волосику», написанные Лили Юрьевной. От последних, несмотря на обилие в них выражений «ужасно соскучилась», «скучаю», «люблю» и тому подобных, веет промозглым холодом фальши и неискренности, а чрезмерное повторение объяснений в любви говорит лишь о том, что это всего лишь набор дежурных фраз, которые всегда под рукой.
А в письмах Элли Джонс – крик души. В них – настоящее искреннее чувство, которое волею безжалостной судьбы было равнодушно растоптано. Элли действительно любила Маяковского. Она, образованная, умная, верная, могла бы стать настоящей спутницей поэта. Этого, увы, не случилось.
Маяковскому было уже не до двух Элли, которые тщетно ждали его приезда. У него появилось новое увлечение.
Чувства поэта
Эльза Триоле:
«Татьяна была в полном цвету, ей было всего двадцать с лишним лет, высокая, длинноногая, с яркими жёлтыми волосами, довольно накрашенная, "в меха и бусы оправленная"… В ней была молодая удаль, бьющая через край жизнеутверждённость, разговаривала она, захлёбываясь, плавала, играла в теннис, вела счёт поклонникам…
Не знаю, какова была бы Татьяна, если б она осталась в России, но годы, проведённые в эмиграции, слиняли на неё снобизмом, тягой к хорошему обществу, комфортабельному браку. Она пользовалась успехом, французы падки на рассказы эмигрантов о пережитом, для них каждая красивая русская женщина – эмигрантка – в некотором роде Мария-Антуанетта».
Татьяна Яковлева. Париж, 1927–1928
Маяковский тоже написал о Татьяне. Написал в стихах, которые потом назвал «Письмом товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» (напомним, что Тарас Костров был ответственным редактором «Комсомольской правды»). В этом «письме» говорилось:
«Простите / меня, / товарищ Костров,
с присущей / душевной ширью,
что часть / на Париж отпущенных строф
на лирику / я / растранжирю.
Представьте: / входит / красавица в зал,
в меха и бусы оправленная.
Я / эту красавицу взял / и сказал:
– правильно сказал / или неправильно? —
Я, товарищ, – / из России,
знаменит в своей стране я,
я видал / девиц красивей,
я видал / девиц стройнее.
Девушкам / поэты любы.
Я ж умён / и голосист,
заговариваю зубы —
только / слушать согласись.
Не поймать / меня / на дряни,
на прохожей / паре чувств.
Я ж / навек / любовью ранен —
еле-еле волочусь».
Обратим внимание, Маяковский опять вспомнил о «дряни», о которой писал в стихотворении «Стих не про дрянь, а про дрянцо», опубликованном в августовском номере журнала «Экран». Заканчивалось оно призывом:
«Изобретатель, / даёшь / порошок универсальный,
сразу / убивающий / клопов и обывателей».
И именно в это время он обдумывал пьесу, которая получит название «Клоп».
7 ноября 1928 года состоялось выступление Маяковского в кафе «Вольтер». Парижская газета «Евразия» поместила обращение к советскому поэту Марины Цветаевой:
«Маяковскому
28 апреля 1922 года, накануне моего отъезда из России, рано утром на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.
– Ну-с, Маяковский, что же передать от вас Европе?
– Что правда – здесь.
7 ноября 1928 года, поздним вечером, выйдя из Cafó Voltaire, я на вопрос: "Что же скажете о России после чтения Маяковского?" – не задумываясь, ответила:
– Что сила – там».
Стихотворные строки из «Письма товарищу Кострову» привёл в своих воспоминаниях о Маяковском и Павел Лавут:
«Он работал всюду: в поезде, на вокзале, в автомобиле, на улице, работал, находясь в движении:
“Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу, стишки пишу
в записную книжицу”.
В словах этих нет поэтического вымысла. Всё правда…
Владимир Владимирович рассказывал мне, как однажды на шумном перекрёстке Парижа его чуть не сбила машина; пострадали только брюки, которые он потом долго очищал. Вот откуда строки:
“Мчат авто по улице,
а не свалят наземь.
Понимают умницы:
человек в экстазе”»
В этом «Письме» говорится и о том, как Маяковский представлял себе любовь:
«Любить – / это с простынь, / бессонницей рваных,
срываться, / ревнуя к Копернику,
его, / а не мужа Марьи Иванны,
считая / своим / соперником».
Не забывал Маяковский в тот момент и о просьбе человека, «которого любил», то есть Лили Брик. Вместе с Татьяной Яковлевой он посетил автосалон, и они вместе выбирали машину.
А в Москве 9 ноября в издательстве «Федерация» вышла книга Корнелия Зелинского «Поэзия как смысл». Начиналась она с предисловия, в котором говорилось:
«Конструктивизм, от имени которого я говорю в настоящей книге, есть русский литературный конструктивизм, новая литературная школа».
На следующий день в советской столице состоялась премьера фильма режиссёра Всеволода Пудовкина «Потомок Чингисхана». Показ прошёл с триумфом. В титрах было указано, что сценарий написан Осипом Бриком. Ничего не знавший об этом Маяковский в тот же день (10 ноября) отправил в Москву телеграмму:
«Покупаю Рено. Красавец серой масти. <…> Двенадцатого декабря поедет в Москву. Приеду около восьмого. Телеграфируй. Целую. Люблю. Твой Счен».
12 ноября Маяковский отправляет Лили Брик уже не телеграмму, а письмо:
«Дорогой и родной Кисит.
Я задержался с этим письмом, т. к. телеграфировал тебе "покупаю" и всё ещё не перевёл в прошедшее время "купил". Но сейчас, кажется, уже ничего не помешает и денежков с помощью добрых душ на свете я наскребу и назаработаю. Машин симпатичный, ты сама, должно быть, знаешь какой…»
Далее следовал рисунок «Рено» с сидящей на капоте кошечкой.
«Рисунок, конечно, корявый, но карточку из каталожницы я отдал вместе с заказом, а другой пока нет…
Рисунок В.Маяковского
Пробуду в Париже немного, чтоб самому принять машинку с завода, упаковать и послать, а то заканителится на месяцы. А пока сижу и раздракониваю пьесу и сценарий. Это первый бензин, который пытается сожрать реношка…
Кисит, телефонируй, пожалуйста, Кострову, что стихи я пишу и с пользой и с удовольствием, но многих удобств ради нашлю или навезу их слегка позднее».
Обратим внимание на бодрый тон письма – Маяковский вовсю балагурит! Знала бы Лили Юрьевна, что это за стихи, которые сочинялись для редактора «Комсомольской правды» Кострова, она бы, наверное, несколько иначе отнеслась и к другой неожиданной просьбе своего «Счена»:
«Лисит, переведи, пожалуйста, телеграфно тридцать рублей – Пенза, Красная ул., 52, кв. 3, Людмиле Алексеевне Яковлевой».
Некоторые биографы Маяковского считали, что деньги предназначались матери Татьяны. Но Павел Лавут впоследствии разыскал эту женщину, и, оказалось, что зовут её Любовь Николаевна. А Людмила Алексеевна Яковлева – это сестра Татьяны.
О самом себе Маяковский сообщал Лили Юрьевне довольно загадочно:
«Моя жизнь какая-то странная, без событий, но с многочисленными подробностями, это для письма не материал, а только можно рассказывать, перебирая чемоданы, что я буду делать не позднее 8-10. Пиши и телеграфируй много и обязательно.
Целую тебя, родненькая, и миленькая, и любименькая.
Твой С ч е н.
Облапь Осика.
Окончание реношных перипетий – телеграфирую».
Между прочим, деньги для покупки автомобиля вполне мог «наскрести» Маяковскому старый его приятель Лев Гринкруг, ставший парижским банкиром.
Новая любовь
Ситуация, прямо скажем, удивительная! Человек навещает невенчанную жену и дочь, называет их «милые» и «родные», затем отправляет гражданской жене телеграмму со словами «очень скучаю, целую, люблю», и тут же влюбляется в парижскую красавицу и заводит с нею роман.
Казалось бы, перед нами – самый обыкновенный ловелас. Однако Бенгт Янгфельдт, считая Маяковского убеждённым однолюбом, написал (в книге «Любовь – это сердце всего»):
«Любовь Маяковского и Лили Брик была безмерна. Она была женщиной его жизни, жить без неё он не мог».
Но если даже согласиться с этим утверждением уважаемого маяковсковеда, то всё равно возникает вопрос, как Эльза Триоле, зная о невероятной («безмерной») любви Маяковского к Лили Брик, могла пойти на то, чтобы познакомить его с Татьяной Яковлевой?
Аркадий Ваксберг тоже задавался этим вопросом и привёл слова самой Эльзы:
«Свою роль "сводницы" Эльза объясняла так: с этой рослой, красивой соотечественницей она познакомила Маяковского лишь для того, чтобы избавить его от языковых проблем, а себя – от обременительной необходимости постоянно быть рядом с ним в качестве переводчицы».
Однако такое объяснение Ваксберга не удовлетворило, и он написал:
«Блажен, кто верует… Без консультаций с сестрой, а возможно, и без её просьбы никогда она на это не решилась. Шальная идея – сводить Маяковского с барышнями в его вкусе – принадлежала именно Лиле и использовалась ею не раз. Скорее всего, Лиля и подбросила её Эльзе – видимо, по чьей-то подсказке. Ведь Агранов, "Сноб" или кто-то другой из того же ведомства отлично знали, зачем Маяковский поехал в Ниццу, – только самый наивный мог предполагать, что Маяковский за границей был свободен от лубянского взгляда».
Ваксберг опять остановился буквально в шаге от того, чтобы назвать поэта гепеушником. Но не назвал. Сделав Лили Юрьевну главным источником всех «шальных» чекистских идей.
Однако не будем забывать, что в круг служебных обязанностей резидента ИНО ОГПУ во Франции (а им тогда являлся хорошо знакомый нам Яков Исаакович Серебрянский) входил надзор за россиянами-эмигрантами и вербовка их в гепеушные агенты. Приехавший в Париж Маяковский тоже поступал под покровительство резидента ОГПУ, который координировал и направлял работу всех прибывавших из Москвы гепеушников. Серебрянский знал и о том, что Маяковский собирается съездить в Ниццу, где его поджидала Элли Джонс с дочерью. И «знакомицы», сопровождавшие поэта на юг Франции, как мы уже говорили, тоже вовсе не случайно «навернулись» поэту.
Но сразу возникает вопрос: не слишком ли часто у Маяковского в Париже возникали эти труднообъяснимые «случайности»? Сколько их было в 1925 году, когда у поэта якобы украли деньги? Теперь они возникли снова.
Тот же Яков Серебрянский вполне мог подсказать Эльзе Триоле, с какой именно «барышней» следует познакомить Маяковского. Не случайно же Эльза впоследствии с немалым удивлением написала:
«Татьяна была поражена и испугана Маяковским… Встреча с Маяковским опрокидывала Татьянину жизнь. Роман их проходил у меня на глазах и испортил мне немало крови… Хотя, по правде сказать, мне тогда было вовсе не до чужих романов: именно в этот Володин приезд я встретилась с Арагоном. Это было 6 ноября 1928 года, и своё летоисчисление я веду с этой даты…
И вот мы уже с Володей никуда вместе не ходим. Встретимся, бывало, случайно – Париж не велик! – Володя с Татьяной, я с Арагоном, издали поздороваемся, улыбнёмся друг другу…
С Татьяной я не подружилась, несмотря на невольную интимность: ведь Володя жил у меня под боком, всё в той же "Истрии", радовался и страдал у меня на глазах…
Татьяна… также не питала ко мне большой симпатии. Не будь Володи, мне бы в голову не пришло, что я могу встречаться с Татьяной. Она была для меня молода, а её круг, люди, с которыми она дружила, были людьми чужими, враждебными…»
Признание очень интересное! Люди, с которыми дружила Татьяна Яковлева, были для Эльзы Триоле «чужими, враждебными». И это ещё раз подтверждает наше предположение о том, что Эльза была агентом ОГПУ, и что наверняка именно Яков Серебрянский порекомендовал ей (или просто отдал приказ) познакомить Маяковского с Яковлевой. И вовсе не для того, чтобы помочь Эльзе Триоле избавиться от необходимости быть переводчицей поэта. Познакомить поэта с Татьяной Яковлевой собирались уже давно – об этом сама Татьяна свидетельствовала:
«Ему… Эренбург и др. знакомые бесконечно про меня рассказывали, и я получала от него приветы, когда он меня ещё не видел».
То, что Илья Эренбург был гепеушником, об этом мы тоже уже говорили. Вместе с ним в этой чекистской акции участвовали и другие агенты («др. знакомые»). Чего хотел от них Яков Серебрянский? Нетрудно предположить следующее. У Татьяны Яковлевой было много ухажёров, занимавших весьма ответственные посты во властных структурах Франции. Но предложений руки и сердца от них не поступало. Резидент ОГПУ явно хотел ускорить этот процесс, познакомив с Татьяной напористого поэта, и возбудив этим ревность у её ухажёров.
На ещё на одно любопытное обстоятельство обратил внимание Аркадий Ваксберг:
«Несомненное влияние на Маяковского оказал один, пустяковый в сущности, но всё-таки тоже "мистический" факт: ещё в марте 1914 года, когда он, совершая турне футуристов, заехал в Пензу, ему повстречалась молодая женщина Любовь Яковлева, на которую он сразу обратил внимание. У женщины этой была восьмилетняя дочь – та самая Татьяна, с которой четырнадцать лет спустя его свела Эльза в Париже… Дед Татьяны, кстати сказать, то есть отец пензенской знакомой Маяковского Любови Яковлевой – Николай Аистов, был главным балетмейстером Мариинского императорского театра в Петербурге, сменившим на этом посту Мариуса Петипа. У парижской эмигрантки, таким образом, была совсем неплохая родословная».
И план Якова Серебрянского, за которым стояли Агранов и Трилиссер, и о котором что-то могли знать и Брики, начал осуществляться – роман между Владимиром Маяковским и Татьяной Яковлевой вспыхнул.
Кто знает, а не исполнял ли на этот раз Владимир Владимирович ту же самую роль, которую столько раз играла Лили Юрьевна в своих гепеушных историях? Ведь в своих прежних приездах в Париж, как мы помним, Маяковский ухаживал за русскими девушками-эмигрантками, явно выведывая у них что-то, необходимое резиденту ОГПУ. Теперь же Серебрянский, имевший соответствующие указания из Москвы, в беседе с прибывшим в Париж поэтом прямо поставил ему задачу: поактивнее поухаживать за Татьяной Яковлевой, чтобы раззадорить французов-ухажёров. Маяковскому деваться было некуда, и он согласился.
Маяковский стал выполнять возложенную на него задачу. Правда, Яковлева, с которой его «случайно» познакомили, ему понравилась. Поэтому выполнять гепеушное задание Маяковский принялся с удивительной лёгкостью.
Вот как это описал маяковсковед Александр Михайлов:
«Владимир Владимирович не только влюбился в Татьяну, но он сразу же обнаружил свои намерения: жениться на ней, увезти её обратно в Россию».
Мало этого, Маяковский написал стихи и посвятил их Татьяне Яковлевой. А до сих пор подобных посвящений удостаивалась только Лили Брик.
Но вот какие строки легли в дневник Эльзы Триоле:
«Володя написал красивое стихотворение Татьяне. Бедная, бедная Татьяна! Об этом можно было бы написать роман. По сути об этом нельзя сказать лучше, чем это делает Володя в своих стихах. Но как ужасно знать человека так, как я – когда, что, как – всё это я знаю о нём, не обмениваясь ни единым словом, мне достаточно видеть, в каком он состоянии. Его хитрость и звероподобные нападки, это либо бильярд, либо любовь. А теперь Тата, молодая, красивая, нежно любимая всеми и каждым!»
Однако возвращаться в страну Советов «нежно любимая» Яковлева не торопилась. Кто знает, не возникло ли у неё это нежелание ехать в страну Советов тоже в результате настойчивых рекомендаций того же Серебрянского?
Не будем забывать, что кроме «ухаживаний» за Татьяной у Маяковского в Париже было ещё одно важное дело – ведь ему надо было закончить сочинявшуюся пьесу.
Как бы там ни было, но 2 декабря 1928 года Маяковский покинул Париж без Татьяны. 8 декабря он был уже в Москве. И, видимо, уже в дороге написал стихотворение «Они и мы», которое через несколько месяцев напечатал в журнале «Молодая гвардия». Поэт с грустью описывал своё возвращение на родину:
«Километров тыщею
на Москву / рвусь я.
Голая, / нищая
бежит / Белоруссия.
Приехал – / сошёл у знакомых картин:
вокзал / Белорусско-Балтийский.
Как будто / у проклятых / лозунг один:
толкайся, / плюйся / да тискай.
Мука прямо.
Ездить – / особенно.
Там – / яма,
здесь – / колдобина.
Загрустил, братцы, я!
Дыры – / дразнятся.
Мы / и Франция…
Какая разница!»
Да, разница между страной Советов и зарубежными странами была колоссальная, и об этом прекрасно знали те, кому приходилось распоряжаться денежными потоками – ведь и у большевиков были свои банкиры.
Глава Госбанка
Пост председателя правления Госбанка СССР в ту пору занимал Арон Львович (Аарон Лейбович) Шейнман. Он родился в 1886 году. После окончания школы родители отправили его получать образование в Европу (подальше от революционно настроенных молодых людей, которые тогда будоражили Россию). Но в тихой и благополучной Швейцарии Аарон Шейнман встретил Владимира Ульянова-Ленина, которому деловая хватка юного студента очень понравилась. И вскоре Шейнман стал большевиком. В Россию Аарон Лейбович возвращался во втором «пломбированном вагоне» (он шёл вслед за поездом, в котором ехал Владимир Ильич).
Когда после октябрьского переворота большевикам надо было возродить работу Государственного банка, Ленин направил на это дело Шейнмана. Первая конвертируемая валюта (червонцы) была выпущена по инициативе Арона Львовича, как стал именовать себя Шейнман.
Летом 1928 года он (будучи председателем правления Госбанка СССР) заболел и обратился к вождям с просьбой отпустить его на лечение. В июле политбюро согласилось предоставить Шейнману двухмесячный отпуск и разрешило провести его за границей. Арон Львович отправился в Германию.
В конце года планировалось участие Шейнмана в переговорах с американскими финансистами, для чего предполагалась поездка его в Соединённые Штаты. Однако состояние больного советского банкира помешало этому. И 1 декабря 1928 года глава акционерного общества «Амторг» Саул Григорьевич Брон получил телеграмму, подписанную самим Иосифом Сталиным. В этом послании говорилось:
«Шейнман серьёзно захворал, выбыл из строя, останется в Германии. Взамен Шейнмана посылаем Сокольникова».
Но Григорию Сокольникову Северо-Американские Соединённые Штаты в визах отказали. И Шейнмана уговорили поехать за океан, дождавшись выздоровления. 20 декабря политбюро постановило:
«Одобрить предложение т. Шейнмана о его поездке в Америку после праздников».
Обо всех этих проблемных вопросах, которые занимали тогда членов советского правительства, Владимир Маяковский, конечно же, ничего не знал. У него было немало и своих собственных забот. И мы бы, наверное, никогда не стали бы так подробно расписывать биографию Арона Шейнмана, если бы обстоятельства не складывались так, что судьбе советского банкира предстояло пересечься с судьбой советского поэта.
Домашние хлопоты
Своим «Кисам» (Лили и Осипу) вернувшийся из заграницы Маяковский привёз массу подарков. Но самым главным был автомобиль марки «Рено». Ваксберг пишет:
«Достался он Маяковскому тяжело: с трудом удалось наскрести денег, с трудом уладить таможенные формальности (без помощи того же Агранова вряд ли это могло обойтись). Самому Маяковскому автомобиль был напрочь не нужен».
Лили Брик на автомобиле «Рено» В.Маяковского
И, тем не менее, он написал стихотворение «Ответ на будущие сплетни», которое было опубликовано в январском номере журнала «За рулём»:
«Москва / меня / обступает, сипя,
до шёпота / голос понижен:
"Скажите, / правда ль, / что вы / для себя
авто / купили в Париже?"»
Водить машину Маяковский не умел. Учиться вождению не стремился. Да и купленная машина не соответствовала его габаритам. Лили Брик впоследствии написала:
«Маяковский привёз из Парижа автомобиль, такой маленький, что сам с трудом влезал в него, согнувшись в три погибели».
Но «Ответ на будущие сплетни» всё же заканчивался словами:
«Не избежать мне / сплетни дрянной.
Ну что ж, / простите, пожалуйста,
что я / из Парижа / привёз Рено,
а не духи / и не галстук»
Ваксберг эти строки прокомментировал так:
«Галстук, кстати, он привёз тоже: как и духи: и то и другое для Лили. Но "Рено" затмил всё остальное».
Лили Брик:
«Я, кажется, была единственной москвичкой за рулём, кроме меня управляла машиной только жена французского посла».
Но у Маяковского был ещё один «подарок» для Лили Брик – стихи, посвящённые Татьяне Яковлевой.
Лили Брик отреагировала на них (в пересказе Бенгта Янгфельдта) так:
«Я огорчилась, когда Володя прочёл мне "Письмо из Парижа о сущности любви", – призналась Лили впоследствии. Это был эвфемизм – она испытала не огорчение, а разочарование и обиду. Подтвердив чувства Маяковского к Татьяне, стихотворение нанесло страшный удар по самолюбию; впервые её место в жизни и в поэзии Маяковского оспаривалось, и это стало для неё потрясением».
Но «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» было не единственным стихотворением, посвящённым Татьяне. Было ещё одно – «Письмо Татьяне Яковлевой», в котором говорилось:
«Ты одна мне / ростом вровень,
стань же рядом / с бровью брови,
дай / про этот / важный вечер
рассказать / по-человечьи».
Заканчивалось стихотворение так:
«Ты не думай, / щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда, / иди на перекрёсток
моих больших / и неуклюжих рук.
Не хочешь? / Оставайся и зимуй,
и это оскорбление / на общий счёт нанижем.
Я всё равно / тебя / когда-нибудь возьму —
одну / или вдвоём с Парижем».
Вскоре из Парижа пришло письмо – от Марины Цветаевой, которая писала:
«Дорогой Маяковский! Знаете, чем кончилось моё приветствование Вас в "Евразии"? Изъятием меня из "Последних новостей", единственной газеты, где меня печатали – да и то стихи – 10–12 лет назад».
А Элли Джонс, так и не дождавшись весточки от Маяковского, написала ему письмо, отправив его в дом, что в Лубянском проезде. Она сообщала свой новый нью-йоркский адрес, добавив при этом (словно что-то предчувствовала):
«А знаете, запишите этот адрес в записной книжке – под заглавием "В случае смерти, в числе других, прошу известить и – нас". Берегите себя».
С чего вдруг у Элли Джонс возникла такая просьба?
Бенгт Янгфельдт предположил следующее:
«Маяковский боялся, что его убьют. Двадцатые годы были эпохой беззакония и бандитизма, и в Сокольниках, и в Гендриковом переулке их неоднократно пытались ограбить, Маяковский постоянно носил собой кастет и заряженный пистолет. Своими стихами и вызывающими манерами он будил в людях сильные реакции, и однажды один сумасшедший пытался его убить».
Просьба Элли Джонс заинтриговала и Аркадия Ваксберга, который, поразмышляв, написал:
«Чем была вызвана эта просьба? Какие обстоятельства побудили мать его дочери смоделировать ситуацию, для которой, вроде бы, не было никаких оснований? Сколько-нибудь точного ответа на этот загадочный вопрос не существует. Да – тоже странное дело! – его никто до сих пор и не ставил. Лишь Валентин Скорятин, следуя версии о насильственной смерти поэта, считал, что Маяковский допускал возможность своего убийства и этим подозрением поделился с Элли. Никаких оснований для такой версии не существует – загадка, увы, так загадкой и остаётся. Но нет оснований отвергнуть и другую версию. Маяковский вполне мог поделиться с Элли своим предчувствием смерти, не обязательно вовсе насильственной, и Элли вполне могла отнестись к этому всерьёз. А ведь мысли о смерти действительно посещали поэта».
Версия, которую предложил Ваксберг, логична и жизненна. Маяковский прекрасно знал (хотя бы по рассказам того же Осипа Брика), что Лубянка безжалостна и отступников карает без всякого снисхождения.
Из Парижа был привезён ещё один подарок – для Всеволода Мейерхольда. Владимир Владимирович «изготовил» его сам, дописав в отеле «Истрия» пьесу и окончательно подкорректировав её уже в Москве. Это произведение заслуживает того, чтобы рассмотреть его поподробнее.
Но прежде чем перейти к пьесе, присмотримся повнимательнее к тем, кто окружал в тот момент поэта. Ведь Леф (как старый, так и новый) был уже распущен. Кто же остался рядом с Владимиром Владимировичем? Кому предстояло стать первыми слушателями и первыми оценщиками привезённого подарка?
Всё те же Брики. Или «кисячья-осячья семья», как называл её сам Маяковский.
Семейный треугольник
Поэт Николай Асеев считал (неоднократно говорил и писал об этом), что абсолютным авторитетом для Маяковского была Лили Брик.
Бенгт Янгфельдт тоже особо отметил, какая…
«… глубокая дружба связывала этих людей».
Рита Райт:
«Лиля Брик была для меня не "просто смертной" – она казалась человеком с другой планеты – ни на кого не похожей…
Нет в ней ни лукавства, ни притворства, всегда – сама собой, "вот такая, как на карточке в столе"…»
Зато Элли Джонс утверждала, что Маяковский называл Лили Юрьевну «злым гением» своей жизни. А Хелен-Патриция, дочь Маяковского и Элли Джонс, однажды (много-много лет спустя) и вовсе призналась, будто мать не раз ей говорила, что боится Лили Брик:
«… страх перед этой женщиной на долгие годы сохранила вся наша семья».
Художник Амшей Маркович Нюренберг оставил о Лили Юрьевне такие воспоминания:
«Это была женщина самоуверенная и эгоистичная. Маяковский, что меня удивляло, охотно ей подчинялся, особенно её воле, её вкусу и мере вещей. <…> … она делала замечания часто по существу. Я был свидетелем, когда она делала ему замечания, и он соглашался».
Павел Ильич Лавут до конца дней своих боялся хоть как-то или чем-то вызвать неудовольствие (не говоря уже о гневе) Лили Юрьевны. И при этом говорил, что у Бриков-де «длинные руки».
Впрочем, и Рита Райт испытывала к Лили Брик похожее чувство. Вспомним ещё раз, что писала она об атмосфере, царившей на даче в Пушкино, когда там находилась Лили Юрьевна:
«При ней в выходные дни… приезжали только самые близкие друзья – человек семь-восемь, редко больше. Без неё стали наезжать не только друзья, но и просто знакомые, привозившие своих знакомых».
Елена Семёнова о Лили Брик:
«Она зла и жестока, она беззастенчиво пользуется мягкостью и рыцарским отношением к ней Маяковского».
В книге Василия Васильевича Катаняна приводится и рассказ Татьяны Яковлевой о Маяковском и Лиле Брик:
«Он мне писал в письмах: “Лиличка вчера на меня накричала, сказала – слушай, если ты её так ужасно любишь, то бросай всё и поезжай, потому что мне надоело твоё нытьё” – что-то в этом духе. Он мне всё время говорил про Лилю. Между ним и мною Лиля была открытым вопросом. Он никогда ничего не скрывал от неё, хотя у них ничего общего не было в последнее время. У них всё было кончено, но он обожал её, как друга. Про меня она узнала из стихов. И он ей сказал, что хочет строить жизнь со мною. Она сказала: “Ты в первый раз меня предал”. Это была правда, он впервые её предал. Она была права, он никому не писал стихов. Я была первая, кому он, кроме неё, посвятил стихи».
Лили Брик всю свою жизнь не уставала повторять:
«Единственным советчиком Маяковского, которому он доверял больше, чем себе, был Осип Максимович Брик».
Александр Михайлов прокомментировал эти слова так:
«Утверждение Л.Ю.Брик категорично. И всё-таки, так ли это было и, если так, то хороши ли были советы Брика Маяковскому, шли ли они на пользу поэту?».
На этот прямой вопрос есть такой же прямой ответ – его дал Анатолий Луначарский, однажды сказавший:
«Когда Маяковский под зловредным влиянием своего демона Брика заявляет, что искусство кончено и идёт на производство вещей, он действительно наносит искусству предательский удар в спину».
Да, Осип Максимович Брик постоянно повторял, что лучшее из написанного Маяковским – это фраза «Нигде кроме как в Моссельпроме», рекламировавшая именно «производство вещей». Осип Брик утверждал, что поэмы Маяковского «устарели». Но удивительно, что никто не задал вопрос: а почему Брик считал именно так?
Ведь слова «искусство кончено» относились к стране Советов. А произносил их человек, исключённый из партии, изгнанный из ГПУ и ставший оппозиционером. Он вполне мог считать, что в сложившейся в стране обстановке (когда закручены чуть ли не все гайки и притом почти до предела) не имеет смысла сочинять стихи и поэмы, прославляющие большевиков-сталинистов и их режим, а надо создавать рекламу, рекламирующую «производство вещей». Вещей, которые необходимы всем и всегда, и которые нужны людям постоянно. Маяковскому бы прислушаться к этому. Но он поступал по-своему – сочинял рекламу и стихи, прославлявшие страну Советов.
А когда Леф распался, то, по словам Елизаветы Лавинской…
«… Брик продолжал пользоваться именем Маяковского, разговаривая с художниками, молодёжью, студентами, он говорил "мы лефы", за этим подразумевалось "мы с Маяковским" – кто бы пошёл за одним Бриком?»
Впрочем, при этом, по утверждению той же Лавинской, Осип Брик часто укоризненно ворчал:
«Володю не поймёшь. Перед каждым выступлением его накачиваешь, …а когда он выступает, …пошла сплошная отсебятина».
Елизавета Лавинская приводит и такие слова Лили Брик:
«Разве можно сравнивать Володю с Осей? Осин ум оценит будущее поколение. Ося, правда, ленив, он барин, но он бросает идеи, которые подбирают другие. Усидчивая кропотливая работа – не Осин стиль, ему становится скучно. По-существу, Осе нужна стенографистка, которая записывала бы все его слова».
Эти высказывания постоянно приводят в своих трудах биографы Маяковского. Выводы, впрочем, делаются разные. К примеру, Бенгт Янгфельдт сказал про поэта:
«Вопреки всему, больше всех он любил Лили, а Осип был его лучшим другом и советчиком».
У Александра Михайлова точка зрения иная:
«Брики создавали легенду вокруг Маяковского, в которой поэт выглядел послушным учеником Осипа Максимовича, а тот – духовным наставником, руководителем неотёсанного и необузданного, не знающего что с собой делать, но талантливого неуча».
Как видим, у биографов единодушия нет. Мнения современников Маяковского, его ближайших друзей просто потонули в том словесном потоке, что взметнул поэта в заоблачные выси. Любому высказыванию тех, кто знал Маяковского не понаслышке, тут же противопоставлялись другие высказывания, принадлежавшие тем, кто был знаком с поэтом ещё ближе.
В декабре 1928 года фильм «Потомок Чингисхана», автором сценария которого был Осип Брик, показали в Берлине под названием «Буря над Азией». Международная премьера прошла с необыкновенным успехом.
А в мире советской литературы и искусства (пока Владимир Маяковский находился во Франции), произошли события, весьма основательно всколыхнувшие деятелей искусств пролетарской столицы. Об этих событиях тоже следует сказать.
Снова «враги»
В 1928 году в Московском Художественном театре собирались приступить к репетициям спектакля по новой пьесе Михаила Булгакова «Бег», а Илья Сельвинский опубликовал поэму «Пушторг». Поэтому дня не проходило, чтобы в той или иной московской газете не появлялись статьи, требовавшие запретить «Бег» и разносившие в пух и прах произведение поэта-конструктивиста. Ещё бы, ведь отдельные фрагменты из поэмы Сельвинского уже повторялись всюду. Особенно те, в которых говорилось о стихотворцах страны Советов:
«Есть пииты, и есть поэты.
Пиит – сие государственный чин.
Всё, что пиитом на лире воспето,
носит черты канцелярских причин.
Поэт же идёт из гущи народа,
общество – вот его существо!
Ему не с руки театральная ода,
суровая правда – подвиг его».
И Сельвинский приводил примеры этой «суровой» поэтической правды:
«Нет, революция не с тем, кто требует
преданно славить наше отребье.
Не с теми, кто хочет поднять на щиты
социализм нищеты».
В «Пушторге» также говорилось и о том, в кого превратились некоторые советские стихотворцы:
«Ведь современный поэт, как петух,
обязан быть бодр, хлопать крылами,
всё, что парит, обзывать орлами
(конечно, двуглавыми); без потуг
прудить свою плодоносную реку,
учить соловьёв кричать кукареку,
жемчугом пренебрегать, – словом,
быть идеалом, воспетым Крыловом.
Главное – не сомневаться ни в чём!»
Журнал «На литературном посту» всё-таки «засомневался» и в двадцатом (октябрьском) номере высказался о «Пушторге» так:
«Поэму приходится расценивать, как возвеличенье интеллигента, не сумевшего примириться с современностью».
А в книге Корнелия Зелинского «Поэзия как смысл», которую 9 ноября 1928 года выпустило издательство «Федерация», говорилось:
«Конструктивизм – это математика, разлитая во все сосуды культуры».
13 ноября в Красном зале Московского обкома партии был собран литературный актив большевистской столицы. Литераторам должны были сказать, что же на самом деле «разлито» в «культурные сосуды» страны Советов. На этом мероприятии столкнулись две позиции. Одну представлял заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Платон Михайлович Керженцев, незадолго до этого переведённый с должности посла СССР в Италии в могущественный Агитпроп (на пост куратора литературы и искусства страны Советов). Другую позицию олицетворял председатель Главискусства Алексей Иванович Свидерский.
Первый громил «булгаковщину» и «сельвинщину», второй считал произведения критиковавшихся писателей талантливыми и потому имевшими право на существование.
Среди тех, кто сидел в Красном зале Московского обкома партии, был и верный сталинист Мартемьян Никитич Рютин, ещё недавно направлявший против «левых» оппозиционеров бригады молодых людей, вооружённых дубинками и свистками. Теперь он работал заместителем редактора газеты «Красная звезда» и учился новым способам борьбы с теми, кто был не согласен с точкой зрения ЦК. Но это «точку зрения» надо было уловить и чётко для себя сформулировать. Поэтому Мартемьян Рютин внимательно слушал выступления обоих видных большевиков, размышляя, кого из них поддержать.
15 ноября газета «Рабочая Москва» опубликовала текст речи Платона Керженцева, произнесённой на том совещании. В ней, в частности, говорилось:
«Сельвинский в "Пушторге" пытается сеять рознь между компартией и интеллигенцией».
17 ноября «Вечерняя Москва» напечатала другое высказывание замзава ОАП ЦК ВКП(б) о поэме «Пушторг»:
«Что представляет собой эта вещь как не явную попытку организовать контрнаступление против наших позиций, наших отношений с интеллигенцией».
Даже донбасская газета «Кочегарка» в статье «О правой опасности в искусстве» высказывалась без всякого сомнения:
«В литературе стараются протащить враждебные нам идеи, иногда замазывая это формой. Так известный поэт Сельвинский напечатал в журнале “Красная новь” новую большую поэму “Пушторг”. Эта поэма несомненно идеологически враждебное нам произведение».
А «Комсомольская правда» как бы подводила черту:
«"Пушторг" Сельвинского представляет собой контрнаступление против нашей идеологии».
Позицию Свидерского, защищавшего поэта-конструктивиста и его поэму, участники партийного совещания (в том числе и Мартемьян Рютин) решительно осудили. Многие советские стихотворцы почувствовали свою беззащитность перед критикой. Даже вроде бы далёкий от литературных дел глава киргизского совнаркома Юсуп Абдрахманов записал в дневнике:
«1.11.1928.
Нынешним вождям партии не хватает не только ленинского ума, гениальной прозорливости, но и ленинской политической честности даже в борьбе с идейными врагами. Этот недостаток вождей не маловажный источник внутрипартийных неладов».
Мы уже говорили о том, что в октябре 1920 года Юсуп Абдрахманов, являясь делегатом III съезда ВЛКСМ, был избран в состав президиума, где беседовал с Лениным. Видимо, это давало ему основания говорить о «политической честности» вождя большевиков «в борьбе с идейными врагами». Но в конце 1928 года обстановка в стране была такая, что забеспокоился даже Маяковский. На это обратил внимание сотрудник «Комсомольской правды» Михаил Розенфельд, описывая встречу с поэтом в декабре 1928-го:
«Он должен был выступать у нас на конференции. Шли прения. А я как раз вернулся из типографии: там, рядом с нами (в доме на Тверской, 48), печатался какой-то журнал. Я проходил мимо и увидел в заголовке "Зорич" и потом "Маяковский", больше ничего не видел».
О том, что это был за журнал, давно уже установлено – «Красная новь». В нём печаталась статья журналиста Василия Тимофеевича Зуева, писавшего под псевдонимом А.Зорич. Заметка называлась «Об одном инциденте». В ней брался под защиту Давид Тальников, подвергший незадолго до этого резкой критике творчество Маяковского (в той же «Красной нови»).
Михаил Розенфельд:
«Я приехал на конференцию и в кулисах стоял рядом с Маяковским и слушал выступления. И вот я говорю:
– Владимир Владимирович, я сейчас видел в типографии статью о вас.
– Чья статья?
– Зорича.
– Что он пишет?
– Я не читал, не знаю.
Я ушёл. Через некоторое время возвращаюсь. Владимир Владимирович говорит:
– А всё-таки заметили хоть пару слов? Ну, что он пишет?
– Нет, ничего не заметил.
– Ну как же!
Он страшно был заинтересован:
– Странно!
И потом ещё раз подошёл и говорит:
– Всё-таки не может быть! Представьте себе: лежат гранки, вы проходите мимо. Я бы что-нибудь заметил. Там же не просто моя фамилия, а что-то ещё должно быть.
Я ещё раз сказал, что абсолютно ничего не видел. И он несколько раз на протяжении вечера подходил и спрашивал об этом и очень нервничал. Меня это поразило».
Нервничал Маяковский не зря – ведь вслед за Тальниковым Зорич обвинил поэта в том, что его стихи «социально бессодержательны», а в очерках об Америке явно прослеживается «идеологическое мещанство». Иными словами, «Красная новь» вновь довольно сильно ударяла по Маяковскому.
Ответ на подобную критику у Владимира Владимировича был уже готов.
Часть третья Прозаический бунт
Глава первая Пьеса про клопа
Финиш 1928-го
Пожалуй, пришла пора ещё раз вспомнить о двойственности натуры Маяковского, которую вновь очень ярко продемонстрировало его возвращение из-за границы в декабре 1928 года. В Париже он был одним человеком, а в Москве – совсем другим!
Во французской столице Владимир Владимирович был поэтом, влюблённым в очаровательную русскую эмигрантку. Он читал ей стихи, говорил с ней только о любви и вёл себя так, словно ничего, кроме амурных дел, в этой жизни его не интересует.
А в столице страны Советов Маяковский мгновенно перевоплотился в пламенного оратора, со всех трибун говорившего о коммунистической идеологии, которая должна-де пронизывать любое литературное произведение. К встретившей его дома «семье» Владимиру Владимировичу тоже необходимо было подстроиться.
Валентин Скорятин:
«Можно представить, в какую напряжённую обстановку попал поэт по возвращении из Парижа. Зная к тому же капризный характер Лили Брик, нельзя исключить обструкцию и даже истерику».
Аркадий Ваксберг, считавший, что это Лили Юрьевна предложила Эльзе Триоле познакомить Маяковского с какой-нибудь симпатичной барышней, написал:
«Лиля своими же руками, сама того не желая, толкнула его в объятия реальной, а не воображаемой соперницы, – в объятия, которые оказались куда более крепкими, чем она могла предполагать».
10 декабря (через два дня после приезда) Маяковский отправил Татьяне Яковлевой один из томов собрания его сочинений, сопроводив книгу надписью:
«Дарю / моей / мои тома я.
Им заменить / меня / до мая.
А почему бы не до марта?
Мешают календарь и карта?»
Как видим, только что вернувшийся из Парижа поэт уже точно знал, когда он снова поедет во Францию.
Вскоре к Татьяне отправился следующий том, на котором было написано:
«Второй. Надеюсь, третий том
снесём / собственноручно в дом».
Но так шутливо и даже ласково Маяковский вёл себя только со своей парижской возлюбленной. Своим же соотечественникам он неустанно повторял, что его любимое занятие – это «сто раз переделывать, переучивать стомиллионную массу», которая ещё «недостаточно культурна». Здесь он был предельно беспощаден. Практически каждый, кто критиковал поэта, знал, что его ответ (причём невероятно колючий) последует незамедлительно.
А тут (13 декабря) газета «Вечерняя Москва» поместила интервью, которое дал ей вернувшийся на родину Мейерхольд:
«Сельвинский прислал мне в Париж написанную для нас пьесу. Некоторые места в этой пьесе меня потрясли – настолько они сильны. В пьесе есть ряд недостатков, которые вполне исправимы».
Ревнивого Маяковского эта заметка, конечно же, взволновала. Ещё бы, ведь у Мейерхольда появилась не просто пьеса, а пьеса в стихах.
20 декабря Маяковский выступил в Доме печати с докладом «Газета и поэт». И заявил:
«Я считаю себя пролетарским поэтом, а пролетарских поэтов ВАППа – себе попутчиками».
Полной стенограммы этого выступления не сохранилась. Но есть записи других речей, с которыми Маяковский выступил 22 декабря 1928 года в Доме Герцена на собрании Федерации объединённых советских писателей. Там с докладом «О политике партии в области художественной литературы», наносившим удар по правому уклону в литературе, выступил заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Платон Михайлович Керженцев. Корнелий Зелинский написал потом в статье «Чего хотят писатели»:
«Доклад П.Керженцева о правой опасности на фронте искусств был похож на крымское землетрясение. Писатели повыбежали из своих домов. Заговорили».
В прениях по докладу Маяковский выступал дважды. Обе его речи были как всегда эмоциональны (местами – даже задиристы) и как всегда довольно сумбурны. Отдельные тезисы высказанного им были просто логически не выстроены.
Как бы в знак благодарности за защиту Лефа от нападок критиков поэт поддержал Керженцева, с пафосом произнося:
«С докладом я лично согласен…
Я очень рад, например, что Платон Михайлович…
Мы очень рады, что товарищ Керженцев…
Я всяческим образом приветствую призыв товарища Керженцева…»
Позицию Маяковского понять можно. Во-первых, как мы помним, Керженцев был его шефом в РОСТА, а во-вторых, поэт собирался ознакомить общественность со своей новой пьесой, поэтому дружбу с органом, влиявшим на общественное мнение (и определявшим его!), следовало укреплять всячески. И он обрушился на тех, кто был негативно упомянут в докладе Керженцева. Поэт, в частности, сказал:
«… у нас существуют десятки группировок, которые замазывают, на мой взгляд фальсифицируют и фальшиво покрывают… проходящие классовые различия».
Первому, кому Владимир Владимирович нанёс удар, назвав «ударяемого» по фамилии, был Иуда Соломонович Гроссман-Рощин, который, как мы помним, был давним знакомцем поэта-футуриста ещё по «Кафе поэтов», а затем входил в узкий круг его ближайших сподвижников. Почему они разошлись, из-за чего рассорились, неизвестно. Последний удар по Маяковскому Гроссман-Рощин нанёс своей статьёй в двадцать втором номере журнала «На литературном посту». В статье говорилось:
«… вещи лефовские – это фальшивая приходно-расходная книга… "Леф" нельзя реформировать – его нужно уничтожить».
Керженцев в своём докладе об этом сказал:
«Не касаясь общей характеристики Лефа, я должен сказать, что такие заявления… считаю неправильными».
Маяковский немного усилил слова докладчика, напомнив присутствовавшим о том, в какое время все они живут:
«… мы воюем. Если мы не здесь воюем, мы воюем против всего буржуазного света, и в эту эпоху мы должны самым чётким образом определить свою литературную линию, как линию публициста в первую очередь».
Эту «линию публициста» Маяковский видел не в углублённом изучении того вопроса, вокруг которого затевался спор и велись дискуссии, а в выявлении черт, компрометирующих оппонента. Так, поэт не стал приводить никаких доказательств ошибочности или несостоятельности позиции Гроссмана-Рощина в отношении Лефа, а поступил так, как поступали тогдашние партийные лидеры. Вожди большевиков считали, что вместо того, чтобы тратить время и силы на дискуссии, исход которых непредсказуем, надо просто уничтожить, ликвидировать оппонента (нет человека – нет проблемы). И Маяковский заявил, что…
«… не безработные анархисты из "На посту", перебегающие из одной литературной передней в другую, должны исправлять коммунистическую идеологию Лефа. Этого я понять не могу».
Иными словами, поэт напомнил присутствовавшим, что Гроссман-Рощин в недавнем прошлом был идеологом анархистов. Пройдёт всего несколько лет, и подобного «напоминания» будет вполне достаточно, чтобы отдать человека в руки энкаведешников – с тем, чтобы он оказался в камере Лубянки.
Маяковский ударил и по своему потенциальному сопернику-конкуренту, написавшему стихотворную пьесу (пока не называя его по фамилии):
«…я знаю, что на последнем съезде ВАППа… приблизительно 52 процента было поэтов. Где эти поэты?.. Где, в какой газете, в каком журнале, в каком общественном предприятии, кроме потрясающих сводов издательства на Солянке, где, по замечательному роману “Двенадцать стульев”, устроился классический Гаврила, который то порубал бамбуки, то испекал булки. Вот только там они гнездятся. А там, где сталкиваются действительные литературные интересы, где поэт должен быть оружием классовой борьбы, притом правильным оружием, мы их не видим».
Свою «линию публициста» Маяковский продолжал видеть в необходимости «постоянно выправлять идеологию» тем поэтам, которые пишут то…
«… что для пролетарского поэта негоже писать».
К этому он ещё добавил:
«… я также утверждаю, что одряхлевшие лохмотья Лефа надо заменять, потому что у нас наблюдается лирическая контрреволюционная белиберда».
Сказано образно, броско. Но что эти громкие фразы означают, что за ними стоит, попробуй, разберись.
На кого в тот момент ориентировался Маяковский?
Известно, что тогда громче и уверенней всех звучали голоса рапповцев, членов РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей). Что придавало им силу и напористость?
Один из членов тогдашнего рапповского руководства, литературный критик Владимир Андреевич Сутырин, в опубликованных в 1966 году воспоминаниях писал, что в конце 20-х рапповцы довольно часто общались со Сталиным:
«Мы с ним могли встречаться очень часто.
Он учил нас политической борьбе. РАПП получил административное могущество. Нам ЦК дал особняк, автомобили, деньги».
Во время одной из встреч с вождём юные рапповцы услышали от него:
«– Вы – ячейка ЦК в литературе».
У лидера РАППа, Леопольда Авербаха (кстати, родственника Генриха Ягоды), была даже возможность по любому поводу звонить Сталину по телефону.
Этим молодым партийцам, объявившим себя истинно пролетарскими писателями, в ту пору дозволялось если не всё, то очень и очень многое. Не удивительно, что к ним с интересом (а то и с нескрываемой завистью) присматривались другие литераторы. В их числе вполне мог быть и Владимир Маяковский.
Пётр Незнамов свидетельствует о Маяковском той поры:
«В эти годы он исключительно много работал и исключительно чётко работал, обслуживая как поэт не только "Комсомольскую правду", но и "Крокодил", и "Рабочую Москву", и "Ленинградскую правду" и ряд других изданий. Около ста двадцати стихотворений за один 1928 год, например, – это была огромная работища! Это по стихотворению каждые три дня!»
Но мы совсем потеряли Наташу Брюханенко!
Где она?
Как проходила её жизнь после нашей последней встречи с ней весной 1928 года?
Об этом она написала так:
«Этой весной лирические взаимоотношения мои с Маяковским были окончены. Я уехала в Среднюю Азию, Маяковский – за границу, мы не виделись с ним несколько месяцев, а после я стала видеть его гораздо реже, и всё было совсем по-другому.
Я уже подружилась с Лилей и с Осей. Вернувшись из Ташкента в конце декабря, я позвонила, и в тот же вечер была приглашена слушать чтение новой пьесы "Клоп" у них дома».
Первые «читки»
В декабре 1928 года Мейерхольд из Франции тоже вернулся. И к нему сразу же пришёл Илья Сельвинский. Пришёл, чтобы узнать, будет ли ГосТИМ ставить написанную им стихотворную пьесу (она получила название «Командарм 2»). Всеволод Эмильевич встретил поэта-конструктивиста с распростёртыми объятиями, восклицая (по словам самого Сельвинского):
«– Небывалая пьеса! Беспримерный стих! Настоящая революционность!.. Ну, дайте я вас поцелую!.. Эпоха! Рубеж! А какой язык! Ну, дайте я ещё раз вас поцелую!»
Вскоре свою новую пьесу представил и Владимир Маяковский. Пока только узкому кругу лиц.
Аркадий Ваксберг:
«26 декабря 1928 года Маяковский впервые читал в Гендриковом своим друзьям только что завершённую пьесу "Клоп". Пришли Мейерхольд и его жена, прима театра Зинаида Райх, пришёл влюблённый в поэта его последователь, молодой поэт Семён Кирсанов, тоже с женой, пришли Жемчужные и Катаняны – все ближайшие к Маяковскому люди. Но главное – были Лили и Осип».
Прежде чем приступить к чтению, Маяковский объявил, что весь вошедший в его комедию материал – это факты, прошедшие через его руки, руки газетчика и публициста, сотрудничающего с газетой «Комсомольская правда». Через месяц в журнале «Рабис» он напишет:
«"Клоп" – это театральная вариация основной темы, на которую я писал стихи и поэмы, рисовал плакаты и агитки. Это тема борьбы с мещанством».
Возникает вопрос, зачем надо было об этом заранее предупреждать собравшихся?
Неужели они сами не поняли бы, о чём говорится в пьесе?
Сам Маяковский никаких объяснений этому не дал. Он просто начал читать.
Галина Катанян:
«Маяковский сидит за обеденным столом, спиной к буфетику, разложив перед собой рукопись. Мейерхольд – рядом с дверью в Володину комнату, на банкеточке. Народу немного – Зинаида Райх, Сёма с Клавой, Женя, Жемчужный, мы с Катаняном, Лиля и Ося.
Маяковский кончает читать. Он не успевает закрыть рукопись, как Мейерхольд срывается с банкетки и бросается на колени перед Маяковским:
– Гений! Мольер! Мольер! Какая драматургия!
И гладит плечи и руки наклонившемуся к нему Маяковского, целует его.
Театр Мейерхольда находился под угрозой закрытия из-за отсутствия в его репертуаре современных пьес. В одном из юмористических журналов вскоре – я помню – появилась карикатура: громадный клоп открывает ключом замок на двери Театра Мейерхольда».
Сам Всеволод Мейерхольд впоследствии сказал:
«Маяковский строил свои пьесы так, как до него никогда никто не строил».
Ознакомившись с воспоминаниями современников Маяковского, Аркадий Ваксберг (уже по-своему) пересказал то, что происходило при чтении «Клопа»:
«Лиля слушала чтение, не сводя с Маяковского восхищённых глаз. Кто другой мог так отнестись к его творчеству, вне которого не существовало и его самого?
Как только Маяковский кончил чтение, Мейерхольд рухнул на колени с возгласом: "Гений!". Он гладил его плечи и руки, крича: "Мольер! Какая драматургия!" В глазах Лили стояли слёзы. За них Маяковский отдал бы все свои увлечения, все порывы и страсти».
Пересказ образный и весьма эмоциональный. Но вряд ли слёзы в глазах Лили Брик (если они вообще были) говорили о её восхищении пьесой. Почему? Об этом речь впереди.
Александр Михайлов:
«В тот же день В.Э.Мейерхольд дал интервью газете "Вечерняя Москва", в котором с необычайной похвалой отозвался о пьесе "Клоп". Сообщалось, что 28 декабря Маяковский прочтёт пьесу труппе театра».
В.Маяковский, Д.Шостакович, В. Мейерхольд и А. Родченко на репетиции "Клопа", 1929 г.
Мейерхольд особо подчеркнул, что пьеса идеологически прочна, что она является подлинно советской, а её содержание – истинно «пролетарским».
И, видимо, не случайно 28 декабря 1928 года газета «Правда» напечатала стихотворение Маяковского под названием «Мразь»:
«Подступает / голод к гландам…
Только, / будто бы на пире,
ходит / взяточников банда,
кошелёчки растопыря…
Чтобы выбиться нам / сквозь продажную смрадь
из грязного быта / и вшивого —
давайте / не взятки брать,
а взяточников / брать за шиворот!»
Как видим, слова «быт», «грязь», «мразь» и «смрадь» прочно занимали место в творчестве поэта. Теперь к ним добавилось ещё одно слово – «клоп».
В тот же день (28 декабря) Маяковский читал свою пьесу коллективу ГосТИМа.
Аркадий Ваксберг:
«В театре уже были расписаны роли и назначены репетиции. На чтение пришёл совсем ещё юный двадцатитрёхлетний Дмитрий Шостакович, которому была заказана музыка. Пришли художники и артисты из того же круга.
Восторгу слушателей не было предела, и опять Лиля разделила с Маяковским его истинный триумф».
Восторг Лили Брик и на этот раз явно происходил из воображения Ваксберга.
А восхищение актрисы ГосТИМа Марии Сухановой в самом деле имел место (пьеса начиналась с выкриков торговцев, которые, расхаживая по сцене, рекламировали свои товары):
«Как будто вновь слышу всех этих зазывал: продавец селёдок кричал нараспев на весь район, продавец открыток с анекдотами был сиплый с пропитым голосом и бубнил тихонько, показывая запрещённый товар из-под полы, продавщица бюстгальтеров взвизгивала, продавец абажуров распевал, продавец пуговиц рубил текст стаккато, продавщица духов жеманно сюсюкала. Если бы так сыграли актёры, ухватив особенность характера каждого продавца, как это было передано Маяковским!»
Первые замечания
Следующая читка проходила 30 декабря 1928 года – на этот раз уже на заседании Художественно-политического совета ГосТИМа. Была принята резолюция:
«Художественно-политический совет, заслушав на своём расширенном заседании пьесу Владимира Маяковского "Клоп", признаёт её значительнейшим явлением советской драматургии с точки зрения как идеологической, так и художественной и приветствует включение её в репертуар».
Один из членов совета внёс предложение: поприветствовать автора.
Затем началось обсуждение.
Маяковский выступал дважды. В первый раз он сказал:
«Я меньше всего надеялся: напишу пьесу, и потом отпадёт нужда в драматической литературе. Пьесу надо брать в "сравнительной зверологии" наших театров. Главный плюс ее: это пьеса обкладывающая, но оптимистическая советская пьеса. Что касается частностей, то я боялся, что всем пьеса понравится и придётся решить, что написал гадость. Но вот Гроссман-Рощин сказал, что пьеса – гадость, тупая, глупая. Я против эстетизирующего начала, против замены борьбы сюсюкающим литературным разговором».
Это выступление типично для Маяковского – много звучных (чаще всего – наукообразных) выражений («сравнительная зверология», «эстетизирующее начало», «сюсюкающий разговор»), но сходу не разберёшь, что же, собственно, хотел сказать выступавший. А он продолжал:
«После моей работы в "Комсомольской правде" я должен сказать: несмотря на то, что это беспокойно, я не привык к беспартийному разговору».
Вновь не очень понятно, что имел в виду Маяковский.
А он уже обрушивался на главных героев своей пьесы:
«Пока сволочь есть в жизни, я её в художественном произведении не амнистирую. В пьесе – факты об обывательской морали и века, и сегодняшнего дня. Если будет пятьдесят таких пьес, надо отдать пятьдесят театров под такие пьесы. Против строящих обклада нет, но если обижаются, значит, в них попадает. "Клоп" в известной степени – антиводочная агитка…
Мой упор – на комсомольскую массу. Нельзя рассчитывать на всё человечество: половина сволочей и половина симпатичных».
Резко, эмоционально и как всегда сумбурно! Но это – стиль Маяковского.
Впрочем, на этот раз он произнёс объясняющее слово – «обклад» и пьесу свою назвал «обкладывающей». «Обклад» – это охотничий термин, означающий место, куда загоняют зверя, на которого охотятся. Если к этому добавить, что своего «Клопа» Владимир Владимирович назвал «антиводочной агиткой», то, стало быть, он направлен против пьяниц, которых необходимо «обложить» (и их «обкладывают») чересчур резкими и даже грубыми словами.
Выступая во второй раз, Маяковский сказал:
«Пьесу вместе со мной делали комсомол и "Комсомольская правда". Хотя она подписана моей фамилией, делали мы её вместе…
Теперь я вообще перейду на пьесы, так как делать стихи стало слишком легко».
Но когда на одном из других обсуждений его спросили, почему «Клоп» написан прозой, а не стихами, Маяковский ответил:
«Лучше, чем Грибоедов, я не напишу, а писать хуже не хочу».
Одно высказывание исключает другое! Ведь если писать стихи «стало слишком легко», почему бы не попробовать посостязаться с Грибоедовым?
И всё-таки признание Маяковского о том, что он «перейдёт на пьесы», заставляет задуматься. Либо знаменитейший поэт наконец-то прислушался к многократным советам Осипа Брика (не тратить времени на создание стихотворений и поэм, а сочинять рекламу), либо – в пику тому же Осипу Максимовичу – Владимир Владимирович решил сам отказаться от поэзии. Как бы там ни было, но это было первым публичным заявлением известнейшего стихотворца о том, что он покидает поэтическую вершину – ту самую, на которую ему несколько лет назад удалось торжественно взойти.
2 февраля, выступая на обсуждении «Клопа» в клубе рабкоров «Правды», Маяковский заявил:
«У меня в пьесе человек, с треском отрывающийся от класса во имя личного блага. Это образец политического замирения. Я не хочу ставить проблему без расчёта уничтожить её корни. Дело не в вещах, а в отрыве от класса. Из бытового мещанства вытекает политическое мещанство…
Если вы говорите, что рабкоры пишут о том же мещанстве, – это похвала мне: значит, вместе бьём и добьём».
Обратим внимание, как решительно поэт выступал против «бытового мещанства», считая, что оно неизменно приводит к мещанству политическому.
Впрочем, присмотримся повнимательнее к новой пьесе, про которую Луначарский сказал: «Меткая и злая сатира!», а Юрий Анненков добавил: «"Клоп" …является уже прямой сатирой на советский режим».
Феерическая комедия
Место действия первых четырёх картин пьесы «Клоп» – город Тамбов. Всё начинается с того, что некий Присыпкин («бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених»), сменивший свою «неблагозвучную» фамилию на «французский» псевдоним Пьер Скрипкин, готовится к свадьбе и покупает продукты для неё. Его сопровождает будущая тёща Розалия Павловна и некий «самородок из домовладельцев» по фамилии Бочкин, тоже сменивший свою не слишком элегантную фамилию и ставший Олегом Баяном.
Во второй картине жених Пьер Скрипкин покидает своё «молодняцкое общежитие», так как строить социализм не желает, а мечтает уже сейчас пожить «изящной» жизнью. Поэтому он и женится на парикмахерше Эльзевире.
В третьей картине справляют свадьбу.
В четвёртой – вспыхивает пожар, и все участники свадьбы погибают.
Действия остальных пяти картин происходят 50 лет спустя – в 1979 году, в стране, где уже построено социалистическое общество. На территории «бывшего Тамбова» на семиметровой глубине обнаруживают «обледеневший погреб», в котором находится «замороженная человеческая фигура». Её размораживают и воскрешают.
Размороженный оказывается Присыпкиным. Но он не один. Вместе с ним размораживают и клопа! Гражданам, проживающим при социализме, объявляют, что оба оживлённых существа «водятся в затхлых матрацах времени», и Присыпкина вместе с клопом водворяют в клетку зоопарка. Для всеобщего обозрения.
Таково содержание пьесы, название которой несколько неожиданное – «Клоп».
Кого же в этом произведении драматург «обкладывал»?
В нём наносился ощутимо болезненный укол другому советскому драматургу, находившемуся тогда в пике театральной славы, но чьи пьесы дружный хор критиков-ортодоксов требовал запретить. По ходу действия «Клопа» один из его персонажей, живущий в грядущем 1979 году, называл фамилию этого драматурга, оглашая перечень совершенно забытых, «умерших» слов:
«Буза, бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков…»
Впрочем, этот драматургический выпад не мешал Маяковскому с самим Булгаковым встречаться и даже играть с ним на бильярде. Об этом оставила воспоминания жена драматурга Елена Сергеевна, описав Михаила Афанасьевича и …
«… актёрский клуб, где он играл с Маяковским на биллиарде, и я ненавидела Маяковского и настолько явно хотела, чтобы он проиграл Мише, что Маяковский уверял, что у него кий в руках не держится…»
Павел Лавут:
«Маяковский был искусным игроком и обладал тем преимуществом, что обеими руками (он был левшой) с одинаковой силой и ловкостью владел кием. Помогал ему и рост: он доставал любой шар на самом большом столе. Но, пожалуй, основные его качества как игрока – настойчивость и выносливость».
Лев Никулин:
«Владимир Владимирович играл, надо сказать, артистически, он был весь стремительность, вся энергия в игре, движения его были на редкость пластичными и сильными, глаза горели; порывистым движением он вгонял шар за шаром в лузу, шутил, смеялся, при удаче что-то напевал и мрачнел при каждом промахе, которых, кстати, почти не было.
Он любил втягивать в игру всех окружающих, чтобы те стояли за него или против него – всё равно, интерес был в чисто спортивном азарте, потому что он играл и "на позор", на пролаз под бильярдом, или на то, чтобы проигравший с чувством, обязательно с чувством, наизусть читал "Птичку божию". Он всё время был неутомим и свеж, хотя был уже поздний час, у его противника двоились в глазах шары на зелёном поле, а он сохранял энергию и готовность продолжать турнир».
Но в пьесе Маяковского никакого бильярда не было. Кого же тогда она «загоняла» на сцену для всеобщего обозрения и осмеяния?
«Обкладывающая» пьеса
С точки зрения самых обычных законов сцены, «драматургия» – та самая, которой так восторгался Художественно-политический совет ГосТИМа – в «Клопе» практически отсутствует.
Ведь пьесы, как известно, создаются для того, чтобы их разыгрывали актёры. Актёрам же необходимо, чтобы образы развивались, то есть в пьесе была та самая «драматургия», когда и роль играть интересно, и само воплощение этой роли увлекает зрителей.
А у образов героев «Клопа» никакого развития нет – вся пьеса представляет собою набор живых картинок. По сути дела, пьеса написана как сценарий игрового пропагандистского фильма, одного из тех, что не сходили с тогдашних киноэкранов страны Советов. Таких сценариев Маяковский успел создать к тому времени более десяти, некоторые были экранизированы. Так что поэт имел неплохой «киносценарный» опыт.
Пьесы же Маяковского всегда отличались публицистичностью, декларативностью и почти полным отсутствием той самой драматургичности, которая так необходима сцене.
С характерами героев «Клопа» ничего не происходит. Отец невесты Присыпкина, Давид Осипович Ренессанс, хоть и указан в перечне действующих лиц, по ходу пьесы ни одной реплики вообще не произносит.
Впрочем, Маяковский и не стремился к тому, чтобы его «Клоп» отвечал канонам классической (традиционной) пьесы. В статье, опубликованной в журнале «Рабис», он написал:
«… моя комедия – публицистическая, проблемная, тенденциозная».
Так ли это?
Заглянем в Словарь иностранных слов советской поры.
«ПУБЛИЦИСТИКА [< лат. publicus общественный] – отрасль литературы, освещающая вопросы политики и общественной жизни в периодической печати и в отдельных изданиях.
ПРОБЛЕМА [< гр. problema задача, задание] – теоретический или практический вопрос, требующий разрешения.
ТЕНДЕНЦИЯ [< лат. tendere направлять, стремиться] – стремление, склонность к чему-либо, сознательное намерение, заранее предусмотренный выбор».
Освещает ли «Клоп» вопросы политики? Нет. А вопросы общественной жизни? Пожалуй, тоже нет – ведь во все времена и во всех странах были и есть люди, не желающие жить так, как живут остальные, и не желающие шагать туда, куда шагает всё общество. Каким был Присыпкин в первом действии (любителем выпить, побренчать на гитаре и мечтающим пожить «изящной» жизнью), таким и остался в финале пьесы. Да его никто и не стремился как-то перевоспитать, переделать на иной лад. Комсомольцы его высмеивали, а обитатели светлого социалистического будущего старались пристыдить с укоризною.
Выходит, что ничего публицистичного в комедии Маяковского нет.
Ставится ли в «Клопе» какой-нибудь «теоретический или практический вопрос, требующий разрешения»? Тоже нет. То, что Присыпкин «обывателиус нормалис», ясно с самого начала, так что размораживать его, чтобы убедиться в этом, совсем не обязательно.
Стало быть, и ничего проблемного в этой «феерической комедии» тоже нет.
Заметно ли в «Клопе» какое-то стремление автора к чему-нибудь, чувствуется ли его склонность к чему-либо? Да, заметно. Да, чувствуется.
Стало быть, комедия Маяковского тенденциозна.
Но в чём эта тенденциозность?
Что увидели в «Клопе» биографы поэта?
Аркадий Ваксберг усмотрел в этой пьесе Маяковского…
«… его беспощадную сатиру на партмещанство, его, щедринской силы, язвительный смех над тупостью, глупостью, пошлостью тех, кто был у руля, его презрение к властвующим ничтожествам, его глубокое разочарование в былых идеалах».
И ещё Ваксберг обнаружил в «Клопе» намёки…
«… которыми были насыщены реплики персонажей, и узнаваемость которых приводила в восторг собравшихся на читку единомышленников автора».
Интересно, где Ваксберг всё это нашёл?
Ведь в «Клопе» никакой сатиры на партмещанство нет. И смеха автора над «тупостью, глупостью, пошлостью» тех, кто стоял тогда у руля, в «Клопе» тоже не слышно. Нет в пьесе и «презрения к властвующим ничтожествам». И «разочарования в былых идеалах» в ней тоже нет.
А последняя из приведённых нами фраз Ваксберга и вовсе весьма загадочна, так как не ясно, что именно (по мнению биографа) «приводило в восторг» слушавших читку пьесы «единомышленников автора» – сами реплики героев или угадывание того, кто является прототипом того или иного героя.
В адрес пьесы Маяковского было много упрёков. Газета «Известия», относившаяся к поэту, как мы помним, довольно недоброжелательно, писала, что в «Клопе»…
«… социализм выходит тощий, слабый, лефовски-интеллигентский».
Александр Михайлов к этому добавил:
«"Клоп" был назван "фарсовым фельетоном без особых литературных и идеологических заданий", "«случайно» попавшим на сцену". Писалось также о том, что Маяковский не отразил в пьесе накала классовой борьбы, индустриализации и т. д., не показал широко жизнь рабочего класса, не показал главного персонажа "на работе, в коллективе, в общественной деятельности"».
А кого же увидели зрители в персонажах «Клопа»?
Бенгт Янгфельдт о главном герое пьесы сказал, что он…
«…любитель выпить и побренчать на гитаре, слезливый обладатель партбилета…»
Но именно в этом Присыпкине Янгфельдт увидел черты самого автора пьесы:
«Если клоп – метафора Присыпкина, то Присыпкин – карикатура на Маяковского, поэта, который из-за своих мечтаний о "немыслимой любви" страдает за всё человечество».
Называя клопа метафорой Присыпкина, Янгфельдт как бы относит это насекомое к иносказательным образам феерической комедии. Допустим.
Но что касается утверждения, что Присыпкин – карикатура на Маяковского, который «страдает за всё человечество», то с этой точкой зрения вряд ли можно согласиться. Почему? В этом мы и попробуем разобраться.
Поиски подтекста
Разных намёков и всевозможных «приколов» в «Клопе» можно найти немало. Так, например, вторая картина заканчивается тем, что рабочие вышвыривают Присыпкина из общежития, выбрасывая следом за ним и его вещи.
«УБОРЩИК
(приподнимает Присыпкина, подавая ему вылетевшую шляпу)
И с треском же ты, парень, от класса отрываешься!
ПРИСЫПКИН
(отворачиваясь, орёт)
Извозчик, улица Луначарского, 17! С вещами!»
Зачем Маяковский упомянул фамилию одного из вождей Октябрьской революции, состоявшейся, как известно, в 17 году? Что это – просто шутка? Или намёк на какое-то высказывание наркома?
К сожалению, этот «пассаж» до сих никем пор не расшифрован.
Ещё одна «политическая» фамилия возникает в начале третьей картины:
«ЭЛЬЗЕВИРА
Начнём, Скрипочка?
СКРИПКИН
Обождать. Я желаю жениться в организованном порядке и в присутствии почётных гостей и особенно в присутствии особы секретаря завкома, уважаемого товарища Лассальченко… Во!»
Фамилия секретаря завкома произведена Маяковским из фамилии известного немецкого социалиста и философа Фердинанда Лассаля. Это уже явный намёк на весьма распространившийся в ту пору обычай давать детям имена в честь революционных деятелей. Именно тогда стали появляться имена типа Марлен (МАРкс + ЛЕНин), Вилен (В.И.ЛЕНин) и тому подобное.
А что, если Маяковский, привыкший обо всём и обо всех говорить открыто, ничего зашифровывать и не пытался? И все его «приколы» – всего лишь шутки привыкшего к острому словцу поэта?
Вспомним ещё раз, что писали по этому поводу его современники.
Лили Брик:
«Маяковский любил играть и жонглировать словами, он подбрасывал их, и буквы и слоги возвращались к нему в самых разнообразных сочетаниях:
Зигзаги – загзиги, кипарисы – рикаписы – сикарипы – писарыки, лозунги – лозгуни – без конца.
Родительный и винительный падежи он, когда бывал в хорошем настроении, часто образовывал так: кошков, собаков, деньгов, глупостев…
Горький вспоминал, что, когда они познакомились, Маяковский без конца повторял:
Попу попала пуля в пузо».
Поэт Пётр Незнамов:
«Его слово было его дело…
Когда он слышал слово "боржом", он начинал его спрягать:
– Мы боржём, вы боржёте, они оборжут.
Или вдруг начинал "стукать лбами" стоящие на своей звуковой основе рядом прилагательные:
– Восточный – водосточный – водочный.
Он брал слово в раскалённом докрасна состоянии и, не дав ему застыть, тут же делал из него поэтическую заготовку».
Александр Михайлов тоже обратил внимание на то, что Маяковский…
«… ради красного словца мог созорничать. <…> Любил поиграть словом. Переделывал пословицы, сочинял новые слова, комбинации из слов: кипарисы, ри-па-ки-сы, си-па-ки-ры, ри-сы-па-ки и т. д. То же проделывал со словами папиросы, мемуары. Из двух пословиц делал одну: "Не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь". Фамилию критика Роскина, работавшего в Наркомпросе, при знакомстве тут же переделал в Наркомпроскина. А Жарова с Уткиным объединил в Жуткина. В сатирическом стихотворении "Сердечная просьба" показал тип любителя делать доклады под фамилией Лукомашко, и в нём были немедленно узнаваемы Луначарский, Коган и Семашко».
Вспомним ещё, как, пересекая Атлантический океан, «игравший словами» Маяковский превратил «капитанский мостик» в «монский капитастик».
Вооружившись этими «пристрастиями» и «причудами» поэта в его работе над словом, рассмотрим персонажей его феерической комедии.
Вряд ли просто ради красного словца автор «Клопа» назвал главного персонажа пьесы так оскорбительно (рабочие называют Присыпкина «мразью» и «сволочью»). Против кого же направлены эти, прямо скажем, весьма оскорбительные слова? Кто подразумевался под образом Присыпкина и ему подобных?
Этот «бывший рабочий, бывший партиец» своим существованием никого, в сущности, не затрагивал. Да, он необразован, невоспитан. Но в этом не вина его, а беда! Да, он рвётся к «изящной» жизни. Но это его желание не является преступным, антиобщественным. Он такой, какой есть. И он не просил себя размораживать. Поэтому в том, что в будущем его встретили с удивлением и даже с оторопью, вины Присыпкина никакой нет.
Стало быть, оскорбительных слов в свой адрес «бывший рабочий» не заслуживает. У зрителей и читателей он, скорее всего, должен вызвать сожаление и даже некоторое сочувствие.
Кого же тогда Маяковский наделял этими нелестными эпитетами?
Может быть, заодно с Присыпкиным и его наставника Вадима Баяна?
Да, он из бывших домовладельцев. Но этих владений революция давно его лишила. Так что винить «самородка» Баяна в том, что ему некогда принадлежал дом (или даже несколько домов), нет никаких оснований. Да, он обучает «бывших партийцев» разнообразным «изящным манерам» и делает это небескорыстно. Но в этом тоже нет ничего из ряда вон выходящего – ведь Присыпкин сам рвётся к «изящной жизни» и готов за своё обучение платить. И Баян-Бочкин со снисходительной улыбкой обучает его, тем самым зарабатывая себе на хлеб. Так что язык не поворачивается назвать его поведение «сволочным».
У Маяковского явно не хватило драматургического таланта, чтобы создать образы мещан, про которых можно было бы сказать: какая же это мразь, какие сволочи! Но кого же всё-таки он называл именно так?
Драматург неоднократно громогласно заявлял, что его «феерическая комедия» направлена против мещанства. К премьере спектакля было даже сочинено рекламное четверостишие:
«Люди хохочут / и морщат лоб
в театре Мейерхольда / на комедии "Клоп".
Гражданин, / не злись / на шутки насекомого,
это не про тебя, / а про твоего знакомого».
Иными словами, Маяковский как бы лишний раз напоминал о том, что главный герой его комедии – не Присыпкин (тогда она называлась бы «Обывателиус», «Мещанин в стране Советов» или что-нибудь в этом роде). Но если пьеса называется «Клоп», значит, в это понятие что-то вкладывалось.
Попробуем подойти к героям пьесы с другой стороны и поищем, с кого они списаны.
Попытка расшифровать
Присыпкин – не клоп, он всего лишь некая «присыпка» для клопа. И это наглядно продемонстрировано в последних действиях пьесы, где «клопус нормалис» и «обывателиус вульгарис» находятся рядом. И фамилия «Присыпкин» явно произошла от борьбы «обывателиуса» с клопом – образована из глагола «присыпать». В ту пору с кровососущими насекомыми боролись, присыпая их ядовитыми порошками.
Вглядимся в эту фамилию повнимательнее!
При-сып-кин. Первый слог – «при» – понятен, он означает нахождение при ком-то, при чём-то. Слог последний – «кин» – созвучен с семитским словом, означающим «из рода», «из племени», «из семьи».
Остаётся слог «сып». Что он означает? Вроде бы, ничего.
Тогда, может быть, этот «сып» что-то или кого-то напоминает?
Напоминает! Имя лучшего друга и советчика Маяковского, которого звали Осип. Таким образом, фамилию «Присыпкин» вполне можно «перевести» как «Находящийся при семье Осипа».
Но если так, то выходит, что в образе Присыпкина Маяковский действительно изобразил самого себя?
Даже в переделанной («для изящества») фамилии героя пьесы можно найти отзвук фамилии Осипа. Пьер Скрипкин (С-крип-кин) – это Пьер, «находящийся при семье Крип». А «Крип» – это прочитанная справа налево фамилия Брик, только первая буква в ней слегка оглушена – до «п», а вторая и третья поменялись местами.
Между прочим, актёр ГосТИМа Игорь Ильинский, исполнявший роль Присыпкина, впоследствии вспоминал:
«Как это ни покажется странным, я даже внешне взял для Присыпкина… манеры Маяковского».
Взять эти «манеры» Ильинскому предложил сам Маяковский. Он настоятельно требовал от актёра, чтобы у этого персонажа были его характерные жесты. И специально показывал артисту, что именно необходимо спародировать.
В последних действиях пьесы Присыпкин находится при клопе (или клоп при Присыпкине), а в первых трёх Присыпкин пребывает при «подхалимствующем самородке из домовладельцев» Олеге Баяне, впившемся, как клоп, в «бывшего рабочего» и «бывшего партийца» Пьера Скрипкина.
А теперь обратим внимание на то, как тщательно подобраны имя и фамилия «подхалимствующему самородку» – Олегу Баяну! Ведь они же явно скопированы с Осипа Брика — с тех же букв начинаются, и из того же количества букв каждое слове состоит!
При этом, не будем забывать, какой «камень» бросается в «огород» этого персонажа! Один из обитателей «молодняцкого общежития» говорит про Олега Баяна:
«Он – писатель. Чего писал – не знаю, а только знаю, что знаменитый! "Вечёрка" про него три раза писала: стихи, говорит, Апухтина за свои продал, а тот как обиделся, опровержение написал. Дураки, говорит вы, неверно всё – это я у Надсона списал. Кто из них прав – не знаю. Печатать его больше не печатают, а знаменитый он теперь очень – молодёжь обучает. Кого стихам, кого пению, кого танцам, кого так… деньги занимать».
Хлёстко сказано!
И все слова вполне можно было адресовать Осипу Брику. Осип Максимович и стихи учил писать, и на фортепиано играл, и танцевал великолепно. И даже «деньги занимать» мог весьма оригинальным способом. Вспомним ещё раз, что написал Валентин Скорятин о встрече с Алексеем Кручёных, другом и соратником Маяковского и Бриков:
«Однажды я посетовал на сокрушительное студенческое безденежье и пошутил: мол, все способы добычи денег, изобретённые незабвенным Остапом Бендером, уже устарели – караются Уголовным кодексом. Кручёных заметил: "Бендер не знал ещё одного способа". И между прочим рассказал…»
И Кручёных рассказал о том, как чекист Осип Брик вместе с женой (Лили Брик) посещал намеченных на арест состоятельных людей и…
«… предлагал свою помощь. Пока не утрясётся – спрятать фамильные драгоценности. Выхода не было. Ему верили. Тем, кому удавалось вырваться из лап ГПУ, Брик возвращал взятое на сохранность. Но "вырывались" не все…»
Вот, оказывается, каким был этот клоп, впившийся в Присыпкина! И Маяковский раскрыл (обнародовал) самую удивительную его тайну.
Тот, о ком сообщалось такое, наверняка должен был крепко обидеться.
Конечно, можно было наградить героя «Клопа» какой-нибудь другой фамилией, например: Буря, Буян, Буза, Бинт и так далее. Но Маяковский остановился именно на Баяне, так как при случае мог всегда сослаться на крымского стихотворца Владимира Сидорова, писавшего под псевдонимом Вадим Баян, и сказать, что персонаж «Клопа» назван именно в честь него.
Крымчанин Сидоров, в самом деле, обиделся и написал «Открытое письмо В.В.Маяковскому поэта Вадима Баяна». Хотя вполне возможно, что «обидеться» Вадима Баяна мог попросить сам Маяковский, обратившись к нему в письме или при личной встрече. К сожалению, до наших дней не дошло никаких подтверждений этому. Сохранилось только одно «Открытое письмо», в котором Вадим Баян возмущается тем, что в пьесе «Клоп» обнаруживается:
«Наличие слишком откровенных параллелей и других "признаков", адресованных к моей биографии…»
Вадим Баян просил дать ему «откровенный ответ».
22 июля 1929 года «Литературная газета» опубликовала письмо обиженного крымчанина, поместив сразу вслед за ним ответ Маяковского. Владимир Владимирович отвечал с присущей ему ироничной элегантностью:
«Вадим Баян!
Сочувствую вашему горю.
Огорчён сам…
Объясняю:
1. Каждый персонаж пьесы чем-нибудь на кого-нибудь обязан быть похожим. Возражать надо только на несоответствие, на похожесть обижаться не следует».
Затем следуют ещё четыре пункта (также улыбчивые и учтивые), и только в пятом (заключительном) поэт заговорил серьёзно, соглашаясь с тем, что выведенный им персонаж «антипатичен»:
«5. Но —
Вы указываете сходство других "откровенных параллелей" и "признаков". Тогда обстрел этих признаков сходства с антипатичным, но типичным персонажем становится уже "уважительным" с "точки зрения советской общественности", и если это так, то я оставлю моего героя в покое, и придётся переменить фамилию вам».
Как видим, Маяковский застраховался весьма основательно – на все вопросы у него был заготовлен достойный ответ, мгновенно заставлявший любого обидевшегося вспомнить о том, что на шутки обижаться не следует. Тем более, что прототипом одного из главных героев «Клопа», вроде бы, являлся сам Владимир Владимирович.
Почему «вроде бы»? Потому что в пьесе есть и…
Другие намёки
На ком собирался жениться Присыпкин? На «маникюрше, кассирше парикмахерской» Эльзевире Давидовне Ренессанс.
Есть ли у этой героини что-нибудь зашифрованное?
Есть!
Невесту Пьера Скрипкина зовут Эльзевира. Но Эльзой звали младшую сестру Лили Брик. А что такое «вира»? Заглянем в словарь.
«ВИРА! ВИРАТЬ! [< ит. viraro] – мор<ской термин> выбирай, поднимай, тяни вверх (груз – стрелою, краном и т. п.).»
По-гречески «вира» тоже означает «вверх!».
Таким образом, «Эльзевира» – это та, кто находится «выше» Эльзы, то есть старше её. Стало быть, Присыпкин, прототипом которого можно считать самого Маяковского, сочетался браком с маникюршей, прототипом которой была Лили Брик.
Стоп!
Если так, то о чём же тогда рассказывает «феерическая комедия»?
Она рассказывает о том, как некий «бывший рабочий» и «бывший партиец» решил жениться на некоей парикмахерше. Вокруг этого героя увивается некий «подхалимствующий самородок», обучающий «бывшего рабочего» галантным манерам, но при этом вцепившийся в него, как клоп. Свадьба состоялась. Но из-за вспыхнувшего на ней пожара главный её участник оказывается вмороженным в глыбу льда. «Бывшего рабочего» размораживают и водворяют в клетку зоосада. В ней он находится вместе с размороженным клопом, в которого превратился бывший «подхалимствующий самородок».
Разве эта история не напоминает то, что произошло с самим Владимиром Маяковским? Ведь он, бывший «раб Охранки» связал свою судьбу с судьбой старшей сестры Эльзы Каган. Но совместная жизнь с ней у него не заладилась. Поэт был вынужден остаться в «зверинце» (именно так Брики называли свою семью, состоявшую из «кис» и «щенов»). В этом «зверинце» Маяковский находился под неусыпным вниманием и контролем Осипа Брика, вцепившегося в него, как клоп.
Кстати, одна из глав книги Бенгта Янгфельдта – та, в которой рассказывается о появлении в Гендриковом переулке Льва Кулешова, – называется «Лев в Зоопарке».
Есть ещё один довольно примечательный штрих, на который хотелось бы обратить внимание. В пьесе несколько раз возникает «красный» цвет. Приведём несколько реплик («цветные» слова выделены нами):
«ПРИСЫПКИН
Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов! Понял?»
«ПРИСЫПКИН
В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта и брючных неприятностей. Во!»
«БАЯН
Невеста вылазит из кареты – красная невеста… вся красная — упарилась, значит;… её выводит красный посажённый отец… вводят это вас красные шафера, весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками.
ПРИСЫПКИН
(сочувственно)
Во! Во!
БАЯН
Красные гости кричат "горько, горько", и тут красная (уже супруга) протягивает вам красные-красные губки…»
Мало этого, Присыпкин женится на Ренессанс Эльзевире Давидовне, инициалы которой – РЭД. Со словом «рэд» Маяковский часто встречался во время пребывания в Америке, в переводе с английского оно означает «красный». И первая глава поэмы «Про это» называется «Баллада РЕДингской тюрьмы».
Актёр Игорь Ильинский потом вспоминал:
«Маяковский читал: "Я требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов!" В этой фразе громыхал пафос. Затем весь пафос сходил на нет, когда просто, неожиданно просто Маяковский добавлял: "Во!" В этом "во" было сомнение, даже испуг, была интонационная неуверенность в правильности фразы, только что произнесённой так аппеляционно. И из этого неуверенного и тупого добавка "во" вставал вдруг весь Присыпкин».
И вот «красная» свадьба состоялась. Но её охватили «красные» языки пламени – вспыхнувший пожар воспрепятствовал появлению «красной» семьи Пьера Скрипкина.
Наверное, многим тогда (да и потом тоже) приходило в голову, что речь идёт о красном цвете Октябрьской революции, давшей право рабочему Присыпкину называть себя «победившим классом».
Однако те, кто хорошо знал «семью» Маяковского-Бриков, хорошо знали и человека, в чьей фамилии присутствовал тот же красный цвет – Краснощёкова. Во время романа с ним, как мы помним, Лили Брик обвиняла Маяковского в том, что он погряз в «мещанском быте». Именно Краснощёков поставил окончательный крест на отношениях Лили Юрьевны и Владимира Владимировича.
Но «красной» семьи Лили Брик и Краснощёкову создать, как мы знаем, тоже не удалось. А Маяковский по-прежнему никак не мог разлучиться с Осипом Бриком, которого даже Луначарский называл «злым гением» поэта. Избавиться от него можно было лишь с помощью какой-то ядовитой «присыпки».
Разве не о том же самом рассказывалось в пьесе «Клоп»?
Новый намёк
Так что же на самом деле вкладывал Маяковский в содержание своей пьесы? Что он хотел сказать, называя её «Клопом», то есть насекомым, которое водится в постелях?
И зачем поэту надо было выводить самого себя в непривлекательном образе Присыпкина?
А ведь Маяковский не имел никакого отношения к Тамбову, родному городу Присыпкина. Никогда там не был. И уж совсем невозможно припомнить случай, чтобы Владимир Владимирович прятался под выдуманным псевдонимом. Он всегда подписывал созданные им стихи и пьесы своей фамилией, которая ему очень нравилась. Он гордился ею. Критики ругали его за это. А Троцкий даже прямо написал:
«Маяковский по сути своей Маяковоморфист, заселяет самим собой площади, улицы и поля революции».
Иными словами, поэт во всех своих произведениях выступал в роли главного (положительного) героя. Как же он мог оказаться отрицательным Присыпкиным?
Но кто же тогда был выведен под этой фамилией?
Был ли в окружении Маяковского человек, который пользовался псевдонимом?
Был! Звали его Лев Кулешов. И родом он был из города Тамбова. А свои рисунки, которые помещал в «Журнале для дам», подписывал «изящным» французским псевдонимом Лео Клер.
Фамилию своего внезапного соперника Маяковский наверняка подверг тщательному изучению, переставляя слоги так и этак. Пробовал читать её справа налево – получалось: Вошелук. Три первые буквы – вош! А «вошь» – это тоже кровососущее насекомое. Оно-то и было заменено на «клопа», в котором соединились инициалы: КЛ (Кулешов Лев) и ОБ (Осип Брик). Получалось «КЛОБ». Если чуть приглушить последнюю букву, то и получится «КЛОП».
Если так, то не была ли пьеса «Клоп» некоей местью обиженного мужа (пусть даже гражданского) тому, кто увёл у него обожаемую супругу? Не мстил ли Маяковский своей пьесой и Льву Кулешову тоже?
Но главный удар поэт наносил по своему образованному, воспитанному и начитанному другу, который убеждал его не славить режим большевиков, а посвятить свой талант прославлению «производства вещей», то есть рекламе? Как мы помним, какая-то крупная ссора (или не менее крупная размолвка) произошла между Владимиром Маяковским и Осипом Бриком ещё весной 1928 года (а то и раньше). Из-за этой ссоры Маяковский даже из Нового Лефа вышел. А чуть позднее публично заявил, что он отмежёвывается от Брика.
А теперь Осип Брик выводился на сцену в образе Олега Баяна. Да, у Присыпкина есть недостатки (а у кого их нет?), но он человек, он личность. А Олег Баян (то есть Осип Брик) – насекомое, которое водится в постелях, и против которого применяют ядовитые порошки-присыпки.
Неужели Осип Максимович не заметил, как над ним насмехается пьеса «Клоп»?
Неужели он не понял, о ком повествует эта феерическая комедия?
Лили Брик впоследствии написала о Маяковском:
«Темой его стихов почти всегда были собственные переживания».
А темой пьес?
Вспомним ещё раз строки из книги Аркадия Ваксберга, посвящённые тому, как встретила «Клопа», присутствовавшая на всех его читках Лили Брик:
«В глазах Лили стояли слёзы…
Лиля разделила с Маяковским его творческий триумф».
Очень сомнительно, что всё обстояло именно так. Сам Ваксберг на тех читках не присутствовал, и то, как он их описал – всего лишь плод его творческого воображения.
О том, как отреагировал на «Клопа» Осип Брик, никаких свидетельств обнаружить, к сожалению, не удалось. Да и существовали ли такие свидетельства? Осип Максимович был человеком мудрым и своих мнений старался не выпячивать.
Но складывается впечатление, что, ознакомившись с «Клопом», Осип Максимович всё прекрасно понял. Но предпочёл отмолчаться (до поры, до времени), сделав вид, что он не заметил того, что Маяковский хочет расправиться с ним с помощью ядовитой присыпки.
Странно и такое обстоятельство. Нигде не сообщается о том, был ли на читках «Клопа» Агранов. Ведь Яков Саулович являлся ближайшим и вернейшим другом «семьи» и членом Художественно-политического совета ГосТИМа. Стало быть, на этих читках его присутствие было просто обязательным! Что говорил он об этой пьесе? Вот бы узнать!
Ещё об одном повороте событий, связанном с написанием «Клопа», хочется поговорить особо.
Синдром «Пушторга»
Положив в основу феерической комедии эпизоды из своей собственной жизни, Маяковский невольно наступил на те же самые грабли, которые только что больно ударили по поэту-конструктивисту Илье Сельвинскому.
Ведь фабула «Пушторга» тоже была скроена из фрагментов биографии автора. Работая «уполномоченным сырьевого отдела Центросоюза», Сельвинский, увёл у своего начальника жену, за что был вынужден распрощаться с Центросоюзом. Работу себе он вскоре нашёл – стал инструктором сырьевого отдела Сельскосоюза. Но своему бывшему шефу решил всё-таки отомстить. И вывел его в «Пушторге» в образе чинуши и бюрократа Кроля.
Казалось бы, что тут особенного? Каждый вправе выражать свои чувства, свои симпатии и антипатии так, как ему хочется, так, как он умеет.
Но Сельвинский не учёл того, что напечатанное мгновенно приобретает черты некоего обобщения, и любой частный случай, опубликованный в газете, журнале или в книге, становится фактом, носящим положительный или отрицательный оттенок. Это и произошло с «Пушторгом». Конфликт отдельно взятого интеллигента (к тому же не члена партии) и начальствующего бюрократа-партийца был воспринят как противостояние беспартийной интеллигенции и членов ВКП(б). И тотчас на Сельвинского и «сельвинщину» с ожесточённой критикой обрушилась вся советская пресса.
С «Клопом» Маяковского случилось то же самое. Его феерическая комедия ни к чему особенно не призывала (возможно, ещё и поэтому в ней было так мало драматургии). Поэту просто захотелось выставить на посмешище Осипа Брика, с которым он был вынужден проживать в одной квартире, и который этим обстоятельством бесцеремонно пользовался, и щёлкнуть по Льву Кулешову, окончательно отбившему у него Лили Юрьевну Брик.
Но, зазвучав с театральных подмостков, насмешки Маяковского над мелким житейским «клопиком» превратились в издевательское высмеивание системы, которую установили в стране большевики. Беззлобный юмор поэта превратился, по словам Ваксберга (повторим их ещё раз) в «беспощадную сатиру на партмещанство», в «щедринской силы язвительный смех над тупостью, глупостью, пошлостью тех, кто был у руля», в «его презрение к властвующим ничтожествам», в «его глубочайшее разочарование в былых идеалах».
Всего этого Маяковский в свою комедию даже не закладывал, но – такова сила искусства – всё произошло помимо воли автора.
Кстати, напомним, что Маяковский был не единственным драматургом, пьесу которого принялся ставить Мейерхольд. Ведь Всеволод Эмильевич приступил к работе и над «Командармом 2» Ильи Сельвинского. В ней действие происходит в 1918 году (так, во всяком случае, написано в авторской ремарке). Красная армия стоит у удерживаемого белогвардейцами города Белоярска. Командарм Чуб необразован, складно выразить свои мысли не умеет («гориллой в шинели» назовёт его Луначарский). Брать Белоярск Чуб не собирается.
А штабной писарь Оконный, человек образованный и воспитанный, напротив, считает, что штурм Белоярска необходим. И Оконный свергает Чуба, объявляет себя командармом и ведёт армию на штурм города.
Но Чуб, сбежав из-под стражи, вновь берёт в свои руки бразды правления.
Изложенная в пьесе ситуация очень напоминала конфликт между Сталиным, на которого очень смахивал Чуб, и Троцким, на которого походил Оконный. Слово «чубор» в переводе с крымчакского (а Сельвинский был по национальности крымчаком) означает «рябой», а Сталин, как известно, был рябым. Фамилия «Оконный» очень созвучна с должностью, на которую кремлёвские вожди определили Склянского, первого заместителя наркомвоенмора, сделав его «суконным» начальником).
Появление во властных структурах малообразованных и зачастую плохо воспитанных людей, которых окружали получившие образование и воспитание «самородки», было тогда явлением весьма распространённым. Поэтому неудивительно, что в пьесах Маяковского и Сельвинского действуют по сути дела персонажи-двойники. В «Клопе» образованный Олег Баян «пьёт кровь» неотёсанного Присыпкина, в «Командарме 2» интеллигентнейший Оконный легко обводит вокруг пальца неотёсанного Чуба.
Правда, пьеса Сельвинского гораздо политизированнее «Клопа». Кто из командармов прав – неуч Чуб или грамотей Оконный? Этот вопрос должен был заставить зрителей крепко задуматься.
Всеволод Мейерхольд:
«Такие пьесы, как “Командарм 2” Сельвинского, ставить нужно, но театр должен приложить большие усилия к тому, чтобы исправить недостатки, которые очевидны в пьесе Сельвинского».
А «Клопа» Мейерхольд не критиковал, он его только нахваливал.
Постановка «Клопа»
Год 1929-ый начался с репетиций «Клопа». Эту пьесу Маяковский упомянул даже в журнале «Чудак» (в третьем январском номере), в котором поместил несколько четверостиший под названием «Говорят…». Стихотворные строчки были расположены так, словно это самая обыкновенная проза, как бы свидетельствуя о том, что Маяковский, как и обещал, покидает поэтическую вершину. Среди этих четверостиший было и такое:
«Говорят – из-за границы домой попав, после долгих вольтов, Маяковский дома поймал “Клопа” и отнёс в театр Мейерхольда».
Всеволод Мейерхольд:
«Маяковский показал себя… не только замечательным драматургом, но также и замечательным режиссёром. Сколько лет я ни ставлю пьесы, я никогда не позволял себе такой роскоши, как допускать драматурга к совместной режиссёрской работе. Я всегда пытался отбросить автора на тот период, когда я пьесы ставлю, как можно дальше от театра, потому что всегда подлинному режиссёру-художнику драматург мешает персональным вмешательством в работу.
Маяковского я не только допускал, а просто даже не мог начинать работать пьесу без него.
Поэтому я всегда ставил на афишах своего театра: постановка такого-то плюс Маяковский – работа над текстом».
Композитор Дмитрий Шостакович:
«Я наивно думал, что Маяковский в жизни, в повседневном быту оставался трибуном, блестящим, остроумным оратором. Когда на одной из репетиций я познакомился с ним, он поразил меня своей мягкостью, обходительностью, просто воспитанностью. Он оказался приятным, внимательным человеком, любил больше слушать, чем говорить. Казалось бы, что он должен был говорить, а я слушать, но выходило всё наоборот».
Актриса Мария Суханова:
«Однажды на очередной репетиции третьей картины – "свадьба" – он поднялся на сцену, схватил со свадебного стола вилку и сыграл роль парикмахера со словами: "Шиньон гофре делается так: берутся щипцы, нагреваются на слабом огне а-ля этуаль и взбивается на макушке этакое волосяное суфле".
Мы так и покатились со смеху! Надо было видеть, как нагнулся большой Маяковский в позе парикмахера слащавой услужливости, как оттопырил мизинец левой руки и, поворачивая голову посажённой матери, заходя то справа, то слева, орудовал вилкой, как щипцами, и, наконец, разрушил её причёску».
Дмитрий Шостакович:
«У меня состоялось несколько бесед с Маяковским по поводу моей музыки к "Клопу". Первая из них произвела на меня довольно странное впечатление. Маяковский спросил меня:
– Вы любите пожарные оркестры?
Я сказал, что иногда люблю, иногда нет. А Маяковский ответил, что он больше любит музыку пожарных, и что следует написать к "Клопу" такую музыку, которую играет оркестр пожарников.
Это задание меня вначале изрядно огорошило, но потом я понял, что за ним скрыта более сложная мысль. В последующем разговоре выяснилось, что Маяковский любит музыку, что он с большим удовольствием слушает Шопена, Листа, Скрябина. Ему просто казалось, что музыка пожарного оркестра будет наибольшим образом соответствовать содержанию первой части комедии, и для того чтобы долго не распространяться о желаемом характере музыки, Маяковский просто воспользовался кратким термином "пожарный оркестр". Я его понял».
Маяковский продолжал читать «Клопа» в разных аудиториях Москвы. После чтения пьесы в Доме комсомола на Красной Пресне перед собравшимися выступил Мейерхольд и сказал, что ценность этого произведения в том, что оно ставит «очень остро самую острую наисовременнейшую проблему» – разоблачение сегодняшнего мещанства:
«Перебрасывая нас в 1979 год, Маяковский заставляет нас разглядывать не преображение мира, а ту болезнь, что существует и в наши дни…
Это произведение такое же значительное и великое, как в своё время "Горе от ума" Грибоедова».
Судьба «Командарма»
Объявив о своём намерении покинуть поэтическую вершину, Маяковский не стал торопиться, решив произвести своё сошествие постепенно. И 9 января 1929 года газета «Комсомольская правда» опубликовала его стихотворение «Перекопский энтузиазм», в котором говорилось:
«Часто / сейчас / по улицам слышишь
разговорчики / в этом роде:
“Товарищи, легше, / товарищи, тише.
Это / вам / не 18-й годик!”..
Эти / потоки / слюнявого ада
часто / сейчас / на улице льются…
Знайте, граждане! / И в 29-м
длится / и ширится / Октябрьская революция.
Мы живём / приказом / октябрьской воли.
Огонь / “Авроры” / у нас во взоре.
И мы / обывателям / не позволим
баррикадные дни / чернить и позорить».
В это время из Франции в Москву прибыл автомобиль «Рено».
Василий Васильевич Катанян:
«Это был четырёхместный красавец. Снизу светло-серый до пояса, а верхняя часть и крылья – чёрные. Маяковский машину не водил, он пользовался услугами шофёра В.Гамазина, в прошлом таксиста».
В театр Мейерхольда Владимир Владимирович стал иногда приезжать на собственном автомобиле. И как-то заглянул на просмотр пьесы «Командарм 2». О ней актёр ГосТИМа Эраст Павлович Гарин потом написал:
«Мейерхольду пьеса понравилась. Он страстно желал её ставить. Луначарский разрешил. Но в самый разгар репетиций настоял на просмотре и обсуждении художественным советом театра. Кроме худсовета пригласили Маяковского, Асеева, Безыменского, Олешу, Гамарника».
Илья Сельвинский в своих воспоминаниях уточнил, что кроме литераторов была приглашена…
«… и группа ответственных работников Политуправления РККА во главе с Гамарником».
Ян Борисович Гамарник (Яков Борисович Пудикович) был тогда начальником Политического управления Красной армии.
Просмотр проходил оригинально: отрепетированные сцены разыгрывались актёрами, а ещё неотрепетированные читал автор, сидевший за столиком с правой стороны авансцены. В зал летели реплики писаря Оконного, ставшего красным командармом:
«Неотвратим поход наш чугунный.
Трам-там, тарарам там-там! Так?
Но весёлое дело Коммуны
мы стоим с угрюмостью гробовщика.
Людей мы не любим. Подобные тварям,
мы рады весь мир засадить в аквариум,
выделив про себя океан…
Мы смерть на себе в сладострастии тащим,
мы жертвуем будущему настоящим».
И подобных высказываний в пьесе было очень много.
Сразу же после просмотра Луначарский попросил слова. Мейерхольд удивился и, по словам Сельвинского, сказал:
«– Мне кажется, что было бы лучше, если бы Вы, Анатолий Васильевич, выступили в конце обсуждения и подвели бы итоги, как это вы делали всегда.
– Нет, Всеволод Эмильевич, сегодня мы нарушим эту традицию – твёрдо сказал Луначарский».
А вот как дальнейшие слова наркома запомнились Эрасту Гарину:
«Луначарский. – Я никогда не выступаю первым, но сейчас беру слово в расчёте, чтобы моё первое выступление стало и последним. Пьеса сама по себе изумительная, отличная. Не ошибусь, назвав её поэтическим перлом. Но пьеса эта читательная… Наши рабочие и крестьяне пьесу не поймут. Они воспримут её лишь чисто внешне, без глубокого понимания смысла, идей, утеряв философскую сущность. Будем считать это как эксперимент, который не совсем удался».
Илья Сельвинский:
«Нарком говорил довольно долго. Он не жалел эпитетов, чтобы превознести пьесу, назвав её самой большой удачей безусловно одарённого и талантливого Сельвинского. А в заключение сказал:
– И да простит меня нами всеми уважаемый Всеволод Эмильевич, но здесь его режиссёрское мастерство окажется бессильным».
Услышав всё это, слова тотчас же попросил Маяковский, который, по словам того же Гарина, сказал:
«Маяковский. – Я тоже никогда не выступаю вторым. Но сегодня нарушу эту традицию. Сельвинскому говорят, что он написал блестящую пьесу, но ставить её, видите ли, никак нельзя, так как, упаси господи, её не поймут наши рабочие и крестьяне, которые, кстати говоря, не уполномачивали нашего уважаемого наркома просвещения говорить такие вещи от их имени. А "Капитал" Маркса? А Энгельса? А Шекспира рабочие и крестьяне сегодня понимают? Так что же, давайте и Шекспира запретим? Я считаю такую позицию порочной и неправильной. Обидной для художника и обидной для рабочих и крестьян.
Зал грянул аплодисментами.
Луначарский встал, обнял и расцеловал Маяковского. Затем поднял обе руки вверх:
– Сдаюсь! Но организационно, а не идейно!
Пьесу приняли к постановке».
Через пару месяцев (19 марта 1930 года) «Правда» всё-таки написала:
«Трудно сказать, можно ли ставить на сцене этот психологический трактат в стихах. Может быть, лучше всего его просто читать со сцены… Однако Мейерхольд поставил "Командарм 2" как пьесу».
Другие заботы
11 января 1929 года газета «Комсомольская правда» опубликовала очередное стихотворение Маяковского «Лозунги к комсомольской перекличке. Готовься! Целься!». Поэт опять призывал молодёжь готовиться к сражениям:
«На классовом фронте / ширятся стычки, —
враг наступает, / и скрыто / и голо.
Комсомолия, / готовься к перекличке
боевой / готовности / комсомола.
Обыватель / вылазит / из норы кротовой,
готовится / махровой розой расцвесть.
Товарищи, / а вы / к отпору готовы?
Отвечай, комсомолец: / “ Готово! / Есть!”»
В том же январе журнал «Молодая гвардия» опубликовал стихотворение Маяковского «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», в котором, казалось, речь должна была идти только о лирике:
«Любовь / не в том, / чтоб кипеть крутей,
не в том, / что жгут угольями,
а в том, / что встаёт за горами грудей
над / волосами-джунглями».
Но и тут не были забыты грядущие сражения – ведь даже звёзды на небе, по мнению поэта, «блестели» для того…
«Чтоб подымать, / и вести, / и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи / головы / спиливать с плеч
хвостатой / сияющей саблей».
Публикация этого «Письма» вызвало новый взрыв негодования Лили Брик. Ещё бы, ведь впервые за много лет поэт напечатал стихи, посвящённые не ей, а совсем другой женщине – той самой, которой Владимир Владимирович писал:
«Что о себе? Мы (твой фатерман и я) написали новую пьесу».
«Фатерманом» тогда называли знаменитую на весь мир авторучку французской фирмы Льюиса Эдсона Ватермана, а «твоим» он был потому, что его подарила поэту Татьяна Яковлева.
Продолжим прерванное нами письмо Маяковского о «новой пьесе»:
«Читали её Мейерхольду. Писали по 20 суточных часов без питей и ед. Голова у меня от такой работы вспухла (даже кепка не налазит). Сам ещё выценить не могу, как вышло, а прочих мнений не шлю во избежание упрёков в рекламе и из гипертрофированного чувства природной скромности (кажется, всё-таки себя расхвалил?).
Ничего. Заслуживаю. Работаю, как бык, наклонив морду с красными глазами над письменным столом. Даже глаза сдали – и я в очках! Кладу ещё какую-то холодную дрянь на глаза. Ничего. До тебя пройдёт. Работать можно и в очках. А глаза мне всё равно до тебя не нужны, потому что кроме как на тебя мне смотреть не на кого. А ещё горы и тундры работы…»
А вот отрывок из письма в Пензу (матери), в котором Татьяна говорит о своём отношении к Маяковскому:
«Если я когда-нибудь хорошо относилась к моим "поклонникам", то это к нему, в большей доле из-за его таланта, но в ещё большей степени из-за изумительного и буквально трогательного ко мне отношения. В смысле внимания и заботливости (даже для меня, избалованной) он совершенно изумителен».
Маяковский на несколько дней съездил в Харьков, где 14 января состоялось два его выступления. Сначала в местном клубе ГПУ (в 6 часов вечера) читались отрывки из «Клопа», а затем в драматическом театре (в 9 часов вечера) делался доклад «Левей Лефа». Местная газета «Пролетарий» на следующий день написала:
«Этот новый лозунг требует пояснений…
Леф в таком виде, в каком он был до сих пор, не мог отвечать задачам сегодняшнего дня! Усиливающееся наступление на классового врага, социалистическое строительство, задачи укрепления обороны страны – всё это требует непосредственной связи писателя с массами для совместной революционной борьбы. Одной их форм этой связи служит работа писателя в газете…
В этом смысл ухода Маяковского из Лефа».
Один из харьковчан, А.Полторацкий, присутствовавший на выступлении поэта в драмтеатре, потом вспоминал:
«Всегда весёлый и уверенный, в этот раз он почему-то волновался. Видно было, что выступление стоило ему большого усилия воли. Но больше всего меня поразила одна мелочь: кто-то из публики крикнул Маяковскому "Громче!" Эта невинная реплика убийственно подействовала на Владимира Владимировича: он вздрогнул, как будто чего-то испугался, потом попытался пошутить: "Ну, если уж мне надо громче, то это вы, товарищи, зазнались"».
Между тем вздрагивать и пугаться было от чего. Павел Лавут пишет:
«Внезапно Маяковский предложил отменить все последующие вечера – сдал голос.
С трудом удалось уговорить его выступить завтра днём в Оперном театре – ведь соберётся не менее полутора тысяч студентов».
Утром следующего дня всё тот же Полторацкий навестил поэта «на верхнем этаже отеля "Червонный"»:
«Разговор шёл главным образом о роспуске "Лефа"…
Звонит телефон. Владимир Владимирович долго разговаривает. Из его слов можно понять, что он говорит с врачом. Тот сказал ему что-то чрезвычайно серьёзное. Владимир Владимирович отходит от телефона совсем другим человеком. Он вконец встревожен…
– Что же это будет? – спрашивает он. – Ещё три выступления.
Потом подходит к зеркалу, смотрит себе в гортань. Просит меня посмотреть, и действительно, горло у него покраснело, гланды распухли.
– Врач говорит, что мне нужно было лет двадцать тому назад "поставить себе голос", как делают актёры. А теперь уже поздно. Что же будет?»
Выступление в оперном театре всё же состоялось. Но лекции в Полтаве, Кременчуге, Николаеве и снова в Харькове были отменены. Маяковский вернулся в Москву.
После Харькова
Софья Касьяновна Вишневецкая (в то время жена поэта Николая Адуева) писала тогда что-то вроде воспоминаний о поэтах той поры и в первую очередь об Илье Сельвинском (она называла его Сильвой), которому в ЦК предложили…
«…выступить и выбрать второго поэта, с которым ему приятно было бы читать. Он поставил условием, чтобы вторым был Маяковский. У них сейчас период откровенной борьбы, начавшейся с того, что Маяковский, почуяв в Сильве настоящую большую самостоятельную силу, изменил прежнюю ласковую тактику и стал публично дискредитировать его вплоть до заявлений о том, что после “Пушторга” Сельвинский его классовый враг.
Поэтому Сильве захотелось выступить с ним вдвоём в интимном партийном кругу, чтобы проверить на деле, кто из них нужнее и ближе.
Мы пришли на этот вечер чуть раньше начала и сразу столкнулись с Маяковским. Он подошёл к нам и вдруг неожиданно заговорил не обычным хвастливым тоном, а просто как усталый больной человек. Это было странно, особенно после недавнего выступления на вечере “Молодой гвардии”, где Адуев ему в глаза прочёл под аплодисменты письмо к нему, в котором крыл его, как хотел.
И всё же Маяковский мне и Сильве стал жаловаться на больные глаза, на надорванный голос, на постаревшее лицо. Он с такой завистью смотрел на Сильву, который в тот вечер дышал молодостью и здоровьем, что мне стало жаль его. И я видела, что Сильве больно на него смотреть.
Маяковский хотел читать первым. Вечер начинался. Я села в зрительный зал, они ушли за кулисы. Наконец, с эстрады объявили лучшего российского поэта: “самого” Владимира Маяковского, но когда вышел “сам”, аплодисментов не было. Не раздалось ни одного хлопка.
Маяковский перед тем, как начать читать стихи, сообщил, что он уже бросил поэзию, переходит на прозу, доказательством чего служит его пьеса “Клоп”, премьера которой состоится в ближайшие дни у Мейерхольда. Прибавлю от себя, что следующей постановкой идёт первая вещь Сильвы для театра, первая советская трагедия в стихах “Командарм 2”. Думается, что, приехав из-за границы и узнав об этой трагедии в стихах, Маяковский сильно встревожился…
После своего предисловия Владимир Владимирович прочёл 2 стихотворения: одно о блаженстве рабочего, обладающего наконец ванной, другое о двух встречах с Николаем Вторым. Первой – с живым царём, второй – с воспоминанием о царе на месте сожжения его в Свердловске. Стихи эти прозвучали запоздалой агиткой, формально слабые, они мучительно неприятно звучали, или, вернее, кричали, так как Маяковский теперь кричит, а не читает, не меняя интонацию, оскорбляя слух слушателя резкостью уже действительно надорванного голоса.
Было очень жаль большого человека, большого поэта в прошлом, особенно когда его провожали жиденькими хлопками и не просили бисировать. Я не пристрастна. Я по-прежнему люблю его прежние стихи, мне до сих пор интересно видеть и слышать его и почти грустно от каждого очередного разочарования.
Когда вслед за Маяковским вышел на эстраду Сильва, его встретили аплодисментами. И взволнованный шёпоток пробежал по залу. Он лучше обычного прочёл “Пролог” к “Пушторгу” и “Пушкин-Ней”. Когда он кончил, все просили ещё и ещё. И пришлось сказать, что он уже ушёл.
Я не могла слушать других после Сильвы и вышла курить. Сильва нагнал меня, и мы уселись отдохнуть в фойе от пережитых волнений. Волнений потому, что Сильва ещё так молод и так свежо ощущает каждую победу. А тут победа над Маяковским. Тем самым, которого он сам называет своим учителем в прошлом.
Борьба и победа. И Сильва на минуту счастлив. Без борьбы, без мёртвой хватки за жизнь, за счастье и творчество он не может жить».
Накануне премьеры
18 января 1929 года Особое совещание при ОГПУ вынесло очередное постановление:
«Слушали:
Дело гражданина Троцкого Льва Давыдовича по ст<атье> 50/10 Уголовного Кодекса по обвинению в контрреволюционной деятельности, выразившейся в организации нелегальной антисоветской партии, деятельность которой за последнее время направлена к провоцированию антисоветских выступлений и к подготовке вооружённой борьбы против советской власти.
Постановили:
Гражданина Троцкого, Льва Давыдовича, – выслать из пределов СССР».
А 20 января день был воскресный. Но поскольку в стране была объявлена непрерывка, в этот день много людей работало. Но 21 января было нерабочим днём – отмечалась двадцать четвёртая годовщина «Кровавого воскресенья» 1905 года и пятая годовщина со дня смерти Ленина. Маяковский откликнулся на это событие стихотворением «Разговор с товарищем Лениным», которое 20 числа напечатала «Комсомольская правда». Поэт рапортовал, обращаясь к фотографии большевистского вождя, висевшей на стене его комнаты в Лубянском проезде:
«Товарищ Ленин, / я вам докладываю
не по службе, / а по душе.
Товарищ Ленин, / работа адова
будет / сделана / и делается уже.
Освещаем, / одеваем нищь и оголь,
ширится / добыча / угля и руды…
А рядом с этим, / конешно, / много,
много / разной / дряни и ерунды.
Устаёшь / отбиваться и отгрызаться.
Многие / без вас / отбились от рук.
Очень / много / разных мерзавцев
ходит / по нашей земле / и вокруг…
… ходят, / гордо / выпятив груди,
в ручках сплошь / и в значках нагрудных…
Мы их / всех, / конешно, скрутим,
но всех / скрутить / ужасно трудно».
О том, почему «трудно скрутить» всех «мерзавцев», Маяковский ответил в пятом январском номере журнала «Чудак» (в стихотворении «Мрачное о юмористах»):
«Где вы, / бодрые задиры?
Крыть бы розгой! / Взять в слезу бы!
До чего же / наш сатирик
измельчал / и обеззубел!»
«22 января Троцкий, его жена Наталья Седова и их сын Лев Седов под конвоем были вывезены из Алма-Аты.
23 января Маяковский снова читал отрывки из «Клопа» по радио, а 2 февраля знакомил с пьесой рабкоров «Правды». 26 января заключил договор с ГосТИМом на «Комедию с убийством». Срок её предоставления театру – не позднее 1 сентября.
Наступил февраль, и Москву окутал жуткий мороз – столбик термометра опускался ниже 30 градусов. Но в театре Мейерхольда репетиции «Клопа» (завершающие) не прекращались.
Продолжали репетировать и «Командарма 2». Илья Сельвинский вспоминал:
«Мейерхольд делал с моей пьесой всё, что хотел. Я наскакивал на него. А Маяковский, изредка вступаясь за меня, в то же время старался приглушить моё возмущение.
– Слушайте! – снова и снова говорил мне Маяковский. – Наплюйте на импрессионизм Мейерхольда. Вам 28 лет, и вы его не переделаете. Воспользуйтесь по крайней мере его опытом: учитесь у него, чему можно».
Павел Лавут:
«Когда приближалась премьера "Клопа" в театре Мейерхольда, Маяковский неожиданно спросил меня:
– Как, по-вашему, лучше назвать пьесу: "Клоп" или "Клопы"?
Подумав, я ответил:
– Конечно, "Клоп".
– А почему так?
– В потому что "Клопы" – это нечто массово-стихийное, название само по себе уже отпугивает, шокирует зрителей. А "Клоп" не так страшен, и это – обобщённо и вместе с тем более конкретно и точно. Есть другая сторона дела, чисто формальная: четыре буквы лучше читаются и выигрышнее на афише, чем пять.
– Я тоже склоняюсь к "Клопу", небольшие колебания были, и я решил проверить на людях. Все в основном за единственное число. Твёрдо остаётся "Клоп"».
В воспоминаниях Павла Лавута проскальзывает желание Маяковского ударить своей пьесой не только по Осипу Максимовичу, но и по Лили Юрьевне. Ведь «Клопы» – это же Брики! Но Владимир Владимирович, видимо, решил не торопиться и нанести свой удар немного позднее.
10 февраля 1929 года из одесского морского порта отошёл пароход «Ильич», на котором из Советского Союза навсегда изгонялся Лев Троцкий с женой и сыном. Изгнанников сопровождали специально выделенные для этой акции сотрудники ОГПУ.
Сообщение о высылке из СССР Льва Троцкого стало новостью номер один для многих зарубежных газет. Но Яков Блюмкин, который был тогда в Индии, ничего о выдворении Троцкого из СССР не знал.
А в Москве 13 февраля состоялась премьера спектакля «Клоп».
Актёр Игорь Ильинский:
«Спектакль был поставлен немногим более чем за месячный срок. Несмотря на спешку и несколько нервную из-за этого обстановку, Маяковский был чрезвычайно спокоен и выдержан. Многое не выходило у актёров и у меня в их числе. Подчас сердился Мейерхольд, но Маяковский был ангельски терпелив и вёл себя как истый джентльмен. Этот, казалось бы, грубый в своих выступлениях человек, в творческом общении был удивительно мягок и терпелив».
Дмитрий Шостакович:
«Не берусь судить, понравилась Маяковскому моя музыка или нет, он её прослушал и кратко сказал: "В общем, подходит!" Эти слова я воспринял как одобрение, ибо Маяковский был человеком очень прямым и лицемерных комплиментов не делал».
Софья Шамардина:
«Помню немного нервное его состояние на совещании после премьеры "Клопа".
– А почему ты молчишь? – спросили.
Мне кажется, он был не очень доволен постановкой. Пьеса была лучше того, что сделал театр».
Газеты на «Клопа» откликнулись довольно дружно. «Известия» писали:
«Постановку в общем надо признать весьма успешной, особенно первую её часть (1929 год)…
Вторая часть хуже не только у автора, но и у постановщика. И недостаток тот же самый: социализм выходит тощий, слабый, лефовски-интеллигентский».
«Комсомольская правда»:
«В "Клопе" самый спектакль намного выше пьесы Маяковского…
Но в целом сатира Маяковского бьёт по мелкой цели».
Журнал «Даёшь»:
«Пьеса… не оставляет зрителя равнодушным, заставляет его отзываться, выводит из равновесия».
Журнал «Красная панорама»:
«Комедия "Клоп" с одинаковым успехом могла быть написана и задолго до революции. Стоит только выкинуть, что Присыпкин "бывший рабочий, бывший партиец"…
Даже таланта Маяковского хватило только на первую половину комедии, где спасают положение острые словечки и задорные выкрики».
Журнал «Жизнь искусства»:
«О самой пьесе Маяковского, если только её вообще можно назвать пьесой, много говорить не приходится…
Этот, явно написанный наспех, фарсовый фельетон без особых литературных и идеологических заданий, может быть, совершенно случайно попадает на сцену, а мы серьёзно смотрим на него, серьёзно о нём пишем».
Всеволод Мейерхольд сразу вспомнил те критические замечания, которые звучали в 1918 году после того, как была поставлена «Мистерия-буфф»:
«"Да, это любопытно сделано, это любопытно поставлено, да, это интересно, да, это остро, но это всё же – не драматургия". Утверждали, что Маяковский "не призван быть драматургом". Когда мы в 1928 году поставили "Клопа", то произносились почти те же тирады».
Впрочем, Маяковский всех этих рецензий не читал, так как уже на следующий день после премьеры спектакля покинул Москву, отправившись в очередную зарубежную поездку.
Не читал он и своей статьи «Казалось бы ясно…», напечатанной 15 февраля в четвёртом номере журнала «Журналист». В ней Маяковский, призывая поэтов стать «газетчиками», предупреждал о том, что на этот шаг каждому необходимо решиться:
«Поэт и газета – эти сопоставления чаще и чаще выныривают из газетных статей.
"Чистые" литераторы орут – газета снижает стиль, газета повседневностью оттягивает от углублённых тем.
" Газетчик", с лёгкой руки Тальникова, начинает становиться в определении писательских размеров чуть ли не бранным словом».
И Маяковский призывал не обращать внимания на Тальниковых, которых в следующей своей пьесе (в «Бане») он назовёт Моментальниковыми:
«Сегодняшний лозунг поэта – это не простое вхождение в газету. Сегодня быть поэтом-газетчиком – значит подчинить всю свою литературную деятельность публицистическим, пропагандистским, активным задачам строительства коммунизма…
Нам придётся пересмотреть писателей без различия родов словесного оружия – по их социальной значимости. И не придётся ли, пересмотрев, натравиться "чёрной" литературной кости на белую?»
Последний абзац звучит угрожающе – писателям, не желавшим участвовать в «строительстве коммунизма», поэт грозил суровыми карами.
Но «Журналист» этих угроз не испугался и поместил вслед за статьёй поэта полемизирующий с ней «Ответ» Вячеслава Полонского. В его статье говорилось, что «газетная» деятельность стихотворцев-лефовцев ничего читателям газет не даёт. Да и газеты от такого общения ничего не получают:
«В.Маяковский и его друзья появляются в газете. Выигрывает она что-нибудь? Нет».
А «Клоп» на сцене ГосТИМа продолжал идти. Начальник охраны Сталина Николай Сидорович Власик потом вспоминал, какие спектакли смотрел вождь и его жена Надежда Аллилуева:
«В театр Сталин ездил чаще по субботам и воскресеньям вместе с Надеждой Сергеевной. Посещали Большой театр, Малый, театр имени Вахтангова, ездили к Мейерхольду смотреть пьесу “Клоп”. С ними на этом спектакле, помню, были товарищи Киров и Молотов…»
А в Константинополь тем временем прибыл пароход «Ильич» с находившимся на нём Львом Троцким, его женой и сыном. Турция согласилась принять изгнанников – ведь в начале 20-х годов она объявила Ленина, Троцкого и Фрунзе своими почётными гражданами. Лев Давидович с семьёй поселился на Бююкаде (в переводе с турецкого – «Большой остров»). Местные жители называют эти места Адалар («Острова»). У византийцев было другое название – остров Принкили (слово «prin» в переводе с греческого означает «раньше», «прежде», а слово «kilio» означает «катить»). Сюда в византийскую эпоху ссылали («выкатывали») представителей местной знати, в том числе и принцев, отчего их и назвали Принцевыми островами в Мраморном море. Теперь сюда «закатился» бывший очень знатный представитель страны Советов (пролетарский «принц»?).
Глава вторая Новая загранпоездка
Снова Париж
Об этом вояже во Францию в книге Аркадия Ваксберга сказано так:
«Маяковский рвался в Париж. С превеликим трудом он выдержал на родине чуть больше двух месяцев. И снова никаких помех для заграничного путешествия не возникло. Захотел и поехал…
Он ли только захотел? Не совпали ли, хотя, разумеется, абсолютно по-разному, его интересы с интересами тех, от кого зависели вообще все зарубежные поездки советских граждан? Вопрос, которым до сих пор ни один биограф, ни один исследователь его творчества не занимался».
Займемся этим вопросом.
И сразу попробуем прояснить: почему интересы Маяковского и ОГПУ Ваксберг назвал «абсолютно разными»? Ведь так свободно разъезжать по зарубежью советский гражданин мог только тогда, когда он являлся сотрудником спецорганов. Поэтому вопрос здесь должен возникнуть совсем другой: в какой гепеушной операции предстояло принять участие Маяковскому на этот раз?
Ровно через год (в самом начале весны 1930 года) Маяковский станет тесно общаться с Львом Эльбертом (с тем самым «Снобом», с которым осенью 1921 года Лили Брик поехала в Латвию). Из разговоров Льва Гиляровича и Владимира Владимировича (о них речь – впереди) можно прийти к заключению, что в 1929 году гепеушники начали охотиться за генералом Кутеповым.
Заглядываем в Биографический энциклопедический словарь:
«КУТЕПОВ Александр Павлович (1882–1930), генерал от инфантерии (1920). Участник русско-японской (1904–1905) и 1-й мировой (1914–1918) войн. Во время гражданской войны командовал корпусом деникинской армии, корпусом и 1-й армией врангелевской армии. Эмигрировал в Болгарию, затем во Францию. С 1928 председатель антисоветского "Русского общевоинского союза"».
Кутепов активизировал антисоветскую деятельность Русского Общевоинского союза (РОВС), и террористов в Советский Союз стали засылать чаще. Это обеспокоило большевистских вождей. Сталин приказал гепеушникам действовать «против РОВС на опережение, чтобы взять врага на замахе». ОГПУ начала готовить акцию по захвату главы РОВСа и тайной доставке его в СССР. Для осуществления этой операции агентов Лубянки стали регулярно посылать в Париж. Как правило, на два месяца. И каждая такая группа пыталась осуществить то, что было разработано в Москве.
В этой операции принял участие и Маяковский. Это наше предположение. Его косвенно подтверждает и письмо Татьяны Яковлевой, которое в феврале 1929 года она отправила матери в Пензу:
«Я совсем не решила ехать или, как ты говоришь, "бросаться" за М., и он совсем не за мной едет, а ко мне и ненадолго».
До наших дней дошли тексты телеграмм, которые Маяковский посылал Татьяне с дороги. Из Москвы полетела такая:
«НАДЕЮСЬ ЕХАТЬ ЛЕЧИТЬСЯ ОТДЫХАТЬ НЕОБХОДИМО РИВИЕРУ ПРОШУ ПОХЛОПОТАТЬ ВМЕСТЕ С ЭЛЬЗОЙ ТЕЛЕГРАФИРУЙ ПИШИ ЛЮБЛЮ СКУЧАЮ ЦЕЛУЮ ТВОЙ ВОЛ».
С российской границы:
«ЕДУ СЕГОДНЯ ОСТАНОВЛЮСЬ ПРАГЕ БЕРЛИНЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ».
Из Праги:
«ПРИЕДУ ЗАВТРА ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ДВА ЧАСА ГОЛУБЫМ ЭКСПРЕССОМ».
И вот Маяковский в Париже.
Аркадий Ваксберг:
«23 февраля он приехал в Париж и снова поселился в своём любимом отеле "Истрия". Эльза уже переехала к Арагону в крошечную мансарду на улице Шато, и всё равно жизнь Маяковского и Татьяны проходила у неё на глазах – "боевые сводки" об этом регулярно отправлялись в Москву».
Приведённая цитата нуждается в небольшом пояснении, касающемся личности упомянутого в ней Арагона. С ним Эльза Триоле связала свою жизнь и прожила с ним до конца дней своих.
Биографический энциклопедический словарь.
«АРАГОН (Aragon) Луи (1897–1982), французский писатель, один из основателей сюрреализма. В 30-е годы преобразования в СССР считал воплощением социализма».
Любовь к Советскому Союзу у Арагона возникла явно под влиянием Эльзы Триоле. Под её воздействием в 30-х годах он начнёт активно сотрудничать с ОГПУ и Коминтерном.
Но вернёмся к прибывшему во Францию Маяковскому.
Первым, с кем встретился приехавший в Париж поэт, был старый-престарый его приятель Лев Гринкруг. Впрочем, воспоминаний об их встрече не осталось, поэтому обратимся к впечатлениям другого Льва (Никулина), которого во Францию тоже прислало ОГПУ (чуть позднее Маяковского):
«1929 год. Начало весны. Париж. На улицах продают фиалки. Звоню по телефону в гостиницу "Истриа", где обычно останавливался Маяковский. Парижские телефоны в то время работали отвратительно. В трубке – шипение, треск, чьи-то заглушённые голоса. Добиваюсь, чтобы попросили к телефону Маяковского, естественно, что говорю с портье по-французски. На русское ухо это звучит так:
– Жэ вудрэ парле мсье Маяковски…
Повторяю два, три раза и вдруг сквозь шипение и треск слышу знакомый бархатный бас:
– Это кто?
Называю себя.
Смеётся и тут же неповторимый голос:
– Так бы и сказали. А то какой-то "Жэ вудрэ". Приходите в пять в "Куполь"».
В парижском кафе «Куполь» Лев Никулин и Владимир Маяковский встретились:
«Он входит в кафе, я вижу его на пороге, приветливо поднимает руку и садится на высокий табурет. Говорит с неожиданной в этом суровом лице благожелательностью:
– Ну, как Москва? Я еду туда пятнадцатого мая.
– Не боитесь схватить грипп после парижской весны?
– А литературная погода? Вы видели моего "Клопа"? Не видели? Не успели?..
С того вечера мы часто встречались на Монпарнасе. Он водил меня по бульвару – из табачных лавочек в цветочный магазин, потом в бильярдные, в привокзальные кафе. Он, не торопясь, мерял тротуары, и не было человека, который бы не оглянулся на него.
Господин де Монзи был прав: стоило показать его Парижу».
Напомним, что весной 1925 года французский сенатор Анатоль де Монзи (председатель сенатской комиссии по русским делам) посетил Москву. В Колонном зале Дома Союзов он увидел выступление Маяковского и сказал:
«– Надо показать эту пасть Парижу».
Тогдашнего Маяковского Лев Никулин описал так:
«У него богатырский рост, на нём добротная, скромная и вместе с тем изящная одежда. (Именно "изящная", хотя он не любил этого слова.) В руках у него – бамбуковая трость, он волочит её за собой, а иногда ставит вертикально перед собой. Прохожие не могут определить национальность этого человека, цвет кожи и глаза – южанина, широкий подбородок, временами губы кривит усмешка – он, вероятно, улыбается собственным мыслям. Он проходит вдоль террасы кафе, его провожают взгляды любопытных парижан и иностранцев, – даже здесь, на Монпарнасе, где привыкли видеть людей со всех концов земли, эта фигура привлекает внимание…
Он часто меняет тему, … но он зорко видит всё, что делается вокруг.
– Вы улиток ели? А филе из лягушек? Не интересно? Почему не интересно? Глядите, как уплетает вон тот, с усиками!.. Пойдём, не платите, я заплачу, денег всё равно нет».
Воспоминания Льва Никулина, конечно, очень интересны. Но их автор слегка перегнул палку, изобразив всё так, будто Маяковский приехал в Париж исключительно для того, чтобы встречаться с ним в кафе «Куполь». Ведь в столице Франции поэта поджидал человек, к которому он питал очень сильные чувства.
Влюблённый поэт
Словно желая в очередной раз продемонстрировать двойственность своего характера, а также своё умение быстро переходить из одного состояния в другое, Владимир Маяковский, приехав в Париж, разительно изменился. Татьяна Яковлева написала матери в Пензу, что её родные, живущие во Франции, с трудом воспринимают советского поэта:
«Бабушка и тётка – классики, и поэтому этого сорта людей не понимают, и его стихи им непонятны».
Но Маяковский, несколько раз приходивший к ней в гости (а стало быть, и к ним), был «любезен с ними невероятно», так что «это их немного покорило».
О том, чем занимался советский поэт во французской столице, Александр Михайлов пишет:
«Очень скудны сведения о пребывании Маяковского в Париже с конца февраля, более двух месяцев (с поездкой в Ниццу и Монте-Карло). Одно можно безошибочно предположить, что разговоры о возвращении Татьяны в Россию велись не раз и не два, …что и на этот раз они не привели к согласию».
Бенгт Янгфельдт, сумевший пообщаться с Татьяной Яковлевой лично, на скупость информации не жалуется. Он пишет:
«Во время двухмесячного пребывания Маяковского во Франции они виделись ежедневно. "В.В. забирает у меня всё свободное время", – сообщала Татьяна матери, объясняя, почему пишет так редко. Их излюбленными местами были "Куполь" и маленький ресторанчик "Гранд шомьер" на Монпарнасе. Поскольку последних американских и французских фильмов в Советском Союзе не показывали, они часто ходили в кино, и свой первый звуковой фильм Маяковский посмотрел вместе с Татьяной в кинотеатре "News"».
Как видим, Владимир Владимирович часто ходил по кинотеатрам, ресторанам и кафе, тратя на это «всё свободное время» (не только время Татьяны Яковлевой, но и своё). А ведь посещением «злачных» мест французской столицы дело не ограничивалось.
Бенгт Янгфельдт:
«Маяковский и Татьяна проводили выходные в Ле-Туке или Девиле на Атлантическом побережье Франции, где их никто не тревожил, и где находилось казино, привлекавшее возможностью пополнить дорожную кассу. Маяковский был щедрым, даже расточительным кавалером, и кошелёк с каждым днём становился тоньше. Он надеялся на деньги от Госиздата, но 20 марта Лили сообщила, что ей отказали в переводе валюты в Париж».
Невольно возникает предположение, что на этот раз сама Лили Брик не захотела переводить во Францию валюту. По своей собственной инициативе или по чьей-то весьма настоятельной рекомендации, сказать трудно. Но убеждает одно – финансировать любовные похождения своего «Волосика» она категорически не желала.
На вопрос, откуда Лили Юрьевна могла знать о том, что происходило в далёкой от Москвы Франции, ответить нетрудно: конечно же, от Эльзы Триоле. Да и кроме неё информаторов было более, чем достаточно. Об этом – Аркадий Ваксберг:
«Жизнь Маяковского в Париже проходила у всех на виду. Это значит, что о каждом его шаге и о каждом слове шёл донос в Москву; в эмигрантской среде уже и тогда были тысячи завербованных Лубянкой глаз и ушей. Маяковского и Татьяну каждый день видели то в "Ротонде", то в "Доме". В "Куполи". В "Клозри де Лила". В "Гранд-Шомьер" или в "Дантоне".
Иногда они уединялись в вокзальных кафе или в квартальных бистро вдали от сборищ эмигрантской элитной богемы. Почему-то и об этих уединённых встречах тоже узнавали в Москве. И могли с точностью проследить, как поднималась всё выше и выше температура их отношений. О Лиле двое влюблённых говорили всё меньше и меньше. За покупками для неё ходили всё реже и реже».
Виктор Шкловский о Маяковском и Татьяне Яковлевой:
«Рассказывали мне, что они были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбались при виде их. Приятно видеть сразу двух хорошо сделанных людей».
Но вот что написал о поэте и его возлюбленной журналист Валентин Скорятин:
«Как пишет Р.Якобсон, Яковлева "встретила уклончиво уговоры Маяковского ехать женой его с ним в Москву…"»
В ту романтическую пору были и другие события, сильно расстраивавшие поэта. Эльза Триоле пишет, что Татьяна…
«И во время романа с Маяковским продолжала поддерживать отношения со своим будущим мужем… И как-то, проводив Татьяну домой, Маяковский увидел в тёмном подъезде или в подворотне, не знаю, поджидавшего её человека.
Тяжёлое это было дело. Я утешала и нянчила Володю, как ребёнка, который только что невыносимо больно ушибся… Я говорила ему, что он ошибся, а если не ошибся, – то ведь надо же Татьяне разделаться с прошлым…
Володя рассеянно слушал и, наконец, сказал: "Нет, конечно, разбитую чашку можно склеить, но всё равно она разбита". Володя не мог простить Татьяне водевильного, пошлого характера этой встречи в подворотне, достойной дамочки, прячущей в чулан любовника от невзначай вернувшегося мужа…
Опомнившись, Володя чувствовал себя перед Татьяной ответственным за всё им сказанное, обещанное, за все неприятности, которые он ей причинил…»
Кроме любовных передряг не следует упускать ещё одного довольно важного обстоятельства, которое определяло жизнь пребывавшего за границей поэта. Даже Бенгт Янгфельдт, уделяющий гораздо больше внимания любовным похождениям Маяковского, чем его связям с Лубянкой, и тот написал:
«Маяковский и Татьяна, разумеется, находились под надзором парижских агентов ОГПУ, и трудно себе представить, чтобы Маяковский не знал (или, по крайней мере, не догадывался), что соотечественники следят за каждым его шагом».
Аркадий Ваксберг:
«Полвека спустя Татьяна вспоминала о пребывании Маяковского весной 1929 года в Париже: "Он хотя и не критиковал Россию, но был явно в ней разочарован". Вряд ли такая информация, если она дошла до Москвы (а она, несомненно, дошла) могла удивить лубянско-кремлёвских товарищей: пьеса "Клоп" говорила о его отношении к новой советской действительности ещё отчётливей, чем признания, сделанные Татьяне».
С этим утверждением трудно согласиться. Ведь, как мы успели уже разобраться, в пьесе «Клоп» «разочарование» было только в Осипе Брике, которого Маяковский просто давил как ненавистное насекомое. Советскую же Россию поэт воспевал по-прежнему.
И о его серьёзнейшем увлечении парижской эмигранткой в Москве было хорошо известно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что денежный ручеёк, который тёк к Маяковскому из СССР, был перекрыт. Кошелёк поэта быстро опустел.
Бенгт Янгфельдт:
«Эту неудачу Маяковский попытался компенсировать за игорным столом, но ему не везло. Он так проигрался в рулетку, что пришлось добираться до Парижа автостопом. "Он великолепно играл во все игры, – вспоминала Татьяна, – но там были люди, которые играли лучше него"».
Ещё на одну примечательную деталь обратил внимание Аркадий Ваксберг:
«В отличие от всех прежних поездок Маяковского, эта практически не отражена в его переписке с Лилей. Переписки попросту не было… За всё время их совместной жизни и любви подобного отчуждения не наблюдалось ни разу».
Может возникнуть и такой вопрос: а не являлась ли неотправка валюты в Париж ещё и своеобразной местью Лили Юрьевны за публичные насмешки над Осипом Максимовичем в пьесе «Клоп»? Наверняка между нею и Маяковским произошёл разговор (возможно, и не один), в котором от Владимира Владимировича были потребованы объяснения. И вряд ли ему удалось оправдаться.
В Париже не только следили за каждым шагом Маяковского, ему, вполне возможно, читали нотации – особенно когда он вернулся из очередной воскресной отлучки без денег. Отчитали его, надо полагать, основательно. Эта неожиданная «взбучка», видимо, очень оскорбила поэта, не привыкшего к тому, чтобы с ним обращались как с рядовым проштрафившемся клерком.
Денег, правда, ему всё-таки дали, пополнили кошелёк, но обиделся Владимир Владимирович, вне всяких сомнений, очень крепко. И решил разом поправить дело – хотя бы в материальном отношении освободиться от зависимости от резидентуры ОГПУ. Для этого в двадцатых числах марта 1929 года он отправился на юг Франции.
Азартный игрок
Перед отъездом из Парижа Маяковский написал Лили Брик:
«Тоскую.
Завтра еду в Ниццу – на сколько хватит. А хватит, очевидно, на самую капельку».
О поездке на юг Франции будет написано стихотворение «Монте-Карло», которое потом напечатает журнал «Огонёк»:
«Мир / в тишине / с головы до пят.
Море – / не запятница.
Спят люди. / Лошади спят.
Спит – / Ницца».
О том, зачем Маяковский поехал в эти края, Янгфельдт написал, что поэт…
«… преследовал две цели: с одной стороны он хотел попытать счастья в казино Монте-Карло, а с другой – встретиться с американскими подругами».
Вот стихотворные строчки о казино:
«Шарик / скачет по рулетке,
руки / сыпят / франки в клетки,
трутся / карты / лист о лист.
Вздув / карман / кредиток толщью
– хоть бери / его / наощупь! —
вот он – / капиталист».
Капиталистам в Монте-Карло везло. А Маяковскому?
Бенгт Янгфельдт:
«Его ждала двойная неудача».
Первая неудача заключалась в том, что в Ницце он не встретил Элли Джонс с трёхлетней Патрицией. Почему?
Аркадий Ваксберг:
«… как раз в эти дни они почему-то уехали в Милан».
Бенгт Янгфельдт:
«… они уже месяц жили у подруги в Милане».
Как же так? Добираться в Европу из-за океана и не встретиться! Вновь случайное стечение обстоятельств?
Ваксберг предположил, что на подобное «стечение» Маяковский и рассчитывал:
«А может быть, эту "случайность" он сам и подготовил? Заведомо не имевший никакого продолжения, обречённый на безвыходность "роман" ещё в большей степени обременял Маяковского, метавшегося (в мыслях и чувствах) между Москвой и Парижем, между "Лиликом" и "Таником", между разумом и сердцем».
Но вряд ли Маяковский в тот момент «метался» – Лубянка цепко держала его на привязи.
А Элли Джонс с дочерью приехали на юг Франции лишь в начале апреля, когда Маяковский уже вернулся в Париж – разминулись всего не несколько дней. Свидеться им было уже не суждено. И в Ниццу поэт ездил, скорее всего, по каким-то гепеушным делам.
Что же касается казино (неудача вторая), то Янгфельдт пишет:
«В Монте-Карло Маяковский проиграл свои последние франки, и, голодный, был вынужден взять взаймы у Юрия Анненкова, который уже несколько лет жил во Франции, и с которым он случайно встретился в Ницце».
Слово «случайно» выделено нами. Потому что и Аркадий Ваксберг пишет о встрече Маяковского с Анненковым примерно такими же словами (включая вновь выделенное нами слово «случайно»):
«В те два или три дня, которые Маяковский понапрасну провёл в Ницце, с ним случайно повстречался известный русский художник-эмигрант Юрий Анненков. <…> Впоследствии Анненков описал эту встречу в своих мемуарах».
Но сначала о том, как описал то весеннее утро и игроков в рулетку сам Маяковский:
«Запрут / под утро / азартный зуд,
вылезут / и поползут.
Завидев / утра полосу,
они поползут, / и я поползу».
А теперь описание того же утра из книги Ю.П.Анненкова «Дневник моих встреч»:
«В последний раз я встретил Маяковского в Ницце, в 1929 году. Падали сумерки. Я спускался по старой улочке, которая скользила к морю. Навстречу поднимался знакомый силуэт. Я не успел ещё раскрыть рот, чтобы поздороваться, как Маяковский крикнул:
– Тысячи франков у тебя нету?
Мы подошли друг к другу. Маяковский мне объяснил, что он возвращается из Монте-Карло, где в казино проиграл всё до последнего сантима.
– Ужасно негостеприимная странишка! – заключил он».
Два биографа Маяковского (скорее всего, не сговариваясь) назвали присутствие Юрия Анненкова в Ницце в тот момент, когда там находился проигравшийся поэт, случайным. Но какая странная эта случайность!
Месяц март – отнюдь не пляжный сезон. Что там было делать русскому эмигранту-художнику? И как вообще Анненков оказался в Ницце в то же самое время, когда там находился Маяковский?
Ответ на эти вопросы напрашивается сам собой – в виде вопроса: а не оказывал ли услуги Лубянке и Юрий Анненков, осуществляя во Франции тайный надзор за советскими гражданами? Не входила ли и слежка за поэтом Маяковским в круг его обязанностей?
Это предположение – не плод разыгравшейся фантазии. Ведь доподлинно известно, что Анненков поехал в Париж в 1924 году как художник-оформитель на открывавшуюся там советскую выставку. Как все уезжавшие из СССР советские граждане в обмен на получение заграничного паспорта он должен был дать подписку о своём согласии сотрудничать с Лубянкой, то есть информировать её обо всём (и обо всех). Без такого «согласия» его просто не выпустили бы из страны. Так что художник Юрий Анненков вполне мог быть информатором ОГПУ.
И в том, что он оказался в Ницце в период глухого межсезонья, нет ничего экстраординарного. Яков Серебрянский мог просто «попросить» его понаблюдать за поэтом, который, будучи чем-то необыкновенно взволнованным, не зная французского языка, неизвестно зачем отправился (без сопровождающих!) на юг Франции. Иными словами, художника попросили как бы «подстраховать» своего давнего приятеля. На такую просьбу грех не откликнуться.
И Анненков поехал вслед за Маяковским. И встретил его без сантима в кармане. Вот как описал он то, что произошло дальше:
«Я дал ему "тыщу" франков.
– Я голоден, – прибавил он, и, если ты дашь мне ещё 200 франков, я приглашу тебя на буйлбез».
«Буйлбез» или «буйабес» (по-французски «Bouillabaisse») – это марсельская уха.
Юрий Анненков:
«Я дал ему 200 франков, и мы зашли в уютный ресторанчик около пляжа… Мы болтали, как всегда, понемногу обо всём и, конечно, о Советском Союзе. Маяковский, между прочим, спросил меня, когда же, наконец, я вернусь в Москву? Я ответил, что я об этом больше не думаю, так как хочу остаться художником. Маяковский хлопнул меня по плечу и, сразу помрачнев, произнёс охрипшим голосом:
– А я – возвращаюсь, …так как я уже перестал быть поэтом.
Затем произошла поистине драматичная сценка: Маяковский разрыдался и прошептал, едва слышно:
– Теперь я… чиновник.
Служанка ресторана, испуганная рыданиями, подбежала:
– Что такое? Что происходит?
Маяковский обернулся к ней и, жестоко улыбнувшись, отвечал по-русски:
– Ничего, ничего… Я просто подавился косточкой…
С тех пор я больше никогда не видел Маяковского».
Удивительный эпизод! Он так и просится в какой-нибудь психологический детектив: в нейтральной стране встречаются два старых приятеля (и два тайных агента), обменивающиеся новостями и тайно прощупывающие настроения друг друга.
Ваксберга эта встреча тоже заинтриговала, и у него возникли вопросы:
«Почему же, однако, он превратился в чиновника, каковым отродясь не был – ни в буквальном, ни в переносном смысле? Что за странное слово, не имеющее никого отношения к тому, чем занимался поэт, подобрал Маяковский? Не был ли "чиновник" эвфемизмом чего-то другого – того, о чём он не мог поведать даже намёком своему эмигрантскому другу? Для рыдания его, разумеется, были и другие, "бытовые", как принято выражаться, куда более прозаичные, но неотвратимо его убивавшие причины».
А стоит ли вообще ломать над этой ситуацией голову? Ведь всё могло быть гораздо проще, и мы уже говорили об этом.
Маяковский приехал в Париж по служебным делам. И Яков Серебрянский решил вновь использовать его в своих «играх» (возбудить ревность у французских поклонников Татьяны Яковлевой). Но влюбившийся всерьёз поэт разрушил все планы резидентуры ОГПУ. И ему сделали замечание, может быть, даже сильно пожурили. Получить подобный «отлуп» (пусть даже за какую-то действительную промашку) Маяковский считал для себя унизительным. Ведь выходило, что никаких его заслуг местное начальство не признаёт и относится к нему как к самому обыкновенному чиновнику. Это всерьёз обидело прославленного поэта. И он поделился всем этим со своим старым приятелем Анненковым.
Как бы там ни было, но Бенгт Янгфельдт, встречавшийся и беседовавший с Татьяной Яковлевой, пишет, что после возвращения Маяковского из Монте-Карло и Ниццы вопрос о свадьбе с Татьяной был поставлен ребром:
«… весной 1929 года Маяковский усилил давление и стал отчаянно уговаривать <её> вернуться в Россию. Одновременно он объяснил ей, как и Анненкову, что на родине его многое "разочаровало". Но и в этот раз Татьяна не смогла принять решение. Может быть, её смущало то, что Маяковский относится к событиям на родине с растущим скепсисом. О том, чтобы он остался во Франции, не могло быть и речи. Покинув СССР, он умер бы как поэт. Без советской атмосферы он не мог дышать, а без Лили и Осипа не смог творить – ведь никто не понимал его личность и не ценил его поэзию так, как они…»
С утверждением Янгфельдта, что «без Лили и Осипа» Маяковский «не мог творить», мы ещё поспорим. А что касается «советской атмосферы», то тут Янгфельдт безусловно прав – вернувшись на родину и вдохнув полной грудью воздух страны Советов, Маяковский вновь становился «агитатором, горланом-главарём», готовым вступить в любой спор, в любую дискуссию, громя всех атакующих и защищая «своих» от нападавших «чужих».
Завершим эту главу рассказом самого поэта (из того же стихотворения «Монте-Карло»):
«Сквозь звёзды / утро протекало;
заря / ткалась / прозрачно, ало,
и грязью / в розоватой кальке
на грандиозье Монте-Карло
поганенькие монтекарлики».
Прощай, Франция!
В это время резидент ОГПУ на Ближнем Востоке Яков Блюмкин под видом всё того же персидского купца Якуба Султанова продолжал торговать древними еврейскими книгами, конфискованными чекистами в синагогах и библиотеках страны Советов, а также у частных лиц. По словам Бенгта Янгфельдта, с этими книгами Блюмкин под…
«… азербайджанско-еврейским именем Якоб Султанов ездил по Европе и продавал книги как можно дороже, что полностью соответствовало интересам его работодателей».
Под словом «работодатели» Янгфельдт имел в виду, конечно же, руководство Лубянки. Впрочем, насчёт Европы, по которой ездил Якуб Султанов, Янгфельдт не совсем точен. Территория, на которой торговал Блюмкин была гораздо обширнее, и в феврале 1929 года, он находился в Индии. Лишь в марте «купец Султанов» прибыл в Германию, где и узнал о выдворении из СССР Льва Троцкого. Блюмкин тут же написал письмо своему шефу Мееру Трилиссеру (главе ИНО ОГПУ). В письме говорилось:
«Высылка Троцкого меня потрясла. В продолжении двух дней я находился в прямо болезненном состоянии. Мои надежды, что радиус расхождения между партией и троцкистской организацией суживается и кризис изживается, что Троцкий сохранён для партии, не оправдались».
А теперь вернёмся во Францию.
Поскольку мы предположили, что Владимир Маяковский с Юрием Анненковым были точно такими же гепеушниками, как и Яков Блюмкин, вполне возможно, что отчёт Юрия Анненкова о встрече с Маяковским в Монте-Карло (может быть, даже гораздо более многословный, чем тот, что вошёл в его мемуары) хранится в лубянских архивах. Где-нибудь рядом с аналогичным отчётом Владимира Маяковского о той же встрече. Вот бы их прочесть!
Аркадий Ваксберг:
«Трудно поверить, что Лубянка уже и тогда не перлюстрировала письма из-за границы, тем более тех, кто её специально интересовал. А то, что Маяковский был под колпаком, что разворачивавшийся его роман с Яковлевой всегда тревожил Лубянских начальников, – в этом нет ни малейших сомнений».
Сотрудники ОГПУ, которые знакомились с письмами Татьяны Яковлевой матери, наверняка обратили внимание на такие строки:
«В людях же разбираюсь великолепно и отнюдь их не идеализирую. Замуж же вообще сейчас мне не хочется. Я слишком втянулась в свою свободу и самостоятельность. <…> Но все другие, конечно, ничто рядом с М<аяковским>. Я, конечно, скорее всего, его выбрала бы. Как он умён!»
Тем временем двухмесячная «командировка» поэта подходила к концу. Владимир Владимирович вновь и вновь ставил перед Татьяной вопрос: либо она вместе с ним едет в Советский Союз и становится его женой, либо…
Но Яковлева возвращаться на родину по-прежнему не торопилась. В апреле 1929 года Маяковский сказал ей, что приедет осенью, в октябре, и они сыграют свадьбу. На том и порешили.
Это обещание поэта (приехать в Париж осенью) очень изумило Аркадия Ваксберга, и он задал вопрос:
«Разве не странно, что Маяковский (не Демьян Будный, не Жаров, не Безыменский, не… – словом, отнюдь не придворный кремлёвский поэт, а всего-навсего беспартийный "попутчик") ездит в Париж, словно в Малаховку, и, покидая его, заранее, с убеждённостью, сообщает о дате своего возвращения, не подвергая никакому сомнению возможность это намерение осуществить?»
Изумлённый Ваксберг привёл и высказывание Лили Брик, сделанное «многие годы спустя»:
«Владимир Владимирович… в любой момент мог поехать, куда он захочет, в любую часть земного шара».
Ваксберг вновь задавался вопросами:
«Но – почему, почему? И на какие деньги?»
И отвечал:
«… каждая поездка требовала хлопот и специальной лубянской санкции. Никто заранее не мог быть уверен в её получении, никто не мог, опять же заранее и с убеждённостью в том, что он не встретит препятствий, планировать свою поездку в Париж, Берлин или Лондон, как если бы собирался отправиться в Ленинград или в Ялту. Маяковский в этом смысле был, пожалуй, единственным, известным нам исключением».
Как видим, Аркадий Ваксберг вновь подошёл вплотную к раскрытию «главной тайны горлана-главаря», заключавшейся в его службе в ОГПУ, но так и не решился эту тайну раскрыть.
О последних днях пребывания Маяковского в Париже (в конце апреля) написал Лев Никулин, тоже ездивший за рубеж, «словно в Малаховку»:
«Я вошёл в номер "Истриа". Это была темноватая комната, она казалась ещё темнее от вишнёво-красных обоев и коричневой мебели…
Всюду в номере лежали газеты, на столе – книги и блокноты. Это было место для ночлега и работы, а не то, что называется жильём…
В комнате отеля "Истиа" нельзя было долго задерживаться: было мрачно и душно. Маяковский… спросил, долго ли я думаю оставаться в Париже, советовал ехать на юг, пока не жарко, и сказал, что уезжает в конце недели».
Как мы помним, при первой парижской встрече с Никулиным Маяковский сказал ему, что уедет в Москву 15 мая. И вдруг (намного раньше объявленной даты) засобирался домой. Почему? Получил приказ? И он (гепеушный «чиновник») обязан был подчиниться?
Как бы там ни было, но 24 апреля Владимир Владимирович послал Лили Брик телеграмму:
«Приеду второго мая. Переведите Негорелое востребования десять червонцев. Целую люблю. Счен».
У Маяковского не на что было доехать до Москвы – все последние деньги он потратил на цветы.
Александр Михайлов:
«Уезжая из Парижа, Маяковский оставил в цветочном магазине деньги, и каждое воскресенье в "оранжерею" Татьяны доставлялся букет роз. Он напоминал ей, что там, в России, в Москве, живёт влюблённый в неё человек, он считает дни до новой встречи…»
Поэт оставил в парижском цветочном магазине не только цветы, но и сопроводительные записки в стихах, которые прикреплялись к каждому доставлявшемуся букету. Вот одна из таких записок:
«Мы посылаем эти розы Вам,
чтоб жизнь / казалась / в свете розовом.
Увянут розы… / а затем мы
к стопам / повергнем / хризантемы.
Маркиз W. M.».
К запискам добавлялись ещё и «примечания»:
«ПРИМЕЧАНИЕ I
Один / (не воз!).
Поить водой.
Чтоб цвёл / и рос
вдвоём с Татой».
ПРИМЕЧАНИЕ II
Я в зависть взят:
проклятый – / стой!
где мне / нельзя
стоять с Татой».
И вновь возникает вопрос: сам ли поэт придумал оставить такое постоянное напоминание о себе или этот ход ему был подсказан резидентом ОГПУ?
А в страну Советов Маяковский вёз замысел новой пьесы. Были готовы даже кое-какие её наброски.
Провожавшие Маяковского в Москву собрались в парижском ресторане. Был среди них и Лев Никулин, который о своих взаимоотношениях с поэтом написал:
«Мы никогда не были близкими друзьями, мы были просто добрыми старыми знакомыми, часто встречавшими друг друга на протяжении семнадцати лет».
И Никулин рассказал о том, как провожали Маяковского:
«В конце недели в день его отъезда я пришёл в ресторан "Гранд Шомье" на проводы. Это были обычные не "дальние" проводы поэта. Его провожали Луи Арагон, Эльза Триоле, один его парижский знакомый – ярый автомобилист, и молодая красивая женщина, которую мы не раз видели с Владимиром Владимировичем в Париже. Это был весёлый обед на прощание, когда люди расстаются, чтобы в скором времени снова встретиться, и нет необходимости прощаться надолго.
На Северный вокзал отправились уже вечером, ехали очень быстро; вёз лихой автомобилист. И вот грязноватый, пропахший каменноугольным дымом Северный вокзал, платформа и прямой вагон Париж-Негорелое (тогда это был пограничный пункт). Мы собрались у вагона, Владимир Владимирович и спутница, провожавшая его, ходили под руку по платформе, пока не пришло время войти в вагон. Последние рукопожатия, шутки на прощанье, смех, и поезд трогается, медленно скрывается из глаз площадка вагона и на ней – высокая фигура со шляпой в руке».
Запомним этого «лихого автомобилиста», он был одним из ухажёров Татьяны Яковлевой. И то, что он провожал уезжавшего поэта, говорит о том, что гепеушное задание Владимир Владимирович выполнил успешно.
Возвращение домой
Как мы помним, в конце 1928 года политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение направить главу советского Государственного банка А.Л.Шейнмана на переговоры с финансистами Соединённых Штатов. И после новогодних праздников Арон Львович (уже в ранге председателя правления акционерного общества «Амторг») отправился за океан.
Переговоры с финансовыми воротилами Америки состоялись и проходили довольно успешно – кредиты стране Советов были обещаны. Но Сталин считал, что разговоры о кредитах можно заводить только после того, как ведущая переговоры страна официально признает Советский Союз. Таким образом, все усилия Шейнмана пошли насмарку. 31 марта 1929 года он вернулся в Германию, где вновь заболел. И объявил, что в Советский Союз возвращаться не желает. Шейнмана принялись уговаривать, чтобы он передумал. В Берлин даже прилетел видный большевик Михаил Томский, чтобы отговорить своего друга от нежелательного решения. Но тот стоял на своём.
А Яков Блюмкин в апреле того же года приехал из Европы в Константинополь. Потом он написал:
«12 апреля, проходя по улице Пера, у туннеля я случайно встретил сына Троцкого, Льва, с которым был хорошо знаком и раньше, поздоровавшись с ним, я уверил его в моей лояльности и попросил информацию».
Узнав, что изгнанный из СССР Лев Троцкий обитает где-то неподалёку, Блюмкин попросил его сына (Льва Седова) устроить ему встречу с его отцом. Встреча состоялась. О ней Блюмкин потом написал:
«16 апреля, разумеется, с соблюдением строжайшей конспирации, чтобы не провалить себя, я имел продолжительное свидание с Троцким».
В той беседе, которая продолжалась четыре часа, Троцкий сказал, что в ближайшее время режим, установившийся в СССР, неминуемо рухнет. Поэтому необходимо срочно создать нелегальную организацию, которая и встанет во главе страны Советов. Блюмкин заявил, что готов участвовать в этой подпольной работе.
20 апреля политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение:
«Немедля сдать в печать постановление Совнаркома об освобождении Шейнмана от обязанностей председателя Госбанка».
Перед фамилией Шейнман буквы «т» не стояло, что говорило о том, что кремлёвские вожди «товарищем» его уже не считали. Члены политбюро назвали того, кто займёт место банкира-невозвращенца: Георгий Пятаков.
В тот же день (20 апреля) участники объединённого пленума ЦК и ЦКК, слушая доклад Алексея Рыкова, узнали о том, что Шейнман стал невозвращенцем. Выступивший в прениях Клим Ворошилов назвал бывшего главу советского Госбанка «чужим человеком» и даже «изменником».
Однако с Шейнманом договорились полюбовно: в качестве «цены за молчание» (то есть за нераскрытие множества известных ему секретов СССР) ему была обещана ежемесячная пенсия в 1000 марок, а также право работать в советских загранучреждениях.
А в столице Венгрии Будапеште в том же апреле была с триумфом показана кинокартина «Буря над Азией» («Потомок Чингисхана»). Фильм собирал полные залы по всей Европе. В нью-йоркском кинотеатре «Рокси» («Roxy»), в котором было 6000 мест, в течение двух недель картина шла с полным аншлагом. Осипу Брику было чем гордиться.
Владимир Маяковский в это время возвращался на родину. Он смотрел в окно вагона и по старой своей привычке сочинял стихи, в которых описывал происходившее вокруг него. Первым взятым на карандаш событием стала проверка паспортов. И появились строки:
«По длинному фронту / купе и кают
чиновник / учтивый / движется.
Сдают паспорта, / и я / сдаю
мою / пурпурную книжицу».
Подобную проверку поэт проходил многократно – порядок есть порядок: гражданам всех стран, пересекавшим государственные границы, предлагалось предъявить свои паспорта, и чиновники их флегматично собирали. Никаких поэтических образов эта бюрократическая процедура обычно не вызывала. Но на этот раз собиравший документы делал это слишком эмоционально:
«К одним паспортам – / улыбка у рта.
К другим – / отношение плёвое».
Когда очередь дошла до паспорта Маяковского, чиновник тоже отреагировал:
«И вдруг, / как будто / ожёгом, / рот
скривило / господину.
Это / господин чиновник / берёт
мою / краснокожую паспортину.
Берёт – / как бомбу, / берёт – / как ежа,
как бритву / обоюдоострую,
берёт, / как гремучую / в 20 жал
змею / двухметроворостую».
Реакцию чиновника понять нетрудно – все европейские газеты были переполнены статьями о том, что рядовых советских граждан большевики за границу не выпускают, а те, кто разъезжает по зарубежным странам с «краснокожими» паспортами на руках, являются сотрудниками спецслужб, посланными что-то выведать или кого-то убить. Маяковский опровергать этого не стал, а завершил стих заявлением, что он гордится своей принадлежностью к этим (готовым выведывать и убивать) обладателям «краснокожей паспортины»:
«Я / достаю / из широких штанин
дубликатом / бесценного груза.
Читайте, / завидуйте, / я – гражданин
Советского Союза».
А за окнами вагона мелькали пейзажи Франции, Германии, Польши. И возникали строчки, которые чуть позднее войдут в стихотворение «Два соревнования»:
«Европу / огибаю / железнодорожным туром
и в дымные дни / и в ночи лунные.
Чёрт бы её взял! – / она не дура,
она, товарищи, / очень умная.
Здесь / на длинные нити расчёта
бусы часов / привыкли низаться,
здесь / каждый / друг с другом / спорит / до чёрта
по всем правилам рационализации…
Мордами пушек / в колонии тычась,
сковывая, / жмя / и газами пованивая,
идёт / капиталистическое
соревнование.
Они соревнуются, / а мы чего же
нашей отсталости / отпустили ножки?».
И поэт начинал «соревноваться» с Западом, сравнивая жизнь в стране Советов с тем, как живут европейцы. Но почему-то внимание Маяковского обращалось только на зарубежных женщин. Одна из них (девушка лёгкого поведения) стала героиней стихотворения «Заграничная штучка»:
«Стихом / беспардонным
пою, / забывши / меру —
как просто / за кордоном
сделать / карьеру».
Но в стихотворении «Парижанка» поэт тут же напоминает:
«… очень / трудно / в Париже / женщине,
если / женщина / не продаётся, / а служит».
А стихотворением «Красавицы (раздумье на открытии Grand Opera)» как бы подводится итог:
«Брошки – блещут… / на тебе! —
с платья / с полуголого.
Эх, / к такому платью бы
да ещё бы… / голову».
Название для другого стихотворения («На западе всё спокойно»), видимо, подсказали мирные пейзажи, продолжавшие мелькать за окнами вагона. Но поэт и в них углядел подготовку к грядущим сражениям:
«Сидят / по кафе / гусары спешенные.
Пехота / развлекается / в штатской лени.
А под этой / идилией – / взлихораденно-бешеные
военные / приготовления».
И Маяковский тотчас противопоставил тому, что увидел на Западе, позицию своей страны – ту, которую вдалбливала в головы советских граждан официальная большевистская пропаганда:
«Мы / требуем мира. / Но если / тронете,
мы / в роты сожмёмся, / сжавши рот.
Зачинщики бойни / увидят / на фронте
один / восставший / рабочий фронт».
Уже вернувшись в Москву, Владимир Владимирович написал стихотворение «ДОЛОЙ! Западным братьям», которое завершалось безжалостно-беспощадным призывом к «пролетарию» быть готовым стать убийцей:
«На всей планете, / товарищи люди,
объявите: / войны не будет!
И когда понадобится / кучки / правителей и правительств
истребить / для мира / в целом свете,
пролетарий – / мира / глашатай и провидец —
не останавливайся / перед этим!»
Московские будни
2 мая 1929 года Маяковский вернулся в Москву.
Яков Серебрянский, который курировал поэта в Париже, приехал на родину ещё раньше. В начале марта его наградили нагрудным знаком «Почётный чекист», а 1 апреля назначили начальником 1-го отделения ИНО ОГПУ (руководителем нелегальной разведки). Он также возглавил Особую группу при председателе ОГПУ («группу Яши»). Был ли включён в неё Владимир Маяковский, неизвестно – Лубянка хранит свои тайны. Но, скорее всего, поэт в эту группу вошёл.
Сразу по возвращении домой у Владимира Владимировича состоялся разговор с Лили Юрьевной. Он ознакомил её со своим твёрдым и окончательным решением о предстоящей женитьбе, которая должна была произойти в Париже.
Аркадий Ваксберг:
«Разговор, вероятно, был слишком бурным, доводы "против" на него не подействовали, и в сердцах Лиля разбила какую-то драгоценность: то ли шкатулку, то ли чашку из китайского фарфора. Но Маяковский не отреагировал даже на это. Было совершенно очевидно, что он и Лиля стремительно разлетаются в разные стороны».
Никакие доводы, которые приводил Владимир Владимирович, на Лили Юрьевну не действовали – у неё на всё, что происходило вокруг, было своё особое мнение, которое менять она не хотела. Осип Максимович был с нею, надо полагать, солидарен. Кто знает, возможно именно тогда Маяковский и начал сочинять им свой стихотворный ответ, который был опубликован осенью под названием «Стихи о Фоме». Напомним, что с именем «Фома» в России было крепко-накрепко связано прилагательное «неверующий». Стихотворение заканчивалось прямым обращением к самой Лили Брик (она вполне могла быть названа «товарищем Фомой») и к семейству Бриков вообще (им было придумана кличка «Фоминая шатия»):
«Послушайте, / вы, / товарищ Фома!
У вас / повадка плохая.
Не надо / очень / большого ума,
чтоб всё / отвергать / и хаять.
И толк / от похвал, / разумеется, мал.
Но слушай, / Фоминая шатия!
Уж мы / обойдёмся / без ваших похвал —
вы только / труду не мешайте».
О том, какому именно «труду» не должна была «мешать» ставшая поэту просто ненавистной «Фоминая шатия», в стихотворении не говорилось. Но догадаться, что Маяковский имел в виду, нетрудно – ведь он собирался нанести мощнейший удар по семейству Бриков. По сравнению с опубликованием стихотворения, посвящённого Татьяне Яковлевой, этот удар должен был стать ещё более сокрушительным. Но его нужно было очень хорошо подготовить.
Пока же Владимир Владимирович, вновь превратившись в активного горлана-главаря, включился в жизнь советской столицы. Николай Асеев:
«Маяковский был для меня человеческим чудом, чудом, которое, однако, осязаемо и зримо ежедневно… Всё в нём было по мне, дорого и сродно. И его величественность "медлительного и вдумчивого пешехода", который, "мир огромив мощью голоса", идёт по Москве, оглядывая её, как повелитель, и его мальчишеская ухмылка и уловка в самые неожиданные моменты, и его грозное посапывание, когда что-нибудь не нравилось ему в собеседнике. Но главное – это, повторяю, была близость к чуду, его каждодневное возникновение как обычного явления, как восход луны, шум поезда».
4 мая для членов Главреперткома (Главного комитета по контролю за репертуаром при Наркомпросе) в театре имени Мейерхольда (ГосТИМе) был устроен просмотр уже почти готового спектакля по пьесе Ильи Сельвинского «Командарм 2».
Маяковский пришёл на просмотр вместе с Яковом Аграновым. В специальном журнале, регистрировавшем пришедших, надо было указать фамилию и организацию, которую представлет пришедший. Агранов написал: «ОГПУ», Маяковский: «Вселенная».
В.В. Маяковский. Москва, 1929. Фото: А.А. Темерин
После того, как показ спектакля завершился, среди зрителей, приглашённых на просмотр, Владимир Владимирович неожиданно увидел и свою старую знакомую – Наталью Симоненко (Рябову), которая потом написала:
«В фойе театра я услышала над собой знакомый и родной голос:
– Натинек, как вам эта гнусь нравится? – Маяковский стоял громадный, сияющий в светлом желтоватом костюме с красным галстуком».
Затем состоялось обсуждение, проходившее под председательством главы Главреперткома Фёдора Раскольникова, который к тому же являлся ещё и председателем Художественно-политического совета театра.
Мейерхольд, выступив перед собравшимися, повторил свои слова, сказанные два месяца назад (4 марта) на предыдущем заседании Художественно-политического совета:
«– Я ухватился за эту пьесу, потому что она даёт возможность проветрить воздух на сцене. Мы получили совершенно изумительный язык!».
Но именно этот язык «Командарма 2» вызвал претензии у тех, кто посмотрел пьесу. Некоторые из выступавших решительно требовали запрещения не только спектакля, но и пьесы. Особенное возмущение вызывала фраза, которую скандировали актёры, исполнявшие роли красноармейцев:
«Да здравствует, да здравствует, да здравствует война!»
Многие требовали изменить название спектакля.
В обсуждении, которое было весьма бурным, принял участие и Маяковский. Он сказал:
«Товарищи, я нахожусь по сравнению с Сельвинским в более благоприятных условиях. Моя пьеса уже поставлена, и её уже отругали. Если бы я подобрал статьи, взаимно друг друга исключающие, то оказалось бы, что ничего нет…
Для того, чтобы пьесу снять, для этого должны быть очень серьёзные предпосылки. Мне кажется, что таких предпосылок нет. Такие мелочи, как "Да здравствует война!", не могут решать судьбы пьесы. Может быть, надо вставить: "Да здравствует гражданская война!"
Мы сегодня занялись делом, которым должны заняться печать и общественность. Нам не нужно брать на себя эти функции. Если так подходить к спектаклю, то, конечно, он должен быть разрешён. Посмотрим – он или пойдёт, или лопнет».
Одна из членов Главреперткома, взяв слово, стала искать способы исправления неудачных, по её мнению, строк:
«– Есть такие моменты, которые идеологически могут вызвать большие недоразумения, например – "Да здравствует война!". Никогда так не говорили. Маяковский предлагает сказать – "гражданская война"».
Маяковский с места тут же ответил:
«– Мне бы со своими стихами справиться, где мне чужие исправлять?»
Когда обсуждение завершилось, Главрепертком постановил: спектакль разрешить. Но потребовал:
а) изменить название спектакля и слова «Да здравствует война!»,
б) сократить монологи главного героя трагедии – Оконного,
в) снять введённую Мейерхольдом сцену расстрела Оконного за совершённый им захват поста командующего армией.
Объявив свой вердикт, члены Главреперткома удалились, а Художественно-политический совет ГосТИМа заседание продолжил. И вновь слово взял Маяковский. Обратим внимание, что на этот раз он выступал уже не как посторонний «советчик», а как весьма заинтересованное лицо (он был членом Художественно-политического совета театра), и теперь спектакль был тоже как бы его:
«Для меня самое главное опасение заключалось в том, что пьесу не разрешат. Я потому и вышел разговаривать, что мне казалось, что постановка пьесы держится на ниточке.
Сейчас нужно подвести итог. Пьеса разрешена. Дальше – требуют изменений. Чи согласимся, чи нет, – будем разговаривать. Частично мы приняли те изменения, о которых говорилось. Сократить монологи мы можем – это уже 25 % уступок. "Да здравствует война!" можно изменить. Это уже 50 % удовлетворения. Дальше – относительно названия. <…> На месте Сельвинского я бы сказал: назовите, как хотите. Тогда произведено 75 % уступок. Остаётся 25 %.
Основное препятствие – это последняя сцена. Непонятно, почему разгорелись споры. Мне кажется, самое главное – нужно отпраздновать победу, что пьеса разрешена к постановке».
Всеволод Мейерхольд был более категоричен – он отказался вносить какие-либо изменения в уже готовый спектакль. Художественно-политический совет поддержал режиссёра.
В конце концов, театр добился разрешения на показ спектакля в том виде, в каком он был показан членам Главреперткома.
Надо полагать, именно тогда и состоялся разговор двух драматургов, о котором Илья Сельвинский позднее вспоминал:
«Маяковский. – После "Командарма" вы должны открыто заявить, что вы поэт рабочего класса. От вас этого ждут.
Сельвинский. – Кто ждёт?
Маяковский. – Партия. Агитки надо писать, Илья. Попробуйте!
Сельвинский. – Это не по мне. Это всё равно, что делать барабаны из красного дерева.
Маяковский. – Партия терпит все ваши выходки ради вашего огромного таланта. Партия верит, что рано или поздно вы станете полезным человеком. Старайтесь только, чтобы вас не расстреляли: эту уже непоправимо».
Владимир Маяковский говорил так, словно он старый партиец, занимающий какой-то ответственный пост.
Премьера «Командарма 2» состоялась 24 июля 1929 года во время гастролей ГосТИМа в Харькове. Харьковская газета «Пролетарий» 28 июля поместила рецензию:
«Сельвинский чрезвычайно ярко показал трагедию той части интеллигенции, которая внешне приняла революцию, но в своей сущности осталась чужда ей. Тема эта не новая, но ещё никто не показал её так выпукло и образно, как это сделал Сельвинский».
Ленинградский журнал «Жизнь искусства» 4 августа высказался тоже:
«“Командарм 2” – это первая трагедия о революции за 12 лет после Октября. Это крупное событие сегодняшней литературы».
6 августа воронежская газета «Молодой коммунар» заметила:
«Пьеса ставит проблему вождя и масс, индивидуализма и коллективизма».
«Комсомольская правда» заявила:
«“Командарм 2” – спектакль нужный».
«Московский комсомолец» добавил:
«Спектакль труден для восприятия, но он волнует пролетарского зрителя».
В октябрьском номере журнала «Жизни искусства» говорилось:
«“Командарм 2” – патетическая “агитка”».
Газета «Рабочая Москва» 20 октября взглянула на спектакль с другой стороны:
«Режиссёр несколько опростил поэму, снизил её художественные достоинства».
«Известия»:
«Мейерхольд уплотнил, сконцентрировал, перемонтировал весь материал трагедии».
А «Литературная газета», сообщая о премьере «Командарма 2» и говоря о философском богатстве («диалектике») стихотворной пьесы, прямо сказала, во что её превратил режиссёр:
«К сожалению, эта диалектическая геометрия поэмы не получила реализации в театре и была переведена режиссурой в план агитационного примитива».
Прочитав статью, Сельвинский записал:
«Эта последняя фраза окончательно рассорила со мной старика Меера. Ergo: он с ней согласен».
Напомним, что слово «ergo» в переводе с латинского означает «следовательно».
Впрочем, сороковой номер журнала «Современный театр» взял режиссёра под защиту:
«Мейерхольд спас “Командарма” для зрителя, хотя Сельвинский считает, что снизил до “примитивной агитки”».
Но cсора Сельвинского с Мейерхольдом произошла уже ближе к осени. Мы же торопиться не будем и вернёмся в первую половину мая, когда у Маяковского произошёл окончательный…
«Семейный» разлад
Готовясь к предстоящей лекционной поездке по Кавказу и Крыму, Маяковский обратился в Главное управление по делам литературы и издательств (в Главлит или, как тогда говорили, к цензорам) с заявлением, в котором мы впервые встретим слово «Реф»:
«В Главлит
От В.Маяковского
Прошу разрешить афишу выступления по прилагаемой теме “Старое и новое”.
Основной частью выступления являются стихи, печатавшиеся в газетах и журналах, стихи сопровождаются комментарием-докладом, объясняющим технологию поэтической работы и основные пути развития современной поэзии от Лефа, т. е. формальной новизны, к Рефу (революционный фронт искусств), т. е. к сознательной установке на революционную, пролетарскую роль произведений искусства.
Вл. МАЯКОВСКИЙ
12/V— 29.».
Такие вот приходилось подавать тогда прошения на выпуск всего лишь афиши.
Что же касается дел семейных, то ситуация тут сложилась такая. Объявив Лили Брик о своём намерении жениться на Татьяне Яковлевой и привезти её в Москву, Маяковский сразу же резко обострил отношения в «семье».
Валентин Скорятин о поездке поэта во Францию высказался так:
«Ведь ещё ни разу до этого он не задерживался там так надолго. 67 дней! Свыше двух месяцев – не это ли обстоятельство насторожило, вернее, испугало его "домашних"?»
Аркадий Ваксберг:
«Ни одна другая влюблённость Маяковского не длилась так долго и не была столь интенсивной. Ни одна другая – после "радостнейшей даты" (встреча с Лилей и Осипом) – не оставляла никакого следа в его поэзии. Вероятность супружества была на этот раз достаточно велика, так что позволить событиям развиваться естественно – в надежде, что они, как бывало в прошлом, ни к чему не приведут, – на это Лиля пойти не могла».
Бенгт Янгфельдт:
«За обеденным столом в Гендриковом переулке велись долгие и отчаянные разговоры. Судя по записям Лили, она пыталась убедить Маяковского в том, что Татьяна не такая, как ему кажется, что у неё есть другие любовники, и что, даже если она выйдет за него замуж, она никогда не последует за ним в Москву… Но его чувства к Татьяне были глубже симпатии к Наташе Брюханенко, и аргументы не действовали.
8 мая, с опозданием на один день, он поздравил Татьяну с двадцатитрёхлетием, а 15 мая отправил ей письмо-телеграмму. Это был ответ на несохранившееся письмо, в котором она, по-видимому, упрекала его за то, что он не пишет».
В этом своём письме («письме-телеграмме») Маяковский оправдывался, а также рассказывал о своих планах на будущее и о своих чувствах:
«Только сейчас голова немного раскрутилась, можно немножко подумать и немного пописать. Пожалуйста, не ропщи на меня и не крой – столько было неприятностев от самых мушиных до слонячих размеров, что, право, на меня нельзя злобиться…
1) Я совершенно и очень люблю Таника.
2) Работать только что начинаю, буду выписывать свою "Баню"…
6) Еду из Москвы около 15–25 июня по Кавказу и Крыму – читать.
7) Пиши мне всегда и обязательно и телеграфируй, без твоих писем мне просто никак нельзя.
8) Тоскую по тебе совсем небывало.
9, 10, 11, 12 и т. д. Люблю тебя всегда и всю очень и совершенно…
С сентября начну приделывать крылышки для полёта на тебя…
Таник, родной и любимый, не забывай, пожалуйста, что мы совсем родные и совсем друг другу нужные».
Казалось бы, всё шло своим чередом – по плану, составленному ещё в Париже: сначала надо написать пьесу и отдать её для постановки Мейерхольду, затем заработать денег на выступлениях в Крыму и на Кавказе, и после этого ехать во Францию – на свою свадьбу.
Впрочем, возникает вопрос. Маяковский заключил с ГосТИМом договор о написании «Комедии с убийством», а в письме-телеграмме Татьяне речь идёт о какой-то «Бане». Это что? Название «Комедии с убийством»?
Ответ на этот вопрос мы дадим чуть позднее, а сейчас попытаемся выяснить, как к планам Маяковского относилась Татьяна Яковлева.
Эльза Триоле:
«… ей, естественно, казалось, что так любить её, как её любит Маяковский, можно только раз в жизни. Неистовство Маяковского, его "мёртвая хватка", его бешеное желание взять её "одну или вдвоём с Парижем", – откуда ей было знать, что такое у него не в первый и не в последний раз? Откуда ей было знать, что он всегда ставил на карту всё, вплоть до жизни? Откуда ей было знать, что она в жизни Маяковского только экзотическое лицо?
Она недооценивала его любовь оттого, что этого хотелось её самолюбию, уверенности в своей неотразимости, красоте, необычайности… Но она не хотела ехать в Москву не только оттого, что она со всех точек зрения предпочитала Париж: в глубине души она знала, что Москва – это Лиля».
Аркадий Ваксберг:
«Есть версия, что Лиля и Осип были официально допрошены на Лубянке обо всём, что им известно про связь Маяковского с Татьяной Яковлевой и про его планы на дальнейшую с ней жизнь. Никаких подтверждений этой версии пока не найдено, да и вряд ли была нужда в официальных допросах. Доверительные отношения между Бриками и лубянскими бонзами позволяли последним получать любую информацию, не прибегая к какой-либо казённой процедуре, унижающей Бриков и потому бесполезной. Так что если их и допрашивали, то, скорее всего, не на Лубянке, а в Гендриковом, за чайным столом с пирожками, где Агранов и прочие сиживали чуть ли не ежедневно».
Кто знает, может быть, придя вместе с Аграновым в ГосТИМ (на сдачу «Командарма 2»), Маяковский обсуждал с Яковом Сауловичем и ситуацию с Татьяной Яковлевой.
Между тем Лили Брик тоже не дремала. Будучи категорически несогласной с планами Маяковского, она придумала свой план. Хотя вполне возможно, что «придумывать план» ей помогал давний друг «семьи» Яков Агранов. Этот план гарантировал полную ликвидацию свадебной угрозы. Осуществление задумки было поручено Осипу Брику, потому что сама Лили Юрьевна была в тот момент очень занята.
Аркадий Ваксберг:
«Лили переживала в это время свой очередной роман – последний при жизни Маяковского. Последний, которому он был свидетель. <…> Новым избранником оказался некий Юсуп Абдрахманов – какая-то киргизская шишка, выдвиженец, занимавший в своей горной республике высокий государственный пост».
Бенгт Янгфельдт:
«Из всех поклонников Лили Юсуп Абдрахманов – фигура наиболее загадочная. С 1927 года он был председателем Совнаркома в только что созданной Киргизской Советской Республике и членом Центрального Исполнительного комитета СССР. Во время одного из визитов в Москву он познакомился с Маяковским и Лили, но когда именно он попал под её обаяние, неизвестно».
Юсупа Абдрахманова (в один из его приездов в Москву) «навела» на Маяковского и Лили Брик сосланная в Среднюю Азию оппозиционерка Мария Натансон. Видимо, она списалась с Владимиром Маяковским и представила ему своего лучшего друга и стойкого большевика Юсупа.
Есть другая версия знакомства Юсупа Абдрахманова с Бриками и Маяковским, изложенная Василием Васильевичем Катаняном:
«Он имел какие-то дела с лефовцем Борисом Кушнером, который и привёл его в Гендриков. Ни у кого, кроме Лили Юрьевны, он интереса не вызвал».
Вряд ли стоит сомневаться в том, что для Лили Брик это было очередным заданием Лубянки: очаровать киргизского «выдвиженца» и проверить его на верность «большинству ЦК». Это было точно такое же задание, какое давалось Лили Брик в 1922 году, когда ей было поручено «раскрутить» Александра Краснощёкова на кабацкий загул. Тогда Лили Юрьевна с поручением справилась – директора Промбанка «раскрутила». Затем она «раскручивала» Льва Кулешова. Потом тщетно пыталась «раскрутить» Всеволода Пудовкина. Теперь на верность революции ей предстояло проверить нового «избранника» Лубянки.
Аркадий Ваксберг:
«Лиля была слишком умна, чтобы относиться всерьёз к прельстившему её своей экзотичностью, заведомо "проходному" Юсупу».
На этот раз задача, стоявшая перед Лили Юрьевной, была попроще: новый её «суженный» был не чета Краснощёкову и Кулешову.
Но и на увлечение Маяковского, грозившее завершиться свадьбой, смотреть сквозь пальцы Лили Брик, конечно же, тоже не могла, так как прекрасно понимала:
«Любая его жена никакой "двусемейственности" не потерпела бы».
К этому весьма точному высказыванию Аркадия Ваксберга, добавим ещё одно (его же):
«Вполне понятная по-человечески (по-женски – тем более) эгоистичность дополнялась искренней убеждённостью Лили в том, что "нормальная" семья Маяковскому вообще не нужна, что для семейной жизни в привычном смысле этого слова он попросту не создан, что, став мужем, а то ещё и отцом, он потеряет себя как поэта и как трибуна, и что лишь тот дом, который она, Лиля, ему создала, лишь та свобода, которой он пользуется, не имея при этом ни малейших забот о быте, – лишь такой образ жизни гарантирует ему творческий подъём и духовную удовлетворённость».
На ликвидацию «свадебной угрозы» был брошен Осип Максимович Брик.
Коварный план
Осип Брик получил задание познакомить Маяковского с дамой, которая могла бы отвлечь его от Татьяны Яковлевой. И Осип Максимович, так эффектно осмеянный в «Клопе», решил ответить тоже достаточно элегантно. Он пригласил…
Аркадий Ваксберг:
«13 мая 1929 года Осип Брик неожиданно позвонил артистке Веронике Полонской – Норе, как её называли коллеги, знакомые и друзья, – и пригласил на бега. Брика она, разумеется, знала, но достаточно отдалённо, и не могла предположить, что он за ней станет ухаживать. Другой причины, побудившей Осипа вдруг вызвать на ипподром мало ему знакомую женщину, Нора представить тогда не могла.
Куда лучше она знала Лилю, которая вместе с Виталием Жемчужным была режиссёром пародийного фильма "Стеклянный глаз", где Нора сыграла одну из главных ролей, заслужив лестные отзывы привередливых критиков».
Бенгт Янгфельдт добавляет:
«Несмотря на молодость – она родилась в 1908 году – красавица Нора уже четыре года была замужем за коллегой-актёром МХАТа Михаилом Яншиным; но брак был неудачным, и каждый из них жил своей жизнью».
Итак, на московском ипподроме, где должны были состояться скачки, стали собираться их любители.
Александр Михайлов:
«Маяковский, в отличие от своего друга Асеева, не был большим любителем скачек, но как-то так устроилось, что он на ипподроме оказался. И туда же Осип Максимович привёз молодую актрису МХАТ Веронику Полонскую».
Маяковского, надо полагать, тоже кто-то «привёз» на бега. Скорее всего, его зазвал на ипподром тот же Осип Брик.
Валентин Скорятин:
«Вероника Витольдовна Полонская… рассказывала мне, что встретила в тот майский день на ипподроме, неожиданно для себя, немало знакомых – Катаева, Олешу, Пильняка, Ливанова, Маркова, своего мужа Яншина. Среди них был и незнакомый ей высокий мужчина».
Аркадий Ваксберг:
«… вместе с Норой отправился любоваться бегами и её муж. Компания собралась, как обычно, большая – присутствие в ней Маяковского никого удивить не могло. Здесь и познакомилась с ним Нора по-настоящему – до этого ей приходилось видеть его лишь издали и мельком.
Ни он, ни Нора не могли догадаться, какой сценарий разработала Лиля: устроив им "случайное" свидание, она была уверена в том, что на этот раз Маяковский не упустит возможности приударить за барышней, относившейся к его традиционному вкусу. Во всяком случае, заметит её. Большего – для отвлечения – Лиле пока было не нужно».
И Осип Брик начал действовать в полном соответствии с разработанным Лили Юрьевной (и, надо полагать, одобренным Яковом Аграновым) «сценарием».
Вероника Полонская впоследствии написала в воспоминаниях:
«Когда Владимир Владимирович отошёл, Осип Максимович сказал:
– Обратите внимание, какое несоответствие фигуры у Володи: он такой большой – на коротких ногах.
Действительно, при первом знакомстве Маяковский мне показался каким-то большим и нелепым в белом плаще, в шляпе, нахлобученной на лоб, с палкой, которой он очень энергично управлял. А вообще меня испугала вначале его шумливость, разговор, присущий только ему.
Я как-то потерялась и не знала, как вести себя с этим громадным человеком».
Практически все маяковсковеды пишут, что Владимир Владимирович (как и рассчитывала Лили Брик) на неожиданную гостью внимание обратил. И не только обратил. Полонская ему понравилась!
Вот как, по её же собственным словам, события развивались дальше:
«Все сговорились поехать вечером к Катаеву.
Владимир Владимирович предложил заехать за мной на спектакль в Художественный театр на своей машине, чтобы отвезти меня к Катаеву.
Вечером, выйдя из театра, я не встретила Владимира Владимировича, долго ходила по улице Горького против телеграфа и ждала его. В проезде Художественного театра на углу стояла серая двухместная машина.
Шофёр этой машины вдруг обратился ко мне и предложил с ним покататься. Я спросила, чья это машина. Он ответил: "Поэта Маяковского". Когда я сказала, что именно Маяковского я и жду, шофёр очень испугался и умолял меня не выдавать его.
Маяковский, объяснил мне шофёр, велел ждать его у Художественного театра, а сам, наверное, заигрался на бильярде в гостинице "Селект"».
Сразу вспоминается, что день знакомства Владимира Маяковского с Татьяной Яковлевой тоже завершился поездкой на автомобиле, но какой! Приведём ещё раз фрагмент из книги Бенгта Янгфельдта:
«…он предложил проводить её домой. В такси было холодно, и он снял с себя пальто и укрыл ей ноги. “С этого момента я почувствовала к себе такую нежность и бережность, не ответить на которую было невозможно”, – вспоминала Татьяна».
На этот раз ни «нежности», ни «бережности» Маяковский не проявил, он вообще забыл о том, что обещал «отвезти» свою новую знакомую «к Катаеву», и играл в бильярд.
Вернёмся к воспоминаниям Вероники Полонской:
«Я вернулась в театр и поехала к Катаеву с Яншиным. Катаев сказал, что несколько раз звонил Маяковский и спрашивал, не приехала ли я. Вскоре он позвонил опять, а потом и сам прибыл к Катаеву.
На мой вопрос, почему он не заехал за мной, Маяковский ответил очень серьёзно:
– Бывают в жизни человека такие обстоятельства, против которых не попрёшь. Поэтому вы не должны меня ругать…
Мы здесь как-то сразу понравились друг другу, и мне было очень весело. Впрочем, кажется, и вообще вечер был удачный.
Владимир Владимирович мне сказал:
– Почему вы так меняетесь? Утром, на бегах, были уродом, а сейчас – такая красивая…
Мы условились встретиться на другой день».
Причину внезапной возникшей влюблённости Маяковского Александр Михайлов объяснил так:
«Не сыграла ли тут роль – помимо женственности и обаяния молодой актрисы – ещё и то обстоятельство, что она оказалась внешне очень похожей на Татьяну Яковлеву? Подруга Полонской, актриса МХАТ Михайловская, встретившись несколько лет спустя с Яковлевой в Париже, была поражена их сходством. Она только отметила разницу в росте. Как бы там ни было, после знакомства на скачках начались встречи Маяковского с Полонской».
Сейчас, пожалуй, уже невозможно с точностью установить, кому именно посвящалось четверостишие из неоконченного стихотворения Маяковского:
«Любит? Не любит? Я руки ломаю
и пальцы / разбрасываю, разломавши
так рвут загадки и пускают / по маю
венчики встречных ромашек».
Чьим чувством к нему интересовался в этих строках поэт? Татьяны Яковлевой? Или Вероники Полонской?
Как бы там ни было, но на следующий день (после ипподрома и вечеринки у Катаева) они встретились. Маяковский пригласил Веронику в гости – в свой, как он его называл, «рабочий кабинет».
«Я была очень удивлена, узнав о существовании его рабочего кабинета на Лубянке.
Дома у себя – на Лубянке – он показывал мне свои книги. Помню, в этой комнате стоял шкаф, наполненный переводами стихов Маяковского почти на все языки мира».
Через несколько дней Маяковский уехал в Ленинград, где 21 мая вместе с другими ленинградскими писателями встречал в порту писателя Бруно Ясенского (Виктора Яковлевича Зисмана).
Ясенский был выслан из Франции за роман «Я жгу Париж», написанный в ответ на памфлет Поля Морана «Я жгу Москву» (в которой была описана «семья» Бриков и Маяковского). Среди встречавших была и Анна Абрамовна Берзинь, обожавшая, как мы помним, поэта Сергея Есенина.
В тот же вечер в Европейской гостинице состоялся банкет в честь прибывшего гостя. 26-летний ленинградский поэт Виссарион Саянов вспоминал:
«У входа в банкетный зал Маяковского встретил модный литератор, смазливый, самонадеянный, в новеньком с иголочки костюме, распространяющий вокруг себя благоухание крепких духов. Десять минут назад Маяковский говорил мне о нём как о пошляке, как о бездарности, и вот неожиданно он первым повстречался нам…
Но сейчас Маяковский был настроен благодушно.
– Вы стали очень красивы, – с ласковой иронией сказал Маяковский, обращаясь к модному литератору, окружённому восторженными почитательницами.
Модный литератор обиделся, выпятил петушиную грудь и зло сказал:
– Чего нельзя сказать о вас, Владимир Владимирович…
Маяковский выпрямился, глаза его снова стали озорными, насмешливыми.
– Вот поэтому-то я и просил издательство, чтобы к моей книге приложили ваш портрет: авось, больше покупать станут».
После окончания банкета – уже поздно вечером – вместе с Бруно Ясенским Маяковский отправился в Москву.
Там его ждала Вероника Полонская, которая впоследствии написала:
«Я стала бывать у него на Лубянке ежедневно. Помню, как в один из вечеров он провожал меня домой по Лубянской площади и вдруг, к удивлению прохожих, пустился на площади танцевать мазурку, один, такой большой и неуклюжий, а танцевал очень легко и комично в то же время».
Последний роман
Весной и летом 1929-го Маяковский посвящал своё время не только Веронике Витольдовне Полонской. Он писал стихи, выступал на самых разных диспутах и прочих мероприятиях. Об этом – в воспоминаниях Натальи Брюханенко:
«28 мая Маяковский пригласил меня провести с ним вечер и для начала пойти в Институт журналистики, где он должен выступать…
Когда мы пришли в клуб, на сцене шла так называемая официальная часть торжественного вечера. А в артистической ожидали начала концерта актёры, певцы и музыканты.
Маяковского попросили тоже подождать, но он возмущённо заявил, что будет читать стихи только в официальной части, сейчас же после доклада. Он растолковал, что он не концертный чтец-декламатор, и наотрез отказался выступать вместе с князем Игорем и Кармен».
В ту пору у Маяковского было ещё одно важное дело – надо было реформировать лефовское сообщество. Ведь пока он разъезжал по заграницам, в Лефе верховодили Брики. И поэт-конструктивист Николай Адуев уже пророчески восклицал:
«Вам недолго царствовать, дорогой мистер Леф!
Адью – до ближайшей схватки!»
Но Маяковский всё ещё продолжал верить, что кардинальные реформы смогут спасти Леф. Идея создать вместо Левого фронта искусств Революционный фронт (Реф), появившаяся в мае-июне 1929 года, привела к раздумьям и шумным обсуждениям. В протоколе организационного собрания говорилось:
«Слушали:
3. О задачах Рефа.
Постановили:
3. Первый параграф устава Рефа отредактировать так: "Реф ставит своей единственной целью агитацию и пропаганду революционного строительства социализма"».
И Маяковский принялся «рулить» новой группой единомышленников, которые стали именовать себя рефовцами.
Александр Михайлов:
«… он, как могучий корабль в штурмующем море, на ходу заделывал пробоины, шёл вперёд, прокладывал маршрут в "незнаемое".
Пришлось заделывать пробоины и в лефовском корабле. <…> Приходилось менять название Леф на Новый Леф, затем Реф, приходилось, хотя бы частично, обновлять убывающую команду. А корабль то и дело давал течь. О.Брик подбрасывал идеи, тасовал их, жонглировал ими, не обладая способностью ввести их в русло науки. В команде корабля царил разнобой».
Да и что это была за команда после того, как Леф покинули Борис Пастернак, Виктор Шкловский, Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов и многие другие талантливейшие и творческие люди.
Руководить всеми делами нового (Революционного) фронта искусств по-прежнему жаждал Осип Брик, продолжавший утверждать, что при сложившейся в стране обстановке поэты должны уделять внимание не поэмам и пьесам, а сочинять производственную рекламу, создавая лишь небольшие агитки на злобу дня. Свою точку зрения Осип Максимович подкреплял ещё и тем, что за стихи и поэмы платят гораздо меньше, чем за рекламу.
Возразить Брику было нечем. В 13-ом томе собрания сочинений Маяковского есть его письмо в Госиздат от 2 июня 1929 года, в котором поэт недоумевает:
«Ставки, принятые нами для оплаты моих работ по капитальному договору, минимальны… Существовавшая ранее оплата в 200 руб. за лист стихов (с ничем не оправдываемым включением в лист 750 строк) была оплатой безобразной, в два раза меньшей, чем оплата даже прозы (425 р. лист Пильняк, Иванов и др.). При одинаковых тиражах».
И 10 июня Маяковский написал письмо заведующему Госиздатом Артемию Халатову, в котором просил оказать «срочное и решительное содействие»…
«… немедленному заключению договора на издание альманаха “Реф” (Революционный фронт искусства)».
А встречи с Вероникой Полонской тем временем продолжались. Вероника потом вспоминала:
«Как-то я пришла на Лубянку раньше установленного времени и ахнула: Владимир Владимирович занимался хозяйством. Он убирал комнату с большой пыльной тряпкой и щёткой. В комнате было трое ребят – детей соседей по квартире.
Владимир Владимирович любил детей, и они любили приходить к "дяде Маяку", как они его называли».
Вероника узнавала Маяковского всё больше и больше:
«Был очень брезглив (боялся заразиться). Никогда не брался за перила, ручку двери открывал платком. Стаканы обычно рассматривал долго и протирал. Пиво из кружек придумал пить, взявшись за ручку левой рукой. Уверял, что так никто не пьёт, и поэтому ничьи губы не прикасались к тому месту, которое подносит ко рту он.
Был очень мнителен, боялся всякой простуды, при ничтожном повышении температуры ложился в постель».
Лев Никулин о том же:
«Он был чистоплотен до маниакальности. И в этом сложном и глубоком характере была ещё и другая чистоплотность, в глубоком смысле слова: он не терпел грубых и пошлых разговоров о женщинах, не выносил обывательских разговоров, зубоскальства».
Рита Райт:
«Маяковский был чистоплотен до болезненности, точен до минуты, организован до мелочей… Он не знал, что значит опоздать, не выполнить обещания…».
А подстроенное Бриками «случайное» знакомство с Вероникой Полонской незаметно переросло в крепкую дружбу, а дружба превратилась в роман. Таким образом, всё шло по плану, который задумали Лили Юрьевна и Осип Максимович.
Аркадий Ваксберг:
«… для Лили эти потайные свидания вовсе не были тайной – их близости, даже и нараставшей, она была только рада: реальной опасностью считалась Татьяна, а вовсе не Нора. И всё, что отдаляло Маяковского от Татьяны, было благом, какой бы ценой ни доставалось».
Вероника Полонская:
«Я встречалась с Владимиром Владимировичем, главным образом, у него на Лубянке. Почти ежедневно я приходила часов в пять-шесть и уходила на спектакль.
Весной 1929 года муж мой уехал сниматься в Казань, а я должна была приехать к нему позднее. Эту неделю, которая давала значительно большую свободу, мы почти не расставались с Владимиром Владимировичем, несмотря на то, что я жила в семье мужа. Мы ежедневно вместе обедали, потом бывали у него вечерами или гуляли, или ходили в кино, часто бывали вечером в ресторанах.
Тогда, пожалуй, у меня был самый сильный период любви и влюблённости в него. Помню, тогда мне было очень больно, что он не думает о дальнейшей форме наших отношений.
Если бы тогда он предложил мне быть с ним совсем – я была бы счастлива.
В тот период я очень его ревновала, хотя, пожалуй, оснований не было.
Владимиру Владимировичу моя ревность очень нравилась, это очень его забавляло. Позднее, я помню, у него работала на дому художница, клеила плакаты для выставки, он нарочно просил её подходить к телефону и смеялся, когда я при встречах потом выказывала ему своё огорчение оттого, что дома у него сидит женщина».
Этой «художницей» была Наталья Симоненко (Рябова), которая тоже оставила воспоминания об этих телефонных переговорах (речь о них – впереди).
Как считают практически все маяковсковеды, о «дальнейшей форме» отношений с Вероникой Полонской Маяковский не думал потому, что всё «дальнейшее» было связано у него с Татьяной Яковлевой, которой регулярно посылались телеграммы и письма. Вот отрывок из одного такого послания:
«Письма такая медленная вещь, а мне так надо каждую минуту знать, что ты делаешь и о чём думаешь. Поэтому телеграмлю. Телеграфь. Шлю письма – ворохи и того и другого».
Отдельные телеграммы:
«Я БРОСИЛ РАЗЪЕЗЖАТЬ И СИЖУ СИДНЕМ ИЗ БОЯЗНИ ХОТЬ НА ЧАС ОПОЗДАТЬ С ЧТЕНИЕМ ТВОИХ ПИСЕМ. РАБОТАТЬ И ЖДАТЬ ТЕБЯ ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ МОЯ РАДОСТЬ».
«ТЫ ЖЕ МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ПИСЬМОВОДИТЕЛЬНИЦА».
«ТВОИ СТРОКИ ЭТО ДОБРАЯ ПОЛОВИНА МОЕЙ ЖИЗНИ И ВСЯ МОЯ ЛИЧНАЯ».
В одном из писем, написанном 8 июня, говорилось:
«Не грусти детка не может быть такого случая чтоб мы с тобой не оказывались во все времена вместе. Ты спрашиваешь меня о подробностях моей жизни. Подробностей нет».
А те «подробности», которые были, отсылке в Париж не подлежали, так как главной героиней в них оказалась бы Вероника Полонская.
Бенгт Янгфельдт выдвинул предположение, что слухи о том, что Маяковский закрутил в Москве роман с какой-то актрисой, долетел и до Татьяны Яковлевой. Сообщить ей об этом могла всё та же Эльза Триоле, которую, по словам Янгфельдта, обо всём происходившем информировала Лили Брик…
«… чью заинтересованность в том, чтобы чувства Маяковского к Татьяне остыли, нельзя недооценивать».
Валентин Скорятин:
«Может быть, познакомившись с Полонской и узнав её, Маяковский уже не так настойчиво стремился в Париж?»
Но нет, в том же июньском письме Владимир Владимирович писал:
«Милый мой родной и любимый Таник не забывай меня пожалуйста. Я тебя так же люблю и рвусь тебя видеть».
В письме, написанном 12 июня, есть такие слова:
«Дальше октября (назначенного нами) мне совсем никак без тебя не представляется. С сентября начну приделывать крылышки для налета на тебя».
Татьяна и Вероника
14 июня 1929 года рефовцы отправили в Госиздат ещё один документ:
«В правление Госиздата тов. Халатову
От группы Реф
“Революционный фронт искусств”
ЗАЯВЛЕНИЕ
Усиление буржуазных и мелкобуржуазных тенденций на фронте нашей советской литературы и наших советских искусств требует немедленной мобилизации всех литературно-художественных сил социалистического сектора для решительной борьбы с этими усиливающимися буржуазными и мелкобуржуазными тенденциями.
Лозунги этой борьбы таковы:
1. За социалистическую пропаганду
против аполитичного культурничества.
2. За массовость,
против интеллигентского снобизма.
3. За новую форму
против архаизма и реставраторства.
Группа Реф, продолжающая и углубляющая работу Лефа, ставит себе целью устную и печатную пропаганду вышесформулированных лозунгов».
Далее перечислялись те, кто входил в Революционный фронт:
«Основное ядро Рефа составляют: В.В.Маяковский, Н.Н.Асеев, О.М.Брик, А.М.Родченко, В.Степанова, П.Незнамов, И.Ломов, Л.Ю.Брик, В.Жемчужный, С.Кирсанов, Л.Кассиль».
Бросается в глаза, что полные инициалы проставлены только у самых ближайших сподвижников главы Рефа.
Завершалось письмо просьбой:
«Реф просит дать ему возможность приступить к изданию своих периодических альманахов…
Альманахи Рефа рассчитаны на актив советской и рабоче-крестьянской молодёжи; поэтому желателен тираж не менее 7–8 000.
По поручению группы Реф В.МАЯКОВСКИЙ, О.М.БРИК.
14/VI-1929 г.».
В тот же день Маяковский получил документ, ставший для него уже обычным:
«С.С.С.Р.
Об'единённое
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
при
Совете Народных Комиссаров
Июня «14» дня 1929 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 4178/22076
Выдано гр. Маяковскому Владим. Владимир., проживающему по Лубянскому пр. в доме № 3, на право ношения и хранения револьвера Браунинг № 42508 и «Баярд» № 268579…
Действительно по «14» июня 1930 г.».
Как видим, Маяковского усиленно вооружали. Для чего?
Вот что написал он Татьяне Яковлевой через два дня после получения документа, разрешавшего ему иметь и носить браунинг и баярд:
«Детка люби меня пожалуйста. Это мне просто необходимо».
И Владимир Владимирович (в который уже, видимо, раз) описывал, что происходит в Советском Союзе, куда осенью он собирался привезти из Парижа свою жену (а в том, что он её привезёт, сомнений у него не было). Татьяна подрабатывала шитьём шляпок, поэтому Маяковский предлагал:
«У нас сейчас лучше, чем когда-нибудь, такого размаха общей работищи не знала никакая история.
Радуюсь как огромному подарку тому, что я впряжён в это напряжение.
Таник! Ты способная девушка. Стань инженером. Ты, право, можешь. Не траться целиком на шляпья.
Прости за несвойственную мне педагогику.
Но так бы этого хотелось!
Танька инженерица где-нибудь на Алтае.
Давай, а!»
Предложение очень странное – стать «инженерицей» и поехать работать на Алтай. А где собирался быть сам Маяковский, когда его жену отправляли служить далеко от Москвы? Тоже ехать на Алтай? И чем заниматься там (в периферийной глуши)?
Что-то совсем не верится, чтобы такое мог придумать сам Маяковский. Скорее всего, это в ОГПУ посоветовали ему так написать Татьяне. Например, всё тот же Яков Агранов.
О том, как реагировала на подобные письма Татьяна, высказалась Эльза Триоле:
«Как ни парадоксально это звучит, но Татьяна переоценила собственную роль в любви к ней Маяковского, – любовь была в нём, а она была лишь объектом для неё, что ж, она не виновата, что он напридумывал любовь, до которой она не доросла.
Опомнившись, Володя чувствовал себя перед Татьяной ответственным за всё им сказанное, обещанное, за все неприятности, которые он ей причинил, но он уже искал новый объект для любви…»
Сама же Татьяна Яковлева писала матери:
«Он всколыхнул во мне тоску по России…
Когда я бывала с ним, мне казалось, что я в России, и после его отъезда я тоскую сильнее по России».
Ещё известно, что Маяковский опекал тогда младшую сестру Татьяны, Людмилу, которая училась в Москве. Впоследствии она вспоминала:
«Маяковского я узнала после его приезда из Парижа. Он меня разыскал и сразу стал обо мне заботиться, как если бы я уже была сестра его жены. Тут же меня спросил, что мне нужно для жизни? Я сказала: 2 рубля в день. И он мне давал 60 рублей в месяц…
Невероятно сильно переживал разлуку с Таней. Он только и жил тем, что ждал её писем, и если писем не было, то начинались припадки отчаяния по размерам его колоссального темперамента».
Сохранилась информационная справка агента ОГПУ «Валентинова», в которой говорится о сестре Татьяны Яковлевой:
«В Москве говорили, что Людмиле ЯКОВЛЕВОЙ возможность быстрого отъезда в Париж устроил МАЯКОВСКИЙ или её приятель СТРОЕВ (известный эксперт по старинным вещам). Людмила в Москве в последнее время работала в цирке в качестве гёрлс».
Татьяна писала матери в Пензу:
«Только что получила от Маяковского книги, а вслед телеграмму, что он не получает моих писем. Это совершенно непонятно…»
Тем временем неделя «без Яншина» быстро пролетела, и Веронике пришла пора ехать к мужу. Она потом писала:
«Очень ясно помню мой отъезд в Казань.
Владимир Владимирович заехал за мной на машине, поехал с нами и отец Яншина, который хотел почему-то обязательно меня проводить, я была этим очень расстроена, так как мне хотелось быть вдвоём с Владимиром Владимировичем…
Владимир Владимирович всё время куда-то бегал, то покупая мне шоколад, то говорил:
– Нюрочка, я сейчас вернусь, мне надо посмотреть, надёжная ли морда у вашего паровоза, чтобы быть спокойным, что он вас благополучно довезёт.
Когда он ушёл покупать мне журнал в дорогу, отец Яншина недружелюбно сказал:
– Вот был бы порядочным писателем, писал бы по-человечески, а не по одному слову в строчке, – не надо было бы тогда и журналы покупать. Мог бы свою книжку дать в дорогу почитать».
А что происходило в тот момент с Лили Брик?
Она решила немного попутешествовать. Вместе с Юсупом Абдрахмановым.
Аркадий Ваксберг:
«Лиля отправилась с Юсупом (конец июня) на своём "Рено" в Ленинград – показывать "дикому киргизу" красоты Северной Пальмиры. За рулём сидел шофёр Афанасьев, …а формальной целью поездки была покупка двух пар модных туфель, специально изготовленных для неё каким-то петербургским умельцем: найти для себя подходящую обувь в уже отринувшей нэп Москве Лиля никак не могла».
Василий Васильевич Катанян тоже написал про эту прогулку в город на Неве Лили и Юсупа:
«Не снимая расшитой бисером тюбетейки, он ездил с нею в Ленинград, они ходили в музеи, гуляли в Павловске… Он дарил ей сюзане, которые она очень любила».
Как на эту поездку отреагировал Маяковский, воспоминаний не сохранилось.
Начало июля 1929 года в «Хронике жизни и деятельности Маяковского» представлено очень туманно, почти без подробностей. Поэтому обратимся к воспоминаниям современников и современниц поэта.
Павел Лавут:
«"Стихи о советском паспорте" были написаны в начале июля 1929 года и сданы поэтом в журнал "Огонёк". Но, по невыясненной причине, были опубликованы лишь после смерти – 30 апреля 1930 года. Часто ошибочно считают, что "Стихи о советском паспорте" не печатались при жизни поэта вовсе. На самом деле они были опубликованы в сборнике "Туда и обратно" в конце 1929 года».
Наталья Брюханенко:
«В июле… я услыхала от Маяковского, что он собирается написать роман в прозе под названием "Двенадцать женщин".
– Уже эпиграф к нему готов и даже договор с Госиздатом заключён, – сказал он.
Роман этот он так никогда и не начинал писать – узнала я позже, – но эпиграф мне очень понравился, и я запомнила его так:
О, женщины! / Глупея от восторга,
я вам / готов / воздвигнуть пьедестал.
Но… / измельчали люди… / и в Госторге
опять я / пьедесталов / не достал».
Кто знает, а может быть, Маяковский не стал писать этот роман потому, что последние события в «семье» перечеркнули все его планы и намерения?
Новый «фронт»
17 июня 1929 года редколлегия Госиздата известила рефовцев, что издательство готово выпустить два их альманаха по 10–12 листов каждый.
А Литературный центр конструктивистов (ЛЦК) опубликовал очередную программную книгу, которой дал название в одно слово: «Бизнес». Корнелий Зелинский в ней писал:
«Бизнесмен – человек дела – вот герой нашего времени! Такова исходная точка конструктивизма!»
По воспоминаниям Зелинского, встретившись с ним, Маяковский сказал:
«Маяковский. – Видел, видел ваш "Бизнес" с красными очками на обложке, а позади – фотографию Нью-Йорка.
Зелинский. – Ну и что?
Маяковский. – Это те очки, которые вы хотите втереть рабочему классу, но это вам не удастся».
Об отношении группы конструктивистов к бывшим лефовцам написал Илья Сельвинский:
«Поверхностная агитационность лефовцев, отрицание ими классической культуры (Пушкина etc), чрезвычайная вульгаризация идеи борьбы за сегодняшний день, сведение задач поэзии к задаче обслуживания текущего момента – всё это во многом обусловило отрицательную реакцию группы».
Поэт-конструктивист Николай Адуев напечатал в «Бизнесе» стихотворение «В.В.Маяковскому до востребования» (некоторые строки и четверостишия из него мы уже приводили). В нём говорилось:
«Заглянем же правде прямо в лицо:
В свой фарватер для вящего украшения
Леф пытается втянуть посторонних гребцов
Как воронка после кораблекрушения.
Но гребцы отвечали корректно: "мерси!"
И умчались, свернув эпиграммною пеной,
И так как этот фокус не удалси,
То поднять свой престиж вы решили поэмой.
Но и этот номер не прошёл,
Ибо ещё Прутков сказал:
"Узрев на плохих стихах – «Хорошо», —
Не верь своим глазам!"
А журнал! Что ни месяц – он кашлял бездарней
Несмотря на свои фото-завороты
И вообще – что же это за "фронт" – без армий,
А с одной не под рост подобранной ротой?
И видя – что прошлого не вернуть,
А в будущее не имея веры,
Леф начал тихо и плавно тонуть,
А вы – принимать свои срочные меры.
Но гибель Лефа – не всемирный потоп,
И вы, Владимир Владимрыч, не плачьте,
Что корабль поэзии русской – потоп,
И лишь вы торчите подобно мачте».
Издательский работник Михаил Яковлевич Презент записывал в дневнике:
«Рассказывают, что… Маяковский, встретив на каком-то литературном собрании поэта Адуева, сказал ему, похлопывая его по плечу: "Ничего стали писать, Адуев! Подражаете Сельвинскому" – "Что же, – отвечает Адуев, – хорошим образцам подражать можно. Вот и вы, В.В., уже пять лет себе подражаете".
Маяковский смолчал».
Нет, Маяковский не смолчал! Он сочинил на Адуева едкую эпиграмму:
«Я скандалист! / Я не монах.
Но как / под ноготь / взять Адуева?
Ищу / у облака в штанах,
но как / в таких штанах найду его?»
Ответ у Адуева был уже готов – в тех же стихах, помещённых в «Бизнесе»:
«Но произошла перемена вкусов.
Играй же музыка, слава – рей!
Людогусь – приобрёл благосклонность Гусов
И энциклопедических словарей…
И чтобы совсем достичь рубежа,
И стать таким же великим и древним,
Не хватало только от Лефа сбежать,
Как Толстому – от Софьи Андреевны!
Но – Ваш образ действий был неточен:
От сытого барства уйти желая,
Лев Николаич – никого не порочил,
Не оболгал – и не облаял!
Его конец – был взрывом плотин,
А не бегством с тонущих флотилий!
Он жизнью за свой уход заплатил,
А Вы хотите… чтоб вам приплатили!»
Глава третья Последнее лето
Свои и чужие
Летом 1929 года кое-кто из знакомых Маяковского, служивших в ОГПУ, собирался отправиться за рубеж, а некоторые уже были туда отправлены. Так, Яков Блюмкин, которого назначили руководителем всеми гепеушными агентами на Ближнем Востоке, пребывал в Турции, изредка совершая вояжи в Европу.
А 20 июня 1929 года на заседании политбюро (присутствовали Ворошилов, Калинин, Молотов, Рудзутак, Сталин и Томский) тоже рассматривался вопрос о вояже, но совсем о другом:
«23. О поездке Таирова А.Я. (б/п) на международный театральный конгресс в Брюсселе».
Не зря, представляя большевистским вождям известного театрального режиссёра Александра Яковлевича Таирова, после его фамилии в скобках было проставлено «б/п», то есть «беспартийный». Скорее всего, именно это и послужило основанием для принятия окончательного решения:
«23. Предложить Наркомпросу выдвинуть другую кандидатуру».
22 июня в «Правде» было опубликовано постановление Центральной Контрольной Комиссии по поводу «незаконной задержки тов. Луначарским курьерского поезда». В этом постановлении с осуждением говорилось о том, что при отъезде из Ленинграда нарком «по личным соображениям задержал отправку поезда».
Те, кто понимал, в каких случаях в ту пору принимались подобные постановления, сразу предположили, что дни Луначарского как наркома сочтены.
Так оно и произошло. Сначала Анатолия Васильевича строго отчитали на заседании политбюро. Луначарский свою неправоту признал и попросил разрешения съездить за границу, чтобы немного подлечить здоровье, расшатанное за 12 лет пребывания в Совнаркоме.
Члены политбюро его просьбу обсудили (8 июля):
«28. Об отпуске т. Луначарскому».
Слова, которые произносили соратники наркома о его поездке за рубеж, в протокол не попали. Но вожди явно опасались, что, уехав за рубеж, обиженный Луначарский назад уже не вернётся. Поэтому и возникло предложение оставить в качестве заложницы его жену. И члены политбюро постановили:
«28. Обеспечить т. Луначарскому лечение за границей. Признать ненужным поездку жены т. Луначарского за границу».
Подобный вердикт партийных иерархов приравнивал наркома к обычным советским гражданам, которым брать в зарубежные поездки супругов не дозволялось. Это также подтверждало предположение, что свой пост в Совнаркоме Луначарский вскоре оставит.
18 июля 1929 года на заседании политбюро (присутствовали Ворошилов, Калинин, Молотов, Рудзутак, Сталин и Томский) вновь стоял вопрос (39-ый по счёту) «о тов. Луначарском». Вожди решали, кого поставить во главе наркомата по просвещению вместо ставшего ненужным Луначарского. Видимо, уже тогда в качестве кандидата на этот пост обсуждалась кандидатура видного большевика Андрея Сергеевича Бубнова.
А вот поездку за границу недавнего лефовца Сергея Эйзенштейна на заседаниях политбюро не обсуждали. И, тем не менее, Эйзенштейн уехал в чужие страны. Стало быть, его отправило туда ОГПУ, с одним из ответственных работников которого, Яковом Аграновым, знаменитый кинорежиссёр близко познакомился на лефовских «вторниках». Лубянка просто так (и мы не раз уже говорили об этом) покидать страну не позволяла никому. А если разрешила, значит, отъезжавший являлся её сотрудником.
Сергей Эйзенштейн (вместе со своим помощником Григорием Александровым) на целых три года покинул Советский Союз – искать кинематографической удачи на буржуазном Западе (и поставлять информацию ОГПУ).
В тот момент, как мы помним, Иностранный отдел ОГПУ готовил операции за рубежом, которые направлялись против наиболее злостных недругов страны Советов. В первую очередь это касалось Русского общевоинского союза (РОВСа), который возглавлял генерал Александр Павлович Кутепов. Большевики считали его самым яростным и активным врагом советской власти. Поэтому планировалось похитить генерала, привезти его в СССР и устроить над ним показательный судебный процесс. Так что охота за Кутеповым продолжалась.
Что же касается поэта-конструктивиста Ильи Сельвинского, то за рубеж он бы съездил с большим удовольствием. Но его туда не направляли. После постановки спектакля «Командарма 2», за разрешение которого, как мы помним, так ратовал вернувшийся из Парижа Маяковский, Сельвинский создал новую пьесу – «Теория юриста Лютце». Её главная героиня, студентка юридического факультета Лиза Лютце, написала курсовую работу, в которой утверждалось, что любой человек в принципе неподсуден.
В те времена подобное утверждение звучало вызывающе смело, поэтому осторожные преподаватели согласились принять эту работу только в том случае, если на ней будут стоять подписи не менее трёх уважаемых членов партии. Лизе Лютце даже указали дом («Высокий дом»), где она может найти таких большевиков. Однако тамошние партийцы отказались ставить свои подписи под её работой. Согласился расписаться (и расписался!) лишь один, который считался у них самым главным. Узнав об этом, все «неподписанты» тотчас разыскали Лизу и принялись расписываться на её «теории». Вот тут-то их всех и забрали. Прибывшие санитары – ведь, «Высокий дом», в котором они пребывали, был психиатрической клиникой, где лечили свихнувшихся партуклонистов (оппозиционеров).
Такую пьесу написал Илья Сельвинский. Были в ней строки, явно адресованные Маяковскому:
«Каждый Володя в отдельности радует
Тонким оттенком, видным на свет.
Но семицветье линии радуг
Дают, вращаясь, белый цвет.
Потому, хоть человек неподсуден,
Но классовое подсудно в нём.
И мы, птенцы юридических студий,
Верим не в мести и не в исправленье,
Но в истребленье
огнём и мечом».
Здесь чувствуется явный намёк и на дворянское происхождение Маяковского, и на многообразие, многоцветье его творчества, которое, суммируясь, даёт белый цвет. А этот цвет считался враждебным стране Советов, и поэтому его полагалось безжалостно истреблять.
6 июля 1929 года газета «Пионерская правда» в третий раз опубликовала стихи Маяковского «Возьмём винтовки новые». На этот раз их сопровождали ноты композитора Дмитрия Покрасса. Песня призывала советских мальчишек учиться убивать.
Северный Кавказ
Встретиться с Маяковским после Казани Веронике Полонской не довелось.
Сразу по завершении театрального сезона Яншин уехал на дачу к родным, а Вероника вместе с подругами (актрисами Московского Художественного театра) отправилась на Кавказ (в Хосту), откуда обещалась дать телеграмму Маяковскому.
15 июля 1929 года в Сочи поехал и Маяковский. Остановился в скромном номере гостиницы «Ривьера» и 21 числа выступил в доме отдыха Союза работников просвещения, где впервые публично прочёл свои «Стихи о советском паспорте».
Павел Лавут об этом стихотворении:
«В дальнейшем оно звучало на всех авторских вечерах вплоть до последнего в жизни – 9 апреля 1930 года, то есть за пять дней до смерти».
22 июля состоялось выступление в сочинском открытом кинотеатре, а 24-го – в клубе сельсовета посёлка Хоста (недалеко от Сочи). Там ему задали вопрос, почему он так часто выступает на курортах. Поэт ответил:
«– У товарищей неправильный взгляд на курорты. Как будто там отдыхает только привилегированная интеллигенция. Ведь сюда съезжаются со всего Советского Союза. Тебя слушают одновременно и рабочие, и колхозники, и интеллигенты. Приходят люди из таких мест, куда ты в жизни не попадёшь. Они разъедутся по своим углам и будут пропагандировать стихи, а это моя основная цель».
Павел Лавут:
«В Хосте в это время отдыхали артисты-москвичи (Е.Ильющенко, Н.Михайловская, Анель Судакевич, Асаф Мессерер, Ал. Царман и другие). Туда должна была приехать и знакомая Маяковского актриса Вероника Полонская, к ней и направлялся Владимир Владимирович сразу же по приезде в Сочи, но не застал её: она появилась несколькими днями позже».
Приехавшей в Хосту Веронике сразу же рассказали, что тут уже выступает Маяковский, и что на одном из выступлений он вручил какой-то девушке подаренный ему букет роз.
Вероника Полонская потом написала:
«Я была очень расстроена, решила, что он меня совсем забыл, но на всякий случай послала в Сочи телеграмму: "Живу Хосте Нора"».
Получив телеграмму, Маяковский, по словам Павла Лавута…
«… тотчас достал из чемодана каучуковую ванну (это был большой складной таз с громким именем "ванна") и попросил у горничной горячей воды. Та всплеснула руками:
– Просто удивительно! Выдумали – в номере купаться! Кругом море, а они баню устраивают!
Маяковский вежливо уговаривал её:
– Не понимает девушка, что в море основательно помыться невозможно. Грязь может долипнуть ещё.
После процедуры он оделся особенно тщательно:
– Хочу выглядеть франтом.
И игриво:
– Недаром я мчался в Сочи.
– Вы ведь против франтовства! – заметил я.
– Бывают в жизни исключения. Еду к девушке. И вообще, для разнообразия можно иногда шикарно одеться!
И посоветовался, какой галстук повязать».
Дальнейшие события – в описании Вероники Полонской:
«Я сидела на пляже с моими приятельницами по театру.
Вдруг я увидела на фоне моря и яркого солнца огромную фигуру в шляпе, надвинутой на глаза, с неизменной палкой в одной руке и громадным крабом – в другой. Краба он нашёл тут же, на пляже.
Увидев меня, Владимир Владимирович, не обращая внимания на наше бескостюмье, уверенно направился ко мне. И я поняла по его виду, что он меня не забыл, что счастлив меня видеть.
Владимир Владимирович познакомился с моими приятельницами, мы все пошли в море. Владимир Владимирович плавал очень плохо, а я заплывала далеко, он страшно волновался и шагал по берегу в трусиках и в тёплой фетровой шляпе».
Полонская поехала вместе с Маяковским в Сочи. Вот что ей там запомнилось:
«Владимир Владимирович жил на Ривьере в первом номере…
Номер был очень маленький и душный, я умоляла открыть дверь на балкон, но Владимир Владимирович не согласился. Он рассказывал, что однажды какой-то сумасшедший в него стрелял. Это произвело на Маяковского такое сильное впечатление, что с тех пор он всегда ходил с оружием…
Утром я побежала купаться в море.
Возвращаясь, ещё из коридора услышала в номере крики. Посредине комнаты стоял огромный резиновый таз, который почти плавал в воде, заливавшей всю комнату. А кричала гостиничная горничная, ругаясь на то, что "гражданин который день так наливает на полу, что вытирать нету сил"».
Вероника была свидетельницей не только купания Маяковского в гостиничном номере, но и присутствовала на всех его выступлениях в Сочи. Потом вспоминала:
«Когда я сидела в зрительном зале и смотрела на него, я не узнавала Владимира Владимировича, такого простого и деликатного в жизни. Здесь он, казалось, надевал на себя маску, играл того Маяковского, каким его представляли себе посторонние.
И мне казалось, что цель его была не в желании донести свои произведения, а скорей – в финальной части диспута, когда он с такой лёгкостью и блеском уничтожал, осмеивал, крушил своих противников.
Тут Маяковский не задумывался о критике, не прислушивался к ней, а путём самого жёсткого нападения на вступавших опровергал эту критику.
Владимир Владимирович не всегда отвечал по существу. Он острым своим глазом, увидя смешное в человеке, который выступал против него, убивал противника метким определением сразу, наповал. Обаяние Маяковского, его юмор и талант привлекали на его сторону всех, даже если Маяковский был неправ».
В Сочи приехала и сестра Маяковского.
Павел Лавут:
«Ему приятна была встреча с сестрой Людмилой Владимировной здесь, в поездке. Он пригласил её на свой вечер».
28 июля Маяковский выступил в сочинском клубе ГПУ для пограничников. Через неделю новочеркасская газета «За мир и труд» дала такой отчёт:
«Тяжёлой поступью выходит Маяковский на середину и, улыбаясь, ждёт, когда гул приветствий уляжется. После короткой вступительной речи о революционной поэзии Маяковский, как топором, стал рубить слова боевого "Левого марша". В его читке марш приобретал большую силу, большим энтузиазмом охватывал бойцов. Голос Маяковского необычайно чёток, и всё, что он читал, легко воспринималось бойцами… Наиболее запечатлевшиеся стихи – "Левый марш" и отрывки из "Хорошо!" Бойцы остались довольны боевым содержанием стихов. "Слова-то у него действуют не хуже пуль. Любого врага скорчит от его разрывного слова", – поговаривали бойцы. Прощаясь, тов. Маяковский дал обещание приехать ещё раз, чтобы почитать и побеседовать побольше…»
Веронике Полонской запомнилась история, не связанная с выступлениями:
«У Владимира Владимировича были часы, и он хвастался, что стекло на них небьющееся. А в Сочи я увидела, что стекло разбито. Спросила, каким образом это произошло. Владимир Владимирович сказал, что поспорил с одной знакомой. Она тоже говорила, что у неё стекло на часах не бьётся. Вот они и шваркали своими часами стекло о стекло. И вот у неё стекло уцелело, и Владимир Владимирович очень расстроен, что на его часах треснуло.
Мне вдруг неприятна стала эта история с часами: я стала думать, кто бы могла быть эта женщина, к тому же я нашла у него на столе телеграмму: "Привет из Москвы – Елена"».
Кроме «этой женщины» была ещё и Татьяна Яковлева, которую Владимир Владимирович тоже не забывал, посылая ей телеграммы так часто, что она писала матери в Пензу:
«Получаю бесконечные телеграммы – писем нет, тоскую».
А Маяковскому в тот момент тосковать было просто некогда.
Василий Васильевич Катанян:
«Это было весёлое время – прогулки в самшитовой роще, часы на пляже, поездки по морю вдвоём или в компании друзей актёров – знаменитого танцовщика Асафа Мессерера, его красавицы жены Анель Судакевич, балерины Люси Ильюшенко… Не хотелось думать, что где-то там Яншин, Лиля, Татьяна в далёком Париже…».
Практически все биографы Маяковского утверждают, что находившаяся в Париже Татьяна Яковлева времени тоже зря не теряла.
Бенгт Янгфельдт:
«Если Маяковскому удавалось одновременно ухаживать за двумя женщинами, то в резервном списке поклонников Татьяны числилось, по крайней мере, трое. Один из них был внуком русского лауреата Нобелевской премии по медицине Ильи Мечникова, носивший то же имя. "У меня сейчас масса драм, – сообщала Татьяна матери в феврале 1929 года. – Если бы я даже захотела быть с Маяковским, то что стало бы с Ильёй, кроме того есть ещё 2-ое. Заколдованный круг!"»
Добавим к этому информацию, которую даёт Аркадий Ваксберг:
«… за ней ухаживали такие богачи из эмигрантской элиты, как нефтяной магнат Манташев, и такие знаменитости из мира искусств, как композитор Сергей Прокофьев».
А вот строка из письма Татьяны матери в Пензу, написанное 13 июля:
«Обрастаю друзьями, как снежный ком».
Бенгт Янгфельдт:
«Она была популярна, как никогда, и всё время развлекалась. Каждые выходные выезжала на Атлантическое побережье, как с Маяковским, но теперь на автомобиле – и планы на лето были грандиозные: "Буду ездить по всей Франции на автомобиле и, может быть, по Средиземному морю на яхте с парусом". Разумеется, путешествовать она собиралась не одна».
Переезд в Крым
2 августа 1929 года Маяковский отправился из Сочи в Ялту.
Павел Лавут:
«Из Хосты должна была приехать Вероника Полонская. Она обещала быть в Ялте следом, дня через два-три. А её всё не было. Маяковский нервничал.
Послал "молнию". Ответа нет. Затем другую, третью – тоже без ответа. По нескольку раз в день он наведывался на пристань, наводил справки, встречал все прибывавшие пароходы. Приходил на мол и тогда, когда никакие суда не ожидались.
Владимир Владимирович попросил меня вместе с ним составить служебную телеграмму на имя начальника хостинского телеграфа, чтобы тот отыскал, передал и ответил.
Помню, как смутилась девушка, принимая эту частную необычную по тексту и длинную "молнию".
Наконец пришла из Хосты телеграмма: "Слегка заболела приеду пятнадцатого", затем другая: "Больна малярией" и в ответ на "служебную" предложила перенести встречу на Москву».
А вот как отражена эта переписка в воспоминаниях самой Вероники:
«Он беспокоился, посылал молнию за молнией. Одна молния поразила даже телеграфистов своей величиной. Просил приехать, телеграфировал, что приедет сам, волновался из-за моей болезни.
Я телеграфировала, что не приеду, и чтобы он не приезжал, что встретимся в Москве, так как ходило уже много разговоров о наших отношениях, и я боялась, что это дойдёт до Яншина».
Ситуация поразительно необыкновенная! Маяковский в Париже влюбляется в Татьяну Яковлеву, с которой его познакомила Эльза Триоле, но эта Татьяна категорически не желает ехать вместе с поэтом в Советский Союз. Маяковский в Москве влюбляется в Веронику Полонскую, с которой его познакомил муж сестры Эльзы Триоле, но и эта Вероника тоже не желает поехать в Крым, где выступает поэт.
Опять случайное совпадение? Но не слишком ли много возникает подобных случайностей?
А может быть, в обоих случаях влюблённые в Маяковского дамы отказывались ехать туда, куда их приглашал поэт, из-за того, что кто-то им категорически не советовал этого делать?
Как бы там ни было, но узнав, что Вероника в Крым не приедет, Маяковский успокоился и сказал с улыбкой:
«– Инцидент исперчен!»
Павел Лавут объяснил это так:
«"Инцидент исперчен", – частенько говаривал он. Эту остроту он слышал от артиста Владимира Хенкина. Шутка оказалась трагедийной».
Эта «трагедийность» возникнет чуть позднее. А спустя ещё несколько десятилетий писатель Валентин Катаев напишет (в «Траве забвения»):
«Кстати, выражение "Инцидент исперчен" – вместо "исчерпан" – я слышал ещё до революции. Его придумал друг моей юности большой остряк Арго. От него это выражение и пошло по рукам, пока им окончательно не завладел и не закрепил навсегда за собой Маяковский».
Абрам Маркович Арго (Гольденберг) был в те годы известным поэтом-сатириком и драматургом.
Но вернёмся в Крым лета 1929 года. У Маяковского там шло одно выступление за другим. Почти каждый день. 12 августа он читал в Ливадийском дворце.
Павел Лавут:
«Маяковский выступил в Ливадии, превращённой в крестьянский санаторий, на открытой площадке клуба. Площадка была поделена пополам: одна сторона предназначалась только для "своих" – для крестьян. Они приходили бесплатно, даже без билетов – их узнавали по санаторным пижамам. На другой стороне расположились сотрудники санатория и посторонние. Вид крестьян в пижамах привёл Маяковского в восторг. С эстрады он заявил о своём удовлетворении распределением мест.
– Очень удобно: видно, с кем имеешь дело. Мне уже приходилось бывать здесь, и по этому поводу у меня есть даже стихи.
Он прочёл "Чудеса!", вызвавшие бурю аплодисментов. После вечера он сказал окружавшим его:
– Приятно здесь выступать! Чувствуешь, что делаешь хорошее дело!»
13 августа Маяковский выступил на палубе парохода «Ленин», шедшего из Ялты в Евпаторию.
Павел Лавут:
«Начался ветер. Пароход покачивало. На палубе стоял обычный в таких случаях однообразный шум. Но Маяковский легко состязался с ветром, раскачивавшим брезентовый навес и заставлявшим скрипеть корпус парохода. Для устойчивости он держался за штангу.
– Приходится в открытом море сражаться с бурей, – шутил он.
После краткого доклада он прочёл стихи. Время, отведённое для выступления, давно кончилось. Но команда не отпускала его, и каждое стихотворение принималось, как говорится, "на ура"».
А бывший поэт-имажинист Иван Васильевич Грузинов, обвинённый в «пропаганде, направленной в помощь международной буржуазии» и отбывавший наказание в виде ссылки в Сибирь, 16 августа 1929 года постановлением Особого совещания (ОСО) при коллегии ОГПУ был лишён права проживать в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе и Ростове-на-Дону («минус шесть») и был прикреплён к определённому месту, где ему дозволялось жить, к городу Воронежу.
Крымское турне
На первом выступлении Маяковского в Евпатории присутствовал Георгий Владимирович Артоболевский, учёный-зоолог и артист, мастер художественного слова, который потом вспоминал:
«Высокий, наголо остриженный Маяковский, стоя за маленьким столиком, отвечал на груду записок. И вдруг я слышу в одной из записок упоминание моего имени. Кто-то из публики спрашивает поэта, огулом упрекавшего в своём выступлении актёров за неумение читать новые стихи, как тот относится к моему чтению.
– Как отношусь? Да никак! – роняет Маяковский. – Я его не знаю. Это вы, товарищ? – нагибается в оркестр Маяковский. – Так, может, вы сейчас прочтёте что-нибудь?
Публика рьяно поддерживает это предложение.
Не помню: не то называлось в записке, не то выкрики из публики заказали мне задорное "Солнце в гостях у Маяковского".
– А вы не слышали, как я его читаю? – спрашивает автор.
– Нет, исполнения этого стихотворения я не слыхал.
– А вы не обидитесь, если после вас я сделаю свои замечания и прочту его по-своему? – продолжает он.
– Нет, я не обижусь…
Публика в восторге: аттракцион готов. Состязание на эстраде! Бойцы салютовали друг другу и встали в позицию!..
О моём чтении он высказался по-деловому. Отметил, что "у артиста красивый голос", касательно же исполнения сказал, что "оно всё-таки актёрское" (он, видимо, считал актёрством мою передачу диалога с солнцем). Затем он упрекнул меня за то, что я не сказал заглавия: "У меня заглавие всегда входит конструктивной частью произносимого стихотворения". Это надо учесть исполнителям…
Читал Маяковский превосходно. При этом он отнюдь не "играл" образов. Он с рельефностью скульптуры передавал смысл произведения в чётком каркасе ритма. Бросающейся вслух особенностью было неподражаемое переслаивание повышенного (патетического) тона тоном разговорным,"низким".
В заключение Маяковский предложил публике решить, кто из нас лучше читает, он хотел было даже голосовать поднятием рук».
В это время в Крым приехала Наташа Брюханенко. Вот что ей запомнилось:
«В августе этого года я встретилась с Маяковским в Евпатории. Узнала я о его приезде курьёзным образом. Я жила в санатории и пошла в парикмахерскую гостиницы. Взглянув через окно во двор, я увидела сохнувшие после стирки большие голубые пижамы, и у меня мелькнула догадка: "Наверное, это приехал Маяковский".
Так и оказалось. Я застала его в номере гостиницы и пошла с ним на его выступление в санаторий "Таласса".
Эстрада-раковина стояла в саду, и к ней по узеньким рельсам подвезли на кроватях-каталках санаторников. Это были больные костным туберкулёзом, не встававшие месяцами, а иногда и годами.
Под конец обычного разговора-доклада Маяковский начал читать "Сергею Есенину". Дойдя до строк "Это время – трудновато для пера…", Маяковский осёкся. Дальше идут строчки: "…но скажите вы, калеки и калекши…". И хотя здесь подразумевались не физические, а моральные калеки, он не стал говорить этих слов людям, прикованным к постелям. Он пропустил эти строчки и сразу перешёл к следующим, не пожалев рифмы…
И в этом, казалось бы, мелком факте проявилась необычайная чуткость Маяковского к людям».
Неожиданное появление в Крыму Натальи Брюханенко тоже вызывает вопросы. Как она оказалась там, где выступал Маяковский? Возникает предположение, что её явно кто-то послал вслед за поэтом. И ответ возникает однозначный: кроме Бриков и их закадычного друга Агранова отправить кого-то в Крым просто некому.
Кроме Натальи Брюханенко рядом с Маяковским были тогда артисты, о которых Павел Лавут сообщил:
«В Евпатории он коротал время с Хенкиным, иногда с Тамарой Церетели.
Владимир Владимирович редко смеялся громко, но, когда он слушал рассказы и остроты Владимира Хенкина, не мог удержаться от хохота».
Издательский работник Михаил Презент записывал в дневнике:
«Арнольд Барский, кино-актёр, мой приятель, рассказывает, что в 1929 г. в Евпатории был Маяковский и Николай Эрдман. Арнольд говорит: "Я очень мало смыслю в литературе, но позвольте мне, профану в этом деле, высказать одно соображение. Вот сейчас превозносят Хлебникова, считают его вождём, давшим истоки ЛЕФу. Это мне напоминает избрание папы на конклаве кардиналов, когда наиболее выдающиеся боятся избрать друг друга и избирают середнячка. Так и Вы: Маяковский не хочет быть вождём, Асеев – тоже, Шкловский – тоже, Эрдман – тоже, и вождём избирают Хлебникова".
Маяковский и Эрдман бросились качать Арнольда, признав его правоту. Потом наедине Маяковский говорит Арнольду:
– Только никому не говорите – о том, что мы вас качали».
Но случались моменты, когда приходилось и злиться – реагируя на чересчур «колючие» встречи, которые продолжали происходить. Про одно из таких выступлений (в одном из санаториев Евпатории) Павел Лавут высказался так:
«И снова "аудитория сыплет вопросы колючие, старается озадачить в записочном рвении".
– Кто вам больше платит – Леф или Моссельпром?
Маяковский зол:
– После такого вопроса я могу задать вам другой, и вас выведут из курзал-парка. Вы хотите сказать, что я продался Советской власти? Моссельпром – государственное предприятие, борющееся с частниками. Моссельпром – частица социализма. А за "Нигде, кроме" я получил три рубля. Это в Америке за такие строчки платят сотни и тысячи долларов. У нас все должны получать за свой труд».
Обратим внимание на то, что за весну и лето 1929 года Маяковский написал очень мало стихотворений, то есть как бы выполнял своё публично объявленное намерение покинуть поэтическую вершину (так как писать стихи ему якобы стало «слишком легко»). Всё свободное время он теперь обдумывал и сочинял пьесу «Баня».
Лилин автомобиль
В Москве в это время каждое утро к дому в Гендриковом переулке подкатывал светло-серый «Рено» с чёрным верхом и крыльями. Машину встречала Лили Брик и садилась за руль. Впоследствии она писала:
«Мостовые были в ужасном состоянии, но ездить было легко, т. к. транспорта было мало».
И всё же, несмотря на малую загруженность московских улиц, Лили Брик ухитрилась попасть в ситуацию, когда управляемая ею машина чуть не наехала на восьмилетнюю девочку. Та вместе с матерью переходила улицу в неположенном месте, а когда они увидели неожиданно возникший автомобиль, то очень испугались.
Вот свидетельство самой Лили Брик:
«… испугались, застыли, как вкопанные, заметались, словно куры, и разбежались в разные стороны. Я резко затормозила, но всё же слегка толкнула девочку, и она упала. Она даже не ушиблась, но мы все страшно перепугались, а её мать заголосила, как по покойнице. Вызвали милицию».
В милиции, куда были доставлены участницы происшествия, Лили Юрьевна заявила о том, что собирается ехать за границу. О том, что ей на это ответили, она записала в дневнике так:
«9.8.29. В милиции мне сказали, что уезжать нельзя, т. к. дело о сшибленной девочке отправлено в суд».
Это происшествие не могло не отразиться на настроении Маяковского, вернувшегося в Москву 22 августа.
Василий Васильевич Катанян:
«Маяковский машину не водил, он пользовался услугами шофёра В.Гамазина, в прошлом таксиста. И каждый раз спрашивал разрешения ЛЮ – не нужна ли машина ей?»
С автомобилем «Рено» были связаны не только драматичные истории. Вот что, к примеру, вспоминала София Шамардина (правда, год она указала неправильно – автомобиль «Рено» прибыл из Франции в Москву в январе 1929 года, а ездить на нём стали только весной). Шамардина написала об одной встрече с Маяковским:
«Кажется, в 1928 году днём была у него в Лубянском проезде. Повёз меня домой в своей машине. Настроение у него было сумрачное. Говорит: "Денег нет. Понимаешь – не хватает. Две семьи у меня: мать, сёстры и моя семья. Поэтому и дочке не могу помогать. Да если б и мог, то всё равно этого нельзя было сделать"».
Напомним ещё раз, что переводы денег за рубеж были в ту пору для советских граждан делом весьма и весьма сложным, а зачастую и попросту невозможным. Обращаться же всякий раз за разрешением к Агранову Маяковский явно не хотел. Но своего отношения к американской дочке от Софии Шамардиной не скрывал. Она вспоминала:
«Рассказал, что у него дочь в Америке…
"– Я никогда не думал, что может быть такое сильное чувство к ребёнку. Я всё думаю о ней. Ей уже три года. Очень тревожит здоровье её – рахит у неё. Волнует, что вот лет через пять отдадут в какую-то католическую школу. Моего ребёнка калечить будут. И я бессилен, ничем не могу помочь"».
Сравним эти воспоминания со строками из книги Аркадия Ваксберга:
«Маяковский вообще никогда не умилялся детьми, потребности в отцовстве никто за ним не замечал. Это был человек, совершенно не приспособленный к роли семьянина, отца семейства в общепринятом смысле слова».
И ведь написал об этом Ваксберг с такой убеждённостью, словно располагал невероятно убедительной и достоверной информацией по этому вопросу, исключавшей любые другие мнения.
Ещё про одно событие, связанное с «Рено», известно от двоюродной сестры Лили Брик, Регины Глаз, работавшей воспитательницей детей Сталина. Однажды, когда сын вождя Василий вёл себя достаточно примерно, его в качестве поощрения прокатили по Москве на автомобиле Маяковского. За рулём сидел, конечно же, шофёр, а Лили и Регина сопровождали счастливого Васю.
Ещё один любопытный нюанс (не имевший к «Рено» никакого отношения). В 1929 году на одной из советских киностудий собирались приступить к съёмкам фильма по роману Тургенева «Отцы и дети». Режиссёром кинокартины предложили стать Мейерхольду. Об этом узнал Маяковский и заинтересовался образом Базарова.
Почему?
Евгений Васильевич Базаров учился на лекаря и был нигилистом, то есть ставил под сомнение общепринятые нормы нравственности. Влюбившись в богатую вдову Анну Сергеевну Одинцову, он объяснился ей в любви, но та не ответила ему взаимностью. А Базаров, заразившись «по невнимательности», умер.
Не увидел ли Маяковский в образе Базарова некоей похожести на то, что происходило с ним самим? И не хотел ли показать Лили Брик (и Осипу Брику тоже), чем может завершиться их агрессивное к нему отношение?
Всеволод Мейерхольд, видимо, тоже задавался такими же вопросами:
«Когда мне пришлось думать над построением фильма "Отцы и дети" (по роману Тургенева), то он, узнав об этом, сделал мне заявку на роль Базарова. Я, конечно, не мог допустить его играть эту роль, потому что Маяковский как тип слишком Маяковский, чтобы кто-нибудь поверил, что он Базаров. Это обстоятельство меня заставило, к сожалению, отвести его кандидатуру как исполнителя главной роли в моей картине. Ну, как можно согласиться с тем, что он – Базаров, когда он – насквозь Маяковский?»
Слова и поступки
Итак, 22 августа 1929 года Маяковский вернулся из Крыма в Москву.
До Татьяны Яковлевой, проводившей время в компании своих поклонников, продолжали доходить слухи о том, что Маяковский увлёкся московской актрисой. Слухи распространяла всё та же Эльза Триоле (по настоятельной просьбе Лили Брик).
Маяковский, надо полагать, тоже был в курсе того, какие кавалеры ухаживали за его парижской возлюбленной – тут уж вовсю старалась Лили Брик.
Бенгт Янгфельдт:
«28 августа, согласно дневнику Лили, у неё и у Осипа состоялся "с Володей разговор о том, что его в Париже подменили"».
Эта «подмена» состояла всё в том же: поэт посвятил парижские стихи не Лили Юрьевне, а Татьяне Алексеевне, и этим первую, по её же словам, «предал». Сильно ошеломлённая и даже оскорблённая этим «предательством», Лили Брик и повела на Маяковского решительное «наступление». Тем более, что «разговор» 28 августа был не первым, не вторым и не третьим.
Бенгт Янгфельдт:
«Разговор о том, что "в Париже Володю подменили" сводился именно к тому, чтобы убедить его в вероломстве Татьяны, и в том, что нет смысла ехать в Париж. По всей вероятности, Маяковского пытались уговорить вместо этого остаться с Норой, которая искренне любила его. Но разговор не принёс желаемого результата, и на следующий день Маяковский телеграфировал Татьяне:
"ОЧЕНЬ ЗАТОСКОВАЛ ПИШИ БОЛЬШЕ ЧАЩЕ ЦЕЛУЮ ВСЕГДА ЛЮБЛЮ ТВОЙ ВОЛ"».
Иными словами, несмотря на массу убедительных доводов, на жёсткость разговора и даже на его «жестокость» (именно это слово употребит вскоре Лили Юрьевна), Маяковский с уговорами Бриков не согласился и остался верен данному Татьяне Яковлевой обещанию – в октябре приехать в Париж, чтобы сыграть свадьбу.
Но Брики делали всё, чтобы сложившуюся ситуацию изменить.
Кто знает, не тогда ли у Маяковского стали складываться строки стихотворения, которое он опубликовал в конце года? Назвалось оно «Особое мнение» и начиналось так:
«Огромные вопросищи, / огромней слоних,
страна / решает / миллионнолобая.
А сбоку / ходят / индивидумы, / а у них
мнение обо всём / особое».
В это же время в Москве в театре Мейерхольда с успехом продолжал идти спектакль по пьесе Маяковского «Клоп», в котором Осипу Брику, выведенному в образе клопа, наносился удар невероятной силы. Но Осип Максимович продолжал делать вид, что ничего особенного не произошло, что он ничего не понял, и вёл «с Володей разговоры», давая ему советы, как следует поступать в том или ином случае. Да и Владимир Владимирович на своих выступлениях тоже продолжал ссылаться на Брика, словно между ними было прежнее нерушимое сотрудничество.
И тут – к самому началу театрального сезона – в Москву вернулась Вероника Полонская. Маяковский встречал её на вокзале. Она потом вспоминала:
«Владимир Владимирович приехал на машине. Он сказал, что Яншина ещё нет в Москве. А Владимир Владимирович позвонил моей маме и очень просил её не встречать меня, что он встретит сам, сказал маме, что хотел бы подарить мне большой букет роз, но боится, что с большим букетом он будет похож на влюблённого гимназиста, что будет смешно выглядеть при его огромной фигуре, и что он решил поэтому принести только две розы.
Какой-то Владимир Владимирович был ласковый, как никогда, и взволнованный встречей со мной».
Годы спустя Веронику Полонскую охарактеризовал писатель Виктор Ардов:
«Полонская – прекрасный и всячески полноценный экземпляр человека… Чуткость её поистине сейсмографична. Не только к любящему и любимому человеку, просто к партнёру по случайной встрече в гостях, в театре, ко всем вообще знакомым она внутренне необыкновенно внимательна. Её способность немедленно отвечать в тон собеседнику удивительна…Полонская с весёлым собеседником – весела, с грустным – печальна, с человеком, настроенным иронически, – иронична сама и т. д.».
Роман поэта с молодой актрисой Художественного театра продолжал набирать обороты. Полонская писала:
«По-прежнему я бывала у него на Лубянке.
Яншин ничего не знал об этой квартире Маяковского. Мы всячески скрывали её существование.
Много бывали и втроём – с Яншиным – в театральном клубе, в ресторанах».
Иными словами, жизнь продолжалась.
В начале сентября состоялся суд по делу о наезде на восьмилетнюю девочку автомобиля «Рено». В дневнике Лили Брик появилась запись:
«3.9.29. В Нарсуде меня оправдали. Вечером мне позвонил лирически один из членов суда. Я растерялась от неожиданности».
Почему всё завершилось так великолепно? Сразу же вспоминается фрагмент из книги Риты Райт, пересказанный Валентином Скорятиным:
«Л.Брик, вспоминала Райт, постоянно имела при себе удостоверение, позволявшее ей запросто заходить в учреждения, закрытые для всех других смертных. И на вопрос подруги, откуда у неё такой "всесильный" пропуск, Лиля ответила: "Дал Янечка". То есть Яков Саулович Агранов».
Надо полагать, что и в нарсуде помог всё тот же друг «Янечка».
8 сентября Лили Брик записала в дневнике:
«Володя меня тронул: не хочет в этом году за границу. Хочет 3 месяца ездить по Союзу. Это влияние нашего с ним разговора».
Но через одиннадцать дней в том же дневнике было записано, что Маяковский…
«… уже не говорит о 3-х месяцах по Союзу, а собирается весной в Бразилию (т. е. в Париж)».
Бенгт Янгфельдт по этому поводу задался вопросами:
«Что произошло? В своём письме от 12 июля Маяковский уверял, что не представляет себе жизни без Татьяны дальше октября и что начинает "приделывать крылышки" – то есть оформлять документы в сентябре.
Если он оставил надежду жениться на Татьяне, то у него не было причин планировать поездку в Париж. Но почему он не поехал осенью 1929 года? Почему он не упоминает "крылышки" в октябрьском письме? Вместо этого оно содержит следующую загадочную фразу: "Нельзя пересказать и переписать всех грустностей, делающих меня ещё молчаливее"».
На эту «молчаливость» обратила внимание и Вероника Полонская, записавшая в дневнике, как выглядел тогда Маяковский:
«Он был чем-то очень озабочен, много молчал. На мои вопросы о причинах такого настроения он отшучивался».
Не найдя ответа, Бенгт Янгфельдт с печалью констатировал:
«Из всех неясных моментов биографии Маяковского самые загадочные обстоятельства связаны с его несостоявшейся поездкой в Париж».
И Янгфельдт вновь задался вопросом:
«Что же это были за "грустности", сделавшие его ещё молчаливее, и о которых нельзя было упоминать?»
Аркадий Вайсберг тоже размышлял над этим вопросом, задав свой встречный:
«Не давались ли ему с такой фантастической лёгкостью эти поездки ещё потому, что, наряду с личными делами, у него там были и дела служебные – такие, о которых ни Анненкову, ни Элли, ни даже Татьяне он сообщить не мог? Если так, то нет вообще никакой загадки: очередное служебное задание не даётся – нет и поездки! Вот они – "грустности", которые делают его "ещё молчаливее"…»
Поразмышляем над этой «загадкой». Попробуем найти какую-нибудь достаточно логичную версию, которая эту «загадочность» хоть немного прояснила бы.
Опять «враги»
Что же случилось с Маяковским на стыке лета и осени 1929 года? Что сделало его молчаливым, заставило переменить своё твёрдое решение и в Париж не ехать?
Вспомним, что происходило тогда в стране, и как реагировал на происходившие события Маяковский.
Вернувшись из поездки по Кавказу и Крыму, 24 августа он посетил Ходынское поле. Там находился лагерь проходившего в Москве пионерского слёта.
На следующий день Маяковский пришёл на стадион «Динамо», где состоялось торжественное закрытие всесоюзного слёта пионеров.
Василий Абгарович Катанян:
«На стадионе, поражённый замечательным зрелищем верстовых амфитеатров, красных косынок, весёлых лиц, зелёного овала лужайки, он как-то сразу обмяк и стал восторженно-добрый.
– Что делается! Ведь это уже социализм! Чтобы пятьдесят тысяч человек приходили смотреть на каких-то детей!..
Он обошёл весь стадион, шагая через барьеры, с трибуны на трибуну. Останавливающим его милиционерам он вытаскивал свои удостоверения и корреспондентские билеты.
– Я писатель, газетчик… Я должен всё видеть…
И милиционеры его пропускали.
Потом он вызвался читать с трибуны пионерские стихи, и голос его гремел в десятках рупоров. И когда он вылез из тесной радиорубки, он сказал:
– Написать замечательную поэму, прочесть её здесь – и потом можно умереть».
Как видим, в конце лета 1929 года Маяковский был энергичен и настроен по-боевому.
26 августа Совет Народных Комиссаров принял декрет о переходе на непрерывную работу всех предприятий и учреждений. С этого момента общепринятая семидневная неделя заменялась пятидневной. Выходные дни выпадали теперь на разные дни пятидневки.
Как вскоре выяснилось, это был не очень удачный эксперимент (пятидневку сначала заменили на шестидневку, а затем вернулись на семидневную неделю). Но Маяковский мгновенно откликнулся на декрет Совнаркома стихотворением «Голосуем за непрерывку», в котором подверг резкой критике быт, установившийся в стране ещё с дореволюционных времён, быт, основанный на посещении церкви и последующего повсеместного пьянства. Декрет Совнаркома отменял эти всеобщие гульбища, заменяя их непрерывной трудовой деятельностью. Стихотворение заканчивалось так:
«На карте Союза / из каждой клетки
встают / гиганты / на смотр пятилетки.
Сквозь облачный пар, / сквозь дымные клубы
виденьем / встают / стадионы и клубы…
Пусть / гибнущий быт / обывателю / бедствие!
Всем пафосом / стихотворного рыка
я славлю вовсю, / трублю / и приветствую
тебя – / производственная непрерывка».
Это стихотворение поэт читал 8 сентября, выступая по радио (в «Рабочей радиогазете»). То есть опять был деловит и энергичен.
И тут внезапно вспыхнул очередной литературный скандал, связанный с Борисом Пильняком. Написав в начале 1929-го повесть «Красное дерево», Борис Андреевич хотел опубликовать её в одном из советских журналов. Но там печатать эту (как сказано в комментариях к 13-томнику Маяковского) «антисоветскую по своему характеру книгу» не захотели. И писатель выпустил её в берлинском издательстве «Петрополис» («белоэмигрантском», как сказано в тех же комментариях).
Шум в советских газетах и журналах поднялся грандиознейший!
Подал свой голос и Маяковский. В комментариях в 12 томе собрания его сочинений говорится:
«2 сентября 1929 года "Литературная газета" напечатала подборку материалов (передовая "Писатель и политика", статья секретариата РАППа "Ко всем членам Всероссийского Союза Писателей", "Письмо в редакцию" Б.Пильняка, ответ на него "От редакции" и др.) под общим заголовком "Против буржуазных трибунов под маской советского писателя. Против переклички с белой эмиграцией". В числе этих материалов была напечатана также заметка "Наше отношение", подписанная "От «Рефа» В.Маяковский"».
Заметка эта небольшая, поэтому процитируем её целиком:
«Повесть о "Красном дереве" Бориса Пильняк (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его и многих других не читал.
К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то всё же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов.
В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене.
Надо бросить беспредметное литературничанье.
Надо покончить с безответственностью писателей.
Вину Пильняка разделяют многие. Кто? Об этом – особо.
Например, кто отдал треть Федерации союзу пильняков?
Кто защищал Пильняков от рефовской тенденциозности?
Кто создавал в писателе уверенность в праве гениев на классовую экстерриториальность?»
К этой заметке «от Рефа» – небольшое пояснение. Одной из трёх организаций, из которых складывалась Федерация Объединений Советских Писателей (ФОСП) был Всероссийский Союз Писателей (ВСП), состоявший главным образом из беспартийных писателей-попутчиков. Борис Пильняк был председателем правления ВСП (Маяковский назвал его «союзом пильняков»).
Выступая 23 сентября на Втором расширенном пленуме правления РАПП, Маяковский разъяснил свою позицию (и своё «выступление» в «Литературной газете»):
«Здесь я должен сказать несколько слов о союзе писателей и пильняковщине – о вещи, которая волнует нас всех… <…> Я хочу расшифровать своё выступление, бывшее по многим условиям чрезвычайно кратким…
Я считаю, что Пильняк объективно сделал махрово-контрреволюционную вещь, но субъективно он при этом бьёт себя в грудь и опирается на свои революционные произведения, которые, может быть, были или, может быть, будут. Это значит, что его революционные произведения, бывшие и последующие, не являются определителями его линии. В самой организации Союза писателей выражена аполитичность, отсутствие стремления идти на помощь советскому строительству».
И эти слова произнёс поэт, которого многократно били за «маяковщину», который сам всё время козырял своими революционными произведениями, называя их «определителями» просоветской «линии» поэта-лефовца. Эти слова произнёс поэт, несколько лет возглавлявший литературную организацию (Леф), которую многие настоятельно предлагали «уничтожить». И теперь он обвинял Пильняка во «фронтовой измене». Как же так?
А как отнестись к пассажу, с которого начинается заметка Маяковского в «Литературной газете»? Поэт демонстративно привёл фамилию автора «Красного дерева» в несклоняемой форме, тем самым намекая на неславянское происхождение Пильняка. И при этом переспросил, как будто встретился с этой фамилией впервые:
«… так что ли?»
А ведь они часто встречались. И дружески общались. И 13 мая 1929 года были в одной компании на московском ипподроме (где Маяковский познакомился с Вероникой Полонской). Наверняка сталкивались и на Лубянке, с которой оба активно сотрудничали, только Маяковский ездил в основном по Европе, а Пильняк – по Азии (Япония, Китай).
Не один раз вместе выступали. Сохранился снимок, сделанный 9 июня 1929 года (в «День книги») в Октябрьских красноармейских лагерях Первого стрелкового полка. Писатели выступали перед красноармейцами, а потом сфотографировались на память. На этом снимке Пильняк и Маяковский стоят рядом: первый улыбается, второй держит руки в карманах брюк.
Советские писатели в Октябрьских красноармейских лагерях Первого стрелкового полка. 9 июня 1929 г.
А вот стихотворение Маяковского «Работникам стиха и прозы, на лето едущим в колхозы», которое 3 июля 1928 года опубликовала «Комсомольская правда», и в котором – такие шуточные строки:
«Прошу / Бориса Пильняка
в деревне / не забыть никак,
что скромный / русский простолюдин
не ест / по воскресеньям / пудинг…
Очередной / роман / растя,
деревню осмотрите заново,
чтобы не сделать / из крестьян
англосаксонского пейзана».
Как же можно после этого изображать из себя человека, не знающего, склоняется ли фамилия «Пильняк» или нет?
Вот такие в ту пору царили нравы в писательской среде страны Советов. Вот так поступал тогда поэт революции Владимир Маяковский.
В разгар антипильняковской кампании досталось и конструктивистам – 24 сентября «Литературная газета» опубликовала статью Ивана Батрака (Ивана Андреевича Козловского) «Столкновение платформ», в которой, в частности, говорилось:
«Тов. Сельвинский как бы пытается в роли верховного жреца встать над попутчиками и пролетарскими писателями. Здесь, мягко выражаясь, интеллигентское чванство… Нельзя называть себя коммунистическим писателем и в то же время смотреть на происходящую борьбу равнодушно, со стороны. Этим т. Сельвинский обнаруживает полное непонимание основ коммунизма».
А теперь перенесёмся на время в Париж, где проживал бежавший из страны Советов бывший секретарь Сталина Борис Бажанов. Он написал (немного неточно указав дату приезда во Францию Якова Блюмкина, который прибыл в Париж в начале августа):
«В конце 1929 года назначенный в Турцию резидентом ГПУ Блюмкин приезжает ещё и в Париж, чтобы организовать на меня покушение. ГПУ, поручая дело ему, исходило, во-первых, из того, что он меня лично знал, а во-вторых, из того, что его двоюродный брат Максимов, которого я привёз в Париж, со мной встречался. Блюмкин нашёл Максимова.
Максимов, приехав во Францию, должен был начать работать, как все, и больше года вёл себя прилично. Блюмкин уверил его, что ГПУ его давно забыло, но для ГПУ чрезвычайно важно, осталась ли у Бажанова в Москве организация, и с кем он там связан; и что если Максимов вернётся на работу в ГПУ, будет следить за Бажановым и поможет выяснить его связи, а если выйдет, и организовать на Бажанова покушение, то его простят, а финансовые его дела устроятся на совсем иной базе. Максимов согласился и снова начал писать обо мне доклады».
А вскоре и Маяковский попал под «обстрел» своих недавних союзников.
Критика конструктивистов
В 1929 году Корнелий Зелинский, считавшийся идеологом конструктивистов, выпустил новую книгу. Илья Сельвинский о ней написал:
«Поэт – это строитель. Если Бальмонт назвал свою книгу "Поэзия как волшебство", то К.Зелинский – "Поэзия как смысл". Отсюда и конструктивизм – от "строю"».
В этой книге Корнелий Люцианович заявил:
«Безвкусным, опустошённым и утомительным выходит мир из-под пера Маяковского».
Но не только «мира» (то есть человеческого сообщества) не нашёл в творчестве поэта конструктивист Зелинский:
«В сущности, человека-то никогда не было у Маяковского. Были людишки… капиталистики… эскимосики и людогуси. Между униженным человечишком, с одной стороны, и между человечищем, шагающим где-то по горам и облакам, пропал живой человек. В "Человеке" Маяковского нет человека, в "150 000 000", в сущности, нет людской массы».
Многочисленные произведения Маяковского о зарубежье тоже не пришлись по вкусу идеологу ЛЦК, потому что, как написал Зелинский, поэт-лефовец…
«… так и не научился разбираться в диалектике культурных процессов и у нас и на Западе… Он неволнующе скользит по земным меридианам».
Не удивительно, заключал Зелинский, что творчество поэта многие просто не воспринимают:
«Его остроумие, его изобретательность, его талантливость – всё это, отданное революции, наталкивается на злую критику. И эта критика – не из эмигрантских или чуждых революции рядов, – она рождается здесь».
Маяковскому, конечно же, было очень неприятно, что такие слова произнёс человек, которого он зазывал в Леф, и который служил в том же чрезвычайном ведомстве, что и Маяковский. И Владимир Владимирович стал готовить ответный удар.
Выступая 23 сентября на Втором расширенном пленуме правления РАПП, он начал с того, что назвал Ассоциацию пролетарских писателей некоей путеводной звездой, указывающей ему и его соратникам путь в творчестве:
«Товарищи, я с самого начала должен указать на то, на что указал товарищ Брик, – что основная линия по отношению к РАППу у нас остаётся неизменной, что мы считаем РАПП единственной для нас писательской организацией, с которой мы солидаризируемся по большинству вопросов…
Мы принимаем РАПП, поскольку он является чётким проводником партийной и советской линии, поскольку он должен быть таким. Вот что мы берём в РАПП и к чему присоединяемся».
Вновь обратим внимание на то, что Осип Брик упомянут как соратник Маяковского. А ведь спектакль «Клоп» продолжал идти в ГосТИМе. А Осип Максимович продолжал отговаривать Владимира Владимировича от женитьбы на Татьяне Яковлевой.
Но вернёмся к выступлению поэта. Произнеся клятву верности РАППу, он обрушился на сидевших в зале конструктивистов (Илью Сельвинского, Веру Инбер, Бориса Агапова, Корнелия Зелинского), громя их книги (от «Бизнеса» до «Поэзии как смысл»):
«Маяковский. – Для нас ценность маленькой книжки о пятилетнем плане в Московской области ценнее вашего толстого "Бизнеса".
Агапов. – Демагогия!
Маяковский. – Вы усвоили манеру разговаривать, как пишет Зелинский, – под тихий шелест страниц Гегеля, а мы привыкли говорить под громкий шелест газет и других страниц, и, естественно, что более резко у нас отношение к действительности. И разве не демагогия – называть философской книжку Зелинского, где первая строка: "Поэзия есть первый вид смысла". Что это такое за философская категория – "смысл"?
Я совершенно случайно впал в полемику с представителями конструктивизма, потому что, идя сюда, я не думал, что настолько обнажено голое эстетство в кругу литературной жизни Советского Союза.
Моё выступление является не программным выступлением. Скажу ещё, тем более что товарищ Брик говорил, я хоть и не слышал его выступления, но он мне его передал, и это выступление, с которым я согласен».
Речь Маяковского была как всегда немного сумбурной, а местами не совсем понятной. Но она явилась яростным ударом рефовца по конструктивистам, которые стали отныне для него просто ненавистными.
24 сентября Маяковский подал в Главное управление по делам литературы и издательств (иными словами, цензорам) очередное разъяснение того, что будет происходить в Политехническом музее на вечере под названием «Открывается Реф»:
«В Главлит
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В своём вступительном слове я объясню причины, заставившие Леф почистить свои ряды, внести изменения в программу и принять название Реф, т. е. Революционный фронт искусств.
Основная причина – это борьба с аполитизмом и сознательная ставка на установку искусства как агитпропа социалистического строительства. Отсюда отрицание голого факта и требование в искусстве тенденциозности и направленности. В исполнительной части будут мною читаться последние опубликованные произведения.
Вл. МАЯКОВСКИЙ».
Видимо, в те же дни Маяковский принялся сочинять статью о Рефе, которую начал так:
«Товарищи!
Мы были Леф, мы стали Реф.
Мы объявляем себя новым объединением, новым отрядом на фронте культуры.
Достаточна ли перемена "Л" на "Р", чтоб говорить о своей новизне?
Да. Достаточна. Разница разительная и решающая. Под внешним различием букв и полное различие корней.
"Л" – это левый фронт искусств, объединявший различнейших работников культуры по формальному признаку левизны, предполагавший, что левизна совпадает с революционностью».
И Маяковский назвал этих «различнейших» своих соратников:
«… и формалиста Шкловского, и марксиста Арватова, и фактовика Третьякова, и стилиста Пастернака, и заумника Кручёных и фельетониста Асеева».
Но времена изменились, и бывший глава лефовцев заявлял:
«Сейчас мало голой левизны. Левизна, изобретательность для нас обязательна. Но из всей левизны мы берём только ту, которая революционна, ту, которая активно помогает социалистическому строительству, ту, которая крепит пролетарскую диктатуру».
И Маяковский ещё раз крепко ударял тех, кто с лефовцами не соглашался, ища свою манеру, свой путь в искусстве:
«Мы требуем от каждого произведения, чтоб оно работало, воздействовало, а не производило бы впечатление на умильного Лежнева да искренне выражало бы чувства писателя а ля Пильняк, Полищук-Сельвинский».
В написанном примерно в то же время стихотворении «Птичка божия» Маяковский сформулировал свои требования к пишущим ещё точнее:
«В наше время / тот — / поэт,
тот — / писатель, / кто полезен…
В наши дни / писатель тот,
кто напишет / марш / и лозунг!»
Статья о Рефе осталась незаконченной – другие жизненные темы и заботы отодвинули в сторону то, что совсем ещё недавно казалось важным и злободневным.
Открытие «фронта»
14 сентября 1929 года под председательством Маяковского состоялось первое организационное заседание новой литературной группы, получившей название РЕФ (Революционный фронт искусств). 19 сентября на очередном заседании секретариата Федерации писателей Владимир Владимирович объявил об образовании РЕФа. Самого поэта включили в число представителей Федерации в ВОКСе (Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей). А 3 октября в Политехническом музее состоялся вечер под названием «Открывается Реф». Об этом мероприятии – писатель Лев Кассиль:
«Политехнический осаждён. Смяты очереди. Трещат барьеры. Давка стирает со стен афиши. Администратор взмок… Лысой кукушкой он ускользает в захлопнувшееся окошечко. Милиция просит очистить вестибюль.
Звенят стёкла, всхлипывают пружины дверей. Гам…
Зал переполнен. Сидят в проходах, на ступеньках, на краю эстрады, на коленях друг у друга…
И вот Маяковский начинает свой доклад.
Собственно, это не доклад, это блестящая беседа, убедительный рассказ, зажигательная речь, бурный монолог. Интереснейшие сообщения, факты, неистовые требования, возмущение, курьёзы, афоризмы, смелые утверждения, пародии, эпиграммы, острые мысли и шутки, разительные примеры, пылкие выпады, отточенные формулы. На шевелюры и плеши рыцарей мещанского искусства рушатся убийственно меткие определения и хлёсткие шутки.
Маяковский разговаривает. Головастый, широкоротый, он минутами делается похожим на упрямо вгрызающийся экскаватор.
Вот он ухватил какую-то строку из пошлой статьи критика, пронёс её над головами слушателей и выбросил из широко раскрытого рта, свалив в кучу смеха, выкриков и аплодисментов. Стенографистки то и дело записывают в отчёте: "смех", "аплодисменты", "общий смех", "бурные аплодисменты".
На стол слетаются записки изо всех углов зала. Обиженные шумят. На них шикают. Обиженные оскорбляются. "Шум в зале" – констатирует стенограмма.
– Не резвитесь, – говорит Маяковский.
Он совершенно не напрягает голоса, но грохот его баса перекрывает шум всего зала.
– Не резвитесь… Раз я начал говорить, значит, докончу. Не родился ещё такой богатырь, который бы меня переорал. Вы там, в третьем ряду, не размахивайте так грозно золотым зубом. Сядьте!.. А вы положите сейчас же свою газету или уходите вон из зала! Здесь не читальный зал, здесь слушают меня, а не читают. Что?.. Неинтересно вам? Вот вам трёшка за билет. Идите, я вас не задерживаю… А вы там тоже захлопнитесь! Что вы так растворились настежь? Вы не человек, вы шкаф!..
Какая-то шокированная дама истерически кричит:
– Маяковский, что вы всё подтягиваете свои штаны? Смотреть противно!
– А если они у меня свалятся? – вежливо интересуется Маяковский.
– До моего понимания ваши шутки не доходят! – ерепенится непонимающий.
– Вы жирафа! – восклицает Маяковский. – Только жирафа может промочить ноги в понедельник, а насморк почувствовать лишь к субботе.
Но вдруг вскакивает бойкий молодой человек без особых примет.
– Маяковский! – вызывающе кричит молодой человек. – Вы что, полагаете, что мы все идиоты?
– Ну что вы! – кротко удивляется Маяковский. – Почему все? Пока я вижу перед собой только одного.
Маленький толстый человек, проталкиваясь, карабкается на эстраду. Он клеймит Маяковского за гигантоманию.
– Я должен напомнить товарищу Маяковскому, – горячится коротышка, – старую истину, которая была ещё известна Наполеону: от великого до смешного – один шаг.
Маяковский вдруг, смерив расстояние, отделяющее его от говоруна, соглашается.
– От великого до смешного – один шаг, – и показывает на себя и на коротенького оратора.
А зал надрывается от хохота.
Маленькая, хрупкая на вид поэтесса подымается на эстраду и начинает спорить с Маяковским по поводу одного раскритикованного им стиха.
Маяковский очень тихо, почти беззвучно шевеля губами, отвечает ей:
– Громче, не слышно, громче! – кричат из зала.
– Боюсь, – говорит Маяковский, прикрывая рот и глазами показывая на поэтессу, – боюсь: сдую…
Затем Маяковский отвечает на записки. Он запускает руки в большую груду бумажек и делает вид, что роется в них.
– Читайте все подряд, что вы там ищите? – уже кричат из зала.
Афиша «Открывается РЕФ». Осень 1929 г.
– Что ищу? Ищу в этой куче жемчужные зёрна…
– Маяковский, почему вы так себя хвалите?
– Мой соученик по гимназии Шекспир всегда советовал: говори о себе только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья.
– Вы это уже говорили в Харькове! – кричит кто-то из партера.
– Вот видите, – спокойно говорит Маяковский, – товарищ подтверждает. А я и не знал, что вы всюду таскаетесь за мной.
Ещё с места:
– Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли.
– Надо иметь умных товарищей».
Любопытное свидетельство оставил Павел Лавут:
«Иногда казалось, что одно и то же лицо настигает Маяковского в разных городах – до того были порой похожи одна записка на другую. Он разил таких “записочников” острым словом, но они всплывали снова и снова».
Увлечения поэта
Вероника Полонская:
«У обывателей тогда укоренилось (существовало) мнение о Маяковском как о хулигане и чуть ли не подлеце в отношении женщин.
Помню, когда я стала с ним встречаться, много "доброжелателей" отговаривали меня, убеждали, что он плохой человек, грубый, циничный и т. д.
Конечно, это совершенно неверно.
Такого отношения к женщине, как у Владимира Владимировича, я не встречала и не наблюдала никогда…
Я не побоюсь сказать, что Маяковский был романтиком…
Как-то он подарил мне шейный четырёхугольный платок и разрезал его на два треугольника. Один должна была всегда носить я, в другой он набросил в своей комнате на Лубянке на лампу и говорил, что когда он остаётся один, смотрит на лампу, то ему легче: кажется, что часть меня – с ним».
Лили Брик:
«Маяковский был человеком огромной нежности. Грубость и цинизм он ненавидел в людях. За всю нашу совместную жизнь он ни разу не повысил голоса ни по отношению ко мне, ни к Осипу Максимовичу, ни к домашней работнице. Другое дело – полемическая резкость. Не надо их путать».
Эльза Триоле:
«Маяковский не был ни самодуром, ни скандалистом из-за пересоленного супа, он был в общежитии человеком необычайно деликатным, вежливым и ласковым, – и его требовательность к близким носила совсем другой характер: ему необходимо было властвовать над их сердцем и душой. У него было в превосходной степени то, что французы называют le sense de l'absolu – потребность абсолютного, максимального чувства и в дружбе, и в любви, чувства, никогда не ослабевающего, апогейного, бескомпромиссного, без сучка и задоринки, без уступок, без скидки на что бы то ни было…»
Вероника Полонская:
«Владимир Владимирович категорически не переносил никаких шуток, анекдотов, если в них ощущался антисоветский душок. Он мог говорить серьёзно о каких-либо временных недостатках, возмущался этим, но в шутливой форме не говорил и не позволял при себе никогда никому говорить об этом».
Между прочим, здесь, видимо, и проявлялась типичная черта гепеушника, которым категорически запрещалась любая критика советского строя.
В тот момент у Маяковского появилось ещё одно увлечение.
Вероника Полонская:
«… я помню, как он увлекался отклеиванием этикеток от винных бутылок. Когда этикетки плохо слезали, он злился, а потом нашёл способ смачивать их водой, и они слезали легко, без следа. Этому он очень радовался, как мальчишка».
Ещё одно воспоминание Вероники Витольдовны:
«Как-то мы играли шутя вдвоём в карты, и я проиграла ему пари. Владимир Владимирович потребовал от меня бокалы для вина. Я подарила ему дюжину бокалов. Бокалы оказались хрупкими, легко бились. Вскоре осталось только два бокала. Маяковский очень суеверно к ним относился, говорил, что эти уцелевшие два бокала являются для него как бы символом наших отношений, говорил, что если хоть один из этих бокалов разобьётся – мы расстанемся.
Он всегда сам бережно их мыл и осторожно вытирал».
Эльза Триоле:
«Любовь – двигатель, дающий высший творческий азарт, вызывающая на соревнование с великими творцами, взлетающая над бытом, грязью ревности и мелкими людишками… Таким был Маяковский-поэт, таким он был и в жизни, во всех своих чувствах к "своим" как в любви, так и в дружбе…»
Вероятно, к той же поре относятся и слова Вероники Полонской:
«… после приезда в Москву с Кавказа и нашей встречи на вокзале я поняла, что Владимир Владимирович очень здорово меня любит. Я была очень счастлива. Мы часто встречались. Как-то всё было очень хорошо и бездумно.
Но вскоре настроение у Маяковского сильно испортилось…
Владимир Владимирович жаловался на усталость, на здоровье и говорил, что со мной ему светло и хорошо. Стал очень придирчив и болезненно ревнив…
Часами молчал. С трудом мне удавалось выбить его из этого состояния. Потом вдруг мрачность проходила, и этот огромный человек опять радовался, прыгал, сокрушал всё вокруг, гудел своим басом».
Что же так расстраивало Маяковского?
Может быть, до него долетала какая-то информация из Франции, где дожидалась приезда своего потенциального суженого Татьяна Яковлева?
Парижские события
Татьяна продолжала совершать автомобильные поездки по стране и вращаться в обществе интеллектуалов, среди которых видное место занимал внук (и тёзка) знаменитого российского биолога Ильи Мечникова.
Бенгт Янгфельдт:
«Другим запасным кавалером был Бертран дю Плесси, французский виконт, служивший атташе при французском посольстве в Варшаве…
… скорее всего, именно дю Плесси сидел за рулём во время летних путешествий».
Александр Михайлов, представляя французского ухажёра Татьяны Яковлевой, добавлял, что…
«… красавец дю Плесси – впоследствии – участник Сопротивления, лётчик, был сбит в воздушном бою и погиб».
Как видим, человек вполне достойный.
Летом 1929 года Бертран дю Плесси начал выражать в отношении Татьяны самые что ни на есть серьёзные намерения. Она потом вспоминала:
«Он бывал у нас в доме открыто – мне нечего было его скрывать, он был француз, одинокий, это не Маяковский».
Практически все подробности этого «открытого» ухаживания были известны резиденту ОГПУ во Франции и руководителям иностранного отдела на Лубянке.
Для чего они этим интересовались?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам придётся ещё раз присмотреться к личности парижской возлюбленной Маяковского. Сначала вспомним, что писали о ней маяковсковеды.
Бенгт Янгфельдт:
«Она родилась в 1906 году в Петербурге, но в 1913-м переехала в Пензу, где её отцу, архитектору Алексею Яковлеву, поручили проектирование нового городского театра».
В 1915 году родители Татьяны разошлись.
Александр Михайлов:
«Отец её, Алексей Евгеньевич – офицер инженерных войск, потом архитектор. Говорили, что он изобрёл состав искусственного каучука, но не мог реализовать изобретение в России и уехал в Америку».
Бенгт Янгфельдт:
«Вскоре после этого мать вышла замуж за богатого антрепренёра, который потерял всё своё состояние в годы революции. В 1921 году, во время голода на юге России, он умер от истощения и туберкулёза, после чего мать вышла замуж в третий раз.
В 1922 году Татьяна тоже заболела туберкулёзом».
Заболевшую девушку (продолжает Аркадий Ваксберг)…
«… выписал с большим трудом из Пензы под предлогом лечения её дядя, известный в то время художник Александр Яковлев (за год до встречи Маяковского с Татьяной его даже удостоили ордена Почётного Легиона)».
Бенгт Янгфельдт:
«Её дядя, Александр Яковлев, при содействии промышленника Андре Ситроена, устроил ей возможность приехать во Францию».
Василий Васильевич Катанян:
«Её дядя… добился для неё визы…»
Бенгт Янгфельдт:
«Летом 1925 года, когда Татьяне едва исполнилось девятнадцать, она прибыла в Париж, где уже несколько лет жили её бабушка и тётушка Сандро, оперная певица, часто выступавшая вместе с Шаляпиным».
Александр Михайлов:
«При них устроилась Татьяна. Она научилась шить шляпки, стала мастерицей».
Бенгт Янгфельдт:
«Первые годы Татьяна заботилась о своём здоровье и в свет не выходила, но появившись, наконец, в высших кругах Парижа, сразу произвела фурор».
Александр Михайлов:
«Она… блистала в обществе русских и французов».
Бенгт Янгфельдт:
«Благодаря своей внешности, она вскоре стала работать статисткой в кино и манекенщицей у Шанель, кроме того, рекламировала чулки на афишах, которые висели по всему Парижу. <…> …дядя Александр познакомил Татьяну с людьми искусства – писателем Жаком Кокто и композитором Сергеем Прокофьевым (с которым накануне первой встречи с Маяковским она играла в четыре руки Брамса)».
Всё то, что известно о Татьяне Яковлевой, извлечено из её дневников, писем и воспоминаний, озвученных десятилетия спустя, а также из рассказов и писем её современников. Биографы Маяковского всю эту информацию принимали на веру, даже не пытаясь выяснить, а что же происходило на самом деле. На это обратил внимание журналист Валентин Скорятин:
«Домыслы и всяческие слухи, появившиеся сразу же после смерти поэта, стремительно переписывались из статьи в статью, из книжки в книжку. В мифы охотно верят.
Мифы охотно тиражируют».
Аркадий Ваксберг:
«Самой стойкой из версий оказалась версия о прямом вмешательстве Лили, не позволившем Маяковскому ни в сентябре, ни позже "приделать крылышки", чтобы снова лететь к Татьяне. По этой версии Лиля использовала свою связь с Аграновым, чтобы Маяковскому было отказано в визе, и тем самым поставила между ним и Татьяной непреодолимый барьер».
А как к этому отнеслась Вероника Полонская? Она же всё видела. И нашёптывали ей тоже, наверное, немало. Вот что она писала:
«Я вначале никак не могла понять семейной ситуации Бриков и Маяковского. Они жили вместе такой дружной семьёй, и мне было неясно, кто же из них является мужем Лили Юрьевны? Вначале, бывая у Бриков, я из-за этого чувствовала себя очень неловко.
Однажды Брики были в Ленинграде. Я была у Владимира Владимировича в Гендриковом во время их отъезда. Яншина тоже не было в Москве, и Владимир Владимирович очень уговаривал меня остаться ночевать.
– А если завтра утром приедет Лиля Юрьевна? – спросила я. – Что она скажет, если увидит меня?
Владимир Владимирович ответил:
– Она скажет: "Живёшь с Норочкой?.. Ну что ж, я одобряю"».
Интересно и другое высказывание Вероники Полонской об отношении Владимира Владимировича к Лили Брик:
«Маяковский рассказывал мне, что очень любил Лилю Юрьевну. Два раза стрелялся из-за неё, один раз он и выстрелил себе в сердце, но была осечка».
А вот как сама Полонская относилась к Лили Брик:
«У меня создалось впечатление, что Лиля Юрьевна очень была вначале рада нашим отношениям, так как считала, что это отвлекает Владимира Владимировича от воспоминаний о Татьяне».
А теперь попробуем выяснить, что же происходило на самом деле.
Юность Татьяны
По словам Василия Васильевича Катаняна, к моменту встречи с Маяковским Татьяна Яковлева была переполнена…
«… жаждой славы, успеха и ненависти ко всему советскому. Дело кончилось тем, что она стала невозвращенкой».
В.В.Катанян не сообщает, откуда у него эта информация (о нежелании Татьяны возвращаться на родину). Ведь в Советском Союзе у неё оставались мать и младшая сестра, с которыми она активно переписывалась. В её письмах нет ни слова осуждения того, что происходило тогда в стране Советов (возможно из-за нежелания чем-то ненароком навредить своим родным и близким).
И возвращаться в СССР Татьяну никто не звал – кроме Маяковского. Владимир Владимирович провёл с ней достаточно времени, чтобы суметь основательно познакомиться с её взглядами. И, конечно же, он прекрасно понимал, что Париж – не Пенза, и город на реке Сене – не чета городу на реке Суре. Маяковсковеды приводят фрагменты его писем в Париж, в которых красочно описывается, с каким невиданным энтузиазмом клокочет общественная жизнь страны Советов, а Яковлевой даётся совет стать «инженерицей» и поехать куда-нибудь на Алтай, чтобы строить всё тот же социализм. Но мы уже высказывали недоумение по поводу этого совета (вряд ли Маяковский сам придумал это отослание Татьяны в далёкие алтайские края).
Да и во всех (уже приведённых нами) фрагментах биографии Татьяны Яковлевой рассказывается, в основном, о её родственниках. Когда же речь заходит о ней самой, говорится лишь о парижском периоде её жизни.
А ведь детство, отрочество и начало юности прошло у неё в России (сначала – в царской, а затем – в советской). И о Маяковском Татьяна слышала с детства – не случайно же, встретив его в первый раз, она сразу поняла, кто именно перед ней. Вспомним, что она впоследствии об этом написала:
«… я увидела высокого, большого господина, одетого с исключительной элегантностью в добротный костюм, хорошие ботинки и с несколько скучающим видом сидящего в кресле. При моём появлении он сразу устремил на меня внимательно-серьёзные глаза. Его короткий бобрик и крупные черты красивого лица я узнала сразу – это был Маяковский».
На чём основывалось это мгновенное узнавание? Телевидения тогда не было, в парижских газетах портреты советского поэта вряд ли печатали. Как же запечатлелся в памяти Татьяны внешний облик Владимира Владимировича, да так, что она его «узнала сразу»?
Ответ напрашивается один: видимо, в пензенской семье, в которой воспитывалась Татьяна, был если не культ, то, во всяком случае, достаточно уважительное отношение к поэту-футуристу, за его творчеством с интересом следили. Любовь Яковлева наверняка водила дочерей в кинотеатр, и они там смотрели (и, возможно, не один раз) все те фильмы, в которых снимался молодой Маяковский.
В 1923 году Татьяне было уже 17 лет, и она могла прочесть поэму «Про это». В семье могли выписывать журнал «Леф» (или покупать его в газетных киосках) и читать помещённые в нём стихи Маяковского, а также его поэму «Владимир Ильич Ленин».
Училась Татьяна Яковлева в советской школе, поэтому вполне могла стать комсомолкой – хотя бы для того, чтобы не выделяться из среды своих ровесников. Она и в партию могла вступить – в этом тоже нет ничего экстраординарного. Кем был её второй отчим (третий муж Любови Яковлевой), биографы, к сожалению, не сообщают. Но он вполне мог быть человеком партийным и оказывать на падчерицу соответствующее влияние.
Да и стихи Маяковского (если, повторим, в семье следили за его творчеством) тоже могли сыграть свою роль – они ведь призывали читателей встать в первые ряды строителей социализма.
И не комсомольская ли (или партийная) ячейка порекомендовала отправить заболевшую Татьяну на лечение за границу? Ведь в ту пору рядовым советским гражданам (тем более из провинциального города) о подобной «роскоши» даже мечтать не полагалось.
Лечение в Париже
Никакие рекомендации (включая просьбы всесильного богача Андре Ситроена) не в состоянии были помочь советской девушке уехать за границу, если бы в СССР её не поддержал какой-то влиятельный человек или какая-нибудь солидная организация. Но даже в случае такой поддержки красавицу из Пензы вряд ли отпустили бы за рубеж, если бы ей не дало на это разрешение ОГПУ (взяв с девушки письменное согласие на сотрудничество с Лубянкой).
Иными словами, Татьяна Яковлева, как и все советские граждане, выезжавшие в ту пору за границу, просто должна была оказаться на крючке у гепеушников.
Кстати, и паспорт, по которому Татьяна проживала во Франции, тоже ведь был советским. Приехав в Париж, она сразу же должна была попасть под крыло резидента ОГПУ во Франции. И уже он «опекал» прибывшую красавицу – в ожидании, когда она излечится от своего заболевания.
Выздоровевшая Татьяна произвела фурор в эмигрантских кругах, а затем и в парижской элите. Гепеушный резидент мог радостно потирать руки – ведь о таком ценном информаторе, вхожим в самые разные круги французской столицы, можно было только мечтать!
Вспомним ещё одно обстоятельство – как Татьяна Яковлева встретилась с Маяковским. Их встречу, как мы помним, устроила (а если выражаться точнее, то подстроила) Эльза Триоле, находившаяся в Париже на том же «крючке» ОГПУ. Практически все маяковсковеды считают, что найти девушку, которая развлекла бы заскучавшего поэта, Эльзу попросила Лили Брик. Но для того чтобы познакомить Маяковского с Яковлевой, Эльза Триоле должна была сначала обратиться за советом к гепеушному резиденту (Якову Исааковичу Серебрянскому или к его заместителю Захару Ильичу Воловичу).
Кстати, как сообщает Аркадий Ваксберг, Эльза именно через Воловича…
«… и его жену Фаину регулярно переправляла Лиле в Москву французскую парфюмерию…»
Напомним, что Фаина Волович работала в том же парижском отделе постпредства, который возглавлял её муж, возглавляя фотоотдел и являясь шифровальщицей.
Надо полагать, что Москва была очень заинтересована в том, чтобы красавица Яковлева вышла замуж за какого-нибудь высокопоставленного француза. Но поскольку воздыхателей у неё было много, а серьёзных предложений не поступало, Лубянка (а не Лили Брик) и предложила подключить к этому делу проверенного «ухажёра», который умел весьма элегантно и практически без промахов влюблять в себя женщин. Им и стал Владимир Маяковский. Его задачей было разжечь у французов ревность.
Кстати, и Татьяна Яковлева вполне могла в первые дни знакомства с Маяковским поставлять информацию о нём тому же Серебрянскому или Воловичу. Ведь Янгфельдт, познакомившийся с Яковлевой через полвека после событий двадцатых годов, пишет в своей книге о том, что она рассказывала ему о Маяковском:
«… на родине его многое "разочаровало"».
Вряд ли влюблённая в поэта женщина стала бы пятьдесят с лишним лет хранить в своей памяти подобные подробности их давних бесед (к тому же политического толка, а политикой Татьяна Яковлева совершенно не интересовалась). Также весьма сомнительно, чтобы Маяковский излагал понравившейся ему девушке свои политические взгляды – тем для разговоров у них и без того было предостаточно. Даже если бы ненароком поэт и сказал бы что-то «не то» или «не так», его слова за пятьдесят лет напрочь выветрились бы из памяти его возлюбленной. Но она помнила их! Стало быть, для этого были основания.
Может, конечно, возникнуть резонный вопрос: а почему сама Татьяна Алексеевна Яковлева никогда ничего не говорила о своих связях с Лубянкой? Ответ на него прост: не у каждого, кто сотрудничал с ОГПУ, даже много-много лет спустя хватало мужества признаться в том, что он являлся агентом-осведомителем этого невероятно страшного спецучреждения.
А для того чтобы поехать вместе с Маяковским в СССР, никаких серьёзных препятствий у Татьяны Яковлевой не было. Владимир Владимирович настаивал, чтобы эта поездка произошла как можно скорее, а Татьяна Алексеевна предлагала отложить решение этого вопроса до осени. Но её ли это было решение? В резидентуре ОГПУ ждали, как отреагируют на флирт советского поэта с очаровательной Яковлевой французы. И Яков Серебрянский советовал Татьяне отвечать отказом на все предложения вернуться на родину.
Поэт, как мы помним, ответил на отказ его возлюбленной поехать вместе с ним в советскую Россию, четверостишием в стихотворении «Письмо Татьяне Яковлевой»:
«Не хочешь? / Оставайся и зимуй,
и это / оскорбление / на общий счёт нанижем.
Я всё равно / тебя / когда-нибудь возьму —
одну / или вдвоём с Парижем».
Татьяну в Париже явно что-то очень сильно удерживало.
Но что?
Конечно же, не ненависть ко всему советскому, о чём утверждал Василий Васильевич Катанян. И вряд её удерживало стремление продолжать оставаться в центре внимания парижского бомонда. Во-первых, всё в этой жизни со временем приедается. А во-вторых, любовь (и об этом без устали повторяет Бенгт Янгфельдт) – превыше всего. А Татьяна полюбила Маяковского очень крепко.
Так что же тогда удерживало её в Париже?
Или, может быть, кто?
Разве не напрашивается предположение, что ОГПУ (и его парижскому резиденту Якову Серебрянскому) просто не хотелось терять такого ценного агента-информатора? Ведь за русской красавицей ухаживали французы, занимавшие достаточно солидные посты. Среди них был и дипломат, служивший в Варшаве!
О том, чтобы сотрудница ОГПУ оказалась женой иностранного дипломата, на Лубянке могли только мечтать. А тут всё шло именно к этому.
Но Маяковский вдруг влюбился основательно, он рвался в Париж, чтобы устроить свадьбу и увезти Татьяну в страну Советов. Из-за этого необыкновенно привлекательная (если не сказать, невероятно необходимая) гепеушная операция могла сорваться.
Отказ от поездки
Валентин Скорятин, весьма основательно изучивший архивы наркомата по иностранным делам, не нашёл там обращения Маяковского за выездной визой. Аркадий Ваксберг на это «ненахождение» откликнулся так:
«Этот факт сам по себе куда более загадочен и непонятен, нежели гипотетический отказ в его просьбе о заграничном паспорте. Отказу было бы легче найти объяснение. Но что побудило самого Маяковского – добровольно! – поставить крест на своих замыслах, похоронить отнюдь не иллюзорные надежды? Почему – на самый худой конец – он даже не попытался хоть как-нибудь объяснить Татьяне столь крутой поворот?»
Размышляя над вопросом, почему поэт на обращался в наркомат по иностранным делам с просьбой о выдаче ему заграничного паспорта, Аркадий Ваксберг предположил:
«… а вот не обращался он потому, что кто-то устно, не оставляя документальных следов, посоветовал ему воздержаться от обречённого на провал, неразумного и опасного шага. Даже если это было сказано мягко, дружески, доверительно, всё равно такую рекомендацию правильней всего считать угрозой и шантажом».
Если всё было именно так, то Маяковский мог только повторить строки, написанные годом раньше (для Элли Джонс):
«море уходит вспять
море уходит спать
Как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчёте
И ни к чему перечень
взаимных болей бед и обид».
Именно к такой версии пришёл и Аркадий Ваксберг, вопрошавший:
«Не явились ли эти трагические строки следствием неизвестного нам разговора ("дружеского" совета-ссылки на то, что по "деловым соображениям" поездка в данный момент "опасна", "нецелесообразна"?), который поставил крест на надеждах Маяковского поехать снова в Париж и довести до конца свои планы?»
А планы поэта состояли в том, чтобы, сойдя с поэтической вершины, на которую он так долго поднимался, превратиться в уважаемого драматурга, представив советской общественности свою новую пьесу «Баня».
Наверное, именно так всё и происходило бы, если бы Владимир Маяковский был абсолютно вольным человеком, не имевшим к ОГПУ никакого отношения. Но он служил там. А события, разворачивавшиеся в этом чрезвычайном ведомстве, неожиданно приняли такой оборот, что изменили жизненные планы не только поэта-рефовца, но и многих-многих других. Но об этом – разговор особый. И мы продолжим его в следующей книге.
Список использованной литературы:
1. Абдрахманов Ю.А. 1916. Дневники. Письма к Сталину. – Ф.: Кыргызстан, 1991.
2. Агабеков Г.С. Г.П.У. Записки чекиста. – Берлин: Стрела, 1930.
3. Анненков Ю.П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. – Л.: Искусство, 1991.
4. Архив И.Л.Сельвинского и ЛЦК в ЦГАЛИ.
5. Бажанов Б.Г. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. – СПб.: Всемирное слово, 1992.
6. Беседовский Г. На путях к термидору. М.: Современник, 1997.
7. Бизнес. Сборник литературного центра конструктивизма. М.: Государственное издательство, 1929. 260 с.
8. Ваксберг А.И. Загадка и магия Лили Брик. – М.: Астрель, 2003. – 463 с.
9. Зелинский К.Л. На рубеже двух эпох. Литературные встречи 1917–1920 годов. – М.: Советский писатель, 1960. – 140 с.
10. Зелинский К. Л. Поэзия как смысл. Книга о конструктивизме. – М.: Федерация, 1929.
11. Имя этой теме: любовь!: Современницы о Маяковском / Сост., вступ. ст., коммент. В. В. Катаняна. – М.: Дружба народов, 1993. – 333 с.
12. Каверин В.А. Вечерний день. Письма, воспоминания, портреты. – М.: Советский писатель, 1980. – 505 с.
13. Катаев В.П. Алмазный мой венец. – М., 1978.
14. Катаев В.П. Трава забвения. – М.: Советский писатель, 1969.
15. Катанян В.А. Хроника жизни и деятельности Маяковского. – М.: Планета, 1993.
16. Катанян В.В. Лиля Брик. Жизнь. – М.: Захаров, 2002. – 288 с.
17. Катанян В.В. Лиля Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины. – М.: Захаров, АСТ, 1998. – 174 с.
18. Кулешов Л.В., Хохлова А.С. 50 лет в кино. – М.: Искусство, 1975.
19. Кривицкий В.Г. Я был агентом Сталина. Записки советского разведчика. – М.: Терра, 1991. – 364 с.
20. Лавут П.И. Маяковский едет по Союзу. – М.: Советская Россия, 1978.
21. Линдер И.Б., Чуркин С.А. Диверсанты. Легенда Лубянки – Яков Серебрянский. – М.: Рипол классик, 2011. – 688 с.
22. Луначарская-Розенель Н.А. Память сердца. – М.: Искусство, 1962. – 482 с.
23. Маяковский в воспоминаниях современников. – М.: ГИЗ, 1963. – 731 с.
24. Маяковский В. Собрание сочинений в 6 томах. – М.: Правда, 1973.
25. Маяковский В.В. Полное собрание сочинений в 13 томах. – М., 1955–1961.
26. Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. – М.: Московский рабочий, 1968.
27. Мережковский Д.С. Царство Антихриста. – Лейпциг, 1921.
28. Михайлов А.А. Жизнь Владимира Маяковского. Точка пули в конце. – М.: Планета, 1993.
29. Никулин Л.В. Записки спутника. – М., 1932.
30. Никулин Л.В. Люди и странствия. Воспоминания и встречи. – М., 1962.
31. Полонский В.П. Моя борьба на литературном фронте. – М.: Новый мир, 2008.
32. Рерих Н.К. Алтай – Гималаи: Путевой дневник / Предисл. К.Брэгдона. – Рига: Виеда, 1992. – 336 с.
33. Рерих Н.К. Алтай-Гималаи. (Мысли на коне и в шатре). 1923–1926. – Улан-Батор: Хото. 1927.
34. Сельвинский И.Л. Записки поэта. – М., 1927.
35. Сельвинский И.Л. Командарм 2. – М., 1928.
36. Сельвинский И.Л. Пушторг. – М., 1929.
37. Скорятин В.И. Тайна гибели Маяковского. – М.: Издательский дом Звонница, 2009.
38. Тихонов Н.С. Писатель и эпоха. – М., 1972.
39. Февральский А.В. Встречи с Маяковским. – М.: Советская Россия, 1971.
40. Ходасевич В.М. Портреты словами. – М.: Советский писатель, 1987.
41. Ходасевич В.Ф. Некрополь. Воспоминания. – 1939.
42. Чуковский К.И. Дневник. – М.: Современный писатель, 1995. – 558 с.
43. Шаламов В.К. Колымские рассказы. – М.: Азбука, 2015. – 384 с.
44. 44. Шенгели Г.А. Маяковский во весь рост. – М.: Издательство Всероссийского союза поэтов, 1927.
45. 45. Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. – Нью-Йорк, 1954.
46. 46. Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. – М.: Текст, 2005.
47. 47. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг. – М.: Колибри, 2009. – 640 с.
48. Янгфельдт Б. Любовь – это сердце всего. – М.: Книга, 1991.
Выдержки из журналов: «Даёшь» (М., 1929), «Жизнь искусства» (Л., 1928, 1929), «Журналист» (М., 1929), «За рулём» (М., 1929), «Искусство» (М., 1928, 1929), «Красная новь» (М., 1928), «Красная панорама» (М., 1929), «Крокодил» (М., 1926, 1928), «Молодая гвардия» (М., 1929), «На литературном посту» (М., 1927, 1928), «Новый Леф» (М., 1926–1927), «Новый зритель» (М., 1926), «Огонёк» (М., 1928), «Польская вольность» (Варшава, 1927), «Рабис» (М., 1929), «Селькор Украины» (Харьков, 1926), «Чудак» (М., 1929), «Экран» (М., 1928).
Выдержки из газет: «Правда» (М., 1927, 1928, 1930), «Известия ЦИК» (М., 1926, 1927, 1929), «Комсомольская правда» (М., 1926, 1927, 1928, 1929), «Труд» (М., 1927, 1928), «Вечерняя Москва» (1926, 1927, 1928), «Рабочая газета» (М., 1928), «Рабочая Москва» (1927, 1928), «Московский комсомолец» (М., 1929), «Пионерская правда» (М., 1927, 1928, 1929), «Литературная газета» (М., 1928, 1929), «Писатель и читатель» (М., 1928), «Красная газета» (Ленинград, 1926, 1927), «Новая вечерняя газета» (Ленинград, 1926), «Ленинградская правда» (Ленинград, 1927, 1928), «Кино» (Ленинград, 1927), «Вечернее радио» (Харьков, 1926, 1927, 1928), «Красный пролетарий» (Харьков, 1926, 1927, 1929), «Киевский пролетарий» (1926), «Пролетарская правда» (Киев, 1926, 1928), «Молот» (Ростов-на-Дону, 1926, 1927, 1928, 1929), «Советский юг» (Ростов-на-Дону, 1926, 1927), «Красное знамя» (Краснодар, 1926), «Бакинский рабочий» (Баку, 1926, 1927), «Красная Татария» (Казань, 1927), «Трудовая коммуна» (Пенза, 1927), «Тверская правда» (1927), «Известия» (Одесса, 1926), «Известия» (Саратов, 1927), «Прагер пресс» (Прага, 1927), «Эпоха» (Варшава, 1927), «Красное знамя» (Таганрог, 1927), «Трудовой путь» (Армавир, 1927), «Рабочая правда» (Тифлис, 1927), «Красное Запорожье» (Запорожье, 1928), «Кочегарка» (Донбасс, 1928), «Молодой коммунар» (Воронеж, 1929), «За мир и труд» (Новочеркасск, 1929).


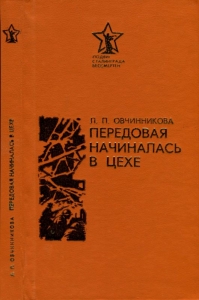


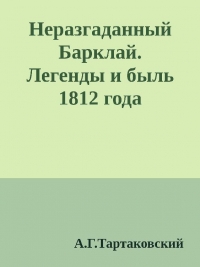


Комментарии к книге «Главная тайна горлана-главаря. Сошедший сам», Эдуард Николаевич Филатьев
Всего 0 комментариев