Анна Михайловна Ливанова Физики о физиках
Рассказы эти возникли из встреч и бесед со многими нашими физиками. Построены они по-разному. Иногда это описание одного эпизода или одного периода в жизни ученого, а иногда эскизный портрет его, всей его жизни. Об Эйнштейне, например, существует немало книг, и его жизнь в общих чертах широко известна. Но всякая новая деталь его биографии представляет несомненный интерес, поэтому здесь и рассказан один малоизвестный эпизод. То же относится и к подробностям выступления Курчатова в Харуэлле.
Мне бы хотелось в дальнейшем продолжить рассказы об этих ученых, пополнить их другими эпизодами.
Напротив, о физиках, жизнь и труды которых мало известны широкому читателю, я постаралась рассказать подробнее и полнее, описать хотя бы самым беглым образом их жизненный и творческий путь.
Больше всего хотелось донести до читателя какие-то живые черты и черточки великих ученых и передать атмосферу близости их к большой науке, сопричастности движению ее — ту атмосферу, которую я всегда ощущала во время бесед с физиками. И еще я стремилась рассказать кое-что о самой науке, даже не столько о достижениях ее и о результатах исследования, сколько о процессе познания, о поисках истины и правильного пути.
Пока здесь присутствуют лишь несколько ученых из числа тех, о ком мне хочется написать. В дальнейшем, я надеюсь, эта работа будет продолжена и я попробую познакомить читателя с другими замечательными физиками.
Последние годы Лебедева
Петр Николаевич Лебедев — человек, которому первому удалось измерить давление света и тем доказать, что оно действительно существует. Ученый, экспериментально подтвердивший теорию Максвелла — величайшее достижение физики XIX века.
Лебедев мог бы прожить гораздо больше, чем он прожил, и быть нашим современником. К сожалению, этого не случилось. Он умер совсем еще молодым, сорока шести лет, в 1912 году, и имя его уже давно принадлежит истории мировой физики, истории русской дореволюционной науки.
Поэтому я никогда не надеялась, что он может стать одним из героев этой книжки, которая вся построена на рассказах одних физиков, моих знакомых, о других, тех, с кем им приходилось работать и общаться. Мне казалось, что больше нет ученых, которые работали вместе с Лебедевым или учились у него — слишком уж много времени прошло с двенадцатого года.
Но вот я встретилась с московским физиком Борисом Владимировичем Дерягиным и узнала, что он пасынок Петра Николаевича. На его глазах прошли последние годы жизни Лебедева, о которых он мне и рассказал:
— О Петре Николаевиче у меня остались главным образом эмоциональные впечатления. При его жизни я даже и не думал, что стану физиком, наоборот, был убежден, что никогда не смогу им быть — настолько недосягаемо высокой казалась мне эта наука и таким великим в ней сам Лебедев. Но как я сейчас понимаю, подсознательная тяга к физике зародилась именно тогда. Любовь к Лебедеву, благоговение и трепет, даже страх перед ним рождали такие же чувства и к самой физике. Я не сомневался, что она самая важная и увлекательная изо всех наук. И самая недоступная.
Чувство страха вызывалось еще и болезнью Лебедева. У него была тяжелая стенокардия с сильными и частыми приступами, сопровождавшимися угнетенностью и раздражительностью. И близкие жили в постоянном, непроходящем страхе за него.
Конечно, восьми-девятилетний мальчик мало что понимал в трагических событиях, прервавших жизнь Лебедева. Но он видел, в каком мраке был Петр Николаевич, слышал постоянные разговоры о бедах, свалившихся на Московский университет. Пусть детский, но пристальный интерес к личности незаурядного человека, находившегося рядом, обострял восприимчивость. Уже повзрослев, Дерягин многое вспоминал, размышлял о многом.
И было еще одно связующее звено — Петр Петрович Лазарев, наиболее близкий ученик, друг и одновременно домашний врач Лебедева. Когда Дерягин вырос, Лазарев стал его учителем и руководителем на многие годы. Больше того, Дерягин после смерти матери жил у Лазарева в организованном им физическом институте. От Лазарева он многое узнал и о Петре Николаевиче.
Эти свидетельства помогли составить некоторое представление о последнем периоде жизни Лебедева. А кроме того, сохранилось немало документов, из которых, наверное, самые яркие — дневники и письма самого Лебедева.
— Убивают не одни только ножи гильотины. Лебедева убил погром Московского университета.
Горькие слова эти принадлежат Клименту Аркадьевичу Тимирязеву.
Эпоха реакции не обошла и учебные заведения. Борьба их за свои права, за мало-мальскую свободу и автономию после революции 1905 года неизменно оканчивалась поражением. Трагическим финалом был разгром Московского университета. События развивались стремительно и тяжко.
С начала 1911 года министром народного просвещения стал небезызвестный Кассо, по иронии судьбы бывший ранее профессором Московского университета. 11 января через министерство просвещения объявляется постановление Совета министров «О недопущении в стенах высших учебных заведений студенческих собраний и вменении в обязанность полицейским чинам принимать быстрые и решительные меры против них».
При любых сходках и собраниях студентов немедленно вызывайте полицию — таково было предписание министерства президиумам учебных заведений.
Президиум Московского университета, состоявший из трех человек — ректора А. А. Мануйлова, проректора П. А. Минакова и помощника ректора М. А. Мензбира, — доложил совету университета, что считает это распоряжение незаконным, нарушающим права и автономию университета. Совет согласился с президиумом.
На первую же сходку студентов Мануйлов не допустил полицейских чинов.
Кассо в долгу не остался. Мануйлов, Минаков и Мензбир были отстранены от должности.
Тогда возмутились все — студенты и профессура. Члены совета сочли недостойным и непорядочным, чтобы репрессии коснулись только их товарищей из президиума, действия которого они сами одобрили и поддержали. Сто двадцать четыре лучших преподавателя во главе с Тимирязевым в знак протеста подали в отставку и ушли из университета. Среди них был и Петр Николаевич Лебедев.
Каждый из них поступил так, как ему велела совесть. Каждый решал этот вопрос для себя сам.
По свидетельству близких Лебедева, его родных, товарищей и учеников, вероятно, ни для кого другого решение оставить университет не было столь трудным и не сопровождалось такими большими жертвами, как для него. Он терял не просто многое, он терял все.
— Петр Николаевич не спал и мучался несколько дней, — рассказывала потом его сестра. — Он не мог сразу принять решение уйти. Он чувствовал и видел, что погибало дело, которое им с таким трудом создавалось. За эти дни он очень изменился, поседел, похудел, но решил поступить так, как поступил бы каждый честный гражданин. Он решил уйти.
Тяжело больной, почти без средств к существованию, Лебедев больше всего страдал из-за того, что лишался лаборатории, а значит, и возможности работать. Вместе с ним то же теряли и его ученики.
За двадцать лет до этих событий, готовясь вернуться в Москву после долгого учения за границей, Лебедев писал матери:
«Помню я, как больше десяти лет тому назад меня манила и тянула к себе непонятная величественная гармония в природе, под поэтической розовой дымкой таинственности неясно вырисовывались чудные формы. Теперь эта дымка рассеялась — и я увидел строгую предвечную красоту мироздания: цель, смысл, радость, вся жизнь — в ней и для нее.
Если мне сейчас предложат выбор между богатством индийского раджи, с условием оставить науку и скудным пропитанием, неудобной квартирой, но превосходным институтом, то у меня и мысли не может быть о колебании».
Теперь он говорил проще и грубее: «Историки, юристы и даже медики, те могут сразу уйти, а у меня ведь лаборатория и, главное, более двадцати учеников, которые все пойдут за мной. Прервать их работу нетрудно, но устроить их очень затруднительно, почти невозможно. Это для меня вопрос жизни».
Уход для П. Н. Лебедева и вправду оказался вопросом жизни. Через год его не стало.
Думается, можно понять, почему трагическая развязка наступила так быстро. Конечно, тут виновата и наследственная болезнь — отца Лебедева тоже рано свела в могилу стенокардия. Но главная беда была в другом: рухнуло то, что он построил с таким трудом. И не нашлось сил строить сначала.
Достаточно представить себе не только то, что Лебедев сделал в науке, чем он для науки был, но и то, чем всегда, всю жизнь была для него наука, чтобы исчезли сомнения, что Лебедева, как говорил Тимирязев, убил погром Московского университета.
Петр Николаевич родился в состоятельной семье торгового служащего. Отец хотел сделать его своим преемником и не без умысла баловал юношу и приучал его к радостям легкого, безбедного существования. Собственная лодка, верховые лошади, карманные деньги всегда были в его распоряжении. При таких возможностях и на редкость красивой внешности Лебедеву ничего не стоило стать прожигателем жизни. Предуготованная отцом купеческая деятельность давала бы не только средства, но и оставляла достаточно времени для развлечений и всяческих удовольствий.
Отец так прямо ему и говорил:
— Если ты пойдешь на торговую дорогу, будешь жить так, как теперь, и даже лучше; если нет, достатки будут совсем другие, и чтобы приучить тебя к более скромной жизни, я должен буду урезать и теперь твои расходы.
Но Лебедеву было страшно даже представить себя в роли купца. Накануне своего семнадцатилетия он записывал в дневнике: «Могильным холодом обдает меня при одной мысли о той карьере, к которой меня готовят, — неизвестное число лет сидеть в душной конторе на высоком табурете над раскрытыми фолиантами, механически переписывать буквы или цифры с одной бумаги на другую. И так всю жизнь… Убить в себе все таланты, все наклонности».
Отвергнув занятия и интересы отца, Лебедев, как он сам не без удовольствия замечает, унаследовал его работоспособность и любовь к своему делу.
«Одно, что я знаю и за что я ручаюсь, что если меня пустят работать, так я так буду работать, как ни один каторжник, — это я наследовал от папы, — и страстно, до болезненности, любить свое дело. Там, где ты меньше всего ожидала, ты найдешь сходство между мной и покойным папой», — так писал он матери в последние месяцы своего пребывания за границей, уже вполне зрелым ученым.
Записи в дневнике и письма, особенно к матери, самому близкому для него человеку, пожалуй, ярче всего раскрывают характер Лебедева и его, можно сказать, всепоглощающую любовь к физике. Недолгое полудетское увлечение техникой переросло в глубокий интерес к науке: «Я, сам того не заметя, перешел из техники в ученую сферу».
В шестнадцать лет Лебедев составляет самому себе своеобразный вопросник — программу жизни.
«Какое призвание привлекает тебя больше всего?
Исследователя и изобретателя.
Твое любимое занятие?
Развивать свой разум, вообще свой дух.
Твой девиз?
Познай самого себя (Сократ). Так как в твоей груди — звезды твоей судьбы (Шиллер)».
А уже юношей, когда призвание его окончательно определилось, он пишет матери: «С каждым днем я влюбляюсь в физику все более и более. Скоро, мне кажется, я утрачу образ человеческий, я уже теперь перестал понимать, как можно существовать без физики».
И опять: «Я никогда не думал, что к науке можно так привязаться».
И снова: «Вне физической жизни у меня только сон: я прихожу домой, только чтобы спать и утром получить кофе… Лучшего увеселения, чем физика и лаборатория, я не знаю».
И еще раз: «Для меня каждая страница прочитанного заключает больше удовольствия, чем труда, потраченного на усвоение; таким образом, я с утра до вечера занят тем, чем я хотел заниматься с 12 лет, и у меня одно горе — день мал».
Письма эти приходили из Страсбурга, куда двадцатиоднолетний Лебедев уехал учиться физике.
Поступил он в лабораторию выдающегося ученого Августа Кундта. Судя по всем свидетельствам и воспоминаниям, Кундт был не только очень талантливым физиком-экспериментатором с великолепной интуицией и пониманием науки, но и отличным учителем и благородным человеком. Лебедев сохранил к нему глубокую привязанность, и любовь их, как видно, была обоюдной. Вообще их отношения во многом, вероятно, похожи на отношения, которые связывали Резерфорда и Капицу. Строки из писем к матери раскрывают весьма привлекательный образ этого человека.
«Главным стремлением Кундта было открыть перед начинающими физиками всю закулисную сторону научного исследования и дать им возможность попробовать свои силы и научиться самостоятельно работать при самых благоприятных внешних условиях. (Так же относился впоследствии Лебедев и к своим собственным ученикам.) Предоставляя всякому работающему полную свободу как в выборе темы, так и в разработке ее, Кундт особенно поощрял всякое проявление самостоятельности в работе, видя в ней залог будущих успехов».
«Сегодня я Кундта поймал и опять изложил то, на что он мне раньше заявил, что это чепуха. Сегодня он пришел в восторг, начал жать мне руки, кричать: „Вот это настоящая светлая идея“».
Но, поддаваясь обаянию Кундта и как человека и как ученого, Лебедев шел своим путем: «Кундт ругает часто за дело, но часто и потому, что у меня свой ход мыслей, а у него — свой, и мы не сходимся».
Вернувшись в Россию, Лебедев, продолжая этот свой «ход мыслей», стал осуществлять намеченную им для себя в Страсбурге программу. Она заключала последовательность работ, связанных одной идеей — идеей взаимодействия излучения и вещества, в частности вещества и света. Финалом должно было стать измерение светового давления.
Оценив и сразу же приняв теорию Максвелла, Лебедев определил для себя цель жизни — всем своим искусством экспериментатора доказать справедливость новой теории.
Ученый преуспел полностью. Он сумел измерить, с какой силой давит свет — эта, казалось, невесомая, эфемерная материя. Его опыты произвели сильнейшее впечатление на физиков, о чем они не замедлили высказаться.
«Я считаю Ваш результат одним из важнейших достижений физики за последние годы. Я оцениваю трудности Ваших опытов тем более, что я сам несколько времени тому назад задался целью доказать световое давление и проделывал подобные же опыты, которые, однако, не дали положительного результата», — писал Лебедеву Фридрих Пашен, тоже ученик Кундта.
Подобным же образом отозвался об этих работах и выдающийся немецкий физик Вильгельм Вин: «Лебедев владел искусством экспериментирования в такой мере, в какой едва ли кто другой владеет в наше время».
И русские коллеги оценили блеск и непостижимую точность опытов Лебедева.
«Отличительной чертой работ Петра Николаевича, — заметил Николай Алексеевич Умов, один из крупнейших физиков той поры, — было то, что они велись в областях природы, недосягаемых для обычных экспериментаторов».
Таково было всеобщее мнение о великом успехе Лебедева. Но не эти свидетельства собратьев физиков об экспериментальном мастерстве Лебедева, о таланте его работать на пределе возможного были главным доказательством значимости его работы. И не ставшая вдруг широкой его известность — хотя Лебедев в шутку говорил, что истинная популярность ученого начинается тогда, когда слава открытия выходит за пределы круга специалистов и дебатируется в среде профанов.
Самое главное значение этих опытов раскрывается в словах, сказанных великим физиком Уильямом Томсоном великому биологу Клименту Аркадьевичу Тимирязеву:
«Вы, может быть, знаете, что я всю жизнь воевал с Максвеллом, не признавал его световое давление, и вот ваш Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами».
В наш век радио можно и не говорить, что любому школьнику известно, что такое электромагнитное излучение, электромагнитные волны. Они просто стали бытом, повседневностью всех и каждого.
Однако ведь еще и ста лет не прошло, как Максвелл, один из величайших физиков, предсказал это явление. Любое изменение электрического поля влечет за собой изменение магнитного поля и наоборот. Эти попеременные колебания полей сопровождаются излучением электромагнитной энергии, которая в виде волн распространяется в пространстве. Новое, совершенно неизвестное тогда науке явление Максвелл открыл теоретически, как неизбежное следствие своих уравнений — знаменитых ныне уравнений Максвелла.
Если раньше внимание физиков привлекали электрические токи, заряженные тела, заряды, то Максвелл перенес внимание на поле. Ареной действия стало пространство, а главными действующими лицами — электрические и магнитные поля или их количественная характеристика — величина напряженности поля.
Уравнения Максвелла есть, по существу, самое лаконичное, самое красивое и в то же время самое общее и полное описание электромагнитных явлений. То есть описание возникновения электрических и магнитных полей, их взаимодействия, их «работы», их распространения.
Высшим достижением теории Максвелла по праву считается предсказание электромагнитного излучения — никем еще тогда не «пойманного», никак себя не обнаруживающего, почти гипотетического. Максвеллу удалось рассчитать и скорость, с которой электромагнитные волны должны распространяться в пространстве. Число это было физикам знакомо. Оно почти не отличалось от ранее измеренной ими скорости света. Такое совпадение позволило Максвеллу с полной убежденностью заключить, что видимый свет есть не что иное, как один из видов электромагнитного излучения.
Удивительна все-таки инерция мышления человека. Правда, может быть, она есть некое выражение его стремления к устойчивости — и понятий и всего мироздания.
Меньше всего, по идее, такой инертности должны быть подвержены ученые, ведь им сама профессия велит обладать подвижностью и гибкостью мысли при их диалогах с природой; да и со своими собратьями тоже. А между тем сколько есть примеров, когда косностью оказывались больны именно люди науки.
Это довольно легко объяснимо, когда открытие ломает укоренившиеся представления, ниспровергает принятые всеми истины. Так было с неэвклидовой геометрией, а в нашем веке — с теорией относительности.
Теория Максвелла ничего такого сверхпарадоксального, противоречащего здравому смыслу в себе не несла. Тем не менее ее поначалу не поняли, не приняли и не оценили. Как не оценили и гениальность ее творца.
Может быть, в данном случае, причина такого неприятия лежала главным образом не в труднодоступных и ошеломляющих идеях, какими были, как известно, идеи неэвклидовой геометрии и теории относительности. Она заключалась в сложном для большинства физиков тех дней математическом аппарате. Кстати, сложности математического изложения неэвклидовой геометрии и теории относительности тоже были немалым дополнительным препятствием на их пути к признанию.
Но если правильность неэвклидовой геометрии была доказана непротиворечивостью всей ее конструкции, то справедливость общей теории относительности доказывали и подтверждали не столько логикой, сколько экспериментальными следствиями теории, прежде всего отклонением лучей света в поле тяготения и аномальным, необъяснимым ньютоновской механикой смещением перигелия Меркурия.
Подобным же образом теорию Максвелла можно было утвердить, экспериментально доказав правильность ее следствий.
Эксперименты, подтверждавшие и утвердившие общую теорию относительности, были проведены, пусть не буквально, на глазах у Эйнштейна. Он присутствовал при полном ее признании и торжестве. Максвелл не дождался экспериментального подтверждения и торжества электромагнитной теории.
Немецкий физик Генрих Герц лишь через несколько лет после смерти Максвелла создал вибратор, который генерировал электромагнитное излучение. Герц не только получил электромагнитные волны, но и доказал экспериментально, что скорость распространения их та же, что и скорость света.
Вторым из предсказанных Максвеллом главных следствий его теории было давление света. В «Трактате по электричеству и магнетизму» ученый писал:
«В среде, в которой распространяется волна, появляется в направлении ее распространения давящая сила, которая во всякой точке численно равна количеству находящейся в волне энергии, отнесенной к единице объема. Если положить, что в ясную погоду солнечный свет, поглощаемый одним квадратным метром, дает 123,1 килограммометра энергии в секунду, то на эту поверхность он давит в направлении своего падения с силой 0,41 миллиграмма».
Чтобы утвердить теорию Максвелла, надо было доказать существование этого ничтожного давления и измерить его величину. Такую задачу поставил перед собой Петр Николаевич Лебедев: как бы ни было трудно — измерить давление света, доказать, что оно не фикция, не домысел, а явление, реально существующее в природе. Кстати, и эффекты, подтверждавшие грандиозную общую теорию относительности, тоже очень малы по величине и тоже были весьма трудны для измерения.
Небезынтересна реакция на открытие Максвелла Уильяма Томсона (известного многим под именем лорда Кельвина). Этот современник и почти ровесник Максвелла (правда, прожил он чуть ли не вдвое больше и умер уже в нашем веке), был выдающимся ученым, сделавшим фундаментальные открытия в термодинамике, в том числе и в области термоэлектричества. Занимался он и электротехникой, и немало сконструировал электромагнитных приборов. Так что явления электромагнетизма никак не являлись ему чуждыми.
Томсон был, видимо, хорошо знаком с Максвеллом. Во всяком случае, в течение многих лет он общался с ним, когда проводил часть летних семестров в Кембридже, где работал Максвелл. Больше того, когда в Кембридже была создана Кавендишская лаборатория, — знаменитая лаборатория, которую по очереди прославили все ее руководители — Максвелл, Дж. Дж. Томсон, Резерфорд, — великого лорда Кельвина пригласили заведовать кафедрой физики и возглавить лабораторию. Но он решил остаться в своем университете в Глазго и рекомендовал на эту должность не кого иного, как Максвелла.
И при всем том именно он, лорд Кельвин, не понял главного труда Максвелла.
Правда, у него, видимо, все-таки не было уверенности в полной своей правоте, потому что в конце века, когда его чествовали на юбилее, он признался: «Я знаю не больше об электрических и магнитных силах, чем я знал и чему пытался учить моих студентов пятьдесят лет назад».
И лишь незадолго до смерти произнес он уже известные нам слова: «Я не признавал световое давление, и вот ваш Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами».
Опыты Лебедева достаточно много раз описывались, чтобы заново о них рассказывать. Экспериментальное искусство ученого, его прямо-таки уникальная изощренность, изобретательность в преодолении, казалось бы, непреодолимых трудностей произвели сильное впечатление и на физиков и на «профанов».
Что значит «свет будет давить с силой 0,41 миллиграмма»? Это значит, что если на одну чашку весов сядет мошка, а на другую упадет солнечный луч, то первая опустится вниз.
Но трудность измерения давления света заключалась не только и не столько в том, что сила давления очень мала, — это было бы еще полбеды. Главное же осложнение происходило из-за того, что экспериментатору мешал сам свет. Мешал двумя способами.
Чтобы измерить давление света, пучок лучей бросают на легчайший подвижный предмет — крылышко, зеркальце, диск — и определяют его перемещение. Но этот подвижный предмет, скажем зеркальце, от того же света нагревается и отдает часть своего тепла окружающему газу. Возникают конвекционные токи, и они, подобно ветру, вращающему крылья мельницы, давят на зеркальце, причем гораздо сильнее, чем давит сам свет. И когда зеркальце перемещается, то неизвестно отчего — от давления света или от потоков воздуха.
Однако это не единственная помеха.
Оказалось, что под действием света возникает еще один эффект, который назвали радиометрическим. Суть его в том, что обе стороны зеркальца, нагревающиеся, естественно, по-разному (ведь свет падает с одной стороны), отдают и разное количество энергии соприкасающимся с ними молекулам газа. Ту сторону, где эта энергия больше, молекулы покидают с большей скоростью, или, что то же, с большим импульсом. А по закону сохранения импульса, улетая, они с большей силой отталкивают зеркальце, чем молекулы противоположной «холодной» стороны. Радиометрические силы действуют в том же направлении, что и давление света, а величина их на несколько порядков превосходит величину светового давления.
Чтобы «обезвредить» эти вторгающиеся в опыт силы, прежде всего надо было создать возможно больший вакуум, максимально достижимое разрежение: чем меньше молекул газа останется в сосуде, тем слабее станут помехи. Здесь Лебедев превзошел всех своих современников-физиков.
Но один вакуум дела не решал. Много различных приборов пришлось сконструировать и построить исследователю, много перебрать вариантов условий опыта и испытать различных схем измерений, пока многолетний, упорный и изощренный труд не привел его, наконец, к успеху.
Так заканчивался для него XIX век.
А наступление XX шло для Лебедева под знаком центральной задачи, которую он перед собой поставил — измерить давление света на газы. Для астрономии и прежде всего для решения загадки отклонения кометных хвостов именно она была главной. Между тем экспериментальные трудности здесь были неизмеримо коварнее, а само давление — примерно на два порядка меньше, чем на твердые тела.
Более восьми лет затратил Лебедев на эти эксперименты, пока достиг полной удачи. Выдающийся немецкий астрофизик Карл Шварцшильд писал ему потом: «Я хорошо помню, с каким сомнением услышал в 1902 году о Вашем предположении измерить давление света на газ, и я преисполнился тем большим удивлением, когда прочел, как Вы устранили все препятствия».
Международное признание заслуг Лебедева перед наукой было очень широким. Выразилось оно и в том, что его избрали почетным членом Лондонского Королевского общества. Признание радовало Лебедева. Но тревожила и угнетала развивающаяся болезнь.
Напряженнейшая работа днем и ночью изнуряла и все больше подрывала здоровье. Приступы стенокардии учащались. Приходилось прерывать эксперименты и уезжать на лечение в горы.
Об одной такой поездке вспоминает Борис Владимирович Дерягин:
«В марте 1909 года мы отправились в Италию. Сначала долго жили в Рапалло. Потом во Флоренции и в Сестри ди Леванте. Там нас навестил Лазарев с женой. Они с Лебедевым часто беседовали об астрономии, о значении для нее давления света. Мы все присутствовали при этих беседах. Да и вообще-то Петр Николаевич много рассказывал домашним о своей работе. Помню, с каким увлечением он объяснял матери, как ему удалось получить самые короткие в мире электромагнитные волны — длиной в 6 миллиметров (Герц получал волны длиною в несколько десятков сантиметров). Шестимиллиметровое излучение вело себя подобно видимому свету. С помощью специально сконструированной призмы Петр Николаевич заставил эти волны испытывать даже двойное лучепреломление, которое, как все были убеждены, есть чисто оптический эффект. Не только моя мать, но и я, мальчишка, был в курсе его работ по давлению света.
Из Италии мы поехали в Швейцарию и поселились у Фирвальдштетского озера — Озера четырех кантонов. Всех нас пленяла здешняя природа — зеленовато-голубая поверхность озера, темно-зеленые скалы и снега, пылавшие на закате солнца. С этими местами связана легенда о Вильгельме Телле. Неподалеку находится и знаменитый Чертов мост, с которого Суворов начал переход через Альпы. Петр Николаевич, еще с юности страстный альпинист, всегда любил горы, и они действительно облегчали его страдания».
Но лечиться и отдыхать, забывая о деле, Лебедев не мог. Однажды, когда врачи особенно настаивали на лечении и не просто пугали, а серьезно предупреждали о нависшей над ним угрозе, он ответил:
— Пусть я умру, а работу доведу до конца.
Климент Аркадьевич Тимирязев вспоминает другой эпизод:
«Несколько лет назад больной, измученный нашими проклятыми экзаменами, он вырывается на предписанный ему врачами отдых в горы — в Швейцарию. Проездом останавливается в Гейдельберге и взбирается на гору Кёнигштуль в астрономическую лабораторию Вольфа. Знаменитый ученый Вольф говорит ему, что глаза всех астрономов обращены на него, что только от него ждут они разрешения интересующей их задачи.
Спускаясь обратно с Кёнигштуля, Лебедев передумывает снова давно занимавшую его задачу и, наконец, находит ее разрешение. На другой день, забыв про необходимый отдых и предписание врачей, он, вместо того чтобы продолжать свой путь на юг, поворачивает на север, в душную, пыльную Москву».
Международное признание сказалось и на отношении к Лебедеву на родине. Российская академия наук присудила ему премию. И в 1900 году он стал профессором Московского университета. Вместе со званием появилось главное материальное благо — совсем маленькая, но своя лаборатория.
Через несколько лет, в 1904 году, во дворе университета построили новое здание специально для физического института. Петр Николаевич стал обладателем уже вполне приличной лаборатории. А по соседству с ней получил и казенную, «профессорскую», квартиру.
Однако лаборатория оказалась приличной только по размерам площади. Оборудование же ее оставляло желать много лучшего. Конечно, Лебедев сумел бы оснастить ее по последнему слову техники, уж он-то понимал, как это делать; но и минимальных средств получить не удавалось. Не хватало приборов, а деньги на их покупку отпускались скупо и неохотно. Не было механика, и профессору самому приходилось немало заниматься токарными и слесарными работами. Все его просьбы одна за другой встречали отказ. Не выдержав такого отношения, он написал письмо попечителю Московского учебного округа, где перечислял свои беды:
«Из всего вышесказанного следует, что в новом физическом институте, одно здание которого стоило более 450 000 рублей, я, штатный профессор физики, не имею возможности ни читать обязательный курс опытной физики, ни учить в лаборатории, ни самому научно работать».
Однажды после очередного отказа он пришел домой мрачный и раздраженный. За обедом жена спросила, что делается в университете. Дерягин запомнил, как Петр Николаевич ответил с выражением:
— Пакости делаются!
Вообще он умел быть очень резким и беспощадным.
— Вспоминаю о резкости, с которой Лебедев отзывался о скверных работах, — продолжал Дерягин. — Он возмущался, негодовал, издевался. Как-то, — рассказывал мне Лазарев, — Петр Николаевич воскликнул: «Самое большое зло — это посредственный ученый. Особенно когда он попадает не на свое место». Ненавидел Лебедев мракобесов и черносотенцев люто и не скрывал этого. Он был очень несдержан, не признавал никакой дипломатии. И от этого нелегко жилось ему.
Случались, конечно, и светлые часы радости, хорошего настроения, удачи. Тогда особенно раскрывались привлекательные стороны характера Лебедева.
— Петр Николаевич был страшный говорун, — вспоминает Дерягин. — И слушать его было необычайно интересно. Высокообразованный человек, он мог при случае рассказать массу вещей. И был остроумен, любил шутку. Однажды он полусерьезно, полушутя сказал Петру Петровичу Лазареву: «Как хорошо было жить в эпоху Архимеда. Достаточно залезть в ванну — и сразу сделаешь открытие. Сейчас не то». — «Ничего подобного, — ответил Лазарев, — и сейчас есть много таких областей, где можно легко сделать открытие». В другой раз Лебедев заметил своему другу детства Александру Александровичу Эйхенвальду, тоже ставшему крупным ученым: «Ты, Саша, очень умный и всегда, когда начинаешь работать, заранее знаешь все трудности, которые могут встретиться на пути. Поэтому у тебя никакая трудная работа не может получиться». Петр Николаевич хотел этим сказать, что настоящий ученый должен больше думать о том, чем можно помочь работе, а не о том, что ей может помешать.
А его собственной работе мешало многое. Препятствия нагромождала не только природа, физический мир — их он любил преодолевать. Мир человеческий, точнее — мир чиновников от науки не уставал вставлять ему палки в колеса. И об этих вот трудностях не думать он, к сожалению, не мог — они никак не давали забыть о себе.
Но все-таки, хоть с трудом, постепенно, больше собственными своими силами, а не поддержкой извне, с помощью учеников Лебедев строил свою большую лабораторию. В новом здании ему удалось выхлопотать и подвальное помещение. Там было уже достаточно места для работы двадцати — двадцати пяти человек. Вскоре слова «лебедевский подвал» стали синонимом «экспериментальной школы профессора Лебедева».
«Отчетливо помню Петра Николаевича — бодрого, жизнерадостного, исполненного веры в преуспеяние своей школы, когда он привел нас в первый раз в свой подвал, чтобы показать наше новое место работы и распределить по комнатам. Он пересыпал речь шутками, расхваливал помещение, увлекательно говорил с каждым о предстоящей работе», — вспоминал о том счастливом для Лебедева дне один из его учеников.
И Климент Аркадьевич Тимирязев радовался за своего младшего друга: «В лебедевском подвале бьется пульс настоящей, не школьной науки. Здесь Лебедев находит время руководить работой 20–25 молодых исследователей, внося в их труд избыток своего творчества, своей изумительной изобретательности. Руководить 25-ю работами — это даже не то, что вести шахматную игру разом с 25-ю игроками».
…Мне кажется, что в создании школы, в организации массового по тем временам воспитания молодых физиков Лебедевым руководил и некий «разумный эгоизм» ученого.
Всю жизнь его обуревало огромное количество замыслов и идей. Неиссякаемое изобилие их поражало окружающих. Его учитель Кундт даже посвятил этому шуточное и не очень профессионально написанное стихотворение, начало которого — в совсем уж непрофессиональном переводе — звучит примерно так:
У господина Лебедева На дню по двадцати идей. Но доволен почему-то Все ж директор института, — Половину автор успевает растерять, Даже не начав еще их проверять.— Обилие мыслей и проектов не дает мне спокойного времени для работы, — жаловался и сам Лебедев.
Конечно, привлечение большой группы студентов-учеников к работе в занимавшей его области физики позволило Лебедеву несколько разгрузить свой ум и свое время и сосредоточиться на самом главном и сложном.
— Я обязан работать на пределе своих сил, — объявил он однажды ученикам. — А что для меня легко, пусть решают другие.
Однако такой подход не только не исключал ответственности Лебедева перед учениками, наоборот, Петр Николаевич очень вдумчиво относился к их воспитанию, к их научным интересам. Он много размышлял, как ими руководить, как их воспитывать. И не только размышлял, конечно, но и действовал. Даже находясь за границей на лечении, он вникал во все подробности работы своих питомцев, посылал им длинные инструкции. Вот, например, какое послание получил студент Альтберг. Сначала сверхподробно, с мельчайшими деталями написано, что и как надо сделать, причем для большей убедительности самое важное Лебедев подчеркивает одной, а то и двумя чертами. Потом он переходит к субъективным качествам адресата: «Вы хорошо и с энергией работаете, покуда все идет как по маслу, но достаточно какой-нибудь заминки, чтобы у Вас опустились руки, — этот недостаток лежит в Вашей неопытности: работ, идущих без заминки, не существует, к этому надо всегда быть готовым и относиться к ним спокойно. Теперь у Вас принципиальных затруднений нет; есть полная уверенность, что Вы сможете закончить работу. Теперь все сводится к тому, чтобы возможно получше ее закончить, а в этом направлении пределов нет; надо поэтому задаться наперед известной границей».
Дальше Лебедев дает совет, как писать статью, и кончает напутствием: «В то время, когда будете экспериментировать, т. е. до масленой, постоянно думайте только о Вашей работе, не занимайтесь подготовкой к экзаменам: только сосредоточив все свои мысли на работе, Вы сможете достигнуть максимума того, что лежит в Ваших силах».
Инструктировал он и Петра Петровича Лазарева, которого считал главным своим помощником. На этот раз речь шла о том, как учить, а не о том, как учиться: «Давая тему начинающему, то есть взявшись за формирование будущего ученого, мы должны совершенно ясно себе представить и свою нравственную ответственность перед данным лицом. Искалечить такого начинающего нет ничего легче: дать ему интересную тему, но такую, которая ведет к ряду неожиданных промежуточных трудностей, — он затянется на деталях, проработает больше известного срока, на опыте разочаруется — и дело готово. Поэтому начинающему Вы имеете нравственное право давать только такую задачу, вполне определенный и достижимый результат которой Вы, безусловно, можете гарантировать».
Ученики платили Лебедеву преданностью. Ему прощали и чрезмерную, как им казалось, требовательность, и резкость, и несдержанность.
«Пусть учитель иногда резок, может быть, даже несправедлив к начинающему ученому, но все мы, видя эту бесконечную любовь учителя к делу своих учеников, видя, как учитель в трудную минуту приходит на помощь, видя, как учитель снисходителен в том случае, когда ученика постигает действительная неудача, — мы не замечаем его резкости и готовы идти за учителем, какой бы путь он ни избрал», — так писал через много лет ученик его В. Д. Зёрнов.
И вот теперь эти молодые люди также готовы идти за ним, «какой бы путь он ни избрал». А избрал он единственно возможный для него путь, и это был путь потерь.
Если раньше он чувствовал себя ответственным за то, как и чему он будет их учить, то теперь его мучил вопрос: где их учить?
И где он сам будет вести свои работы, свои исследования? Откуда возьмет силы, чтобы организовывать все сначала?
Хотя главное дело жизни было завершено, но впереди лежала новая привлекавшая его область физики, к которой он только подступался. Здесь трудностей тоже было без счета. Удастся ли их преодолеть? А если не сможет, не успеет он сам, то кто же сможет?..
Подобно измерению светового давления, новое исследование было тоже предпринято не без мысли об астрономии. Лебедев хотел обнаружить связь между вращением небесных тел и возникновением вокруг них магнитного поля. Как мы знаем, только сейчас, вооруженные современной техникой, в первую очередь искусственными спутниками, физики и астрономы разрешают вопрос о существовании магнитных полей у ближайших к нам планет.
У Лебедева по этому поводу были свои соображения, собственные идеи. Неизвестно, как бы он разрешил эту задачу и возможно ли было решить ее на том уровне техники эксперимента. Неизвестно потому, что дальше начала Лебедев продвинуться не успел.
Вероятно, драма Лебедева не только в том, что уход из университета подорвал последние силы, что творческий путь подходил к концу. Горько ему было и от сознания, что нет рядом никого, кто мог бы продолжить его работу на уровне, мало-мальски близком к его собственному. Может быть, впрямую он так не говорил, но по отдельным словам, брошенным то одному, то другому, этого нельзя было не почувствовать.
«В моей личной жизни было так мало радости, что расстаться с этой жизнью мне не жалко, — писал он во время одного из обострений болезни. — Мне жалко только, что со мной погибнет полезная людям очень хорошая машина для изучения природы: свои планы я должен унести с собой, так как я никому не могу завещать ни моей большой опытности, ни моего экспериментаторского таланта. Я знаю, что через двадцать лет эти планы будут осуществлены другими, но что стоит науке двадцать лет опоздания?»
Конечно, свой уникальный экспериментаторский талант Лебедев не мог ни передать, ни завещать. А похожего ни у кого не было.
«Не думайте, что мне легко смотреть, как они не могут справиться, — пожаловался он однажды Лазареву на беспомощность своих учеников, — мне все кажется, что я виноват, что не умею их учить».
А учил он их много и настойчиво. «Помню, как Петр Николаевич возился с каждым из нас, чтобы внедрить в нас свои идеи, помню это и по себе», — рассказывал Торичан Павлович Кравец.
Лебедева постоянно тревожило будущее науки, он понимал, что больше всего оно зависит от тех, кто будет в науке работать. И отдавал себе отчет, что посредственные ученые — наибольшая, по его словам, опасность для науки, — неизбежно вырастают из средних, посредственных учеников.
«Но и сам он, — как вспоминает Лазарев, — в этом был не безгрешен, — работал за учеников, конструировал им приборы, часто занимаясь этим ночи напролет. Он не просто руководил их работами, он стремился выучивать учеников, подчас чрезмерно опекая их».
Вряд ли такое «выучивание» было идейной позицией Лебедева как воспитателя молодых ученых. Еще меньше это было его виной. Вероятно, окажись среди учеников кто-то равный ему по масштабу, по таланту, Лебедев бы и не думал «выучивать» его. Ведь он сам, работая у Кундта, был тоже в роли ученика, что нисколько не мешало ему сохранять свою индивидуальность и «свой ход мыслей». Кому, как не ему, оценить этот «свой ход мыслей» — если бы он был…
Кравец вспоминал, как Лебедев любил повторять, что у него нет ни одного ученика: талантливых людей он не учил — они выходили в люди благодаря своему таланту; труд, время и нервы он тратил на людей без дара, а из них все равно ничего не вышло.
Окружающие воспринимали эти слова как парадокс, почти как шутку. Но Лебедеву было не до шуток.
Так или иначе, он не мог снять с себя ответственности за судьбу учеников. Поэтому он отклонил все предложения оставить Москву. Одно, весьма лестное, было от директора Физико-химической лаборатории Нобелевского института Сванте Аррениуса, который настойчиво звал Лебедева в Стокгольм. «Естественно, что для Нобелевского института было большой честью, если бы Вы пожелали там устроиться работать, и мы, без сомнения, предоставили бы Вам все необходимые средства, чтобы Вы имели возможность дальше работать. Вы, разумеется, получили бы совершенно свободное положение, как это соответствует Вашему рангу в науке».
Петр Николаевич поблагодарил и отказался. Это было понятно. Конечно, лучших условий, чем ожидали его в Нобелевском институте, ученый и желать не мог. Он часто жил за границей, и обстановка многих западных лабораторий и институтов была ему хорошо знакома. Он учился в Страсбурге и Берлине и понимал, что там и надо было ему учиться. И после, выезжая за границу на лечение, он всегда общался с западными физиками. Но одно дело — учиться или общаться, а другое — уже зрелым, сложившимся ученым покинуть свою страну. На это Лебедев никогда бы не пошел.
Но он отказался переехать и в Петербург, куда его звал директор Главной палаты мер и весов профессор Егоров.
Вся горечь, скопившаяся в душе Лебедева к исходу жизни, вылилась в статье «Памяти первого русского ученого». Посвященная двухсотлетию со дня рождения Ломоносова, статья была опубликована 11 ноября 1911 года в газете «Русские ведомости» (некогда в этой газете печатались Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, народник Михайловский).
Местами кажется, что это автобиография самого Лебедева, его рассказ о последних годах своей жизни.
Начинается статья эпиграфом из Ломоносова: «Я вижу, что должен умереть, и спокойно смотрю на смерть; жалею только о том, что не мог свершить всего того, что предпринял для пользы отечества, для приращения наук и для славы академии и теперь, при конце моей жизни, должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной».
«Ломоносов видел, — пишет Лебедев, — что плодотворная деятельность обусловлена не только личными занятиями ученого, но и созданием школы для подготовки ученых работников; в Марбурге Ломоносову стало ясно, что ученая сила немецкого университета кроется в преемственности знания… Он не мог ограничить свою деятельность учеными исследованиями — он видел перед собой другую задачу, которую ставила ему русская жизнь: создать и обеспечить в России возможность научной работы».
«Не худо, чтобы университет и Академия имели по примеру иностранных какие-нибудь вольности, и особливо, чтобы они освобождены были от полицейских обязанностей», — вот о чем мечтал Ломоносов.
Конечно, статья эта была для Лебедева не только поводом и способом, говоря о другом ученом и другом периоде жизни России, рассказать о себе, о своей беде и беде России своего времени. Нет, в ней и подлинная боль за Ломоносова, которому тогдашние порядки не дали полностью проявить себя, отдать науке все заложенные в нем таланты.
Лебедев снова цитирует Ломоносова: «Куда столько студентов и гимназистов? Куда их девать и употреблять будем? Сии слова твердит часто Тауберт в канцелярии академии, и хотя ответственно, что у нас нет природных россиян ни аптекарей, да и лекарей мало, также механиков, искусных горных людей, адвокатов и других ученых, и ниже своих профессоров в самой академии и в других местах. Но не внимая сего, всегда твердил и другим внушал Тауберт: куда со студентами?»
Тауберт был советником канцелярии Петербургской академии, врагом идей и всех начинаний Ломоносова.
«Со своей точки зрения, конечно, и Тауберт прав: Тауберту все эти русские гимназисты и русские студенты действительно ни на что не были нужны, — со злой и горькой иронией замечает Лебедев. И дальше пишет: — Общественная деятельность Ломоносова, как реформатора всей культурной жизни страны и ее языка, принесла свой плод и с глубокой благодарностью будет вспоминаться потомками. Иная судьба суждена его научной деятельности, для которой он прошел путь от рыбачьего баркаса до кафедры Академии наук: она не дала даже ничтожной доли тех результатов, которых естественно было от нее ждать, — она стала лишь прообразом трагической судьбы ученого в России.
Все современники, знавшие Ломоносова, — и между ними гениальный Эйлер, — ожидали от этого самородка исключительных научных исследований; казалось, что все задатки для такой деятельности счастливо сочетались в его лице: огромный природный талант исследователя, ясный, независимый ум, широкий кругозор, большой запас знаний, несокрушимая воля, железное здоровье и желание всецело отдаться любимому делу, — но судьба поставила Ломоносова в те чисто русские условия деятельности, при которых никакой талант ученого не мог ему помочь.
Если прибавить, что, начиная свою ученую службу, Ломоносов шесть лет, — может быть, лучших лет своей жизни, — потерял для работы, не имея даже плохонькой лаборатории, то ужас положения, в котором находился первый русский ученый-великомученик, и та душевная трагедия, которую он не мог не пережить, и теперь заставляют нас задуматься».
Лебедев пишет, что он «не может не подумать с горьким, щемящим чувством, какой огромный талант бесследно и бесполезно погиб для науки!» С негодованием и болью говорит он о том, что «работы носят у Ломоносова отпечаток тех невозможных окружающих условий, в которых они зарождались: разработка их в большинстве случаев только начинается и обрывается на интересном месте исследования… Невольно перед глазами встает во весь огромный рост трагическая фигура ученого, который не мог не чувствовать, что со всеми своими талантами он не может дать науке и того немногого, что дает ей рядовой ученый на Западе, работающий в нормальных условиях. Измученный, умирающий Ломоносов не переставал болеть душой о судьбах русской науки, не переставал бояться за ее будущее».
И дальше Лебедев, уже несомненно, говорит о самом себе: «Если присмотреться к работе наших выдающихся ученых, то приходится утверждать, что в большинстве случаев они дали крупные исследования не благодаря тем условиям, в которых они работали в России, а вопреки им. Число людей с несомненными проблесками таланта гибнет и для науки и для страны: числа эти ужасающие».
Мне кажется, что любовь Лебедева к России была сродни любви Чаадаева или Герцена — страстной, деятельной, но беспощадной любви без умильности, без прикрывания век — наоборот, с широко раскрытыми глазами.
Надо отдать справедливость московской общественности — она постаралась сделать все, чтобы сохранить Лебедева и для науки и для страны. Был организован широкий сбор средств, и через несколько месяцев в доме № 20 по Мертвому переулку (близ нынешней Кропоткинской улицы), где Лебедеву пришлось снимать квартиру, оборудовали для него и лабораторию. Начал жить новый «лебедевский подвал».
— Ну, — сказал однажды довольный Петр Николаевич, — будем делать живое дело в Мертвом переулке.
Одновременно началось строительство физического института специально для Лебедева. Он, конечно, очень интересовался ходом дел, сам участвовал в проектировании здания.
Но увидеть построенный институт ему уже не пришлось. Как почти не пришлось поработать в новом «подвале». 14 марта 1912 года Лебедева не стало.
Эта смерть потрясла Москву. Все знали истинную ее причину. Правда, одни называли ее намеками, осторожно: «Пронеслась мелкая, поверхностная зыбь. Но эта зыбь имела последствия, вынудившие ряд профессоров частью прекратить преподавательскую деятельность, частью подать в отставку», — таким эзоповским языком изъяснялся в некрологе профессор Умов.
Другие, как Иван Петрович Павлов, выражались определеннее и резче: «Когда же Россия научится беречь своих выдающихся сынов — истинную опору отечества?!»
И до конца высказался Тимирязев. В статье «Смерть Лебедева» он сказал все, что думал: «Эта новая жертва снова и снова приводит на память невольный крик, когда-то вырвавшийся из наболевшей груди Пушкина — крик отчаяния, крик проклятия: „Угораздило же меня с умом и талантом родиться в России!..“ Успокоили Лебедева. Успокоили Московский университет. Успокоят и русскую науку. А кто измерит глубину нравственного растления молодых сил страны… Страна, — пророчески заканчивал Тимирязев, — видевшая одно возрождение (он говорил о реформаторской деятельности Петра), доживет до второго, когда перевес нравственных сил окажется на стороне „невольников чести“, каким был Лебедев. Тогда, и только тогда, людям „с умом и сердцем“ откроется, наконец, возможность жить в России, а не только родиться в ней, чтобы с разбитым сердцем умирать».
Встреча с Эйнштейном
Личность Эйнштейна всегда будет привлекать к себе внимание. Все, что связано с ним, вызывает неугасающий интерес. Поэтому так ценен каждый рассказ о какой-то стороне жизни или характера великого физика, об эпизоде, действующим лицом которого он был. Профессор Юрий Борисович Румер, тогда еще молодой ученый, в 1929 году находился в Германии. Там, в Геттингене, он работал и общался со многими выдающимися физиками. Довелось ему встретиться и с Эйнштейном.
Профессор Румер, как, вероятно, и все физики, не мог не задумываться о творческом пути Эйнштейна. Может, его суждения и оценки в чем-то субъективны и разделяются далеко не всеми, но они органически входят в содержание рассказа.
Вот что рассказал Юрий Борисович.
В конце двадцатых годов теоретическая физика переживала эпоху «бури и натиска» — рождалась современная квантовая механика. Ее создатели — и Шредингер, и Гейзенберг, и Дирак — и остальные участники «великого перелома» были тогда молодыми и все так или иначе прошли сквозь Геттинген. Одни там жили годы, другие — месяцы, третьи — недели. Центром кристаллизации научного коллектива был Макс Борн. Нутром, интуицией Борн понял, что в физике начинается исторический перелом, что она переходит в новую фазу. Время одиночек и маленьких лабораторий кончилось. Пять, десять, двадцать человек не могли справиться со все нарастающим потоком идей и задач. Нужны были сотни ученых, коллективно думающих и коллективно взаимодействующих.
Максу Борну с несколькими ассистентами удалось создать в Геттингене такую цитадель науки. Как удалось?
Там все обучали друг друга. Каждый получал какое-то задание или развивал собственные идеи; потом он становился в данной области квалифицированным ученым и учил других. Так получалось расширенное воспроизводство молодых ученых.
Все приезжали туда по доброй воле и с единственным желанием: работать и учиться. Как работать, как учиться — это было их личным делом. Кто хотел работать руками — сидел в лаборатории. Кто хотел читать или считать — уединялся где-нибудь с книгами и бумагой. А кто хотел — мог отправиться погулять с девушкой. Но прогулки эти нередко заканчивались одним и тем же: возвращается парочка через несколько часов, он смущен, она в слезах; оказывается, у него во время прогулки появилась идея, и девушка ничего, кроме мычания, так и не услышала.
В те годы зловонное дыхание копившего силы фашизма еще не коснулось Геттингена, там главенствовали дружба и братство. Однажды случилась такая история. Приехал Чандрасекар, молодой физик — племянник известного индийского ученого Рамана. У юноши был резко выраженный негроидный тип лица. Старожилы сразу подружились с Чандрасекаром и быстро разглядели, что это человек высокого полета — и по таланту и по знаниям. Немного спустя в тот же пансион прибыл еще один гость — американский профессор математики из университета штата Юта. Прежде всего обнаружилось его совершеннейшее невежество. Он не знал даже, к примеру, что такое «собственные функции» — термин, хорошо известный каждому студенту, изучающему высшую математику. И о многом другом он также не имел ни малейшего представления. Наверное, ему простили бы это, не произойди нечто невероятное.
Садились за стол обедать. Пришел Чандрасекар, поздоровался со всеми и тоже сел. Вдруг американский профессор встает, подходит к хозяйке и говорит, что с негром сидеть за одним столом не будет.
Все остолбенели. Первым опомнился Гайтлер. Он тоже встал, подошел к хозяйке, вытащил часы и говорит:
— Сейчас без тринадцати минут двенадцать. В двенадцать часов американец должен покинуть пансион.
Хозяйка стала что-то говорить, но он прервал ее:
— Спешите, иначе вы разоритесь. Мы все уедем и объявим пансиону бойкот.
Хозяйка заплакала.
— Я вам сочувствую, но ведь минуты-то проходят. Вы совсем потеряли голову.
Без двух минут двенадцать американец поспешно вышел с чемоданом в руках, и больше его не видели.
…В Геттингене собралась молодежь чуть ли не со всего мира. Там были русские, французы, англичане, индийцы, датчане, японцы. Другим подобным же местом паломничества, куда съезжались главным образом физики-теоретики, был Копенгаген, где работал Бор. Когда на этом звездном небосклоне появилась длинная фигура Ландау, все были поражены, как много знает и умеет этот юноша, уже профессор в двадцать один год.
— Что ж, наша страна молодая и ученые молодые, — обычно отвечал Ландау.
В середине двадцатых годов слава Эйнштейна достигла апогея. Научная судьба ученого была исключительно счастливой. Каждая его работа становилась гигантским открытием: объяснение броуновского движения, квантовая теория света, наконец, специальная теория относительности.
Но самым замечательным достижением Эйнштейна было создание современной теории тяготения, иными словами — общей теории относительности. Он первый дал ответ, что же такое тяготение. Его теория — величайшее творение. Ученый сам не раз говорил:
— Я совершенно не понимаю, почему меня превозносят как создателя теории относительности. Не будь меня, через год это бы сделал Пуанкаре, через два года сделал бы Минковский, в конце концов больше половины в этом деле принадлежит Лоренцу. Мои заслуги здесь преувеличены. Что же касается теории тяготения, то я почти уверен, что если бы не я, то до сих пор ее никто бы не открыл.
В 1925 году Эйнштейном овладела идея объединить электромагнитное поле и поле тяготения в единое поле, то есть создать такую одну теорию, которая объясняла бы все особенности и поведение и электромагнитных полей, связанных с излучением энергии, и полей тяготения, связанных с массой, с веществом. Это и есть проблема «единой теории поля». Эйнштейн занимался ею до самой смерти. На нее он убил все последние тридцать лет жизни. Это была величайшая трагедия его творчества.
Он писал одну работу за другой — и ничего не получалось. А так как это были работы Эйнштейна, то первые пять лет их читали все. Потом перестали читать и только просили своих ассистентов посмотреть, в чем там суть.
Эйнштейн переживал страшное крушение.
И по сей день с единой теорией поля ничего не получается. Есть мнение, что без существенно новых идей в решении этой проблемы не обойтись. А Эйнштейн считал, что новых идей не нужно. Почему? Будучи величайшим революционером в науке, он в известном смысле оказался не первооткрывателем, а завершителем целой эры. Им блестяще закончилась классическая физика, которая началась Ньютоном и продолжалась Максвеллом. А новые идеи в классике почерпнуть было нельзя, их могла дать только квантовая теория.
Здесь хотелось бы привести другое высказывание, несколько иначе освещающее отношение Эйнштейна к классической физике. Принадлежит оно голландскому физику-теоретику Паулю Эренфесту. На вопрос, чем отличаются Эйнштейн и Бор от других физиков, какие свойства их ума и характера определяют их блестящие научные достижения, Эренфест ответил, что хотя Эйнштейн и Бор обладают резко различной индивидуальностью, у них есть ряд общих черт, которые отличают их от «обыкновенных» физиков. Вот одна из них:
«И Эйнштейн и Бор исключительно хорошо знают классическую физику, они, так сказать, пропитаны классическим знанием. Они знают, они любят, они чувствуют классику так, как не может этого делать обыкновенный физик. Меньше всего они готовы признать новое только потому, что это новое. Скорее их можно назвать консерваторами — с такой бережностью они относятся к классическим объяснениям, к каждому кирпичику здания классической физики. Но для них новые вещи являются необходимостью потому, что они хорошо знают старое и отчетливо видят невозможность старого, классического объяснения».
Эти слова Эренфеста в какой-то степени — ключ ко всему научному творчеству Эйнштейна.
Несмотря на то, что именно Эйнштейн ввел понятие квантов в оптику и создал квантовую теорию света, что им создана квантовая статистика, несмотря на это, к квантовой механике он всегда относился чрезвычайно настороженно и враждебно.
Но тогда, в конце двадцатых годов, первые неудачи еще никому не казались трагическими — ни автору, ни окружающим. Единая теория поля была модной темой, ею многие занимались. И все, что появлялось в этой области, естественно, привлекало внимание Эйнштейна.
«Всю свою жизнь я больше всего интересовался единой теорией поля», — Румер вспоминает свои работы за долгий ряд лет.
Одна из первых была сделана в 1928 году. Она относилась к направлению, которое называлось пятимерным обобщением теории относительности. Румер доложил ее в Математическом обществе, потом она была напечатана в «Известиях Геттингенской академии наук».
Статьей заинтересовался Макс Борн.
— Я думаю, вы уже законченный ученый, — заметил Румеру Борн. — Если я поговорю с моим другом Эйнштейном, он поможет уладить все формальности, и вы будете работать в нашей лаборатории.
И послал эту работу Эйнштейну с соответствующим письмом.
Ответ был скорый, но малоутешительный. Эйнштейну работа не понравилась.
Позже, когда Румер стал ассистентом Борна и получил доступ к его переписке, он прочел оба письма. Борн писал: «Я посылаю тебе работу одного молодого русского и именем старой дружбы прошу использовать свой авторитет и сделать так, чтобы он мог у меня работать».
Эйнштейн ответил: «Дорогой Макси! Ты просишь от меня почти невозможного. Я не считаю возможным разговаривать о человеке, которого никогда не видел. К тому же его работа меня, по совести, не интересует и не кажется мне привлекательной».
Самому Румеру Эйнштейн написал так:
«Дорогой господин коллега!
Я получил Ваш оттиск и должен Вам по совести сказать, что работа мне совершенно не нравится и я не считаю, что она бьет в цель. Но если Вы когда-нибудь будете поступать доцентом по физике, то обязательно напишите мне, я Вам дам рекомендательное письмо».
Через некоторое время в Геттинген приехал профессор Эренфест, и Борн рассказал ему всю историю.
Среди разнообразия талантов того блистательного для физики времени Эренфест занимал свое особое место. Он был отличен от всех и неповторим. В те годы бурной ломки физических воззрений он играл такую же роль, что и Белинский в русской литературе XIX века, — был величайшим критиком.
Если Эренфест чем-нибудь заинтересовывался и ставил свой штамп, то работу читали; если она его не привлекала, то говорили: «Эренфест сказал, что не стоит читать», — и не читали. Эренфест одинаково живо воспринимал и новую нарождающуюся квантовую физику и заканчивающую свое существование классическую физику. Он мог свободно разговаривать с Бором, Борном, Шредингером, Дираком и с Эйнштейном говорил совершенно на его языке. Но зато сам в науке сделал сравнительно немного. Он был необычайно одарен критической мыслью, и постоянное его участие в обсуждении новых, только зарождавшихся идей сыграло в развитии физики даже бóльшую роль, чем собственные его работы.
…Эренфест был самым любимым и близким другом Эйнштейна. Очень дружен был он также с Бором, с Борном и некоторыми советскими физиками старшего поколения. Он долго жил у нас в стране, любил ее.
Вскоре после описываемых событий Эренфест побывал в Берлине. При встрече Эйнштейн стал спрашивать у своего друга, что нового в науке. Эренфест перечислил, какие появились работы, и, между прочим, рассказал о статье Румера.
Эйнштейн внимательно выслушал и заметил:
— Это мне интересно. Что за человек?
— Из России. Сейчас он у Борна.
— Почему же мне ничего не сообщили?
— Как не сообщили? Тебе даже Макс Борн оттиск послал и просил что-нибудь сделать.
— Ну, ты же знаешь, что я чужие работы не читаю. Пришли его ко мне.
Таким образом, Эйнштейн, как выразились товарищи Румера, «клюнул».
В Геттингене получили телеграмму от профессора Эренфеста: «Эйнштейн ожидает вас в среду на Габерландштрассе, 5».
В назначенный срок Румер приехал в Берлин и отправился по указанному адресу. На седьмом этаже у дверей прибита маленькая дощечка. Написано: «Профессор А. Эйнштейн».
Румер позвонил и, когда открыли, объяснил, что ему назначено явиться в этот день и час. Его провели в гостиную, высокую комнату, обставленную без особого вкуса. Появилась фрау Эйнштейн и говорит:
— Профессор сейчас придет.
Не успел Румер собраться с мыслями, как вошел сам Эйнштейн. Он был в морской фуфайке — видно, только что катался на яхте. Сразу бросились в глаза массивные черты лица — огромный лоб, крупный нос.
— Эйнштейн, — сказал он и протянул руку.
С дрожью в голосе Румер проговорил:
— Гутен таг, герр профессор.
И дрожь прошла. Словно от этих ординарных слов Эйнштейн перестал быть Эйнштейном и превратился в обычного профессора.
— Эренфест ожидает нас наверху, пойдемте, — сказал Эйнштейн и повел гостя на чердак; там был рабочий кабинет.
Когда они поднялись, Эйнштейн сказал:
— Ну, давайте разбираться в вашей работе.
Два часа длилась долгая и довольно мучительная дискуссия, возникали трудные, запутанные вопросы, их приходилось обдумывать и разрешать сообща всем троим.
Эйнштейн ходил по своей каморке, часто останавливался и в задумчивости водил рукой по потолку. Наверное, ему было тесно в просторных, высоких комнатах и как-то давило их убранство, их бюргерская обстановка, а вот здесь, в этой комнатке, где потолок над самой головой и можно водить по нему рукою, здесь ему хорошо думается.
Он все время сосал пустую трубку, потому что врачи запретили ему курить, и он очень страдал от этого. Иногда он подходил к дверному косяку, опирался о него лбом и надолго застывал в такой позе.
Эренфест лежал на кушетке, на спине, закрыв глаза руками, и время от времени вопрошал:
— А что вы думаете по этому поводу?
В эти два часа обсуждения оба знаменитых физика были, что называется advocatus diaboli — адвокатами дьявола. Они выискивали всяческие возражения, задавали очень сложные вопросы. Если Румер не мог ответить, то искали ответа сами, спорили друг с другом, пытаясь таким образом пробиться сквозь трудности.
Потом раздался телефонный звонок, и Эйнштейн сказал:
— Устроим перерыв.
Вошел человек с длинной седой бородой — скрипичный мастер. Начался совершенно профессиональный разговор: Эйнштейн говорил, что деку надо делать так-то, а мастер — что так-то.
Через пятнадцать минут мастер ушел, и Эйнштейн сказал со вздохом:
— Ах, вы не знаете, сколько этот человек отнимает у меня времени! Но свое дело знает, как бог.
Когда все спустились вниз, в гостиную, Эренфест вдруг накинулся на Румера:
— Чего вы здесь до сих пор торчите?
— Я торчу, потому что меня пригласили обедать.
— Обедать? Не надо. Отказывайтесь. Мы будем за столом говорить о вас, и вы нам помешаете.
Румер в смущении повернулся к хозяйке дома и стал откланиваться:
— Спасибо, фрау профессор, за честь…
— Нет, нет, оставайтесь, — возразила фрау Эйнштейн. — Они после десерта пойдут в бильярдную и там будут говорить о вас… В вашу честь я даже сварила русские щи.
После обеда Румеру было сказано, что результаты ему сообщат через два дня на берлинском коллоквиуме. Но когда он явился на коллоквиум, Эренфест удивленно его спросил:
— Зачем вы пришли?
— Вы же мне сами велели прийти.
— Ну что ж, поезжайте в Геттинген и там скажите, что когда я вернусь из Ленинграда, то заеду в Геттинген, и тогда поговорим. А теперь прощайте. Мне очень некогда.
…Вскоре в Геттинген пришло письмо, в котором извещалось, что Юрий Румер на два с половиной года прикомандировывается к Борну и будет получать стипендию.
Через некоторое время Румер еще раз приехал к Эйнштейну, чтобы показать ему новую работу. Его приняли в гостиной, наверх уже не повели.
— Ну конечно, рядовая работа. Там идея была… Я не знаю, что вы от меня хотите, — устало сказал Эйнштейн.
Такая реакция Эйнштейна скоро стала понятной. Кончился период, когда он искал возможности создания общей теории поля на пути пятимерного обобщения теории относительности. Теперь он уже не верил в пятимерие, потерял интерес ко всем работам такого рода и шел по иной дороге, которая тоже, увы, не привела к цели.
Вскоре после описываемых событий, в 1931 году, Эйнштейн прочел лекцию, которая называлась «Современное состояние теории относительности». Даже в кратком публичном выступлении вырвалась наружу вся борьба, которую вел этот мятежный ум, и вся горечь испытываемых им поражений:
— Попытки найти единые законы материи, породнить теорию поля и квантовую теорию не прекращались, — сказал Эйнштейн. — Речь идет о том, чтобы найти структуру пространства, удовлетворяющую условиям, выдвигаемым обеими теориями. Результатом оказалось кладбище погребенных надежд. Я также с 1928 года пытался найти решение, но снова отказался от этого пути… Уже десять лет назад один француз высказал интересную мысль — рассматривать мир как пятимерное пространство. В этом случае получается теория, в которой находят свое место и электромагнитные явления, причем архитектурное единство теории не нарушается. Однако я и мой сотрудник Майер полагаем, что пятое измерение не должно появиться.
Затем Эйнштейн в нескольких словах упомянул о своей последней идее и заключил:
— Однако надежда не сбылась. Я полагал, что если бы удалось найти этот закон, то получилась бы теория, применимая к квантам и материи. Но это не так. Построенная теория, по-видимому, разбивается о проблему материи и квантов. Между обеими идеями все еще сохраняется пропасть.
В связи с этим выступлением Эйнштейна хочется, не вдаваясь в суть дела, сказать несколько слов, хотя тема эта в высшей степени интересна и заслуживает самого глубокого и серьезного разговора. Речь идет о последних тридцати годах творчества Эйнштейна, его попытках создать единую теорию поля, а говоря шире — о поисках им самых общих и изначальных законов природы.
Как свидетельство господствующего в те годы отношения физиков к единой теории поля и к тому, что называли «манией» Эйнштейна, очень любопытен рассказ Абрама Федоровича Иоффе о попытке его направить великого ученого на «путь истинный»:
«Во время наших прогулок, особенно ночных, вопрос о единой теории поля, как о маниакальном увлечении, из которого не было выхода, часто поднимался самим Эйнштейном, но разговор всегда сводился к изложению последней из его гипотез, от которой он ждал удачи, после чего мог бы вернуться в сферу физики. Гипотеза проваливалась, а через год-два появлялась новая.
Я видел гибельность такого положения вещей для самого Эйнштейна, но, конечно, ничем не мог ему помочь в деле разработки единой теории поля. Однажды — это было в 1926 году — я попытался сбить его с безвыходного пути. Мы вместе направлялись в Брюссель на заседание комитета Сольвея. С 11 часов утра до 10 часов вечера мы были вдвоем в одном купе поезда, отправлявшегося из Берлина в Амстердам. Это было еще до окончательного оформления квантовой теории.
Я построил свое наступление следующим образом: обрисовав глубокие противоречия, вызванные обнаружением квантовых явлений в микромире, и разброд мыслей физиков, я высказал убеждение, что Эйнштейн со своей исключительной физической интуицией скорее, чем кто-нибудь другой, может найти выход. Как бы его ни увлекали проблемы единого поля, он обязан выполнить свой моральный долг и сосредоточить свою мысль на проблеме теории квантов».
Теперь, в свете последних работ по теории элементарных частиц, в свете новых открытий и меняющихся воззрений, физики пересматривают свое отношение к работам Эйнштейна второй половины жизни и, главное, к тем фундаментальным идеям о сущности мироздания, которые лежали в основе долголетних поисков Эйнштейна.
Леопольд Инфельд вспоминает, как Эйнштейн говорил ему в Принстоне: «Физики считают меня старым глупцом, но я убежден, что в будущем развитие физики пойдет в другом направлении, чем шло до сих пор».
«Сегодня — мне кажется — он был бы менее одинок в своих воззрениях, чем в 1936 г.», — писал Инфельд через двадцать лет после этого разговора.
Сейчас, в 1968 году, это еще более справедливо, и вердикт о «бесплодных тридцати годах» отменяется. Вот что писал Гейзенберг:
«Эта великолепная в своей основе попытка сначала как будто потерпела крах. В то самое время, когда Эйнштейн занимался проблемой единой теории поля, непрерывно открывали новые элементарные частицы, а с ними — сопоставленные им поля. Вследствие этого для проведения эйнштейновской программы еще не существовало эмпирической основы…»
За идеей построения единой теории поля скрываются два представления: конкретное, вполне определенное, и общее, можно даже сказать — в своем роде всеобъемлющее. Первому принадлежит то, чем непосредственно занимался сам Эйнштейн — поиски физического поля, объединяющего и гравитационные и электромагнитные поля. Еще в 1916 году Эйнштейн открыл, что тяготение тождественно искривлению пространства. В этом — содержание и великий смысл созданной им общей теории относительности или теории тяготения. И был естествен следующий шаг ученого: поиски других геометрических свойств пространства, с которыми можно отождествить и другие поля, с тем чтобы в конце концов найти такие геометрические соотношения, которые описывали бы все поля. (Надо только иметь в виду, что в теории относительности понятие «геометрия» включает в себя не чисто пространственные, а пространственно-временные соотношения — это геометрия так называемого «четырехмерного мира», в котором процессы рассматриваются одновременно в пространстве и во времени; три координаты описывают положение тела или системы тел в пространстве, а четвертая — во времени, и все четыре теснейшим образом связаны друг с другом.) Иными словами, по идее Эйнштейна, каждое поле, каждое физическое явление как частный случай должно было содержаться в этом едином поле.
В те годы известны были только два вида полей — тяготения и электромагнитные. И задачей Эйнштейна стала геометризация электромагнитного поля, то есть поиски таких изменений геометрии пространства, которые должны были проявляться в виде электромагнитных явлений.
Вот конкретное содержание единой теории поля, и едва ли современные и будущие физики пойдут по пути создания такой теории. Не пойдут прежде всего потому, что теперь, помимо гравитационного и электромагнитного, известны другие поля и другие типы взаимодействий — сильные, внутриядерные, и так называемые слабые, или распадные, взаимодействия. Но в понятии единой теории заключено также другое содержание, которое имел в виду и Гейзенберг, когда говорил об «эйнштейновской программе», и которое, несомненно, было конечной целью поисков самого Эйнштейна — создание единой картины мироздания, поиски гармонии и единства в законах природы. Сейчас, по мнению крупнейших физиков-теоретиков, такая единая теория — естественно, в приближении, соответствующем нынешнему уровню знаний, — стоит уже на пороге.
Какой она будет? Насколько полно объяснит и опишет закономерности природы? Вопросы эти больше всего волнуют физиков. Полагают, что в новой теории будет еще более вероятностный подход к явлениям микромира, чем он есть в квантовой механике. Бесспорно одно: нынешняя квантовая теория была принята и доказала свою правильность, когда она объяснила спектр водорода. На основе квантовой механики стали понятны закономерности менделеевской периодической таблицы. Новая теория должна объяснить и «таблицу» элементарных частиц, и почему существуют именно такие частицы, а не иные, вообще объяснить все известные на сегодня физические явления. По ставшему крылатым выражению Бора, новая теория будет гораздо более «безумной», более «сумасшедшей», чем предшествующие ей «безумные» теории относительности и квантовая механика.
Фундамент будущей теории строится, и физики накапливают новые и новые кирпичи для него.
— Эйнштейн равнодушно отпустил меня, и больше я его никогда не видел, — закончил свой рассказ Юрий Борисович Румер.
Excelsior — значит выше!
Александр Александрович Фридман, один из создателей теоретической метеорологии, писал в начале двадцатых годов:
«Все хорошо знают, насколько человеческая жизнь и деятельность зависят от погоды и от тех явлений (бурь, ливней, гроз), которые время от времени бороздят земную атмосферу.
Загадка законов, управляющих атмосферными явлениями, лежит, безусловно, в не исследованных еще свойствах вихрей. Лучше всего поведение вихрей познается на соответствующей высоте, где вихри являются как бы „очищенными“ от влияния земной поверхности».
Ныне на «соответствующую высоту» в сотни километров подняты наши метеорологические спутники.
А Фридман, чтобы наблюдать «очищенные» от влияния земной атмосферы процессы, сам стремился подняться как можно выше над землей.
Семнадцатого июня 1925 года директор Главной геофизической обсерватории профессор Фридман на аэростате, пилотируемом Павлом Федоровичем Федосеенко, достиг 7200 метров.
Это был русский рекорд высоты.
Полет протекал драматически, острых минут было предостаточно.
«На высоте 6000 м мы почувствовали необходимость „закусить“ кислородом, — рассказывал потом Фридман. — Пока мы возились с вдыханием кислорода, произошло несчастье. Среди полной тишины раздался оглушительный взрыв, мы взглянули наверх и видим, что аэростат весь окутан дымом. Сейчас же мелькнула мысль: „горим“, шансов на спасение в этом случае очень мало. Потом дым рассеялся, и мы увидели, что наш „кислородный сундук“ лопнул. За дым мы приняли облако, которое образовалось из охладившегося и сконцентрировавшегося кислорода».
Потеря основного запаса кислорода сперва показалась чуть ли не пустяком. Но час спустя Фридман случайно разорвал два шара-пилота, в которых тоже хранился кислород.
«Пульс учащается, — вспоминал П. Федосеенко. — Профессор Фридман отказывается принимать кислород, оставляя его для меня, как ведущего шар, приходится почти силой заставлять его вдыхать кислород, убеждая, что мы обоюдно должны поддерживать друг друга. В легких ощущается какая-то пустота. С большими усилиями, помогая друг другу, принимаем кислород».
«Зная, что наш запас кислорода чрезвычайно мал, я все время упорно отказывался дышать им, сберегая кислород для пилота, — рассказывал, в свою очередь, Фридман. — Соображения у меня были простые — пилот был сильнее меня, мог лучше вынести недостаток воздуха, и именно ему, умевшему управлять шаром, надо было сохранить максимальную свежесть, я же мог находиться в полуобморочном состоянии и, спокойно лежа в корзине шара, достигнуть нижних плотных слоев, если только пилот сохранит способность управлять аэростатом. Словом, кислород в первую очередь нужен был пилоту, а не мне. Однако самоотверженный т. Федосеенко угрозами заставил меня „кормиться“ кислородом, и думаю, что этим его угрозам я в значительной степени обязан жизнью».
Больше Фридману летать не пришлось. Через два месяца после полета он заболел брюшным тифом и его не стало.
А великолепный воздухоплаватель Павел Федорович Федосеенко погиб в январе 1934 года вместе с Васенко и Усыскиным, когда стратостат «Осоавиахим-1» впервые вознес людей в стратосферу на двадцать два километра.
…Обоих, и Фридмана и Федосеенко, хорошо знала Пелагея Яковлевна Полубаринова-Кочина.
Крупный ученый-гидродинамик, академик Полубаринова-Кочина в двадцатые годы преподавала математику в институте Гражданского воздушного флота, и рыжебородый Павел Федосеенко был ее учеником. А сама Пелагея Яковлевна, так же как и ее муж, ныне покойный академик Николай Евграфович Кочин, выдающийся механик, автор классических работ по гидро- и аэродинамике, были близкими учениками Фридмана. Лишь недавно поженившись, они и в жизни и в науке делали первые шаги.
Начало двадцатых годов, когда после революции и гражданской войны происходило становление нашей науки, неизбежно и естественно было временем патриархальных отношений в среде ученых. И те, кому не только его талант и знания, но характер и принципы помогали быть настоящим учителем, старшим товарищем своих учеников, те становились родоначальниками научных школ. Таким был и Фридман. А трудный быт, убогие условия жизни, как ни странно, этому лишь способствовали.
Действительно, что собой представляла тогда даже самая крупная научная школа? Маленький тесный кружок единомышленников в науке, группирующийся вокруг своего руководителя, людей, наукой глубоко увлеченных, глубоко ей преданных, не извлекающих из своей работы никакой выгоды, никакой награды, кроме возможности заниматься тем, что тебя больше всего интересует.
Жалкое помещение или отсутствие такового. Ничтожное оборудование. И по необходимости существование на глазах друг у друга, когда неизвестно, где кончается работа и начинается частная жизнь.
Все эти общие рассуждения целиком относятся к Фридману и его школе. Пелагея Яковлевна Кочина хорошо помнит, как это было тогда, в начале двадцатых годов.
Сперва геофизическая обсерватория вовсе не имела собственного помещения, и гимназический товарищ Фридмана Тамаркин сдал часть своей квартиры под отдел теоретической метеорологии. Пелагея Яковлевна и несколько других сотрудников работали там, на Васильевском острове. Потом начались холода, квартира не отапливалась. Пребывание в отделе стало невозможным.
Очень часто встречались дома у Фридмана. Квартира у него была неуютная — две большие комнаты, крайне скромно обставленные простой мебелью, и маленькая проходная столовая. Кабинет Александра Александровича тоже был сверхскромен и малоудобен. К тому же развалился соседний дом и обнажившаяся стена все время была сырой.
Фридман был аскетического склада, с худощавым лицом и фигурой. Но несмотря на слабое здоровье, был полон энергии и заставлял много работать своих сотрудников. К нему надо было ходить и утром, и днем, и вечером. Он вызывал к себе и поодиночке и группами. По вечерам устраивал семинары у себя на квартире, читал лекции в университете, на которых его сотрудники обычно тоже присутствовали.
К сотрудникам Фридман был очень внимателен, заботился о них постоянно. Забота сочеталась в нем с откровенностью в суждениях и непримиримостью. В высказываниях о людях был резок и некоторых этим восстанавливал против себя. Но многие его очень любили. Иногда он мог кого-нибудь обругать и заочно — с расчетом на то, что провинившемуся передадут и это послужит уроком и ему и другим. Но себя тоже часто и резко бранил; самокритика, нередко доходящая до самоуничижения, была у него очень развита. И сотрудники могли ему делать замечания, он всегда прислушивался к ним. Вместе с тем любил подчеркивать успехи своих учеников.
Однажды он предложил Николаю Кочину сложную задачу — рассчитать, возможно ли образование вихрей без притока энергии извне. Кочин эту задачу успешно разрешил.
— А я-то не мог догадаться, — сказал тогда Фридман, — чесал левой рукой правое ухо.
В другой раз он сказал с полной искренностью:
— Я-то что, вот мои сотрудники талантливые.
Часто бывает, что ученый поддерживает своих учеников, пока они еще не достигли больших высот, например, только стали кандидатами. А когда те уже становятся докторами, то морщится. Фридман всегда поддерживал своих учеников, их продвижение вперед неизменно радовало его. При этом он очень спокойно относился к своим собственным, личным достижениям. Вероятно, потому он любил работать коллективно, в сотрудничестве с другими учеными.
Александр Фридман родился в Петербурге, в семье, профессией которой была музыка. Отец его, тоже Александр Александрович, написал музыку для нескольких маленьких балетов — несколько музыкальных сопровождений. Как будто бы он собирался стать танцовщиком, но не стал, однако страсть к балету, связь с ним сохранил на всю жизнь. Мать, Людмила Игнатьевна, была дочерью чешского композитора Игнатия Воячека, сама преподавала игру на фортепьяно. Брак родителей вскоре расстроился, вероятно по вине матери, как глухо упоминал Фридман.
Дед по отцовской линии, Александр Фридман, служил лекарем Преображенского полка, был женат на солдатской дочери Елизавете Николаевне и в начале девятисотых годов жил со своей дочерью Марией Александровной в помещении Зимнего дворца.
Там, у тетки, и воспитывался Саша Фридман после того, как родители его расстались друг с другом. К тому же отец часто гастролировал с театром, выезжал за границу, а мать переселилась в Царское Село. Мария Александровна была культурной женщиной, хорошей пианисткой и серьезно относилась к воспитанию племянника.
Фридман, как он сам говорил, не унаследовал родительских способностей к музыке, хотя любил ее слушать. Все его интересы с самых ранних лет сосредоточились на математике.
…Наказания бывают разные. Родные придумали для маленького Саши очень жестокое — за провинности ему запрещалось заниматься математикой. По-видимому, наказания эти не сходили для него легко; они запомнились на всю жизнь, он даже рассказывал о них жене. Екатерина Петровна Фридман уже после смерти мужа вспоминала: «Математика была как-то органически соединена с ним. В детстве для него было придумано самое строгое наказание, усмирявшее его непокорный нрав: его оставляли без уроков арифметики».
И еще одно наказание запомнилось — на этот раз пострадал он как раз за математику. Совместно со своим товарищем Тамаркиным написали они исследование о числах Бернулли и послали его за границу в научный журнал. Вскоре пришел ответ с комплиментами и сообщением, что работа будет напечатана. Взрыв восторга произошел прямо на уроке. Гимназическое начальство не сочло повод уважительным или не пожелало в нем разобраться, и оба «именинника» были выгнаны из класса. А в 1905 году работа действительно появилась в авторитетнейших «Анналах математики», которые издавали Клейн и Гильберт.
В биографии этого глубокого мыслителя и тонкого теоретика много экзотического. Вот кто никогда не был тихим кабинетным ученым, хотя иногда ему этого очень хотелось. Может потому, что время было уж очень не тихим? Сознательная жизнь Фридмана, двадцать лет из тридцати семи, пришлась на годы от 1905 до 1925. Сколько бурь они вместили! А Фридмана словно притягивали к себе все бури — и в природе и в жизни.
В годы первой революции Саша Фридман продолжал жить в Зимнем дворце. Конечно, трудно было найти лучшее место, чтобы писать листовки с призывами свергнуть самодержавие. Дед и тетка, естественно, не поощряли такое занятие и держали «бунтовщика» взаперти. Тогда товарищ Фридмана Володя Смирнов — впоследствии тоже крупный математик, академик Владимир Иванович Смирнов — взял на себя роль распространителя «крамолы».
Относительно спокойными были годы в Петербургском университете. Спокойными, но наполненными напряженнейшей учебой и научными исследованиями — самостоятельными и коллективными. Потребность в постоянном творческом общении началась у Фридмана очень рано и прошла через всю его жизнь. Натура деятельная, собранная и сильная, он постоянно бывал душой и центром математических кружков — и в гимназии, и в университете, и после окончания его.
Потом, во «взрослой жизни», он также сплачивал вокруг себя даровитых учеников, тех, кого не страшила ни трудная работа, ни требовательность, доходящая порой до беспощадности.
Еще в юности Фридман сблизился со своим университетским учителем академиком Стекловым, выдающимся математиком. Свидетельство этой близости — постоянная переписка, письма, которые писал Фридман всякий раз, разлучаясь со Стекловым: из Петербурга, когда тот уезжал из города, с фронта, из Москвы и из Перми, где Фридман провел первые послевоенные годы. Стеклов всегда принимал деятельное и горячее участие в делах Фридмана. Теплые отношения сохранились до конца жизни обоих — Владимир Андреевич Стеклов едва успел проводить в последний путь любимого своего ученика и вскоре скончался…
Письма Фридмана многое говорят о его характере, отношении к жизни, науке, к своей работе. Они самые правдивые рассказчики — откровенные и безыскусственные.
Летом десятого года Фридман не без горького юмора пишет уехавшему отдыхать Стеклову:
«Новостей у нас в Питере совсем мало. Ждем на побывку чуму, а пока довольствуемся холерой и плакатами о сырой воде».
Через год сообщается о другой новости, которая не затронула Петербурга и не привлекла ничьего внимания; она касалась одного лишь автора письма, но для него была совсем немаловажной:
«Пришлось мне вспомнить изречение, о котором Вы говорили этой весной: „Поступай как знаешь, все равно жалеть будешь“. Дело в том, что я решил жениться. Я уже говорил Вам в общих чертах о своей невесте. Она учится на курсах (математичка); зовут ее Екатерина Петровна Дорофеева; немного старше меня; думаю, что женитьба не отразится на занятиях неблагоприятно. Впрочем, в таких делах, как мое, рассуждения всегда приходят post factum, действия же всегда производятся на основании чувства. Я пишу Вам о своем решении только теперь, за несколько дней (собственно говоря, даже часов) до свадьбы, т. к., зная непостоянство характера своего, боялся сообщить Вам ложные сведения».
За ироничным по отношению к своей особе и в то же время сдержанным, нарочито сухим, информационным тоном угадывается человек сильных чувств… Нет, Фридману не пришлось жалеть о случившемся. И женитьба «не отразилась на занятиях». Наоборот, Екатерина Петровна была неизменно верным и трудолюбивым помощником своего предельно занятого мужа, всегда работавшего до истощения и на истощение — с утра до утра. И вероятно, никто, как она, не чувствовал так глубоко, не понимал всю сложную, мятущуюся натуру этого человека, которому всегда хотелось объять необъятное, всегда всего было мало — работы, времени, знаний. И никто не принимал так близко к сердцу вечную его неудовлетворенность собой.
Интерес к той области науки, которая стала основной его специальностью, к механике — «раю математических наук», по словам Леонардо да Винчи, и, в частности, к механике сплошных сред, гидро- и аэродинамике — определился у Фридмана довольно рано.
Еще студентом, оканчивая физико-математический факультет Петроградского университета, он увлекся динамической метеорологией, то есть теорией движения атмосферы. Эта проблема продолжала его интересовать и дальше. Поэтому, когда академик Борис Борисович Голицын, ставший в 1913 году директором Главной геофизической обсерватории, предложил Фридману должность физика в Павловской аэрологической обсерватории, тот с радостью согласился. Интенсивная деятельность началась с первых же дней. Не прошло и года, как в печати стали появляться работы Фридмана.
В 1914 году Фридмана послали в Лейпциг — там в то время работал профессор Бьеркнес, глава норвежских метеорологов.
Норвегия — страна мореплавателей, рыбаков и путешественников. Не удивительно, что именно ее ученые особенно активно пытались проникнуть в тайны атмосферных бурь и циклонов, раскрыть секреты мировой «кухни погоды».
В Европе готовились к встрече полного солнечного затмения, которое приходилось на август четырнадцатого года. Фридман тоже участвовал в подготовительных работах для аэрологических наблюдений во время затмения, несколько раз летал для этого на дирижаблях — тогда и началась его «воздушная болезнь», непреоборимая страсть в полетам.
Но август четырнадцатого года принес не только затмение солнца, случилось другое затмение, куда более жуткое и долгое, — разразилась мировая война.
Освобожденный от военной службы, Фридман вступает в добровольческий авиационный полк.
На войне как на войне: «Превосходство сил противника ясно. Союзники наши как-то мешкают; это объясняется их привычкой к комфортабельной войне в прекрасно отмеблированных окопах», — пишет Фридман Голицыну.
Но ученый, верно, никогда не перестает быть ученым, даже если он служит летчиком-наблюдателем.
«Оказывается, что бомбы падают почти так, как и следует по теории», — написал Фридман Стеклову после удачного полета, во время которого он проверял созданную при его участии теорию бомбометания.
Разведка донесла, что, когда бомбы точно накрывали цель, немецкие солдаты говорили:
— Сегодня летает Фридман.
Прицельное бомбометание — теория, расчетные таблицы — одна сторона деятельности Фридмана на фронте. Он себе поставил и другую, главную задачу: организовать аэронавигационную службу в армии, создать сеть аэрологических станций, обучить наблюдателей-аэрологов, распространить эту работу на все фронты. Фридман становится руководителем Центрального управления аэронавигационной службы. Это исполнение долга.
Но есть и личный интерес: «на одном из аппаратов я установил телескоп (кометоискатель)», — пишет Фридман Голицыну.
В те же месяцы Стеклов получает с фронта длинное письмо с уравнениями, интегралами — письмо, оканчивающееся почти что извинением.
«Не сердитесь, дорогой Владимир Андреевич, что я так разболтался; очень уж хочется поговорить о научных вопросах, от которых я теперь так далек»; потом, другим почерком: «Мне пришлось на половине прервать это письмо и лететь на охрану нашего змейкового аэростата от неприятельских аэропланов. Наблюдая в бинокль за стрельбой, которую вела по нас вражеская батарея, я с каждой вспышкой, с каждым выстрелом думал: „А вдруг письмо останется недописанным, вдруг через 8–10 секунд от аэроплана останутся лохмотья и он турманом полетит вниз, вдруг конец“.
Иногда надоедает война, хочется скорей победы, оглушительной, сильной…»
Бывали эпизоды и пострашней — «на войне как на войне».
«На вираже над оврагом вдруг сдал мотор, и, если бы не чудо да не искусство летчика, мы врезались бы на полной скорости в овраг!»
«Первый полет был на Фармане-15, летчик передал мне управление, и я несколько минут вел аппарат в воздухе, а летчик стрелял в немцев из карабина; второй бой был грандиознее: мы схватились с двумя неприятельскими аэропланами, из которых один был вооружен пулеметом; самое ужасное было слышать дробь пулемета, целившегося в нас; расстояние между аэропланами было ничтожное, и я считаю чудом, что спасся от смерти. Из неблагополучных полетов следует упомянуть два: во время одного из них с земли сильный вихрь бросил аэроплан; он скользнул на крыло, и мы разбились вдребезги, то есть не мы, вернее, а аэроплан».
Вихри сводили с Фридманом старые счеты! А он на собственной шкуре познавал все их коварство. Но, как вспоминает Пелагея Яковлевна Кочина, Фридман всегда был смелым человеком. А высота, воздух тянут по-прежнему остро.
«Я думаю по окончании своей аэрологической миссии научиться летать, — пишет Фридман Стеклову, — вещь эта теперь утратила свою острую опасность и может быть с огромным успехом применена к метеорологии, особенно к синоптике».
И опять: «В отряде, скуки ради, я немного учусь летать».
«За разведки я представлен к Георгиевскому оружию, — в этом же письме рассказывает он Стеклову, — но, конечно, получу ли — большой вопрос. Конечно, это как будто мелочность с моей стороны — интересоваться такими делами, как награда, но что поделаешь, так, видно, уж устроен человек, всегда ему хочется немного „поиграть в жизнь“».
Свершилась революция. Советская Россия вышла из войны. Впереди, несмотря на огромные трудности бытия, и общего и личного, несмотря на болезнь сердца, перед Фридманом снова замаячила научная деятельность. Но оказалось, что путь к ней не скор и не прям.
Сначала была Москва, в которой не нашлось работы, потом Пермь, где Фридмана избрали профессором недавно созданного университета. В Перми Александр Александрович постарался сделать как можно больше полезного. Он и преподавал, и налаживал научную работу, и участвовал в издании журнала. Не миновала его и политическая борьба, когда Пермь захватил Колчак. Эти события он потом описал:
«По мере того как Колчаковия делалась все более и более черносотенной, что обусловливалось временными походами белых, стало замечаться резкое расслоение в рядах пермской интеллигенции, часть которой окончательно окрасилась в черный цвет, а другая часть стала все более и более подозрительно смотреть на „махры“ расцветающей власти. Это разделение было источником большого количества столкновений в совете университета.
Завершительным актом многих нелепых поступков пермской профессуры была эвакуация Пермского университета при отступлении белых. К счастью, она не удалась, и только личному составу и ничтожной части грузов удалось проехать в Томск».
Пермь освободили. Оставшаяся часть преподавателей взялась за восстановление университета, заново налаживала его жизнь. Но Фридмана все больше и больше тянуло к прежним занятиям.
Однако лишь в двадцатом году удалось ему вернуться в «отчий дом» — в Павловскую аэрологическую обсерваторию под Петроградом.
Теперь, после долгих лет войны, после скитаний, Фридман целиком погружается в науку. Снова одна за другой выходят его работы: «О вертикальных течениях в атмосфере», «О распределении температуры с высотой при наличности лучистого теплообмена Земли и Солнца», «Об атмосферных вихрях с вертикальной и горизонтальной осью», «Идея вращающейся жидкости в атмосферных движениях».
«Целый вихрь новых идей захватывал его с неудержимой силой», — вспоминала жена.
Метафора эта — «вихрь идей» — была явно не случайна в семье Фридмана.
В 1922 году, обобщая огромное число исследований, как собственных, так и своих предшественников и коллег, Фридман заканчивает большую работу «Опыт гидромеханики сжимаемой жидкости», которая стала его докторской диссертацией.
Теоретическая метеорология — нынешняя, современная наука, в большой степени развитая Фридманом и его учениками, ведет свое истинное начало именно от этой диссертации.
Атмосфера, окружающая поверхность земли… Воздух… Можно ли считать его газом, да еще идеальным, подчиняющимся простым и известным законам газовой динамики? Когда атмосфера совершенно спокойна — можно, хотя и с известной натяжкой. Но в редком своем спокойствии она хоть и приятна, но наименее интересна. Всякое движение ее, пусть самое невинное — воздушные потоки, слабые ветры, — и уже нужны новые законы, иной подход. Какой? Его и предложил Фридман.
Этот подход заключен уже в самом названии его диссертации — «Гидромеханика сжимаемой жидкости». Здесь «жидкость» — общее имя, объединяющее два агрегатных состояния: газ и собственно жидкость. Главное отличие этих состояний, если подходить к ним с позиций механика, в частности метеоролога, в том, что газ есть сжимаемая жидкость, а вода — несжимаемая. Поэтому воздух, представляющий собою смесь газов, надо рассматривать как сжимаемую жидкость, притом весьма непростую. Например, давление такой жидкости будет зависеть не от одной лишь ее плотности, но также и от температуры.
Фридман начинает в самом широком виде разрабатывать гидродинамику такой сжимаемой жидкости. Он стремится учесть все основные особенности, все сложности, которыми так богата земная атмосфера: влияние силы тяжести и отклоняющей силы вращения Земли; и зависимость плотности воздуха от давления и температуры; и изменение самих плотности и температуры из-за притока солнечного тепла и лучеиспускания тепла Земли в околоземное пространство.
Фридман специально изучает движение атмосферных вихрей, циклонов — недаром он говорит, что загадка законов, управляющих атмосферными явлениями, лежит в неизведанных еще свойствах вихрей. Для решения всех этих вопросов мобилизуется мощный математический аппарат, которым Фридман не только в совершенстве владел, но и сам участвовал в его создании.
Один из его друзей говорил потом, что «последние пять лет жизни этого удивительного человека были полны буквально самозабвенного труда в новых областях и с новыми головокружительными успехами».
Последние пять лет… Фридман и не подозревал, как близок его конец. Судьба отпустила ему всего лишь тридцать семь лет жизни.
Дни болезни Фридмана совпали с торжествами, посвященными двухсотлетию Академии наук. Юбилей праздновался широко и долго, сначала в Ленинграде, а потом в Москве. Съехалось много гостей — со всей страны и из-за рубежа.
В то время как Александр Александрович безуспешно пытался побороть болезнь, гость Академии, директор Прусского метеорологического института профессор Фиккер, говорил как раз об успехах советской метеорологии, и прежде всего Главной геофизической обсерватории, директором которой был Фридман:
— Ленинградская Главная геофизическая обсерватория сумела за это время стать во главе двух направлений научной метеорологии. Хорошо поставленный здесь метод математических вычислений сделал возможным устройство специального отдела по теоретической метеорологии, какого в настоящее время нельзя найти ни в одном метеорологическом институте мира. Сейчас Ленинградская главная геофизическая обсерватория занимается выработкой методов, которые позволят предсказывать погоду на более значительные промежутки времени. Конечно, проблема эта окончательно не решена, но я могу сказать, что русская метеорология ближе всех стоит к ее разрешению. Из того, что мною сказано, следует, что русская метеорология играет в настоящее время руководящую роль в мировой метеорологии…
…16 сентября Фридмана не стало. На следующий день в Москве был вечер Академии наук. Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский открыл собрание горестным сообщением.
— Большая потеря постигла нас. Умер профессор Фридман.
Если полистать научные авиационные газеты и журналы осени 1925 года — на их страницах скорбь и печаль. Ушел, и так несправедливо рано, замечательный человек. «Ушел человек, которого некем заменить, второго такого нет», — так говорили те, кому довелось работать и общаться с ним.
И профессор Фиккер писал Стеклову: «Только одна тень будет навсегда омрачать воспоминания об этих днях — смерть А. А. Фридмана, в котором Вы потеряли одного из самых блестящих учеников и которого будет оплакивать каждый метеоролог. Крепчайшая надежда теоретической метеорологии отошла с ним».
Казалось, Фридман отдал метеорологии свою недолгую, так интенсивно прожитую жизнь всю целиком. Но если спросить физиков, кем был Александр Фридман для науки, почти наверняка большинство из них без колебания ответят: он открыл — или предсказал — самый грандиозный процесс во вселенной — расширение ее пространства. Или, проще, Фридман был создателем теории расширяющейся вселенной.
Да, так получилось, что главное дело своей жизни, потому что теория расширяющейся вселенной стала главным его вкладом в большую науку, Фридман сделал как будто бы между делом.
Долгое время вершиной в науке о вселенной был закон всемирного тяготения Ньютона. Спустя два с четвертью века он уступил это звание общей теории относительности Эйнштейна.
«Ньютон, прости меня. В свое время ты нашел тот единственный путь, который был пределом возможного для человека величайшего ума и творческой силы», — сказал Эйнштейн в конце своей жизни…
…Начав революцию в физике созданием специальной теории относительности, Эйнштейн не остановился на полпути. Он решил заключить в рамки новой теории то взаимодействие материальных тел, которое называется тяготением.
Уже специальный принцип относительности подорвал основы теории всемирного тяготения. Одно из главных следствий этого принципа гласило, что скорость распространения света в пустоте вообще является предельной скоростью любых реальных процессов, протекающих в природе. Ни одно тело не может двигаться быстрее, ни один сигнал не может распространяться скорее, чем свет в пустоте.
Значит, никакого мгновенного действия вообще быть не может! Не может быть мгновенного дальнодействия и в теории тяготения Ньютона. Влияние массы одного тела на массу другого распространяется с конечной скоростью. И передается это влияние посредством поля. Подобно тому как вокруг движущихся электрических зарядов создается электромагнитное поле, так в пространстве, окружающем всякое тело, создается поле тяготения. На смену идее мистического дальнодействия пришло убеждение в существовании совершенно реального, физически реального гравитационного поля.
Общая теория относительности Эйнштейна и есть новая теория тяготения.
Вся безграничная вселенная наполнена телами, будь то гигантские звезды или частицы космической пыли. Массы этих тел — величина масс, их взаимное расположение, их относительное движение — создают поля тяготения, гравитационные поля.
Гравитационные поля существуют и меняются в пространстве и во времени. И свойства этих полей накладывают неизгладимый отпечаток на то пространство и на то время, в котором они существуют. Эйнштейн показал, что это значит. «Неизгладимый отпечаток» проявляется физически в том, что тяготеющие массы искривляют четырехмерный мир пространства-времени, в котором движутся тела. В свою очередь, это искривленное пространство-время — поле тяготения определяет движение масс, их траекторию, их скорость.
Так теория относительности объяснила движение всех масс, всей материи — от лучей света до звездных галактик. Объяснила открытой ею «обратной связью» космических масштабов: движение масс вызывается искривлением пространства, искривление пространства вызывается населяющей его материей. Или — массы рождают поле, поле управляет движением масс.
В этом суть закона всемирного тяготения Эйнштейна, такая «обратная связь» существует в любом доступном наблюдению уголке вселенной.
Геометрия такого искривленного четырехмерного мира уже не будет эвклидовой. Правда, «отклонение от эвклидовости» пространства очень невелико даже вблизи огромных масс. Тем не менее именно оно, это отклонение, определяет всю картину строения вселенной.
Ясно, что и вопрос о трехмерной геометрии, о структуре нашего реального пространства становится чисто физическим, как это более ста лет назад предсказывали Лобачевский и Риман.
Объяснив, что происходит во вселенной, общая теория относительности стала перед новой задачей: ей предстояло теперь определить строение всей вселенной в целом. Такой путь развития эйнштейновской теории был вполне закономерен. И так же закономерно, что первый шаг на этом пути сделал сам Эйнштейн. В 1917 году появилась его работа «Вопросы космологии и общая теория относительности».
Ньютон полагал, что пространство наше бесконечно и бесконечно число звезд, его населяющих. Если бы число звезд было конечным, то, по расчетам, сила взаимного притяжения заставила бы их собраться воедино, в гигантский звездный клубок, а этого ведь не случилось. Но, с другой стороны, бесконечное количество равномерно распределенных в ньютоновом пространстве звезд должно было бы создавать яркую и равномерную освещенность всего неба, а ведь и этого на самом деле тоже нет.
Кроме того, из расчетов следовало, что в бесконечности само тяготение должно возрастать бесконечно, а такое не может не вызвать огромной скорости движения небесных тел. Это так называемый «гравитационный парадокс», который привел в большое смущение физиков, потому что на опыте ничего подобного не наблюдалось.
Трудности, рожденные бесконечностью вселенной, трудности, поначалу казавшиеся столь же неразрешимыми, встали и перед Эйнштейном. Но выход надо было найти. И Эйнштейн искал — мучительно и напряженно.
В конце концов, чтобы обойти эти трудности, Эйнштейн предложил рассмотреть иную возможную форму нашей вселенной — конечную, пространственно-замкнутую.
Он говорил: «…развитие неэвклидовой геометрии привело к осознанию того факта, что можно сомневаться в бесконечности нашего пространства, не вступая в противоречие с законами мышления и с опытом». И что «…мыслимы замкнутые пространства, не имеющие границ. Среди них выделяется своей простотой сферическое пространство, все точки которого равноценны. Отсюда перед астрономами и физиками возникает чрезвычайно интересный вопрос: является ли мир, в котором мы живем, бесконечным или же он, подобно сферическому миру, конечен? Наш опыт далеко не достаточен для ответа на этот вопрос. Однако общая теория относительности дает возможность ответить на этот вопрос со значительной достоверностью».
Математический аппарат общей теории относительности крайне сложен. Это и понятно. Ведь с его помощью следует описать отношения между геометрией пространства вселенной и населяющей его материей. Эти отношения называются уравнениями поля тяготения.
В них входят, с одной стороны, величины, связанные со строением пространства, его кривизной и метрикой. Метрикой данного пространства называется закон измерения расстояний в нем. К примеру, на плоскости расстояние между двумя точками измеряется отрезком прямой, проходящей через эти точки, а на сфере — дугой большого круга. Очевидна однозначная связь между метрикой и кривизной. То же самое, естественно, справедливо и для пространства любой кривизны.
С другой стороны, в уравнения поля тяготения входят характеристики материи и прежде всего ее плотность.
Никто еще — ни сам Эйнштейн, ни его последователи — не был в состоянии решить задачу во всей ее сложности. На данном этапе, на данном уровне науки это неосуществимо. Но физики и математики знают способы упрощенных и приближенных решений.
Таким был и подход Эйнштейна. Во-первых, он предположил, что средняя плотность материи во вселенной постоянна.
Правомочно ли это? Стоит взглянуть на ночное небо, и невольно начинаешь сомневаться; ведь звезды — сгустки огромной массы — рассеяны в пустом от материи пространстве, отделены друг от друга гигантскими подчас расстояниями. А насколько еще больше расстояния между галактиками! Между скоплениями галактик! Но все-таки Эйнштейн имел право сделать такое предположение, имел право считать среднюю плотность материи постоянной. И вот почему.
Астрономы установили важный факт. Вселенная наша приблизительно равномерно заполнена галактиками, а плотность самих галактик, по-видимому, постоянна! Поэтому если перейти к таким огромным масштабам, то можно считать постоянной среднюю плотность материи в доступной нам части вселенной.
Эйнштейн говорил, что тут физики поступают как геодезисты, которые поверхность земли уподобляют приближенно эллипсоиду, хотя она имеет на небольших участках крайне сложный вид.
Если средняя плотность материи постоянна, то, естественно и неизбежно, должна быть постоянной и средняя кривизна пространства. Вслед за тем Эйнштейн сделал второе предположение, что при всей своей малости плотность все-таки настолько велика, что кривизна будет положительной.
Между кривизной пространства и плотностью материи существует однозначная связь, и именно величина плотности определяет геометрию вселенной, а следовательно, и знак кривизны: если плотность меньше некоего критического значения, кривизна пространства будет отрицательной, если больше — то положительной.
Таким образом мир, по Эйнштейну, представляет собой замкнутое само на себя пространство положительной кривизны.
Но пространство ведь нерасторжимо связано со временем, нельзя отсекать одно от другого. Эйнштейн и здесь принял определенное допущение. Он предположил, что структура пространства не должна и не будет изменяться с течением времени — какие бы процессы ни протекали во вселенной.
Это допущение никак не было случайным. Неизменность, стационарность нашего мира являлась аксиомой для науки того времени. Она находила себе подтверждение в малых скоростях «неподвижных» звезд, в почти не меняющейся — веками — картине звездного неба. Итак, строение, кривизна пространства нашего мира неизменны, постоянны во времени. Это значит, что в четырехмерном пространстве-времени или в мире Эйнштейна четвертая координата — время — будет прямой линией.
Прямая координата времени связана с тремя непрямыми пространственными координатами. Поэтому эйнштейновскую модель мира называют «Цилиндрической вселенной». Этот четырехмерный мир для нас, людей, непредставим. Но легко можно представить себе цилиндрическую поверхность, цилиндр, бесконечно простирающийся в обе стороны. Поверхность его искривлена, а ось будет бесконечной прямой линией. Предположим, что подобна этой оси будет и ось времени в четырехмерном мире Эйнштейна. А вместо цилиндрической поверхности будет трехмерное искривленное пространство. Таким образом, Цилиндрическая вселенная — это, так сказать, сверхцилиндр, как говорят математики — гиперцилиндр. Ось его будет прямая времени, а три других измерения, соответствующих пространственным координатам, представляют замкнутую гиперповерхность типа сферы.
Вслед за Эйнштейном голландский астроном Виллем де Ситтер предложил свою модель строения вселенной — «Сферическую вселенную», в которой координата времени была не прямой, а искривленной — подобно пространственным координатам. Правда, вселенная де Ситтера требовала нулевой плотности вещества, что, как понимаем мы, существа конечной плотности, не соответствует действительности.
Но, сопоставив уравнения поля тяготения со своим принципом относительности, Эйнштейн увидел, что «теория относительности не допускает гипотезы о пространственной замкнутости мира». Из теории следовало, что под действием гравитационных сил замкнутая вселенная должна стягиваться, сжиматься. Этот вывод особенно удручал Эйнштейна. Получалось, что, избавляясь от неприятностей, связанных с бесконечностью вселенной, он натолкнулся на неприятность, вызванную как раз конечностью, замкнутостью нашего мира.
Чтобы найти выход и из этого затруднения, Эйнштейн был вынужден дополнить свои уравнения еще одним членом, который содержал некую константу — Эйнштейн назвал ее космологической постоянной. Дополнительный член выражал ту силу, которая удерживает звезды на расстоянии друг от друга и, таким образом, препятствует стягиванию вселенной. Величина космологической постоянной связана с радиусом кривизны трехмерного сферического пространства. Как и сам радиус кривизны, она тоже определяется количеством и распределением материи во вселенной.
«Не от хорошей жизни» пошел Эйнштейн на изменение своих уравнений: «Для того чтобы прийти к этому свободному от противоречий представлению, мы должны были все же ввести новое расширение уравнений поля тяготения, не оправдываемое нашими действительными знаниями о тяготении».
Почему пришлось это сделать? Все потому же — для математического сохранения стационарности вселенной. Потому что в реальной ее, физической стационарности Эйнштейн не сомневался. «Необходимо, однако, отметить, — заканчивает он статью, — что положительная кривизна пространства, обусловленная находящейся в нем материей, получается и в том случае, когда указанный добавочный член не вводится; последний нам необходим для того, чтобы создать возможность квазистатического распределения материи, так как последнее соответствует факту малых звездных скоростей».
В 1922 году журнал «Цейтштрифт фюр физик» опубликовал статью «О кривизне пространства». Автором ее был Александр Фридман из Петрограда — имя это мало что говорило физикам-теоретикам Запада. Статья сразу обратила на себя внимание. В скромном по объему сообщении утверждалось ни больше ни меньше следующее.
Действительно, решая уравнения поля тяготения общей теории относительности, можно получить обе уже известные модели вселенной: цилиндрический мир Эйнштейна и сферический — де Ситтера. Они вытекают из уравнений, если принять все те упрощающие предположения, которые приняли их авторы.
Но решения, дающие обе модели, никак не исчерпывают возможностей общей теории относительности. Они отнюдь не единственные и универсальные, а всего лишь возможные частные случаи.
Частные? Значит, есть и более общее решение?
Есть. Его-то и нашел Фридман.
Это общее решение дает «особый мир», «новый тип вселенной» — вселенной, меняющейся с течением времени.
Из решения Фридмана с неизбежностью вытекает, что кривизна нашего пространства не остается постоянной. Она должна изменяться.
Как?
Решение открывало две возможности.
Или монотонное изменение в одном направлении, например непрерывное расширение вселенной.
Или периодическое возрастание и уменьшение кривизны. Во втором случае вселенная, словно сердце, словно легкие, должна была то сжиматься, то расширяться, как бы пульсировать.
Нестационарная вселенная!
Сама мысль о такой возможности прозвучала вызовом физике, устоявшимся, всеми разделяемым представлениям.
За сто лет до этого события в Казани Лобачевский публично высказал невероятную и крамольную идею: не исключена возможность, что пространство вселенной неэвклидово.
Ныне «возмутитель спокойствия» снова явился из России. Снова из загадочной, отрезанной от Запада России.
Не только во времена Лобачевского страна наша была отдалена от Европы. Мировая война, потом война гражданская, блокада наглухо отгородили новую Россию от всего, что находилось за ее пределами, в том числе и от науки. Наши ученые не знали, что делается за рубежом, западные не имели ни малейшего представления о нас. Контакты оказались разорванными.
Но события, естественно, развивались уже не так, как во времена Лобачевского. Советские физики отчетливо сознавали, что наука по природе своей интернациональна, что жить в изоляции невозможно.
К тому же в нищей, истерзанной войной, голодом, блокадой стране оказалась полностью подорвана и материальная база для научной работы — мало было книг, журналов, приборов.
Восстановление нарушенных контактов стало делом первостепенной важности.
Для этой цели Ленин, по совету Луначарского, послал за границу Абрама Федоровича Иоффе. Через некоторое время к нему присоединились Алексей Николаевич Крылов и Дмитрий Сергеевич Рождественский. А потом и Петр Леонидович Капица, которого Иоффе настойчиво рекомендовал отправить учиться за границу.
Посланцам дали немного — сколько удалось тогда выкроить — валюты, главным образом для закупки приборов, и карт-бланш — полную свободу действий. Они должны были сами найти пути и способы для установления связи с учеными Запада, привезти литературу, купить крайне необходимое оборудование для вновь создаваемых институтов.
Преодолев всяческие и немалые трудности, наши ученые справились с задачей. Между Россией и Западом были проложены первые мостки. Изоляция кончилась.
Вот тогда-то русские физики как следует познакомились с общей теорией относительности, и в немецком журнале появилась статья Фридмана. Любопытно, что в том же номере журнала было и обращение к немецким ученым — их просили собрать для России научную литературу.
Голос Лобачевского долгие годы никем не был услышан. Слова Фридмана мгновенно дошли по назначению. И сразу же был напечатан ответ — «Замечание к работе А. Фридмана» «О кривизне пространства».
«Результаты относительно нестационарного мира, содержащиеся в упомянутой работе, представляются мне подозрительными».
Далее шло указание на якобы ошибку в вычислениях и вывод, что правильное решение «требует постоянства радиуса мира во времени».
«Замечание» написал не кто иной, как сам Эйнштейн. Не удивительно. Дело касалось общей теории относительности — любимого творения и гордости Эйнштейна. Молодой, малоизвестный математик осмелился ворваться в самую святая святых.
Дальше события развивались так.
Фридман устоял перед силой авторитета. Он заново произвел все вычисления и попросил своего товарища, физика Круткова, ехавшего в Берлин, передать их Эйнштейну.
Спустя несколько времени в том же журнале появилась еще одна маленькая заметка. Вот она целиком:
«К работе А. Фридмана „О кривизне пространства“.
В предыдущей заметке я подверг критике названную выше работу. Однако моя критика, как я убедился из письма Фридмана, сообщенного мне г-ном Крутковым, основывалась на ошибке в вычислениях. Я считаю результаты г. Фридмана правильными и проливающими новый свет. Оказывается, что уравнения поля допускают наряду со статическими также и динамические (то есть переменные относительно времени) центрально-симметричные решения для структуры пространства».
Эйнштейн не был бы Эйнштейном, не появись этого публичного признания в своей неправоте.
Александр Александрович Фридман к началу двадцатых годов не был, конечно, безвестным начинающим ученым. Просто прежде ему не приходилось заниматься теоретической физикой. Но эрудированным математиком он был всегда. И отличался невероятной дотошностью, стремлением и умением глубоко проникать в изучаемый предмет — все равно был ли он знаком, близок или чужд, — влезать во все его тонкости, открывать не замеченные другими детали.
Эту особенность Фридмана хорошо изучили его товарищи. Недаром его друг Тамаркин сказал однажды:
— Теперь мы будем, наконец, знать теорию относительности. Ею заинтересовался Фридман.
Слово «заинтересовался» тут не очень подходит. Общая теория относительности, едва Фридман познакомился с нею, сразу захватила и покорила его. Это была стихия посильнее всех земных стихий, до той поры занимавших его ум и время. Это была стихия космических масштабов. И стихия смелых, неожиданных представлений. Но она — и в том не было противоречия — подчинялась строгим законам математики. Фридман был пленен и тем и другим: красотой и смелостью идей и математическим их воплощением.
В вечерние и ночные часы — потому что день был отдан основной работе — переселялся Фридман в этот новый для него мир и со свойственной ему страстью изучал и осваивал его. А изучив досконально, счел себя вправе сказать, что «теория Эйнштейна в своих общих чертах блестяще выдержала экспериментальные испытания», что она «объясняет старые, казавшиеся необъяснимыми явления и предвидит новые поразительные соотношения».
Фридман глубоко поверил в общую теорию относительности. Он не абсолютизировал ее, понимая, что и она есть этап на пути познания, что в ней достаточно схематизма и упрощения, что сложности реального мира неисчерпаемы и поступательный ход науки неизбежно будет вносить коррективы в любую существующую теорию. Но вместе с тем доверие его к новой теории было столь сильно, что он не побоялся сделать вытекающие из нее выводы, сколь бы странными, противоестественными они ни показались. Даже те выводы, которые не сделал сам Эйнштейн.
Эйнштейн увидел, что между его уравнениями поля и привычной, наблюдаемой картиной мира нет полного соответствия — уравнения не приводят к стационарности вселенной. Тогда он изменяет уравнения, добавляет к ним новый член.
Фридман, естественно, тоже увидел это несоответствие. Но он решил не отступать от исходных, «настоящих» уравнений и предложил свою концепцию. Вот ее основные положения:
возможно решение неизмененных уравнений поля тяготения;
это решение более общее, более широкое;
в соответствии с ним вселенная не будет стационарной;
кривизна вселенной должна меняться с течением времени.
Таков тот вывод, который не сделал Эйнштейн из своей же собственной теории. Можно сказать, что здесь Фридман оказался «святее папы».
Вероятно, именно поэтому ему удалось совершить свое открытие. Поэтому он, а не сам Эйнштейн, обнаружил — пусть теоретически, на кончике пера — такое поистине грандиозное по своим масштабам явление, космических размеров следствие общей теории относительности.
Статья «О кривизне пространства» была как будто бы «побочным ребенком» Фридмана — механика-метеоролога. Но он ко всем своим детям относился с равной ответственностью и любовью.
Одновременно со статьей в «Цейтштрифт фюр физик» в России вышла книжка Фридмана «Мир как пространство и время».
Философский журнал «Мысль» попросил Фридмана рассказать своим читателям о теории относительности Эйнштейна как специальной, так и общей. По заказу журнала Фридман и написал «Мир как пространство и время».
Быть может, учитывая аудиторию, далеко не всегда стоящую на уровне современной ей науки и вместе с тем чересчур часто претендующую быть в ней и руководителем и верховным судией, Фридман во вступлении пишет:
«Мир, схематическая картина которого создается принципом относительности, есть мир естествоиспытателя, есть совокупность лишь таких объектов, которые могут быть измерены или оценены числами, поэтому этот мир бесконечно уже и меньше мира — вселенной философа».
Не надо чересчур всерьез относиться к этому «самоуничижению» Фридмана-физика. В этих словах нетрудно уловить и легкую иронию. И дальше, переходя на серьезный тон, давая оценку теории относительности, Фридман говорит не без вызова:
«Грандиозный и смелый размах мысли, характеризующий общие концепции и идеи принципа относительности, затрагивающие такие объекты, как пространство и время (правда, измеримое), несомненно, должен произвести известное впечатление, если даже не влияние, на развитие идей современных философов, часто стоящих слишком выше „измеримой“ вселенной естествоиспытателя».
Адресованная неспециалистам работа эта хотя не популярна в привычном значении этого слова, все же дает возможность заглянуть в лабораторию мысли ученого.
Подобно Эйнштейну, Фридман рассматривает пространство вселенной как некую сверхповерхность — так сказать, поверхность трех измерений, которая соответствует данному значению временной координаты, иными словами — соответствует определенному моменту времени. Действительно, если вселенная есть четырехмерный мир пространства-времени, то можно сказать, что реальное пространство трех измерений в каждый момент времени есть сверхповерхность, или гиперповерхность, соответствующая этому времени. Поэтому сначала надо установить геометрические свойства четырехмерного мира пространства-времени, а потом уже рассматривать в этом мире гиперповерхности, отвечающие разным значениям временной координаты, и изучать геометрию этих гиперповерхностей. Это и будет геометрия пространства нашей вселенной.
Как же это сделать? Что для этого надо?
Геометрические свойства мира вполне определятся, отвечает Фридман, коль скоро мы будем знать материю, заполняющую физическое пространство, и ее движение с течением времени. И тут же он добавляет, что трудность решения вопроса в общем виде заставляет делать ряд упрощающих предположений.
Упрощающие предположения касаются двух главных партнеров игры — тяготеющих масс и геометрии мира.
Тяготеющие массы считаются неподвижными; считается, что скорости их друг относительно друга равны нулю. С первого взгляда это предположение кажется явно абсурдным, говорит Фридман. Действительно, звезды, даже те, что названы неподвижными, находятся в постоянном движении. Но все-таки неподвижными их называют недаром. Наблюдения показывают, что скорости их в большинстве случаев ничтожно малы по сравнению со скоростью света. Значит, первое предположение оказывается вовсе не абсурдом. И уравнения поля тяготения можно с большой точностью привести к такому виду, в котором скорости масс равны нулю.
Второе предположение касается геометрии мира. Здесь сказано коротко и ясно:
«Предполагается, что геометрия мира обладает свойством давать пространства (гиперповерхности), в которых кривизна в любой их точке одинакова и меняется лишь с течением времени».
Так просто, как о само собой разумеющемся, говорит Фридман о кривизне, которая меняется с течением времени.
Так, естественно, приходит он к выводу: вселенная может быть нестационарной.
Эйнштейн тоже делал упор на то, что материю приближенно следует считать покоящейся. Такой подход, как он был убежден, довольно точно соответствует истинному положению вещей и прежде всего стационарности вселенной.
Фридману то же предположение о «малоподвижных» звездах не помешало обнаружить «подвижную» вселенную.
Тогда зачем же он, вслед за Эйнштейном, подчеркнул, что принимает массы покоящимися друг относительно друга?
Такое предположение, не говоря о его физической разумности и законности, устранило большую математическую трудность в решении уравнений поля тяготения. Для относительно неподвижной материи можно в неделимом «мире», в неделимом пространстве-времени отделить пространственные координаты от временной и рассматривать строение физического пространства в каждый данный момент времени.
Эйнштейн ввел еще одно упрощающее предположение о материи. Он принял, что в среднем она распределена во вселенной равномерно. Именно равномерная плотность обеспечивает постоянную кривизну пространства. Фридман такое условие нигде не оговаривает. Но, с другой стороны, когда он пишет, что «кривизна в любой точке одинакова и меняется лишь с течением времени», то в этих словах неявно, как говорят математики, содержится признание равномерного распределения материи. Неравномерная плотность неизбежно привела бы к неодинаковой кривизне пространства в разных областях вселенной.
Итак, две предпосылки.
Первая (ее принимают и Эйнштейн и Фридман): материя во вселенной находится в относительном покое и средняя плотность ее всюду одинакова. Из одной этой предпосылки следует, что средняя кривизна пространства постоянна и неизменна — всюду и всегда.
Но Фридман делает и второе предположение: средняя кривизна пространства постоянна — всюду, но не всегда: она может меняться с течением времени.
Когда к фундаменту — уравнениям поля тяготения — добавлены эти два последних камня, Фридман берется за работу зодчего. Он конструирует здания вселенной — одно, другое, третье… — все те, что можно возвести на этом фундаменте.
«Сделав указанные предположения, можно прийти прежде всего к двум типам вселенной: 1) стационарный тип — кривизна пространства не меняется с течением времени, и 2) переменный тип — кривизна меняется с течением времени.
Стационарный тип дает всего лишь два случая вселенной, которые были рассмотрены Эйнштейном и де Ситтером.
Переменный тип вселенной представляет большое разнообразие случаев: для этого типа возможны случаи, когда радиус кривизны мира, начиная с некоторого значения, постоянно возрастает с течением времени; возможны, далее, случаи, когда радиус кривизны меняется периодически: вселенная сжимается в точку (в ничто), затем, снова из точки, доводит радиус свой до некоторого значения, далее опять, уменьшая радиус своей кривизны, обращается в точку и т. д.».
Какой же тип соответствует реальной вселенной?
С уверенностью можно сказать — в точности не соответствует ни один. Как бы ни были сложны и остроумны эти конструкции, вселенная наша невообразимо сложнее их всех.
«В XX веке, — сказал Фридман, — человек попытался снова, на основании тех сведений о мире, которые естествознание ко времени нашей эпохи накопило, создать общую картину мира, правда, мира чрезвычайно схематизированного и упрощенного, напоминающего настоящий мир лишь постольку, поскольку тусклое отражение в зеркале схематического рисунка Кёльнского собора может напомнить нам сам собор».
Тогда можно спросить — какой же тип более всего походит на реальность, стоит к ней ближе всего?
Мы уже говорили, что Фридман — скептик: «Все это пока дóлжно рассматривать, как курьезные факты, не могущие быть солидно подтверждены недостаточным астрономическим материалом; бесполезно, за отсутствием надежных астрономических данных, приводить какие-либо цифры, характеризующие „жизнь“ переменной Вселенной».
Бесполезно? Да! Но все равно интересно… А может, как настоящий ученый, он должен довести работу до конца?
Так или иначе, но «если все же начать подсчитывать, ради курьеза, время, прошедшее от момента, когда вселенная создавалась из точки, до теперешнего ее состояния, начать определять, следовательно, время, прошедшее от сотворения мира, то получатся числа в десятки миллиардов наших обычных лет».
Надо сказать, что нынешние, сделанные совсем не «ради курьеза» подсчеты дают число, весьма близкое к фридмановскому.
…Итак, ответа нет. Пока нет.
«Пока этот метод немногое может дать нам, ибо математический анализ складывает свое оружие перед трудностями вопроса, а астрономические исследования не дают еще достаточно надежной базы для экспериментального изучения нашей вселенной. Но в этих обстоятельствах нельзя не видеть лишь затруднений временных; наши потомки, без сомнения, узнают характер вселенной, в которой мы обречены жить… И все же думается, что
Измерить океан глубокий, Сочесть пески, лучи планет, Хотя и мог бы ум высокий — Тебе числа и меры нет!»Так кончается книжка «Мир как пространство и время», книга, на страницах которой провозглашена нестационарная вселенная.
Прошло три года. Совсем молодым, тридцатисемилетним, Фридман умирает от брюшного тифа.
Он не дождался того открытия, которое стало его триумфом. И не ожидал его. Потому что не представлял, как быстро наука о вселенной выйдет из «младенческой стадии развития». Какими шагами пойдет вперед.
…Ровесник Фридмана, американский астроном Эдвин Хаббл, был увлечен больше всего изучением туманностей. Им он посвятил всю свою жизнь, и работы его увенчались рядом великолепных открытий.
Исследуя в обсерватории Маунт Вильсон спектры света, приходящего к нам от далеких галактик, Хаббл заинтересовался загадочным в то время явлением. Спектры туманностей были, безусловно, известными. Они принадлежали водороду, гелию и другим нашим «земным» элементам. Но странное дело, все линии спектров были чуть смещены к красному концу по отношению к спектрам близких объектов.
Еще более поразительным показалось то, что для разных галактик смещение было различным — для одних бóльшим, для других меньшим. Оказалось, что здесь царит странная закономерность: величина красного смещения пропорциональна расстоянию от Земли до галактики; чем дальше от нас туманность, тем больше смещение.
К 1929 году накопилось достаточно материала, безотказно подтверждающего красное смещение, и Хаббл опубликовал свое открытие: красное смещение присутствует в спектрах всех галактик; величина его пропорциональна расстоянию от нас до галактики. Другими словами, чем дальше от нас находится галактика, тем больше линии ее в спектре смещены к красному концу — это и есть закон Хаббла.
Открытие американского ученого взбудоражило и физиков и астрономов. Начались лихорадочные поиски объяснения столь странного феномена.
Из немногих возможных причин наиболее убедительной представился допплер-эффект.
Когда тело приближается, волны издаваемого им звука как бы набегают друг на друга и сокращаются. Звук кажется более высоким. Когда тело удаляется, волны как бы растягиваются. Звук становится более низким.
Допплер-эффект наблюдается и при движении тел, излучающих свет. Приближение тела не изменяет скорости света — она постоянна. Но изменяется длина волны или обратная ей величина — частота. Длина волны становится короче, частота — выше. Происходит смещение к коротковолновому, фиолетовому концу спектра. Удаление тела подобным же образом вызывает увеличение длины волны, уменьшение частоты и смещение ее к красному концу спектра.
Итак, каждая спектральная линия соответствует определенной длине световой волны. Смещение спектральных линий в спектрах галактик к красному концу указывает на удлинение волн.
А удлинение волн, о чем говорит оно?
Объекты — далекие галактики — удаляются от нас. Чем дальше находится галактика, тем с большей скоростью совершает она свое «бегство». Скорости самых отдаленных галактик соизмеримы уже со скоростью света.
Не все ученые и не сразу приняли такое объяснение. Но попытки найти иные причины красного смещения, например приписать его «усталости», «старению» квантов света на долгом пути, оказались несостоятельными.
Так что же все это в конце концов означает?
Куда, почему, от кого бегут галактики?
И тут вспомнили работу Александра Фридмана «О кривизне пространства».
Расширяющаяся вселенная…
В маленькой работе было предсказано самое грандиозное из существующих в природе явлений. Теперь оно подтвердилось.
Опыт, наблюдения неопровержимо доказали: вселенная не стационарна, не стабильна, не устойчива. Она расширяется. Значит, с течением времени меняется и ее геометрия, уменьшается кривизна пространства.
Сразу же напрашиваются два вопроса. Как физически происходит расширение Вселенной? Если скорости удаления галактик соизмеримы со скоростью света, то как быть с предположением о малых скоростях звезд друг относительно друга; остается ли оно правомерным?
Оказывается, ответ на первый вопрос содержит в себе ответ и на второй. Расширение вселенной есть процесс такого масштаба, что он практически не затрагивает структуру галактик, а значит, взаимные расстояния и скорости обитающих в них звезд. Больше того, оно не затрагивает даже структуру скоплений галактик — куда более мощных образований, чем сами галактики. Скопление галактик — это, грубо говоря, совместно движущееся — благодаря тяготению — объединение галактик, подобно тому как галактика — совместно движущееся объединение звезд. При расширении вселенной изменяются расстояния, по-видимому, лишь между скоплениями галактик.
Вот хорошая иллюстрация к расширению вселенной из книги американского физика Гарднера:
«Представьте себе гигантский ком теста, в который вкраплено несколько сот изюмин. Каждая изюмина представляет собой скопление галактик. Если это тесто сажают в печь, оно расширяется равномерно по всем направлениям, но размеры изюмин остаются прежними. Увеличивается расстояние между изюминами. Ни одна из изюмин не может быть названа центром расширения. С точки зрения любой отдельной изюмины все остальные изюмины кажутся удаляющимися от нее. Чем больше расстояние до изюмины, тем больше кажется скорость ее удаления».
Поскольку «сидение в печи» никак не отражается на изюминах — скоплениях галактик, остается в силе упрощающее предположение Эйнштейна и Фридмана — считать каждую из звезд пребывающей в покое относительно других, ближайших к ней звезд.
Итак, открытие Фридмана неожиданно для всех получило блистательное подтверждение в самом крупном по масштабам процессе, разыгрывающемся во вселенной.
Это был триумф не только Фридмана, но и общей теории относительности, а значит, и Эйнштейна, хотя связан он был как раз с отказом от эйнштейновской стационарной вселенной.
И Эйнштейн принял этот отказ, может быть, даже с чувством облегчения.
Вот что писал он спустя два года после открытия Хаббла:
«Наши знания о структуре пространства в больших областях („космологическая проблема“) получили важное развитие. Раньше мы рассуждали, основываясь на следующих двух предположениях:
1. Существует некоторая средняя плотность материи во всем пространстве, которая всюду одна и та же и отлична от нуля.
2. Размеры („радиус“) пространства не зависят от времени.
Оба эти предположения могут быть согласованы с общей теорией относительности лишь после добавления в уравнения поля гипотетического члена, который не следует из теории и не представляется естественным с теоретической точки зрения („космологический член в уравнениях гравитационного поля“).
В то время предположение (2) представлялось мне неизбежным, поскольку я считал, что в случае отказа от него открываются безграничные возможности для всевозможных спекуляций.
Однако уже в двадцатых годах русский математик Фридман показал, что с чисто теоретической точки зрения более естественным является иное предположение. Он показал, что, опуская предположение (2), можно сохранить предположение (1), не вводя довольно неестественный космологический член в уравнения гравитационного поля. Именно первоначальные уравнения поля допускают решение, в котором „радиус мира“ зависит от времени (расширяющееся пространство). В этом смысле согласно Фридману можно сказать, что теория требует расширения пространства.
Несколькими годами позже Хаббл в специальных исследованиях внегалактических туманностей показал, что спектральные линии обнаруживают красное смещение, которое непрерывно возрастает с увеличением расстояния до туманности. В соответствии с нашими современными знаниями это можно интерпретировать только в смысле принципа Допплера как всестороннее расширение системы звезд, требуемое уравнениями гравитационного поля».
Среди части физиков бытовало мнение, что Фридман сам не очень верил в созданную им теорию расширяющейся вселенной. Будто бы он говорил, что его дело — математика, уравнения, а физики пусть разбираются, какие из решений соответствуют действительности.
«Вступаясь» за Фридмана, Петр Леонидович Капица сказал, что «это ироническое высказывание о своих трудах остроумного человека не может изменить нашу высокую оценку его открытия». Дирак, напоминает Капица, тоже не верил в реальное существование предсказанного им теоретически позитрона. «Но позитрон был открыт, и Дирак, сам того не предполагая, оказался пророком. Никто не пытается преуменьшить его вклад в науку из-за того, что он сам не верил в свое пророчество».
Так верил ли все-таки Фридман в свое открытие?
Он, безусловно, верил в математическую правильность решения и доказал ее. Но счесть его «чистым математиком», не размышляющим над физическим содержанием открытия, конечно, совершенно неправильно.
Вопросы «общего устройства нашей (само собой разумеется, материальной) вселенной» глубоко занимали его. Об этом свидетельствует один из друзей Фридмана:
«А. А. Фридман имел редкие способности к математике, однако изучение одного только математического мира чисел, пространства и функциональных в них соотношений не удовлетворяло его. Ему было мало и того мира, который изучается теоретической и математической физикой. Его идеалом было наблюдать реальный мир и создавать математический аппарат, который позволил бы формулировать с должной общностью и глубиной законы физики, а затем, уже без наблюдений, предсказывать новые законы».
И жена Фридмана вспоминала:
«Для него наука и работа были дороже жизни, которую он сжигал во имя идеи и глубокой веры в будущие достижения человеческого разума. Мечта о возможности снестись когда-нибудь с иными мирами, когда человечество сумеет преодолеть силу тяготения, казалась ему осуществимой в недалеком будущем».
Вся жизнь Фридмана — смелая, деятельная, с вечным стремлением прорваться вперед, в неизведанное — так не согласуется с образом погруженного лишь в уравнения математика.
Екатерина Петровна Фридман писала:
«Целый вихрь идей захватывал его с неудержимой силой, и если жажда познания приносила ему и радость и мучение, то творчество было жестоким кумиром, даровавшим ему и великое счастье и глубокую внутреннюю муку, тоску о недоступном.
Он сознавал, что в своем творчестве идет новыми путями, трудными, никем еще не исследованными, и любил приводить слова Данте: „Вод, в которые я вступаю, не пересекал еще никто“.
Но великая радость, которую дает творчество, гордость духа от сознания сил своих и намеченных открытий, слишком часто сменялась отчаянием, муками сомнения и неудовлетворенностью своей работой. Вечное стремление создать большее, найти новое, невозможность одолеть препятствия, сознание одиночества и слабости сил человеческих — вот что создает из истинного ученого „мученика науки“».
О том же и почти теми же словами говорил и Эйнштейн:
«В свете уже достигнутого знания то, что счастливо добыто, кажется почти тривиальным… Но ведущийся ощупью, годами длящийся поиск в темноте, с его напряженным ожиданием, со сменой уверенности и отчаяния и бесконечными прорывами к ясности — все это знает лишь тот, кто сам пережил это».
Здесь, в этих словах, может быть, и лежит ответ. Скорее всего Фридман боялся до конца поверить в свое открытие, боялся утверждать наверняка. Ведь этих «вод не пересекал еще никто». Он, конечно, думал, не мог не думать о связи своей теории с действительным строением мира. В его расчетах не случайно появилась цифра «жизни вселенной» — так близко совпадающая с нынешними данными. Но он с пристрастием оценивал возможности космологии своего времени, боялся переоценить их, когда говорил, что космология находится «в самой младенческой стадии развития».
Теперь-то ясно, что возможности эти он все-таки сильно недооценил. Не оборвись так рано его жизнь, проживи он еще хотя бы четыре года, каким счастьем стало бы для него открытие Хаббла.
Так что все противится мысли, что свое открытие Фридман сделал случайно, любительски занимаясь некими математическими упражнениями.
В 1924 году, в последние месяцы жизни, Фридман снова вернулся к общей теории относительности. Новая его работа называлась «О возможности мира с постоянной отрицательной кривизной пространства».
Что же на этот раз толкнуло Фридмана на такой шаг? Почему он решил заново разобраться в космических уравнениях Эйнштейна, еще раз проанализировать их? Вряд ли причиной послужили какие-нибудь новые идеи о строении вселенной — в науке за эти два года никаких открытий, потребовавших пересмотра идей, не произошло. Дело, наверное, в том, что истинный исследователь должен пройти весь путь до конца, изучить все возможности, не обойти вниманием своим ни одного варианта, представляется ли он реальным или непостижимо странным.
Мысль эта может найти подтверждение и в названии работы и в первых строках ее.
Фридман пишет: «В заметке „О кривизне пространства“ мы рассмотрели те решения космологических уравнений Эйнштейна, которые приводят к типам мира, обладающим в качестве общего признака постоянной положительной кривизной; при этом мы обсудили все возможные случаи. Однако возможность получить из космологических уравнений мир постоянной положительной кривизны находится в тесной связи с вопросом о конечности пространства».
Теперь Фридман ставит вопрос: можно ли получить из тех же уравнений Эйнштейна «мир с постоянной отрицательной кривизной, о конечности которого едва ли можно говорить»? И отвечает: да, в уравнениях Эйнштейна заключена возможность и такой вселенной — бесконечной, с отрицательной кривизной.
И на этот раз исследование уравнений поля тяготения Фридман провел по такой же схеме, что и в предыдущей работе. Но в результатах полной аналогии не получилось.
Вселенная положительной кривизны могла быть или стационарной, по Эйнштейну, или расширяющейся.
Вселенная отрицательной кривизны стационарной быть не могла. Точнее, она могла бы быть стационарной только в том случае, если бы плотность материи в ней оказалась отрицательной или равной нулю. Первое просто физически бессмысленно, а второе не соответствует действительности. Как ни мала средняя плотность вещества во вселенной, она, конечно, отлична от нуля. Звезды, галактики, космическая пыль да и живые существа, наконец, — все это материя, все это имеет плотность.
Через сто лет после того, как Лобачевский предположил, что может существовать пространство отрицательной кривизны, Фридман теоретически подтвердил такую возможность.
Нестационарность пространства отрицательной кривизны должна была смущать Фридмана не больше, чем нестационарность замкнутого пространства положительной кривизны. Тот и другой вариант приходилось рассматривать всего лишь как прогноз.
Но наступил двадцать девятый год. Телескоп и спектрографы Хаббла сказали свое слово, и расширяющаяся вселенная стала реальностью. На какую же чашу весов легло открытие Хаббла? На обе. Больше того, расширение пространства, одинаково возможное и при положительной и при отрицательной его кривизне, в какой-то степени даже затрудняет сделать выбор.
Выбор не сделан и по сей день. Решить величайшую космологическую проблему поможет лишь точное знание средней плотности материи во вселенной. Но хотя сейчас попытками определить точное значение средней плотности активно заняты астрофизики многих стран, невозможно предсказать, когда им удастся найти правильный ответ.
«Во всех его полетах была частица этого стремления оторваться от земли… подняться выше, то „excelsior“, которое было девизом его жизни».
Как прочесть, как истолковать эти слова жены, долголетней спутницы ученого?
В них сказано очень многое о человеке…
Чувствуется в них и его «мечта о возможности снестись с иными мирами».
И зов этих далеких миров, который, кто знает, может, и завлек Фридмана в тот сложнейший, запутанный лабиринт, зовущийся строением вселенной.
И неодолимая потребность как можно шире раздвинуть рамки земного.
И радость встреч и борьбы с грозными силами природы.
И сознание, что это необходимо людям, что землю людей надо защищать.
А еще, может, было тут и просто физическое счастье от самого полета.
— Выше! Выше… выше… — с этими словами умирал Пушкин. С этими словами он жил.
Похоже, тот же смысл вкладывал Фридман в слово «excelsior», которое «было девизом его жизни».
Кому много дано, с того много спросится. Фридману было дано много, но спрашивал он с себя чрезмерно. «Я работолюбивый», — говорил он. Но разве можно назвать такое просто любовью к работе? Это было непрерывное самосожжение.
— Нет, я невежда, я ничего не знаю, надо еще меньше спать, ничем посторонним не заниматься. Вся эта так называемая «жизнь» — сплошная потеря времени, — повторял он с отчаянием и себе и жене.
Человеку отпущено не щедро — и жизни, и времени, и сил. И беспредельно пространство непознанного. Каждый, кто привержен науке, не может не страдать от этого, не может об этом не думать. Фридман страдал почти патологически. Он часто вспоминал слова Ньютона о великом океане знания и бедных ученых, подбирающих лишь те камешки, которые море выбрасывает им на берег. Вспоминал, но не мог, не хотел с этим мириться.
В нем шла постоянная внутренняя борьба с самим собой. Тревожило, завлекало множество разных проблем, целых наук. Во все хотелось проникнуть глубоко, до основания, заняться ими всерьез; иначе — не всерьез, по-дилетантски — он просто не умел. Едва он начинал чем-то интересоваться, сразу рождалось множество собственных идей.
И с почти маниакальной жестокостью запрещал он себе эти отклонения от основного дела. «Если я разбросаюсь, то погибну», — повторял он, зная свой увлекающийся характер, и боролся с ним без пощады. Так он и жил — в постоянном самоограничении.
Так же заставил он себя отказаться от большой любви, которая пришла к нему в последние годы жизни — заставил потому, что новое чувство слишком занимало его мысли, отвлекало от работы, требовало слишком много душевных сил. Он чувствовал себя виноватым перед обеими женщинами, и перед своей работой, и перед своими учениками — и не скрывал этого от них. Хотя в чем же была вина?..
А когда он себе разрешал «разброситься» или не хватало сил удержаться — никто теперь не расскажет, как это было, — тогда начиналась счастливая встреча с новым. Наверное, именно так он встретился с теорией относительности.
Сообща нарисованный портрет
— Постарайтесь написать о нем получше. Вы завоюете сердца физиков, — этими словами Борис Павлович Константинов закончил наш разговор об Иоффе.
Всегда хочешь и стараешься написать получше. Особенно если речь идет о большом ученом и человеке и ты должен выразить не только и, быть может, не столько свое отношение к нему, а выступить как бы от имени целого коллектива его друзей и учеников; но как изобразить дорогу длиною в долгих восемьдесят лет, выделить главные вехи на ней?..
Мы сидели в кабинете академика Константинова, нынешнего директора Ленинградского физико-технического института. Прежде, до сорок девятого года, это был рабочий кабинет Иоффе: его квартира находилась здесь же, где теперь размещена дирекция. Даже умывальник остался с того времени — рядом со столиком машинистки.
Рассказывают, что Абрам Федорович вечерами или ранним утром тихонько выходил из квартиры и долго бродил по институту, заглядывал в лаборатории, смотрел на приборы… Наверное, даже ночью необходим был ему этот воздух.
Потом его сняли с поста директора, отстранили от руководства институтом, который он создал и вырастил, где был старшим не только по возрасту, по должности, но и по нравственному и научному авторитету, завоеванному всей жизнью. Но он продолжал ночами ходить по коридорам и тем лабораториям, которые еще оставались ему доступны.
Однажды, когда после такой прогулки он хотел открыть дверь своей квартиры, она не поддалась. По чьему-то злому приказу дверь наглухо заделали. Был февраль. Иоффе в одном костюме, в комнатных туфлях вышел на улицу и по другой лестнице поднялся к себе.
…Заключен, заколочен, как Фирс. Этим действием словно хотели сказать: институт теперь не твой и ходить тебе туда не положено… Едва ли можно было обидеть грубее и глупее.
Значит, нашелся среди учеников один Иуда. Но тайная вечеря окончилась по-иному. Друзья, ученики забили тревогу. Объединив свои силы, влияние, настойчивость и темпераменты, они добились почти невозможного для тех лет: Иоффе разрешили организовать лабораторию.
Когда человеку семьдесят, нелегко начинать строить свой новый дом… И не слишком ли поздно? Но Иоффе сумел начать. И достроить сумел.
Может, это не вяжется с только что рассказанным, но, без сомнения, Иоффе прожил по-настоящему счастливую жизнь. Вероятно, больше, чем стечение обстоятельств, помогли ему в этом его характер и его оптимизм — исключительный, несгибаемый, неколебимый, — друзья приводят еще множество подобных эпитетов. Он был убежден, что жизнь вообще-то радость. И не стыдился этого своего открытия. Он любил дальние прогулки пешком, любил выращивать редкие растения, слушать музыку. И хорошую шутку любил. Но самой большой радостью была работа, творческий труд, которому Иоффе всегда умел отдаваться сполна.
Скорее всего такое светлое отношение к жизни и помогло ему сохранить до последнего часа любовь к людям и ясность мысли, энергию и работоспособность. Думается, оптимизм Иоффе был одновременно и мировоззрением его и защитой, броней от больших и мелких горестей, встречающихся на пути каждого.
Конечно, у Иоффе была счастливая и довольно ровная научная судьба. А, так сказать, «жизненная судьба» если в лице худших представителей рода человеческого и наносила ему удары, то хотя они больно ранили, но были, к счастью, не роковыми, не смертельными, даже не очень длительными.
В 1897 году шестнадцатилетний Иоффе покидает свой родной городок Ромны — недалеко от Миргорода — и едет в Петербург поступать в Политехнический институт.
Чтобы попасть туда, требовалось преодолеть немалые препоны и прежде всего получить на каждом из шести экзаменов наивысший балл. Первые четыре экзамена прошли вполне успешно. Остались геометрия и тригонометрия, в которых Иоффе по праву чувствовал себя совершенно уверенно.
…Шел уже третий час экзамена по тригонометрии. Иоффе исписал все стоящие в комнате классные доски. Трудность заданий все нарастала, но Иоффе точно и четко выполнял их, одно за другим. Тогда экзаменатор подошел к доске и сказал:
— Молодой человек! В это выражение у вас вкралась ошибка, вы перепутали знаки. Исправьте так, как нужно.
Иоффе проверил свои выкладки и ответил, что ошибки нет.
— А я вам говорю, что здесь нужно поставить плюс, а там минус.
Иоффе никак не мог уразуметь, для чего нужно менять правильно поставленные знаки, и снова сказал профессору, что все правильно и он ничего менять не будет.
— Уходите вон! Я ставлю вам пять, — вскричал тогда взбешенный экзаменатор.
С геометрией дело кончилось хуже.
Экзаменовал известный и убежденный черносотенец. Опять Иоффе точно и безукоризненно отвечал на все вопросы, решал все предложенные задачи. На исходе третьего часа довольно тяжких «боев», экзаменатор, так и не сумевший добыть победы в лоб, придумал обходной маневр и обратился к Иоффе с такой великолепной речью.
— Видите ли, молодой человек, — сказал он, — мне пока не удалось уличить вас в незнании каких-либо областей геометрии. Вы действительно ответили мне на все вопросы. Но скажите сами, есть ли на свете такой юноша, который знал бы досконально всю геометрию и мог бы ответить на абсолютно все мои вопросы? Разумеется, нет. Следовательно, и вы, сударь, чего-то не знаете. Я лишь не сумел пока установить, чего именно вы не знаете, но от этого положение дел не меняется. При таких обстоятельствах я, разумеется, не могу поставить вам высший балл, вы его не заслуживаете.
Это не была пустая угроза, он действительно снизил балл на единицу, закрыв тем самым Иоффе доступ в Политехнический институт. К счастью, на механическом отделении Технологического института оказалось одно вакантное место, на которое и приняли Иоффе — без повторной унизительной сдачи экзаменов.
Окончание Технологического института не давало права ни самому заниматься наукой, ни поступить в университет. Единственным полем деятельности могла быть техника. Но хотя Иоффе на всю жизнь сохранил любовь и интерес к технике, физика, научные исследования влекли его все сильней и сильней.
В декабре 1902 года с рекомендациями от профессоров Егорова и Гезехуса Иоффе едет в Мюнхен — к самому Рентгену.
Рентген был не только ученым высшего таланта, но и совершенно исключительных качеств человеком — редкого бескорыстия, «аскетической скромности», как говорил Иоффе, правдолюбия, скрупулезной честности. До самой смерти своего учителя Иоффе сохранил с ним дружеские отношения. «Я от Рентгена одни комплименты слышу — это вредно», — как-то написал он жене. Много работ было проделано ими совместно, даже тогда, когда Иоффе вернулся в Россию. А что касается той физической школы, школы экспериментатора, которую Иоффе прошел у Рентгена, то лучшей трудно было желать.
Работая у Рентгена, Иоффе сделал очень значительное исследование упругого последействия кварца, за которое физический факультет Мюнхенского университета присвоил ему докторскую степень с высшим отличием.
На защите произошел забавный инцидент, который сам Иоффе потом описал в книге «Встречи с физиками»:
«Декан произнес приветственную речь по-латыни — которая была мне недоступна. Единственное, что я понял, был положительный результат защиты, так как речь закончилась пожатием руки. Но когда я встретил Рентгена в лаборатории, он возмутился хладнокровием, с которым я реагировал на речь декана. Оказалось, что факультет присудил мне впервые за 20 лет степень „summa cum laude“ — „с наивысшей похвалой“. Эта степень заодно давала и право читать лекции, и от меня ждали выражения неожиданной радости, но я не знал даже того, что существуют четыре степени и что мне присуждена высшая из них. Рентген долго не хотел поверить, что я, идя на защиту, не знал порядка присуждения степени. Как-то позже он вспоминал об этом инциденте: „Вы действительно нелепый человек“».
Не менее блистательно защитил Иоффе и вторую докторскую диссертацию — уже в России. На первый взгляд покажется странным, что после защиты в Германии ему пришлось еще раз становиться доктором наук в России — доктором физики. Но все дело в том, что степень доктора на Западе и в России и до революции и в наше время не одно и то же. Она соответствует нашей нынешней степени кандидата наук, а дореволюционной — магистра. Без «русской» степени доктора Иоффе не смог бы получить и звание ординарного профессора — со всеми вытекающими следствиями, например правом читать лекции студентам.
Свидетелем этой второй докторской защиты Иоффе был большой его друг, уже тогда известный и крупный ученый, академик Алексей Николаевич Крылов. В 1940 году, к шестидесятилетию Иоффе, он рассказал, как на защите выступил один из крупнейших русских математиков, специалист по математической физике, академик Владимир Андреевич Стеклов. Выступая как частный оппонент — был тогда и такой термин, — Стеклов сказал, обращаясь к Иоффе:
— Произведенная вами при помощи самых простых средств экспериментальная работа может быть уподоблена по проявленной вами систематической и неуклонной настойчивости работам Фарадея. Вместе с тем она является выдающейся и в другом отношении: часто экспериментальные работы грешат в математической обработке наблюдаемых явлений; в этом ваша работа столь же безукоризненна, как работы английских физиков Максвелла, Томсона, Рэлея, Стокса и других, и я отдаю лишь должное, признавая вашу диссертацию превосходной во всех отношениях.
Алексей Николаевич Крылов был также участником и свидетелем избрания Иоффе в члены-корреспонденты Академии наук. Более того, именно он предложил кандидатуру Абрама Федоровича на вакантное место. И Иоффе и кандидат на вторую вакансию были выбраны единогласно.
Происходило это в ноябре 1918 года. Крылов потом описал финал этого события.
«Это было ноябрьским вечером. Иоффе присутствовал в соседней с малым конференц-залом Академии комнате (на случай необходимых от него справок). Дул норд-вест с жесточайшими шквалами, с мокрым снегом. Трамваи в Петрограде не ходили, освещения не было. До Политехнического института, где жил Иоффе, ему пришлось бы идти 12 верст по непролазной слякоти. Утром была хорошая погода, и Иоффе пришел в Академию в легком летнем пальто и легких ботинках. Я жил тогда на Каменноостровском, ныне Кировском, проспекте через несколько домов от Песочной улицы и пришел на заседание в купленном мною в Гамбурге непромокаемом дождевике немецкого лоцмана и в кожаных морских сапогах, сшитых на бычьем пузыре. Идти пришлось серединой улицы. Ботинки Иоффе хлюпали на разные музыкальные тона и брызгали при каждом шаге на метр во все стороны. Придя домой, я увидел, что Иоффе промок и промерз, как говорится, до костей, и сейчас же предложил ему сменить одежду, вытереться и выпить добрую рюмку коньяку, а затем хорошей меры стакан горячего, по морскому рецепту изготовленного пунша. Это была единственная рюмка коньяку и единственный стакан пунша, выпитые Абрамом Федоровичем за всю его жизнь. Но зато это избавило его от вернейшей простуды».
Добрые слова приходилось слышать Иоффе и от Эйнштейна. В 1922 году в письме из Берлина жене он рассказывает: «Завтра буду у Einstein’a — получил от него настоятельное приглашение. Гринбергу, который был у него, он сказал: „У вас в России есть замечательный физик — обратите на него внимание“. Это также пошло на пользу закупок». Иоффе был тогда командирован Советским правительством за границу, чтобы закупить необходимое оборудование и достать литературу для возрождавшихся в России научных институтов.
К шестидесятилетию Иоффе получил от учеников подарок: запрессованный в пластмассу свой портрет в розовых очках. В этом подарке был заключен двоякий смысл. Во-первых, для Иоффе было праздником создание первой в стране пластмассы, потому что именно он поддержал только что зарождавшиеся исследования полимеров. А во-вторых, друзья не упустили возможности хоть в шутку посмеяться над своим учителем и показать, как они знают его характер, его умение быстро забывать плохое и снова и снова вспоминать о хорошем, большом и малом, где бы он его ни встречал. Но они совсем не хотели сказать, что Иоффе всегда поворачивается спиной к неприятностям и делает вид, что их не существует. Они отлично знали, что маленькие слабости не мешали ему, когда он видел несправедливость, активно вмешиваться, вступаться за правду. Если в беду попадали друзья, Иоффе не уставал беспокоиться о них, хлопотать, выручал их.
Вот письмо, написанное Абрамом Федоровичем Иоффе на своем официальном бланке, где сверху напечатано типографским шрифтом:
«Академик А. Ф. ИОФФЕ, директор Физико-технического института Академии наук СССР, Ленинград, 21, Сосновка, 2. Телефон 1–89–78 30 июля 1940 г.Дорогой Петр Иванович!
От Елизаветы Николаевны узнал Ваш адрес. Мы надеемся, что Вы скоро вернетесь в среду советских физиков, где Ваше отсутствие весьма болезненно ощущается. Ленинградский университет не может найти лица, которое хотя бы частично заменило Вас, и ждет Вашего возвращения на кафедру, на которой Вы воспитали столько прекрасных учеников. Но больше всего чувствует Ваше отсутствие советская электрофизика и электротехническая промышленность, для которых Вы были и являетесь высшим авторитетом. Ваш блестящий экспериментальный талант и обширные знания совершенно необходимы для успешной работы. Здесь никто Вас не может заменить. Это не только мое личное убеждение, но и единодушное мнение всех физиков и радистов, высказанное на недавних конференциях по электронным явлениям; там было немало Ваших учеников и я, Ваш учитель, которым Вы особенно дороги не только как выдающийся ученый, но и как близкий друг, которого мы привыкли уважать».
Письмо послано Петру Ивановичу Лукирскому — не в больницу и не за рубеж, где тот мог бы быть в командировке…
Петр Иванович Лукирский, один из трех первых учеников Иоффе, очень быстро вырос в крупного ученого. За ряд выдающихся работ он в 1933 году, еще не достигнув сорокалетнего возраста, стал членом-корреспондентом Академии наук. Но в тридцать восьмом году научное восхождение Лукирского обрывается…
Хлопоты Иоффе в Ленинграде не увенчались успехом, и тогда Абрам Федорович пишет письмо Лукирскому в лагерь. Вот почему официальный бланк — пусть начальство видит, что письмо от уважаемого академика, директора института, большой фигуры. Может, это облегчит существование Лукирского. И пусть письмо придаст силы самому Петру Ивановичу: «Мы убеждены, что ошибка, приведшая к Вашему осуждению, скоро разъяснится, что моральная и политическая чистота Ваших мыслей и действий будут выяснены».
На этот раз усилия Иоффе окончились победой. Сначала Лукирского перевели на легкую работу. Потом благодаря дальнейшим стараниям Иоффе его освобождают и реабилитируют. Потом он получает орден и в сорок шестом году выбирается в академики.
Такой успех службы правды и службы сердца Абрама Федоровича Иоффе был не единственным. Но были и поражения, боль за близких, боль за свое собственное бессилие. Однако он не прекращал попыток, снова и снова стремился помочь, выручить, спасти.
Раз во время банкета один из старых учеников попросил встать тех, кому когда-нибудь помог Абрам Федорович. Встал весь зал. Это получилось чересчур торжественно, и Иоффе засмущался.
Встречаются рассуждения о том, какая доброта более драгоценная и более высокая — от ума или от сердца. Как-то один писатель сказал, что без ясности ума нет ни подлинной доброты, ни истинной любви. Эти слова очень подходят к Иоффе.
Я разговаривала со многими учениками и сотрудниками Абрама Федоровича Иоффе, впрочем, большинство моих собеседников были и теми и другими. Не могу сказать, что все говорили одинаково или об одном и том же — вспоминались разные случаи, были свои оценки и свои акценты. Но самые значительные черты характера, деятельности не мог не отмечать, не подчеркивать каждый. И вот благодаря этой интенсивности освещения, особой яркости и одинаковости его в каких-то точках, моментах портрет получился очень контрастным. На самом деле не оставляло ощущение, что передо мной сообща, коллективно написанный портрет. Каждый кладет мазки отдельно, независимо от остальных, но нигде нет несовпадений, противоречий, диссонансов. Вот как составлялся портрет.
Иоффе — ученый.
Ясность мысли, потрясающая работоспособность и активность. Необычайно широкий кругозор — только в последнее время жаловался, что не хватает времени и сил держать всю физику в своей орбите.
Смело и широко смотрел и хорошо видел. Верил — перефразируя изречение Гегеля, — что все физически возможное реально.
У него была голова организатора крупной науки. Остро и сильно чувствовал направление развития науки и перспективность разных направлений.
Всегда имел свою точку зрения и не поддавался конъюнктурным обстоятельствам. Абсолютная твердость в научных убеждениях.
Как бы ни был занят административными делами, если возникал научный вопрос, всегда находил для него время — запирал дверь для административных дел и открывал для науки.
Иоффе — учитель.
Невероятное умение воспитывать людей — в этом не имел себе равных. Колоссально количество его учеников. Если взять, к примеру, список академиков-физиков, то окажется, что большинство из них прошло школу Иоффе. Он «пропускал» через свой институт множество людей и умел найти и выдвинуть наиболее одаренных: в физике — Капицу, Курчатова, Арцимовича, Кикоина, теоретиков — Ландау, Френкеля, в химической физике — Семенова, Кондратьева, в науке о полимерах — Кобеко, Александрова, Журкова.
Обладал поразительным чутьем угадывать способности людей, можно сказать — отбирал учеников шестым чувством, используя остальные пять.
Никогда не «зажимал» индивидуальности, не требовал выполнения своих идей, позволял свободно делать собственные работы. Не торопил, не настаивал на скорых результатах.
Если идея казалась ему плодотворной — принимал ее, становился на вашу точку зрения и помогал развивать. Если кто-нибудь работал неправильно, Иоффе мог много раз на это указывать, но никогда не запрещал продолжать работу. Он отвергал здесь всякое административное воздействие, начальственный запрет. Больше всего боялся подавить инициативу, всеми способами пытался воспитать творческую активность, хотя отлично сознавал, что она сопровождается ошибками и неудачами.
Невероятная терпимость к инакомыслящим. С ним можно было как угодно расходиться во мнениях, но на отношениях это никогда не отражалось.
Спорить с ним было хорошо и не просто. Всегда выслушивал до конца, ценил собственные мысли у собеседника, никогда не «давил» своим авторитетом, спорил «на равных». Ему можно было высказывать любые идеи — умные и глупые. Выслушивая глупые, он не сердился на человека, не презирал его, а вежливо и убедительно указывал на несостоятельность его утверждений. Он не одобрял людей лишь за полное отсутствие у них идей — глупых и умных. «Лучше десять неверных идей, чем вообще ни одной», — говорил он. Иоффе очень любил спорщиков и терпеть не мог подхалимов. Если был не прав, всегда признавался, менял неправильное решение.
Иоффе — человек.
Был очень внимателен к людям, очень доброжелателен и принципиален. Равно относился ко всем, независимо от их положения, много помогал. В обиходе был необычайно прост и отзывчив.
Неизменно верил в победу разума и здравого смысла — в этом был неисправим. Неистощим был его оптимизм и в науке и в жизни. Впрочем, об этой стороне характера уже кое-что рассказано. И о том, как помогла она в трудные дни изгнания из физтеха…
Лаборатория полупроводников, которую после тех событий организовал Иоффе, росла и спустя несколько лет была преобразована в институт. Особняк на набережной Кутузова хранит о Иоффе живую и любовную память. На дверях кабинета и сейчас написано: «Директор Института полупроводников академик Абрам Федорович Иоффе». И внутри все, как было при нем. Те же фотографии: Рентгена — его учителя, Эйнштейна, групповые снимки участников конгрессов и конференций. На столах — всевозможные полупроводниковые приборы.
Рядом с кабинетом библиотека. Мне рассказали, что лаборатория полупроводников создавалась, по существу, без всякой базы; сначала не было даже самых необходимых книг, журналов, справочников. И Иоффе перевез в лабораторию собственную библиотеку.
…Абрам Федорович не дожил двух недель до своего восьмидесятилетия, даты, которую советские физики готовились отметить как большой праздник. Юбилейным статьям пришлось стать некрологами. Но в них ничего не изменили. Иоффе для всех остался живым. Живым и молодым. Он ведь жил так, что ему некогда было состариться. И умер словно между делом, в середине рабочего дня.
Характер научного мышления Иоффе, может быть, особенно ярко проявился в многолетней и многотрудной работе его с полупроводниками.
В 1931 году Иоффе опубликовал статью с пророческим названием: «Полупроводники — новый материал электротехники». В то время не существовало даже терминов «физика полупроводников», «класс полупроводников». Какой там класс! Просто несколько веществ с туманными электрическими свойствами, не металлы и не диэлектрики, а так, середка на половинку.
Иоффе начал усиленно изучать эти вещества. Его вполне разумно отговаривали: ну что вы занимаетесь неизвестно чем, какой-то грязью. Воспроизводимости нет. Ни наука, ни техника, вообще не дело.
И действительно, с большим трудом создавались образцы полупроводников, казалось, точно известного состава, с вполне определенными физическими свойствами, а когда начинали измерять характеристики этих будто бы одинаковых образцов, то воспроизводимых, повторяющихся результатов не получалось. В образцах действительно была «грязь» — мельчайшие загрязнения, ничтожные, почти неконтролируемые следы примесей. Эти примеси были, видимо, всему виной, они не давали необходимой для экспериментатора воспроизводимости опытов.
Иоффе отвечал: вы правы, воспроизводимости у нас нет; нет потому, что грязные материалы. Вы считаете, что такая чувствительность к ничтожным изменениям состава образца — недостаток. А мне кажется, напротив, в этом главное достоинство полупроводников. Подумайте, малые добавки примесей широко и кардинально меняют свойства полупроводников… На этом пути мы сумеем получить материалы с нужными нам качествами; надо только научиться управлять примесями.
Ему говорили, и опять правильно: полупроводники в высшей степени ненадежны, нестабильны. Они так меняются под воздействием внешних условий, что с ними невозможно иметь дело. Небольшое повышение температуры, и уже изменились электрические свойства, изменилась проводимость.
А Иоффе возражал: вы считаете, что не нужно иметь дело с такими капризными веществами, а по-моему, их «капризы», их сильная реакция на незначительные внешние перемены — главное их достоинство. Надо только как следует разобраться в этих реакциях и научиться подчинять их нашим задачам.
С самого начала Иоффе предсказал не только будущую роль полупроводников, но и важнейшие области их применения. Он настойчиво убеждал, что без полупроводников нельзя даже мыслить грядущей техники. И еще на заре полупроводниковой науки мечтал о мощной энергетике без машин.
Он очень верил в физику и в техническое осуществление самых сложных задач. Он любил физику, и физика платила ему взаимностью. Она раньше, чем другим, открывала ему свои секреты. Это звучит немного мистически, но можно сказать иначе: Иоффе обладал поразительной физической интуицией и глубоким пониманием самых сложных и тонких физических явлений, умел проникать в их суть, представлять себе не только ближайшее, но и весьма отдаленное будущее, увидеть связь там, где другие даже и не подозревают о ней.
И еще одна особенность творчества Иоффе: он не мыслил науки без связи с практикой, за первым этапом — исследованием неизменно следовал второй — воплощение. Иоффе был счастлив оттого, что идеи его, хотя многие из них казались фантастикой, служили людям.
Я помню, как в Казани, куда эвакуировалась Академия наук, в самые тяжелые дни войны Иоффе выступил перед комсомольцами академии. Он говорил о том, что группа сотрудников Физико-технического института осталась в блокадном Ленинграде и помогает обороне города.
— Еще мне бы очень хотелось рассказать о нашей новой работе, о новом средстве защиты городов от воздушных налетов, но вы, конечно, понимаете, что сейчас я ничего не скажу.
Тогда мы были очень заинтересованы и заинтригованы последними его словами. И лишь много позже узнали, что речь шла о радиолокаторах.
В то время все работали на войну и каждый старался сделать все, что в его силах. Как вспоминают друзья, Иоффе очень тяжко переживал войну, наши поражения. Все помыслы его были направлены только на одно — как помочь фронту. Ни о чем больше он не мог и не хотел думать.
Хорошую службу сослужили разносторонность научных интересов самого Иоффе и широкий диапазон работ института. Даже знаменитая ледовая дорога через Ладожское озеро, «Дорога жизни», как называли ее ленинградцы, жила и нормально работала — нормально, если мерить тяжелейшими военными условиями, — благодаря помощи оставшейся группы сотрудников. Не зря в Физико-техническом много лет серьезно и плодотворно занимались вопросами прочности. На этот раз объектом изучения была прочность не металлов, не стекла, не кристаллов каменной соли, а льда.
Ученые помогли установить правильный режим эксплуатации дороги, они исследовали и рассчитали, какие грузовики и с какой нагрузкой могут пройти по льду. Оказалось, что один определенный вес был роковым. Наступали резонансные колебания, лед ломался, и грузовик с продовольствием погибал. Ездить надо было или с большим, или с меньшим грузом.
Добрым словом поминали академика Иоффе и партизаны. Известно, какую роль играла связь, радио для партизанских отрядов. Но для работы рации нужна электроэнергия. А где ее возьмешь, когда часто единственный источник энергии — разложенный в лесу костер. Помощь пришла — партизанам доставили термоэлектрогенераторы. Эти приборы, сделанные из полупроводников, давали достаточный ток для питания радиостанции. Для этого их надо было только обогревать — держать над керосиновой лампой или просто над костром.
Электроэнергия от горящих сучьев! Смыкание самого древнего в истории человечества способа получения энергии с самым современным. Прямой переход тепла в электричество. Впрочем, вряд ли партизан занимали тогда подобные мысли. Они получили возможность иметь надежную связь, и это было самое важное.
Зато, как мы знаем, такие мысли занимали автора термоэлементов, и занимали не напрасно.
Ныне даже и говорить не надо о роли и значении полупроводников — настолько это общеизвестно. Они работают в миллионах схем — радио, теле, счетно-решающих устройств. Они многочисленные «пассажиры» космических кораблей всех систем. Они основа для новых типов лазеров — квантовых генераторов света, и для всех приборов прямого превращения в электричество энергии света, солнца, атомного ядра.
«Можно смело сказать, — писал Иоффе, — что полупроводники призваны сделать революцию в технике производства, равную по значению той революции, которую совершило расщепление атомного ядра».
Из всего широкого круга применения полупроводников самого Иоффе больше всего привлекали их энергетические возможности. Энергетика без машин, прямое, без посредников, преобразование тепла или ядерной энергии в электричество, а говоря «научно» — теория термоэлектричества и практика создания полупроводниковых термоэлементов, — такова область приложения сил Иоффе и большой группы его учеников в последние десятилетия.
Что такое термоэлектричество? Из самого названия видно, что это электричество, возникшее за счет теплоты.
Вот схема или простейший тип термоэлемента: соединим в кольцо два проводника из разных металлов. Один контакт оставим при комнатной температуре, а другой будем нагревать. По кольцу пойдет ток.
Открытие термоэлектричества началось с научного курьеза. Полтораста лет назад немецкий ученый Зеебек наблюдал это явление в чистом виде, но не понял или не захотел понять его. Открытый им эффект он назвал «магнитной поляризацией металлов и руд, вызванной разностью температур», всячески подчеркивая связь между теплотой и магнетизмом, не желая замечать истинного виновника этой связи — электрического тока.
Первая четверть XIX века была богата открытиями в области электричества и магнетизма. Эрстед обнаружил отклонение магнитной стрелки под действием тока, исследования Ампера, Био и Савара показали, что электрический ток — первопричина магнитных явлений. Действительно, всякий раз, когда течет ток, возникает магнитное поле; поэтому изменение тока при нагревании контакта вызывает изменения магнитного поля. Меняющееся же магнитное поле каждый раз отклоняет магнитную стрелку на угол, соответствующий его величине.
А Зеебеку такое естественное объяснение казалось модным, но ненаучным, и он всеми силами боролся с ним. Он пытался установить связь между теплотой и магнетизмом даже в «планетарном масштабе» и объяснить земной магнетизм разностью температур между экватором и полюсом или между южными вулканами и полярными льдами. «Видимо, эта гипотеза была ближе его сердцу, чем открытие еще одного источника электрического тока», — замечает Иоффе.
Такая предвзятость позиции не помешала, однако, Зеебеку провести скрупулезные экспериментальные исследования большого количества металлов — твердых и жидких, чистых и сплавов, а также минералов и полупроводников, и накопить обширный фактический материал. Примечательно, что наибольший термоэффект был обнаружен как раз у полупроводниковых материалов, но на это никто не обратил внимания ни тогда, ни много позже.
Через двенадцать лет после Зеебека французский часовщик Пельтье наблюдал обратное явление — выделение тепла на границе разнородных проводников при прохождении по ним тока. Но и Пельтье не нашел правильного толкования открытому им эффекту.
В течение чуть ли не столетия интерес к термоэлектричеству появлялся изредка и ненадолго. Были даже построены приборы, однако их коэффициент полезного действия никак не удавалось довести до половины процента, поэтому ни о каком энергетическом использовании их не могло быть и речи. По словам Иоффе, «термоэлектричество снова перешло на задворки курсов физики».
Отчего была такая безнадежность?
Термоэлементы делали из металлов. Теплоносителем в них был «электронный газ» — свободные электроны, двигающиеся внутри кристаллической решетки. Казалось бы, повышение температуры, увеличивая кинетическую энергию электронов, должно привести к большей скорости их движения, то есть к возрастанию электрического тока. На деле такого не получилось. Только квантовая теория металлов объяснила непонятный факт: электроны при больших концентрациях — а в металле их концентрация велика — находятся в так называемом «вырожденном состоянии», когда их энергия почти не зависит от температуры.
Иоффе предложил делать термоэлементы не из металлов, а из полупроводников; электроны в них более тесно связаны с кристаллической решеткой, что влечет за собой иной, чем в металлах, механизм переноса зарядов, то есть иной «механизм» электрического тока.
Природа электропроводности полупроводников была детально раскрыта во многих трудах самого Иоффе и его учеников. Суть ее в том, что в полупроводниках два вида проводимости: электронная и «дырочная». Грубо говоря, электронная проводимость — это обычный электрический ток, движение электронов, а дырочная — движение фиктивных, несуществующих положительных зарядов, по величине равных электронам.
Что такое фиктивный заряд — снова объяснила квантовая теория. В полупроводниках не все нормальные квантовые состояния насыщены электронами. Отсутствие на положенном месте электрона, то есть отрицательного заряда, равносильно присутствию там заряда положительного той же абсолютной величины. Это и есть «дырка». Движение «дырки», то есть перемещение свободного квантового состояния из-за того, что его покидает электрон, соответствует положительному току.
Открытый механизм позволил резко увеличить коэффициент полезного действия термоэлементов. Вот что писал об этом Иоффе:
«Термоэлементы превращают тепловую энергию в электрическую без машин, без сложных конструкций. А если через термоэлемент пропускать электрический ток, то одни концы приборов нагреваются, а другие охлаждаются.
Прямое получение электроэнергии и прямое получение тепла и холода — заманчивые технические задачи, мечта инженерной мысли. Почему же электричество мы все еще производим с помощью паровых котлов, турбин и динамо-машин, а для охлаждения применяем сложные компрессорные устройства?
Дело в том, что пока электротехника ограничивалась для этих целей одними металлами, едва 0,1–0,2 процента затраченной теплоты превращались в электроэнергию, а при наибольших затратах электроэнергии достигалось охлаждение не более чем на шесть градусов.
Полупроводники снимают это ограничение. Так, создаваемые ими термоэдс в сотни раз больше, чем в металлах. Полупроводниковые термоэлементы могут уже использовать 8–9 процентов тепла и охлаждать на 60–80 градусов».
Но если теория полупроводников разработана достаточно полно и хорошо известны закономерности их поведения, то техническое воплощение идеи и прежде всего создание нужных полупроводниковых материалов — дело редкой сложности.
И если можно сказать, что вступление полупроводников в строй есть знамение новой техники, то надо отметить и обратное: лишь новая, нынешняя техника позволяет получить невиданно широкий спектр полупроводников с заранее заданными свойствами.
Первое и непременное условие такой селекции полупроводников — поистине «хирургическая», небывалая в истории техники чистота материалов и препаратов. Раньше пределом считалась очистка до сотых процента. Теперь не предел миллионные, даже миллиардные доли процента. Соблюдение абсолютной чистоты при изготовлении полупроводников требует, чтобы даже в самом воздухе не было ни малейших следов других материалов.
Еще на заре исследований Иоффе подчеркивал решающее влияние примесей на свойства полупроводников. Последующее тщательное изучение установило, сколь велико это влияние. Примеси не только чрезвычайно сильно меняют величину электропроводности; они могут изменить даже знак проводимости: из отрицательной, электронной она станет «дырочной», положительной, или наоборот.
Есть полупроводник — сернистый свинец. На один атом свинца приходится атом серы. Если в образце окажется некоторый избыток свинца, то он будет электронным полупроводником. А избыток серы сделает его дырочным полупроводником.
Значит, не только посторонние атомы — это примеси для полупроводника. Его собственные атомы, остающиеся «за бортом» химического соединения, становятся примесями: они создают или добавочные источники электронов, что влечет электронную проводимость, или, наоборот, центры прилипания электронов; тогда на месте уходящих электронов появляются «дырки» и возникает дырочная проводимость.
Таким образом, открывается широкий простор для всевозможных комбинаций полупроводников и получения материалов с желаемыми свойствами.
Развивалась теория, росла техника, и коэффициент полезного действия термоэлектрогенераторов неуклонно повышался. Какие же пути для его роста отыскивал Иоффе? Прежде всего повышение температуры. Температуру полупроводникового термоэлемента можно поднимать так высоко, как только позволяет жаростойкость материала. Поэтому первый путь сводится к поискам и созданию максимально жаростойких полупроводниковых материалов.
Но есть на этом пути и подводные камни. Такой термоэлемент — твердое тело, кристалл. Чем сильнее его греть, тем большими становятся тепловые колебания кристаллической решетки, а следовательно, непроизводительная затрата энергии. Иоффе со своими учениками нашел способ уменьшать, частично гасить тепловые колебания. Но это было все-таки паллиативное решение.
Если нельзя «улучшить» решетку, то, может быть, можно вовсе обойтись без нее? Иоффе предлагает совершенно новые типы термоэлементов — вакуумный и плазменный. «Рабочий газ» — электроны — теперь будет двигаться не между атомами кристаллической решетки, а в вакууме или в плазме.
Если при переходе от металлических термопар к полупроводниковым кпд поднялся от долей процента к процентам, то для термоэлектрогенераторов, работающих на новом принципе, он подходит уже ко второму десятку, и очевидны возможности дальнейшего значительного увеличения его.
Блестящая идея Иоффе усиленно развивается во всем мире. «Много лет мы изучали термоэлектрические свойства полупроводников и возможность их использования для практики, и мало кто этим интересовался за пределами нашей лаборатории, — вспоминал Иоффе. — Но как только появились технические перспективы, свыше 80 лабораторий в США и многочисленные лаборатории в других странах включились в работу по полупроводниковым термоэлементам».
Исследования Иоффе и его школы по полупроводникам — классика в самом высоком смысле этого слова. Недаром на всем земном шаре Иоффе зовут «отцом полупроводников», а его монографию «Полупроводниковые термоэлементы» — небольшую книгу, в которой нет и двухсот страниц, — за границей именуют «библией термоэлектричества». Недаром эта работа Иоффе стоит первой среди достижений науки, удостоенных Ленинской премии 1961 года.
«Моя личная тема в настоящее время — полупроводники, — писал Иоффе в 1957 году. — Стал бы я заниматься ими, отказавшись от прежде интересовавших меня вопросов, если бы не считал их важным орудием будущей техники? И что бы я мог сделать в одиночку, без коллектива друзей и учеников? Какое удовлетворение могли бы мне доставить достигнутые успехи, если бы не надежда, что они внесут свою долю в общее великое дело, улучшат жизнь нашего и будущих поколений?»
— Старик опять увлекся, — бывало, не без иронии говорили сотрудники всякий раз, когда у Иоффе появлялась новая идея.
А такое случалось часто. Мозг Иоффе был какой-то удивительно питательной средой для возникновения порой совершенно неожиданных научных идей. Один из его учеников вспоминал, что Иоффе за много лет вперед видел те проблемы, которые должны стать решающими для развития и теории и практики:
— В этом отношении сила предвидения, проявленная им множество раз на глазах моего поколения, казалась волшебной. Не раз мы сомневались в его прогнозах, такими смелыми и неожиданными они нам казались, и, как правило, жизнь показывала, что мы ошибались, а он оказывался неизменно прав.
Другой ученик и близкий сотрудник Иоффе, Монус Самойлович Соминский, подчеркивал, насколько велика была научная прозорливость Иоффе и сила его фантазии, многим не только недоступная, но даже и непонятная:
— Некоторые обыватели в науке считали Иоффе неисправимым фантазером. Одни вкладывали в это слово какой-то постыдный смысл, другие придавали ему полупрезрительное значение. «Фантазер! Он всегда рисует фантастические картины, верит в их осуществимость и никогда не может спуститься с Олимпа на Землю», — так говорили посредственности и с самодовольной снисходительностью относились к мудрым и прозорливым высказываниям Иоффе. Они расценивали его далекие, а потому и непонятные для них научные предвидения не более как несбыточную фантастику и своим близоруким, ограниченным умом не могли понять того, что так четко, так зримо понимал Иоффе. Он действительно любил фантазировать, но его фантазии никогда не покидали твердой реальной почвы, не парили в небесах невозможного, а являлись проявлением изумительной научной прозорливости. Фантазии, воображение и мечтания были неизменными спутниками его долгой научной жизни, и он с легкостью и охотой отдавал себя в их власть.
В нынешние годы все мы свидетели того, как поразительно быстро воплощаются в жизнь самые, казалось, невероятные предвидения и проекты. Нет нужды перечислять их, все свершается у нас на глазах. Но и раньше великие умы понимали, как значительна роль воображения, фантазии в поступательном движении цивилизации.
Маркс писал: «Воображение — это великий дар, так много содействовавший развитию человечества».
«Все высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии и многое — фантазией при помощи ума, — говорил Пирогов. — Можно смело утверждать, что ни Коперник, ни Ньютон без помощи фантазии не приобрели бы того значения в науке, которым они пользуются».
И Ленин говорил о силе фантазии: «Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчисления невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности».
А еще категоричнее сказал об этом математик Гильберт. Узнав, что один из его учеников изменил математике и стал поэтом, Гильберт без капли иронии заметил:
— Ничего удивительного. У него было слишком мало фантазии, чтобы заниматься математикой.
Вот какой мощный сонм союзников был у Иоффе. «Старик опять увлекся» — сам Иоффе в эту фразу, если только он знал о ней, должен был вкладывать одно лишь положительное содержание. А сотрудники его прекрасно отдавали себе отчет, что всякий раз такое увлечение бывало отнюдь не платоническим, что Иоффе возможно энергичнее постарается воплотить свой замысел в действие.
Не менее горяч и активен бывал Иоффе, когда «увлекался» кто-нибудь из его учеников, пускай даже «увлечение» это лежало вне интересов самого Иоффе. Так случилось с физикой полимеров, которой заинтересовался Павел Павлович Кобенко. Полимеры «не вписывались» в тематику института, но подобное обстоятельство нисколько не смутило Иоффе. Он почувствовал, что едва зарождающемуся классу веществ суждено большое будущее, что в них заключены неисчерпаемые возможности для техники, и всеми силами содействовал работам с полимерами.
Тогда же, в начале тридцатых годов, в Физико-техническом институте начались и первые в нашей стране фундаментальные исследования по физике атомного ядра. Между прочим, начались не без некоторого противодействия и осуждения. В то время Физико-технический институт находился в системе Наркомтяжпрома, и весьма крупные физики говорили Иоффе:
— Ну зачем вашему институту такая отвлеченная, чисто академическая тема?
Все мы свидетели того, как молниеносно, одно за другим были сделаны крупнейшие открытия в ядерной физике, а атомная энергия перестала быть «академической темой». И великое счастье для нашей страны, что Иоффе тогда не внял, не поддался увещаниям и вырастил в стенах института крупных специалистов по ядерной физике, прежде всего Игоря Васильевича Курчатова.
Когда Иоффе стало известно о физическом принципе радиолокации, он сразу подумал, что реально и его техническое осуществление. И что такой прибор может оказаться крайне полезным — для науки и для обороны страны. По его просьбе еще в 1934 году Дмитрий Аполлинариевич Рожанский разработал первую в мире радиолокационную установку. После смерти профессора Рожанского ученики его продолжали совершенствовать радиолокатор.
Работы, которые возникали и развивались в институте, часто объединяло только одно — все они были сложными, и каждая представляла или какое-нибудь из генеральных направлений в физике, или, на худой конец, важный ее раздел. Другой директор сказал бы: «Ну что вы, братцы, делаете мне из института вермишель!», а Абрам Федорович, когда слышал о новом, сразу воодушевлялся. Он с энтузиазмом поддерживал и такие идеи, которые представлялись не очень реальными, порой даже фантастическими.
Земля, хлеб, повышение плодородия почвы, рост урожайности — все это волнует, не может не волновать каждого. Но для одних в этом смысл, дело личной, собственной их жизни, для других — горожан, например, да еще работающих в «отвлеченной» области науки, это лишь предмет размышлений, переживаний — один из ряда остальных.
Интенсивный подъем сельского хозяйства на прочной базе науки — такая задача еще с начала тридцатых годов стала личным делом горожанина, физика, академика Иоффе. По его инициативе в Ленинграде был организован Агрофизический институт, которым Иоффе руководил до последнего дня жизни. Агрофизика — новое направление в науке, созданное Иоффе, а институт по профилю своему был единственным в мире.
Сельскохозяйственное производство, как и всякое производство, должно строиться на строго научной основе, на передовой технике. Растение — это машина, установка, перерабатывающая свет, соли, влагу в зерно, овощи и плоды. Нужно создать для этой «установки» правильные условия работы, отвести от нее всякие случайности, оградить ее от «капризов» природы, и она отблагодарит точной, надежной работой, устойчивым урожаем. Таковы были основы, на которых Иоффе мыслил перестройку сельского хозяйства.
Прежде всего необходимо не только качественно, но и количественно, как в физическом эксперименте, найти наилучшие условия жизни и развития растения, надо, не анатомируя живое его тело, раскрыть и записать идущие в нем процессы обмена, роста, развития. В институте создаются приборы со всевозможными датчиками, которые записывают различные характеристики растения и окружающей среды. Они измеряют тепловой режим почвы и атмосферы, радиацию, фиксируют, как подопытные экземпляры регулируют свой жизненный тонус, предсказывают их нужды в тепле, влаге, питательных веществах.
Почва — хранилище необходимых средств питания. Но если набор этих веществ не будет полноценным, или, хуже, окажется вредным для данной культуры, то урожай может погибнуть.
В почве закрепляются корни, но она же, при неправильной структуре, затрудняет приток пищи к корням.
В институте создаются искусственные грунты, искусственное освещение — и в результате помидоры, например, стали созревать вдвое быстрей, в двадцать раз возросла их урожайность.
Сотрудники института стремятся поставить на службу сельскому хозяйству все достижения современной физики и химии. Иоффе писал, что надо организовать производство, как он выразился, «физических» удобрений — так он назвал некоторые полимеры, которые, склеивая пылевидную почву, создают в ней водопрочную структуру, а также ионообменные смолы, радикально изменяющие обмен питательных веществ между почвой и корнями. Он предлагал в теплицах и парниковых хозяйствах заменить стекла прозрачной пленкой из полимеров, которая пропускает ультрафиолетовые лучи, необходимые для развития всего живого. Главным же он считал удовлетворение потребностей сельского хозяйства в специальном приборостроении, в нужных ему полимерах и в полупроводниках.
Так на базе физики вырастала агрофизическая наука.
Талантом видеть новое в зародыше, угадывать его будущую роль Иоффе был одарен сполна. И сумел передать его своим ученикам. Академик Семенов как-то сказал, что питомцам школы Иоффе присущи некоторые элементы дилетантизма. У них есть убежденность, что можно овладеть любой неизвестной областью знания. Поэтому они не боятся ничего нового и смело идут ему навстречу. Между прочим, истинное значение слова «дилетант» — это человек, занимающийся чем-то по своей склонности, по увлечению. Такой «дилетантизм» — стиль школы Иоффе.
У Иоффе был какой-то неповторимый секрет общения с людьми, ключ, которым он открывал сердца. И был секрет воспитания. Собственно, наверное, даже и секрета не было. Все открыто, все на виду, хочешь — перенимай. Но оказывается, понять легко, а перенимать трудно.
— Обладая тонким чутьем и тактом, Иоффе воздействовал на своих сотрудников вполне определенными средствами, но при этом обязательно учитывал индивидуальные особенности того, с кем ему приходилось иметь дело, — рассказал Соминский. — Что же это за средства? Первое и, по-видимому, самое мощное заключалось в том, что Иоффе старался заинтересовать начинающего физика той научной проблемой или темой, которую предстояло решать в институте. Прежде чем предлагать сотруднику конкретную работу, он всесторонне обосновывал необходимость ее постановки, показывал ее значение и перспективы, обнажал те ее стороны, которые не мог видеть начинающий ученый. Умение привить любовь к науке, вызвать интерес к той научной задаче, которую предстояло решить, было одним из мощных средств, находившихся в распоряжении Иоффе, позволявших ему оказывать свое влияние на молодых ученых, воспитывать их в нужном направлении, выковывать из них физиков во всеобъемлющем смысле этого слова.
Для ученого, богатого идеями, щедрого, благожелательного к молодежи, кажется, не должно составлять труда быть хорошим учителем. Но часто оказывается, что такой ученый, при самых добрых намерениях, не становится учителем в высоком смысле слова. Он способен одарить ученика лишь собственными идеями, научить его только своему способу мышления, короче — вести за ручку. А кто всегда держится за руку, не научится ходить.
У Иоффе был прямо-таки неизмеримый запас собственных идей. Но он умел, когда нужно, отодвинуть их в сторону, «заболеть» чужой идеей и вместе с автором обдумывать и развивать ее. Больше того, развивать не своим, а его путем.
Он, который в научном споре сарказмом мог уничтожить противника, на редкость бережно относился к молодежи, к ее ошибкам и заблуждениям. Он понимал: крылья нельзя подрезать. Дай им окрепнуть, если ждешь большого полета. Всю жизнь Иоффе любил молодежь, любил ее общество, гордился тем, как она растет.
Студенты Ленинградского политехнического института уже с первых курсов начинали работать в лаборатории физтеха. Недаром физтех называли «детским садом Иоффе» — и далеко не все доброжелательно. А среди питомцев «детского сада» были, к примеру, будущие академики Капица, Семенов, Кикоин, Лукирский…
Как растил Иоффе своих учеников? Прежде всего их растила сама атмосфера института, атмосфера труда и мысли. Работали с утра до поздней ночи, а иногда и ночи напролет. Все понимали, что заниматься наукой нельзя с девяти до пяти, что невозможно вместе с перевешиванием табеля начинать и прекращать думать. Мышление, особенно научное, не поддается регламентации, а если идет эксперимент, то тоже нельзя со звонком оборвать его.
Да, понимали все, хотя бывали и исключения. Сейчас ученики Абрама Федоровича не без юмора вспоминают «полосатовщину» — нелепый, но, по счастью, недолгий период в жизни института. Но тогда было не до смеха.
Иоффе уехал в заграничную командировку. За начальство остался некий Полосатов, заместитель директора по административно-хозяйственной части. Полосатов решил навести порядок во вверенном ему заведении. Мероприятия шли под девизом: «Долой вольницу!»
«Что это за работа вечером, а то и ночью!»
«Почему утром не все сотрудники на местах?! А, сидели допоздна в лаборатории? Запретить задерживаться после конца рабочего дня!»
Сначала пробовали бунтовать, сопротивляться. Потом решили: «Чем хуже, тем лучше. Подчинимся и поглядим — пусть потом выкручивается».
«Порядок» был наведен, работа… затормозилась.
Наконец возвращается Иоффе. В первый же вечер едет в институт и, ошеломленный, сразу попадает в совершенно непривычный мир: полная тишина, полная пустота. Изумленный, недоумевающий, Абрам Федорович бродит по пустынным, словно заброшенным, лабораториям…
Все разъяснилось лишь на следующее утро. Естественно, Полосатов был изгнан из института. Привычная, нормальная для всех жизнь возобновилась.
Иоффе старался всегда и всячески, чтобы научное общение его питомцев было как можно более тесным и продолжительным; и в институте — в лабораториях, на семинарах, и вне института — дома, на прогулках, в походах.
Он любил вспоминать о времени своей работы у Рентгена, в начале нынешнего века. Тогда физики были увлечены расшифровкой природы только что открытых x-лучей. Оптические методы не позволяли точно измерить длину их волн, потому что рентгеновское излучение оказалось гораздо более коротковолновым, чем свет.
У мюнхенских студентов была традиция — после завтрака собираться в кафе и обсуждать там научные вопросы. Однажды Лауэ пришла в голову идея использовать в качестве дифракционной решетки кристалл. К этому предложению отнеслись скептически, и дело кончилось заключением пари.
Долгие дни опыты не давали результатов, пока как-то фотографическую пластинку случайно не повернули параллельно поверхности кристалла. Проявили — и ахнули! На пластинке вырисовывалась симметричная дифракционная картина. Так была снята первая в мире лауэграмма. Теперь это распространеннейший способ изучения кристаллов с помощью рентгеновых лучей.
— Думать надо постоянно, даже и за кофе, — всегда наставительно заканчивал Иоффе этот рассказ.
В тридцатых годах он надумал устраивать у себя дома такие же «научные чаепития». На одном из них у Абрама Федоровича возникла мысль о полупроводниках. Несколько «чаев» было посвящено странному и загадочному в то время классу веществ. Отсюда и пошла грандиозная работа академика Иоффе и его школы по полупроводникам.
Одним из мощных инструментов воспитания молодых ученых были знаменитые семинары Иоффе. Абрам Федорович придавал им исключительно большое значение и не переставал подчеркивать это.
Мало того, что на семинары приезжали крупные физики из разных городов страны — доложить свои работы и послушать чужие, обменяться мнениями. И иностранные ученые, находясь в СССР, как правило, всегда были гостями и участниками этих собеседований. Датчанин Нильс Бор, французы Поль Ланжевен и Фредерик Жолио-Кюри, англичане Поль Дирак, Джон Бернал, Патрик Блеккет, Вильям Брэгг, немец Макс Борн, Павел Эренфест, который чуть было не стал советским физиком, любимый друг Иоффе, индийцы Мег-Нада Саха и Чандрасекар Раман — вот неполный перечень участвовавших в семинарах крупнейших физиков.
Это, конечно, не просто перечень великих имен. Это прежде всего, показатель высокого уровня научного общения, которое там царило, живое свидетельство всей важности такого общения, коллективного обмена мнениями.
Соминский вспоминает, как нередко проходили эти семинары:
— Какой-нибудь теоретик делает сообщение, посвященное одной из трудных областей современной физики. Постепенно доска покрывается сложнейшими и далеко не всем понятными математическими выкладками, вычислениями, формулами. Одной доски не хватает. Теоретик стирает написанное и покрывает доску следующим набором иероглифов. И так несколько раз. Наконец доклад окончен. Иоффе встает и предлагает присутствующим задавать вопросы. Но большинство сидящих в зале людей ничего не поняло. Только небольшая и сплоченная кучка теоретиков все постигла. Никто не задает вопросов. После тягостной паузы один из теоретиков, обычно молодой, что-то спрашивает. Лицо Иоффе озаряется и, не давая слова докладчику для ответа, он сам начинает говорить. Заданный вопрос для него лишь предлог. Иоффе повторяет содержание доклада от начала до конца. На это у него уходит в четыре раза меньше времени. И поразительное дело! Всем все становится ясно, формулы оживают и приобретают глубокий физический смысл. Бывало и так. После какого-нибудь доклада возникает оживленная дискуссия. Выступающих много. Так же много высказанных соображений, точек зрения, идей, предложений. Но в итоге все запуталось в клубке противоречий, нить очевидности оборвалась и затерялась. Тут встает Иоффе и спокойным, ровным голосом начинает говорить. Его выступление вносит полную ясность в обсуждаемый вопрос, непонятные факты получают свое истолкование, допущенные ошибки исправляются. И все это делается корректно, с большим тактом, без ущемления чьего-либо самолюбия: Иоффе просто, как и все выступавшие до него, излагает свою точку зрения. Он не любит спокойных, мирных, анемичных семинаров, без активного обмена мнениями, без горячих высказываний.
В двадцатые годы, когда кто-нибудь из молодых уезжал на стажировку в европейские университеты, Иоффе мимоходом говорил: «Если вам не хватит денег, которые вам дали, на месте получите еще», — и улыбался. Только спустя много лет ученики его случайно узнали, что это были личные средства Иоффе, деньги, заработанные им за чтение лекций и нарочно оставленные для учебы молодежи.
Когда вышло постановление правительства об ученых степенях и званиях, Иоффе пришлось выдержать целые баталии со своими учениками, которые заявляли, что надо заниматься наукой, а не защищать диссертации. Исаак Константинович Кикоин вспоминает, как Иоффе чуть ли не силой вытащил его из лаборатории и запретил являться туда до тех пор, пока не оформит диссертацию. А потом был оппонентом на защите и так увлекся, что говорил целый час.
Физики — народ насмешливый. Процедуру защиты решили разыграть на сцене. Сочинили остроумный и довольно злой текст, распределили роли. Некоторые опасаясь, что Абрам Федорович может обидеться, пошли к нему и все рассказали.
— Чудесно, я сам буду участвовать в спектакле! — воскликнул он.
Играл он самого себя в роли председателя ученого совета — «главного инквизитора». В дело пошли его мантии — черная оксфордская и малиновая мюнхенская (Иоффе был почетным членом множества иностранных академий и научных обществ).
Иоффе никогда ни на кого не кричал, не наказывал сотрудников, не любил выговоры в приказе. Если кто-нибудь был уж очень виноват, Абрам Федорович вызывал его к себе в кабинет и говорил, не повышая голоса, казалось, малозначащие слова:
— Я не верю, что вы это сделали… Нет, вы не могли так поступить. — Почему-то такие слова действовали сильнее всяких разносов.
Больше всего сердило его небрежное отношение к аппаратуре. Он очень возмущался, если кто-нибудь по халатности пережигал прибор. Вообще он как-то по-особенному любовно относился ко всякому физическому оборудованию. У него в шкафу стояли новенькие приборы, всегда в отличном состоянии.
Абрам Федорович любил, чтобы каждая установка блестела. Если его приглашали посмотреть, как идет эксперимент, а шел он чисто, гладко, то Иоффе сам садился за приборы и радовался, словно ребенок. Но стоило прибору закапризничать, у Абрама Федоровича портилось настроение, он начинал нервничать, непременно доискивался до причины.
Ученики вырастали один за другим. Своим трудом, умом и сердцем создал Иоффе крепкий коллектив молодых ученых. Казалось бы, держи при себе, береги такое насыщенное талантами научное сообщество. Но Иоффе поступает иначе. Прежде всего он озабочен тем, чтобы наука развивалась не только в Москве и Ленинграде, а по всей стране.
Начиналась первая пятилетка, и стало ясно, что промышленность не может существовать без науки. Значит, надо создать в крупных промышленных городах такие же институты, как ленинградский. По инициативе Иоффе возникает сеть физико-технических институтов — в Харькове, Днепропетровске, Томске, Свердловске. В каждый из них отправлялась группа молодых из ленинградского физтеха, которая становилась там центром научной деятельности.
Таким образом из физтеха выделилось более десятка дочерних институтов, а всего Иоффе их организовал шестнадцать. В этом сказалось не только чувство ответственности за судьбу науки в стране, но и щедрость сердца, потому что все-таки нелегко по доброй воле отпускать любимых учеников, людей близких, понимающих тебя с первого слова.
На самом деле было нелегко. Но Иоффе поступал, как мудрый гражданин своей страны и мудрый отец своих детей. Нельзя же, чтобы дети всю жизнь провели под родительским кровом. Он говорил им: собирайтесь в дорогу, живите самостоятельно, сами ищите новые пути, создавайте свою собственную семью.
Отец всегда остается отцом. Организуя институты, Иоффе приезжал в эти города вместе со своими учениками, каждого человека представлял. А потом постоянно следил, как они живут, как работают, навещал их, заботился, чтобы не захирели, чтобы на новом месте их не обижали, не зажимали…
Так уходили любимые ученики. Многие из них становились выдающимися учеными, руководителями институтов, занимали крупные посты. Но связь их с учителем не прекращалась. Абрам Федорович не терял для них своей притягательной силы. Они впитали в себя его методы воспитания, руководства, старались следовать им в своей работе. Получалось, что через учеников Иоффе воспитывал и следующие поколения, с которыми лично не соприкасался. Возникала своеобразная цепная реакция. Росло число его учеников, учеников его учеников… Даже жалко, что не существует геральдики научных школ. Нарисовать бы генеалогическое дерево школы академика Иоффе!
Если подумать, человечество создало не много настоящих научных школ — сильных, со сроками жизни, измеряемыми не одним поколением. Для создания такой школы требуется, наверное, не только талант основателя, но и редкая способность индуцировать талант у других. Способность щедро отзываться на каждое движение чужой мысли и усиливать ее, не подменяя своей. Иная научная школа при жизни своего создателя кажется могучей, чуть ли не вечной. Но вот учитель умирает, и оказывается, что нет ростовых точек, что не возникло цепной реакции.
Школа Иоффе живая, растущая. Это чувствуешь, когда приходишь в институты и лаборатории его учеников, беседуешь с ними…
Портрет Абрама Федоровича Иоффе хочется завершить словами близких учеников его — Андрея Ивановича Ансельма и Владимира Пантелеймоновича Жузе: «Трудно назвать ученого, который столь проницательно предвидел бы пути будущего развития науки, „открыл“ такое количество выдающихся ученых, организовал столько новых институтов, создал такой высокий стиль научного руководства, проявил бы такую настойчивость в осуществлении поставленных перед страной задач и мужество при неудачах».
Доклад в Харуэлле
Об Игоре Васильевиче Курчатове будет написано немало книг — потому что и жизнь и личность этого человека в высшей степени интересны. Здесь хотелось бы рассказать про один эпизод, который был значительным не только для самого Курчатова, а стал поворотным пунктом в развитии целой ветви физики — управляемых термоядерных реакций.
Когда в 1950 году впервые возникла идея создать термоядерный реактор, Курчатов сразу оценил, какие возможности таит в себе новое предложение. Если процесс синтеза легких ядер станет подвластен физикам, человечество получит неограниченный источник энергии.
— Мировая проблема! Огромная! Увлекательная! Проблема человечная, величайшая, — так говорил Курчатов в канун Нового года, в канун второй половины XX века.
Работа началась.
А спустя пять с небольшим лет, 25 апреля 1956 года, в Харуэлле, английском атомном центре, произошло событие, взволновавшее мировую общественность.
Подробности об этом событии мне рассказали сотрудники Курчатова — Евгений Владимирович Пискарев, который ездил с ним в Англию в качестве переводчика, и Игорь Николаевич Головин.
Из Лондона выехали очень рано. День обещал быть солнечным, теплым, но еще повсюду — на газонах, на крышах домов, на ярких, светло-зеленых листьях деревьев и кустов — блестела роса.
Игорь Васильевич взглянул на часы и заметил, что не мешало бы ехать побыстрей. Шофер с готовностью прибавил газ. Спутники Курчатова сидели молча, понимая, как важно ему сейчас сосредоточиться.
Шоссе живописно вилось между селений и маленьких городков. Все утопало в свежей листве. Сплошным зеленым ковром тянулись тщательно ухоженные газоны, кущи деревьев сменяли друг друга, и казалось, что едешь одним, растянувшимся на сотни километров парком.
Сегодня предстояло второе посещение Харуэлла. Три дня назад они приезжали сюда с правительственной делегацией. Их пригласили познакомиться с крупнейшим атомным центром Англии, осмотреть его. И они с интересом осматривали и знакомились.
Харуэллский атомный центр помещается на территории бывшего аэродрома. В годы войны отсюда взлетали самолеты наших тогдашних союзников.
Наука утверждалась тут постепенно. Гостям показали ангары, где сначала размещалась Харуэллская лаборатория. За десять послевоенных лет понастроили множество новых зданий, легких, лаконичной формы, в разумном конструктивистском стиле. Теплый климат, мягкие зимы южной Англии разрешают такое строительство.
Асфальтированные проезды на территории названы именами знаменитых физиков — Беккереля, Резерфорда, Фарадея, Чадвика. И все обсажены цветущими тюльпанами; кругом море цветов. И опять газоны, знаменитые английские газоны. Как почетным гостям, им предложили пройтись по газону — для «простых смертных» он неприкосновенен, это святая святых. Трава была так подстрижена и ухожена, что казалось, будто идешь по мягкой пружинящей резине.
Показали многое: три реактора, электронный линейный ускоритель, генераторы Ван-де-Граафа. Но ничего по термоядерному синтезу; даже словом не обмолвились о нем.
А ведь Курчатов прекрасно знал, что такие работы в Англии ведутся, — газеты изредка, хотя и глухо, упоминали об этом, — и притом именно здесь, в Харуэлле.
Джон Кокрофт, руководитель атомных исследований, неожиданно уехал. Говорили, будто его срочно вызвала дочь в Австралию. А может быть, он, как человек учтивый, придумал наиболее деликатный способ избежать разговоров на эту тему.
— Тонко задумано, — усмехнулся Игорь Васильевич.
Спустя несколько лет, после смерти Курчатова, Кокрофт вспоминал: «В апреле 1956 года произошло знаменательное событие — визит в Англию правительственной делегации СССР, в составе которой был И. В. Курчатов. Я не встречал И. В. Курчатова прежде. На меня произвели большое впечатление его живой ум и страстность разговора о сотрудничестве в области атомной энергии. У нас была очень оживленная дискуссия на ступеньках клуба „Атенеум“, где в своих предложениях И. В. Курчатов шел так далеко, что я не мог ответить взаимностью и не имел никаких представлений о том, как продолжить эту дискуссию. Он предложил прочесть лекцию в Харуэлле, и я согласился договориться об этом».
Курчатов не мог волноваться за исход доклада, доклад был тщательно подготовлен, продуман — и по материалу и по изложению. Но чувствовалось, как с каждой минутой Игорь Васильевич становится сосредоточенней и напряженней. Верно, в нем нарастало ощущение важности события, которое сегодня произойдет, даже какой-то исключительности сегодняшнего дня. Может, он думал о том, что овладение реакцией синтеза не только величайшая научная и техническая, но и величайшая моральная задача физики.
…Да, так это все повернулось. На физиках теперь такая ответственность лежит. Ведь говорят люди, многие говорят: «Если бы эти проклятые физики не выдумали атомной бомбы, насколько спокойнее и легче жилось бы на свете».
Вероятно, не случайно, что как раз те ученые, которые сделали самые фундаментальные открытия, позволившие освободить атомную энергию, наиболее тяжело переживали применение бомбы. Недаром 6 августа 1945 года называли «самым черным днем в жизни Эйнштейна».
Вспомним атмосферу тех дней, самую страшную, жестокую в истории человечества войну, войну с фашизмом.
Деваться было некуда, и тем, кто всю жизнь занимался самой отвлеченной, высокой и чистой наукой, приходилось делать оружие.
Сначала наши физики, подобно Эйнштейну, Сцилларду и другим ученым, бежавшим в Америку от фашизма, боялись, что немцы сделают бомбу. Надо было, сконцентрировав все усилия, во что бы то ни стало их опередить. Потом выяснилось, что в Германии бомбы нет и не будет. Разгром фашизма наступит раньше, чем немцы доведут дело до конца. Можно бы, казалось, вздохнуть спокойно и переключиться на мирную науку, искать пути мирного применения энергии атома. Но известно было, что американцы не прекращают работу над бомбой. И что-то стало меняться в отношении к нашей стране у нашего тогдашнего союзника.
А потом была Хиросима. И Нагасаки. Было подлое, которое даже они, американцы, ничем не смогли оправдать, истребление сотен тысяч людей… И стало ясно, что нам непременно следует довести работу до конца. Поэтому у наших физиков такого разлада со своей совестью не было — не мы сделали первую атомную бомбу и начали гонку вооружений. Советские ученые знали, что в существующих условиях нельзя прекратить работу над ядерным оружием и поставить под угрозу безопасность страны.
Да, они делали и делают эту работу. Серьезно, ответственно. Но как хочется вкладывать силы и в то, что нужно для жизни, для счастья людей.
Создание и совершенствование орудий смерти никогда не может принести истинного удовлетворения, истинной радости настоящему ученому. Оно есть исполнение долга. Самоотверженное исполнение до конца осознанного долга перед своей страной.
В такой ситуации особенно привлекательна и внутренне необходима работа созидания, работа для будущего, для всего человечества. Вот почему Королев столько сил отдавал мирному освоению космоса. Вот почему Курчатов был счастлив, когда появилась идея управляемого термоядерного синтеза, и до конца своих дней всей имевшейся в его распоряжении мощью, всеми средствами поддерживал и развивал эти работы. Он всем сердцем верил в осуществимость грандиозной задачи, в ее благо для человечества. Эта вера была жизненно необходима ему самому, лично ему.
Отныне появилась новая цель для него, ученого, и Курчатов будет идти к ней, увлекая за собой большой коллектив, собрав все свои силы — ведь их осталось уже так мало.
В феврале 1956 года на XX съезде партии Курчатов впервые сказал во всеуслышание:
— Нам, советским ученым, хотелось бы работать над решением этой важнейшей для человечества научной проблемы вместе с учеными всех стран мира, в том числе и с учеными Америки, научные и технические достижения которых мы весьма ценим. Решение этой труднейшей и величественнейшей задачи навсегда сняло бы с человечества заботу о необходимых для его существования на земле запасах энергии.
История науки показывает, что великие открытия чаще всего совершаются или случайно, или на них «набредают» особенно тонкие умы, когда ищут разрешение, казалось бы, неразрешимых противоречий. Нередко эти открытия кажутся неправдоподобными, больше того, неправильными даже самим их авторам.
Так было, когда Беккерель обнаружил радиоактивность.
Так было, когда Хан и Штрассман, бомбардируя ядро урана нейтронами, «раскололи» его.
Но никогда в истории науки не было ничего подобного сознательному всемирному походу на штурм крепости термоядерного синтеза.
Говорят, что секрет атомной бомбы перестал существовать, как только была взорвана первая бомба. Секрет термоядерных реакций перестал существовать, как только были поняты процессы, происходящие в недрах солнца и звезд. Даже правильней будет сказать наоборот: открытие происхождения солнечной энергии стало открытием термоядерных реакций. И еще до того, как была сделана водородная бомба, в конце сороковых годов, перед учеными возник вопрос о создании термоядерного реактора для мирных целей.
Образец, идеал был у всех перед глазами — буквально. Солнце — гигантский реактор — каждый день поднималось над землей.
Цель была ясна, и казалось бы, решение просто.
Нужно создать такие условия, при которых ядра атома водорода, или, лучше, его изотопов — дейтерия и трития, соединяются в ядро гелия. Конечная масса гелия окажется чуть меньше исходной массы, и выделится огромное количество энергии, эквивалентное этому «дефекту массы». Какое — можно сосчитать по формуле Эйнштейна: E = mc2. Например, если заставить прореагировать весь дейтерий, содержащийся в литре воды — а там одно ядро дейтерия на 6 тысяч ядер обычного водорода, — то выделившаяся энергия равнялась бы примерно энергии, получаемой от 400 литров нефти.
Цель ясна. Но как ее достигнуть?
Прежде всего нужна гигантская температура — более сотни миллионов градусов, — недаром эти реакции называются термоядерными. В водородной бомбе такая температура создается при начинающем процесс взрыве составной ее части — атомной бомбы. Меньше миллионных долей секунды длится фантастический подъем температуры, но этого времени достаточно, чтобы начался лавинообразный синтез ядер и выделение энергии.
А возможно ли без взрыва нагреть вещество до такой же степени и удержать его в замкнутом сосуде, изолировать на все то время, пока не произойдет реакция?
В принципе возможно… Но только участники этого дела понимали, какой обширный фронт работ перед ними, только они могли сполна оценить те трудности и преграды, что стоят на пути.
Они понимали, что это задача, решение которой займет многие годы, что нужны коллективные усилия ученых всего мира, обмен идеями, обмен опытом; что надо идти рядом или, может быть, навстречу друг другу. И прежде всего разрушить стену молчания, выступить первыми и показать ученым Запада, что пора вернуться к традициям научного общения.
Истинная наука, та, которая раскрывает секреты природы и ставит их на службу человеку, — такая наука враждебна секретности, и секретность враждебна такой науке.
Подобными мыслями не раз обменивались советские физики-термоядерщики в узком кругу, не раз обсуждали их с бессменным своим руководителем Игорем Васильевичем Курчатовым. Курчатов всегда чутко улавливал веление времени, он был человеком верных решений и энергичных действий. Во время одной из бесед Курчатов предложил обратиться в правительство с просьбой разрешить опубликовать часть наших работ по термоядерным реакциям, чтобы показать мировой научной общественности, что успел сделать Советский Союз, и побудить физиков Запада также раскрыть свои работы на пользу общему делу.
Разрешение было получено.
Курчатов, конечно, совершенно новый тип физика. Не просто организатор науки, но организатор государственной науки, а значит, государственный деятель самого высокого, самого активного класса, притом чрезвычайно влиятельный, который может то, чего не могут другие. Так, в период гонений на генетику именно Курчатов организовал в Институте атомной энергии отдел биофизики — чуть ли не единственный сохранившийся островок генетики.
Был ли в нем заложен такой сильный организаторский дар, была ли всеми его чертами — умом, характером, волей, способностями — предопределена та роль, которую сыграл Курчатов? Ответить на это, вероятно, не легко. Очень часто не характер, или не столько характер человека определяет его жизнь, деятельность, линию поведения, а наоборот, род деятельности формирует его характер.
Так или иначе, но фигура ученого — государственного деятеля могла появиться только в наши дни, она есть знамение второй половины XX века, когда наука, физика, вероятно, в первую очередь, вышла из своих кабинетов и лабораторий и стала активно вершить человеческие дела, судьбы государств и народов.
Ученый и организатор в Курчатове были неразрывны. Организатор «милостью божьей», он обладал талантом находить верные дороги и сплачивать силы для осуществления грандиозных задач. Ближайшие сотрудники называли его флотоводцем — словно компасом, пользовался он своей интуицией, прокладывая пути к новым берегам.
Может быть, ему, который хотел как можно больше успеть сделать за недолгий отпущенный срок, казалось, что эту невероятно сложную задачу удастся решить быстрее. Что трудности окажутся не столь уж непреодолимыми. Может, он чуть-чуть принимал желаемое за существующее.
Он торопился жить и торопился работать.
И верно, сейчас его ум, привыкший мыслить масштабами целой страны, охватывал картину широкого развития исследований, которые должны, раньше или позже, но должны начаться в мире.
…Проехали Оксфорд. Шофер гнал по-прежнему, не сбавляя скорости. Живописные селения кончились. По всей видимости, подъезжали к Харуэллу. Действительно, по обе стороны дороги показались домики сотрудников Харуэллского института — двухэтажные коттеджи, окруженные цветниками. Поселок сотрудников растянулся на несколько километров. Он обрывался полем — ровным, гладким, ничем не засаженным и не застроенным. Это бывший аэродром. Вся огромная его территория в несколько квадратных километров обнесена высокой прозрачной металлической сеткой.
На полном ходу подкатили к воротам. И затормозили перед полицейскими. Тут только поняли, что зря так спешили. Приехали на полчаса раньше срока. Никого из начальства еще не было, распоряжений тоже никаких.
По ту сторону ворот поднялась суматоха, беготня. Задерживать неудобно: Курчатов все-таки академик, член правительственной делегации, известный ученый, гость наконец. И пропустить без разрешения нельзя.
Пока суетились и звонили по всем телефонам, прошли эти полчаса. К проходной подъехало начальство, и все уладилось.
Конференц-зал, в который их повели, расположен в легком, без окон, но с верхним светом здании. Эта особенность харуэллских построек — три, а то и все четыре стены сплошные, без окон, зато крыша стеклянная, — поразила их еще при первом посещении.
Курчатова со спутниками — секретарем и переводчиком — проводили в аудиторию. Глаз радовало совершенство конструкций зала, лаконичность архитектурных форм. Все просто, спокойно, никакой декоративности. И продумано до деталей. Игорь Васильевич заметил плакатик: «Благодарим за то, что вы не курите». Прочел, улыбнулся учтивости англичан и вытащил изо рта папиросу.
Зал, вмещающий человек триста, был переполнен. Гул голосов мгновенно затих при их появлении, и воцарилась атмосфера ожидания.
Еще дома, в Москве, Курчатов собирался прочитать два доклада — о реакторах и о работах по термоядерному синтезу. Но теперь решил иначе. Лучше — только один доклад. И пусть главное место будет уделено главному.
Так и сделал.
Вначале коротко изложил новое об атомных реакторах. А затем сказал, что сообщит о некоторых работах по термоядерным реакциям, ведущихся в Советском Союзе.
После этих слов секретарь положил на стол объемистые пачки докладов и по просьбе Игоря Васильевича роздал их присутствующим. Текст был напечатан на русском и английском языках.
— Среди важнейших проблем современной физики, — начал Курчатов, — особое место по своему значению занимают проблемы энергетического использования термоядерных реакций. Необычайно интересная и вместе с тем очень трудная задача управления термоядерными процессами привлекает в настоящее время внимание физиков всего мира. Как известно, термоядерные реакции могут возникнуть в том случае, если температура вещества настолько велика, что становится заметной вероятность преодоления кулоновского потенциального барьера при тепловых столкновениях атомных ядер. Первыми сведениями о процессах взаимодействия дейтронов физики обязаны великому основателю современного учения об атомном ядре — Эрнесту Резерфорду. В одной из своих последних работ он исследовал ядерные реакции, возникающие при столкновении двух дейтронов. В то время нельзя было и подозревать о том, что обнаруженные им новые факты приблизят перспективы овладения источниками энергии, скрытыми в горячих недрах сияющего над нами солнца и далеких звезд…
Когда Курчатов о чем-нибудь размышлял или говорил, его кипучий темперамент каждый раз по-новому ярко освещал вещи даже известные. Вот и сейчас он говорил с большим подъемом, все чувствуют, что проблема его очень волнует, и это волнение передается аудитории, обостряя ее восприимчивость.
В зале стоит напряженная тишина. Лишь через равные промежутки времени слышен шелест десятков одновременно переворачиваемых страниц. Но кажется, что доклад не читают, что его только слушают. Люди сидят, слегка наклонившись вперед, и такое впечатление, что они стараются не только услышать, но и понять русские слова.
— Рассматривая возможные пути осуществления контролируемых термоядерных реакций большой интенсивности, — продолжал докладчик, — мы обнаруживаем перед собой широкий горизонт различных направлений, по которым можно пойти, пытаясь решить задачу. На одном краю этого горизонта лежат направления, связанные с разработкой метода получения стационарных термоядерных реакций, на другом — путь, основанный на идее мгновенного повышения температуры при импульсном процессе очень малой длительности. Однако при любом выборе направлений исследований мы всегда встречаемся с одним и тем же вопросом: как изолировать плазму, нагретую до очень высокой температуры, от стенок сосуда, в котором она заключена. Другими словами, как удержать в плазме быстрые частицы в течение промежутка времени, достаточного для того, чтобы заметные их количества успели прореагировать друг с другом. Одна из идей — использовать магнитное поле. Впервые на это указали в 1950 году академики Сахаров и Тамм.
Игорь Евгеньевич Тамм рассказывал мне, как все это началось.
В сентябре 1950 года он вернулся из отпуска. Приехал, а ему говорят: «Есть одна идея».
Оказывается, к Андрею Сахарову, его недавнему аспиранту, попало на отзыв изобретение одного военного с Дальнего Востока. Изобретатель предлагал осуществить в лабораторных условиях синтез водорода. Но тем способом, который он предлагал, даже в принципе ничего сделать было нельзя. Плазма никак не изолировалась от стенок сосуда, значит и сколько-нибудь значительный нагрев ее был исключен.
Сахаров стал думать: а как же можно? После напряженных размышлений придумал — только магнитное поле в состоянии надежно изолировать плазму. Электрически заряженная плазма будет «висеть» в магнитном поле, как, по преданию, висел гроб Магомета, — висел в воздухе, ни на что не опираясь, ничего не касаясь.
А потом, чтобы исключить электроды на концах трубы, в которой заключена плазма, чтобы на них не уходило тепло, Сахаров предложил изогнуть трубу в бублик — сделать ее тором. Но в торе магнитное поле становится неоднородным. Частицы плазмы в неоднородном поле начнут «путешествовать», дрейфовать и уходить на стенки — значит, снова нарушится изоляция плазмы. Тогда Сахаров решил поместить по оси тора согнутый в кольцо проводник и пустить по нему ток. Этот продольный ток снимет дрейф плазмы, а сам проводник, опять же под действием внешнего магнитного поля, тоже превратится в «гроб Магомета» — он будет висеть в торе, не касаясь его стенок.
Такова была «одна идея», о которой сотрудники рассказали Тамму. Игорь Евгеньевич подчеркивает, что идея эта принадлежит Сахарову и вообще с удовольствием говорит, какой Сахаров незаурядный, нетривиальный ученый, необычайно изобретательный, необычайно талантливый…
Эта идея о возможности осуществить управляемую термоядерную реакцию очень воодушевила Тамма, и они вдвоем с Сахаровым принялись все считать.
Расчеты были сделаны быстро и показались убедительными. Тогда решили строить экспериментальную модель термоядерного реактора или МТР, как говорили в то время, — магнитного термоядерного реактора.
Игорь Евгеньевич рассказывал, что их даже несколько удивило, как быстро было получено согласие на эту работу, выделены необходимые средства, материалы. Но потом они поняли, что своей предшествующей работой по делению урана завоевали такой авторитет, что им теперь безоговорочно верят. Тогда тоже необыкновенно интенсивно провели расчеты, и в эксперименте все сразу вышло, все подтвердилось. Вот откуда этот неограниченный кредит.
Вскоре Виталий Гинзбург написал две большие работы, где было собрано все, что к тому времени знали о плазме — о «четвертом состоянии вещества», и проделаны расчеты некоторых процессов в плазме. Прочитав эти работы, Курчатов заметил:
— С ясной головой парень. Здорово пишет. Удивительно описывает эти вещи.
Так прошли последние месяцы 1950 года. А в канун пятьдесят первого Курчатов надолго задержался со своим заместителем Головиным в кабинете. Подводили итоги, думали о будущем.
— Возьмемся и за эту работу! — воскликнул Игорь Васильевич. — Завтра Новый год. Начнем новый год не с оружия, а с МТР. Развернем в нашей лаборатории это дело. Готовьте опыты. Придется привлечь большие силы, придется начинать огромную работу. Ведь это мировая проблема! Огромная! Увлекательная!
А потом настала пора длительных, трудных экспериментов. И с каждым днем вылезали все новые и новые сложности, и становилось очевиднее, что все здесь далеко не так просто и ясно, как было с делением урана, что трудностям поистине несть числа, что высокотемпературная плазма такой орешек, к которому и не подступишься. Мало-помалу все причастные к делу физики начинали понимать, что работа предстоит долгая, что для решения проблемы надо мобилизовывать все большие и большие усилия, больше и больше ученых, что решать ее надо «всем миром» — буквально. Если и удастся ее решить, то это под силу только объединившейся мировой науке.
Вот какие мысли привели Курчатова в Харуэлл.
Ознакомив аудиторию с идеями и результатами расчетов Тамма и Сахарова, Курчатов берет мел и начинает чертить на доске схемы движения зарядов в торе.
А потом, после изложения основных теоретических предпосылок, он подробно, с цифрами и фотографиями рассказывает об одном из направлений наших работ — импульсном разряде в плазме.
Доклад окончен.
Игорь Васильевич внимательно обводит глазами крутой амфитеатр рядов.
Не сразу, долго раздумывая, начинают задавать вопросы. Как русские измеряли температуру в плазме? Уверены ли они, что получают правильную величину? Спрашивают явно по существу дела — ведь заметная термоядерная реакция может пойти только при достижении определенной и очень высокой температуры.
Вопросы переводит англичанин, а ответы Курчатова — Евгений Владимирович Пискарев.
Чувствуется, что хозяева разбираются в предмете, но боятся самой постановкой вопроса дать представление Курчатову о своих работах — настолько «обтекаемо», в самой общей форме спрашивают они об интересующих вещах. Узнать хочется многое, но… осторожность прежде всего.
Однако Курчатов моментально вникает в суть вопроса и отвечает без промедлений, точно и полно. Англичане поражены, как свободно и прямо говорит Курчатов, не делая попытки что-либо скрыть…
Когда по возвращении сотрудники спрашивали Игоря Васильевича, как он сумел ответить на все вопросы, рассказать о всех деталях — ведь он сам непосредственно в этих работах участия не принимал, он отшутился:
— А я как Остап Бендер, каждый раз: e2 — e4.
Юмор всегда был ему свойствен, лукавый, но порой и беспощадный, до уничижения.
Курчатов терпеть не мог высоких слов, патетики, сентиментальности. О высоком старался говорить возможно простыми словами. Он любил пародировать штампы, это пародирование даже превращал в свой особый стиль.
— Физкультпривет! — кричал он в трубку, здороваясь со своими сотрудниками. — Ну, что мы сегодня дадим Родине?
Ясно, что физики, даже самые талантливые, не могут выдавать каждый день по открытию — сегодня, и завтра, и послезавтра… Уж кто-кто, а Курчатов отлично понимал это. Но, отворяя дверь в лабораторию, еще с порога вопрошал:
— Открытия есть? — и тон его нередко обманывал некоторых, заставлял их чересчур всерьез относиться к этому постоянно повторяющемуся восклицанию; хотя часто он обращался с таким вопросом именно к тем из сотрудников, от которых открытий и не ждал.
— Ну, отдыхайте, отдыхайте, — кончал он разговор, загрузив собеседника сложной и сверхсрочной работой.
— Ты его «озадачь», непременно «озадачь», — напоминал он, что надо показать задачу теоретику, — пусть попробует разрешить ее.
— Вот человек, не дает мне увлечься! — воскликнул однажды Курчатов полушутя, но не без досады, когда собеседник то и дело прерывал его трезвыми и несколько нудными вопросами и замечаниями.
Но теперь, в Харуэлле, весь он был собран и напряжен как пружина. Конечно, не «e2 — e4» услышала от него аудитория. Он должен был рассказать все, что нужно, но все-таки в чем-то удержаться, не сказать больше, чем нужно. Однако, раз он сюда пришел, раз именно он проявил инициативу — от имени нашей страны, от имени наших физиков, от своего имени, наконец, пришел ради великого дела, он раскроет главные карты, положит их на стол — как положил пачки отпечатанных докладов. И он продолжал быстро и четко отвечать на вопросы.
Это, казалось, уже установившееся течение разговора — сдержанный, полунамеком, вопрос и искрометный, но обстоятельный ответ — вдруг нарушилось. Английский переводчик запутался в физических терминах, и Игорь Васильевич, сразу уловив ошибку, тут же по-английски его поправил. В зале раздался дружный хохот. Сквозь официальность и сдержанность, чопорность даже, прорвались дружеские чувства к этому умному, обаятельному и сильному человеку с лучистыми глазами.
Встреча подходила к концу. Гостей провожают до машины, жмут руки.
Опять они молча едут по ровному асфальту, мимо коттеджей, среди моря тюльпанов. Игорь Васильевич устало откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза. Но скоро выпрямляется и, обернувшись к переводчику, благодарит его за хорошую работу. Потом спрашивает:
— Как получилось?
— Хорошо.
— Мне тоже кажется — ничего получилось… недурненько.
На следующий день они увидели, «как получилось». Что делалось в прессе! «Дейли экспресс» писала, что Курчатов рассказал о таких вещах, которые «считались бы совершенно секретными в Англии и Соединенных Штатах». Другая газета под кричащим заголовком «Трагедия, разыгравшаяся в Харуэлле», с горечью сетовала: русские без стеснения рассказали о том, что у нас держится в секрете, и лишили нас приоритета даже там, где мы могли его иметь.
Одни выступали за сотрудничество с русскими. Другие намекали, что и у англичан есть что открыть и надо снять гриф совершенной секретности с этих работ. Третьи с досадой писали, что выступление Курчатова — не рекламное сообщение, каких было немало в американской печати, а первый серьезный научный доклад о термоядерных работах.
Каждый день они прочитывали все отклики. Курчатова крайне интересовала реакция на доклад. Ведь она говорила о многом.
Лед недоверия, молчания и секретности был сломлен. И никакие силы не могли теперь спаять его вновь.
Правда, ученые Запада долго еще опасались сделать ответный шаг.
Вот что писал американский физик Лэпп:
«Профессор Игорь Курчатов произвел потрясающее впечатление на английских ученых своим докладом о работах, которые ведет Россия с целью освоения термоядерной энергии.
Этот проницательный ученый, человек с пышной, окладистой бородой, сообщил подробности о работах, проводимых в Советском Союзе в области термоядерной энергии, и любезно роздал присутствующим текст своего доклада».
Американцы полагали, что в июле 1956 года на заседании Американского ядерного общества выступит Теллер и рассекретит работы, ведущиеся в США.
Теллер выступил, но не сообщил ничего нового. Он не подозревал, что все присутствующие получили по экземпляру полного текста доклада Курчатова, специально отпечатанного журналом «Ньюклеоникс».
«Слушая Теллера, который сказал значительно меньше, чем Курчатов в Харуэлле, мы испытывали не только разочарование, но и досаду из-за того, что человеку, находящемуся по ту сторону „железного занавеса“, пришлось поведать Западу об управляемой термоядерной реакции», — вспоминает Лэпп.
Затем наша страна сделала еще один шаг для установления научных контактов. На симпозиуме по космической электродинамике, происходившем в Стокгольме в конце августа того же 1956 года, делегаты Советского Союза — Лев Андреевич Арцимович и Игорь Николаевич Головин выступили с новым сообщением о работах по термоядерному синтезу.
Американцы опять промолчали, от англичан услышали только общие сведения.
Но заговор молчания был нарушен.
Ученые Соединенных Штатов и Англии тоже начали публиковать свои работы и летом 1957 года на Венецианской конференции по физике плазмы представили много интересных материалов.
Примером настоящего международного сотрудничества стала Вторая Женевская конференция по мирному использованию атомной энергии. Около пяти тысяч ученых съехались в Женеву к сентябрю 1958 года. В более чем ста докладах физики разных стран раскрыли свои устремления, свои успехи и неудачи на подступах к овладению термоядерной энергией.
Оценивая значение «Второй Женевы», академик Арцимович сказал, что, по его мнению, главный шаг, который был сделан на пути к решению проблемы, заключается в том, что результаты многочисленных исследований стали теперь предметом открытого обсуждения в интернациональном масштабе:
— Проблема термоядерного синтеза требует для своего решения максимальной концентрации интеллектуальных усилий и мобилизации очень значительных материальных средств и сложной техники. Она как бы специально создана для того, чтобы стать предметом тесного сотрудничества ученых и инженеров различных стран.
Концентрация интеллектуальных усилий и мобилизация средств все возрастали, все усиливались. И Игорь Васильевич Курчатов отдавал новому делу свои помыслы и силы. Вероятно, мало что в такой мере воодушевляло его и брало за живое, как этот когда еще могущий быть осуществимым мирный термоядерный синтез. Курчатов постоянно думал о нем — и наедине и вместе с сотрудниками — и говорил о нем с больших трибун.
А рядом шла его деятельная борьба за запрещение ядерного оружия — пусть никогда не найдет применения то, что было создано под его эгидой, то, что ему поневоле пришлось создавать. Пусть это адское оружие запретят и уничтожат во всем мире — вот о чем мечтал Игорь Васильевич Курчатов.
В марте 1958 года Курчатов выступил перед Верховным Советом СССР.
— Наша научная общественность решительно высказалась за запрещение применения атомного оружия. С советскими учеными вместе крупнейшие зарубежные ученые, имеющие мировые имена: датчанин Нильс Бор, француз Жолио-Кюри, американец Полинг, немец Гейзенберг, японец Юкава, англичанин Пауэлл и многие, многие другие… С этой высокой трибуны мы, советские ученые, обращаемся к ученым всего мира с призывом направить и объединить усилия для того, чтобы в кратчайший срок осуществить управляемую термоядерную реакцию и превратить энергию синтеза ядер водорода из оружия разрушения в могучий, живительный источник энергии, несущий благосостояние и радость всем людям на земле!
И за три недели до смерти на сессии Верховного Совета Курчатов снова говорит о том же:
— Совместная работа над увлекательными, сложными и глубокими проблемами современной атомной науки и техники, сулящая радостные перспективы счастливой жизни людей, объединит, как мы надеемся, усилия ученых двух великих стран мира и поможет им найти средства ускорить решение проблемы ядерного вооружения.
Нет, это не были просто высокие слова — всем известно, что Курчатов их не любил. И не были лишь благие пожелания — Курчатов всегда оставался человеком дела. В этом был теперь смысл его жизни. Однажды в кругу ближайших своих сотрудников, вспоминает Игорь Николаевич Головин, он вслух обдумывал план дальнейшей работы, основное содержание деятельности, ведущую проблематику института.
— Главная задача нашего института — получение атомной энергии. Реакторы для получения плутония мы научились делать! Здесь больше нет проблем. Теперь их пусть проектируют конструкторские бюро, а мы будем постепенно освобождаться от забот о них. Силовые реакторы и реакторы для электростанций идут успешно. Еще на много лет они займут важное место в нашем институте. По мере решения этих проблем мы будем передавать их конструкторам. У себя оставим лишь темы проблемные, передовые. Термояд — вот великая проблема. На нее будем переключать все большие силы в институте. Ведь это и есть атомная энергия, которой мы еще не владеем. Антивещество? Нет, это еще далеко. Его время не наступило. На это отвлекаться не будем. Новые задачи — радиобиология, прямое преобразование энергии, плазменные двигатели? Будем обсуждать… Институт не лодка, быстро на новый курс не развернешь. Мы будем медленно, как линкор, не теряя скорости, разворачиваться без спешки, без истерики, но так, чтобы лечь на новый курс, а не кидаться из стороны в сторону.
Пока еще никто не может точно предсказать срока, когда осуществится управляемый термоядерный синтез.
Так случилось, что развязать силы разрушения оказалось гораздо проще, чем обуздать их для созидания.
И никто точно не знает, на каком из направлений, составляющих тот «широкий горизонт», о котором говорил Курчатов, будет успех, хотя одни из них уже зримо обнаруживают свои преимущества перед другими.
Природа хитро и крепко запирает на замки свои секреты. Но все более изощренным становится человеческий разум. И в изучении плазмы за последние годы сделан большой шаг вперед. Физики уже многое узнали, и смелее ставят вопросы, и увереннее ищут и знают, где и что надо искать.
Когда началась по-настоящему серьезная работа во многих лабораториях мира, то обнаружилась масса сложностей — в этой коварной плазменной проблеме не оказалось ничего простого. Все надо было изучать и решать заново. Это были эксперименты совершенно нового стиля, качественно новые, незнакомые, никогда прежде не встречавшиеся. И это отпугнуло многих.
Самое любопытное, что такая ситуация обнаружила себя не сразу, а после нескольких лет работы. Поначалу все выглядело более простым, чем оказалось в действительности. А когда обнаружила, то стали учащаться пессимистические высказывания. «Может быть, — говорили скептики, — эта задача вообще неразрешима, во всяком случае, неразрешима в сколько-нибудь обозримые сроки. Может, только у наших праправнуков достанет сил и умения взяться за нее и довести ее до конца». Так говорили многие ученые, многие физики и даже те, кто сам занимался плазмой.
И тут надо отдать должное тем, кто, несмотря на все трудности, продолжал изучать плазму. После длительных, многотрудных экспериментов и теоретических расчетов они сумели выделить действительную суть проблемы и показать, что задача все-таки разрешима, причем не в такие уж необозримые сроки.
Высказывания о неосуществимости задачи можно было слышать вплоть до последнего времени. Но тщательный анализ огромного теоретического и экспериментального материала показал, что все многочисленные неустойчивости плазмы, препятствующие ее нагреванию до нужной температуры в течение требуемого для термоядерной реакции времени, вовсе не так уж страшны. Они преодолимы.
Сейчас даже стали обдумывать и рассчитывать, каким должен и может быть размер реального термоядерного реактора. И оказалось, что он может быть не таким уж архимудреным, во всяком случае, вполне доступным для современного уровня техники. Это очень важный вывод. Ведь в нем заключен не гадательный, а обоснованный ответ. И ответ этот есть плод огромной работы. Он получен на основе многочисленных исследований во всем мире. И в этом его ценность.
Подтверждением того, что физики сейчас понимают, по каким путям следует дальше двигаться, служит тот факт, что теперь множество типов установок свелось к двум-трем. Это такие типы, в которых устранены основные неустойчивости и которые тем самым получили право на свое дальнейшее развитие и совершенствование.
Сейчас мы понимаем, как верно удалось Курчатову предугадать развитие столь сложной проблемы. Своим удивительным талантом он поставил эту работу на правильные рельсы — рельсы широкого международного сотрудничества. Начальным импульсом такой международной деятельности послужил его доклад в Харуэлле. Ведь только после него наступление на термоядерный синтез из дела отдельных институтов и лабораторий, отдельных стран стало делом общечеловеческим.
Овладение термоядерной энергией для мирных целей станет поистине величайшей технической революцией, такой, каких до сих пор человечество не знало. Люди получат неисчерпаемые ресурсы энергии. Это-то и привлекало так сильно Курчатова к термоядерной проблеме.
Ученые грубо сосчитали, что в 2000-х годах человечество в течение каждого года будет потреблять энергии примерно в десять раз больше, чем было ее потреблено за всю историю со времен Римской империи до наших дней. Откуда взять такие колоссальные запасы?
Потому так важна эта проблема для будущего людей.
…Кржижановский вспоминал, как Ленин однажды сказал ему:
«Надо непременно разработать такие проекты, которые могут служить материальной базой международного сотрудничества и воодушевить все человечество. Мы противопоставим великие созидательные планы черным планам войны. Пусть знают народы, чего можно добиться совместными усилиями в обстановке мира и дружбы».
Слова эти будто специально относятся к грандиозной проблеме управляемых термоядерных реакций. Вот та цель, во имя которой должны объединиться ученые разных стран, жаждущие мира и ненавидящие войну. И главное — чувствующие себя ответственными перед человечеством и за человечество. Вот почему этими словами хочется закончить рассказ о памятном докладе Курчатова.
«Вторая степень понимания»
Разбирая старые университетские конспекты, я обнаружила чужую тетрадь. Толстая, с оторванной обложкой, она почти целиком исписана мелким, очень аккуратным почерком. Первая страница начинается заголовком: «Семинар Л. И. Мандельштама. Дисперсия и абсорбция». Переворачиваю тетрадь и на другом ее конце читаю: «Борн. Оптика, § 82. Раман-эффект». И наконец, в середине написано: «Математические методы теоретической физики. Новая квантовая механика. И. Е. Тамм. 1928–1929 гг.».
Кто этот человек, учившийся на десять лет раньше меня и каким образом его тетрадь оказалась среди моих записей, я никак не могу ни вспомнить, ни сообразить. Но сама тетрадь сразу воскресила памятное, вероятно, всем бывшим студентам физфака МГУ то состояние возбуждения, заинтересованного ожидания, даже какой-то праздничности, которое бывало в дни, когда проводились «семинары Мандельштама».
Вот он входит в Большую физическую аудиторию, как всегда, окруженный людьми, высокий, чуть сутулящийся, с густой щеткой усов, с улыбкой, полной доброты и обаяния. Я сейчас плохо помню, кто и что докладывал на семинарах и что говорил сам Мандельштам, да, наверное, тогда мне, начинающей студентке, многое было непонятно, но это ощущение светлого, праздничного и очень значительного, которое охватывало тебя с появлением Мандельштама, сохранилось на всю жизнь.
Я попросила рассказать о Мандельштаме первых и ближайших его учеников, ныне крупнейших наших физиков, академиков Игоря Евгеньевича Тамма и Михаила Александровича Леонтовича.
— Семинары Мандельштама формально предназначались для студентов старших курсов, — сказал Игорь Евгеньевич, — но ходили на них все физики. Это был центр физической мысли в Москве, духовная пища физиков. Когда задумывали семинар, то наметили лишь круг вопросов и первые доклады, но потом, по ходу дела, реферировалась и новая литература, а также докладывали самостоятельные работы. Начальный импульс всегда давал сам Мандельштам. В тех редких случаях, когда он отсутствовал, студенты говорили: «Чай без сахара». Каждый доклад предварялся его вступительным словом. Он умел выдвинуть основную идею и показать последовательность ее развития. Часто это вступительное слово выглядело экспромтом, потому что Мандельштам говорил без всяких записей и конспектов. И мало кто знал, сколько он тратил энергии и сил на подготовку семинаров, особенно на то, чтобы научить своих аспирантов и молодых сотрудников докладывать четко и ясно, выделяя главное.
— Каждый семинар стоил его руководителю огромного труда, огромной подготовки, — вспоминает и Михаил Александрович Леонтович. — Пока длилась эта подготовка, Мандельштам ничем другим не мог заниматься. И нас привлекал на помощь: просил найти нужную литературу, что-то сосчитать. А когда читал лекции, то это было просто несчастье — к нему и не подойти в эти дни. Доклады на семинарах становились поводом для разговоров — о фундаментальных вопросах физики, о сути явлений, их взаимной связи. В конце 1925 года, когда Мандельштам появился в университете, мы были прямо потрясены уровнем его знаний. Мы были страшно не избалованы тогда. Математику, правда, знали хорошо, а физику, по существу, не знали…
Игорь Евгеньевич Тамм говорит, что сейчас даже трудно представить, на каком низком уровне находилась физика в университете, когда Мандельштам пришел туда. И это было совсем не случайно. Ведь в 1911 году произошел печальной известности разгром университета министром просвещения Кассо. Место покинувших его выдающихся ученых заняли угодливые посредственности. Для уровня преподавания последующих лет характерен такой эпизод. В аудитории появляется профессор Станкевич (который, кстати, начал свою карьеру руссификатором Варшавского университета), садится в кресло и заявляет:
— Мы переходим к одиннадцатой главе нашего курса. Это теория Максвелла, которая настолько сложна, что лекционному изложению не поддается. Вы можете с ней познакомиться по моему литографированному курсу, а его приобретите у швейцара Андрея. Переходим к главе двенадцатой.
На пятом курсе теорию электричества читал профессор Бачинский. На экзамене Тамм вытащил билет № 13: электромагнитные волны. Бачинский предупредил:
— Вопрос этот необязательный, вы можете отказаться.
Тамм стал отвечать, написал вектор Пойнтинга.
— Что это такое? Что в скобках?
— Векторное произведение.
— Откуда вы знаете это? Ведь этого нет в наших учебниках.
— Читал по-немецки, у Абрагама.
— Дайте зачетную книжку. Пять!
К 1925 году все оставалось почти на том же уровне. Университетская физика никак не могла оправиться после того, как царская реакция переломила ей хребет. В такую пору в МГУ пришел Мандельштам. С его появлением жизнь факультета сразу начала меняться, появилось в ней что-то свежее, живое.
Вероятно, студенты и аспиранты не стали бы так поражаться эрудиции нового профессора, богатству мыслей, широте подхода, будь им известно его научное прошлое.
Мандельштам явился в Московский университет вполне сложившимся ученым, с немалым числом первоклассных работ. Научная его деятельность началась в Страсбурге, в знаменитом Физическом институте, еще полностью сохранившем традиции великого экспериментаторского искусства своего основателя Августа Кундта. Школу Кундта прошли Лебедев и Рентген — экспериментаторы высшего класса.
Мандельштам приехал в Страсбург в 1899 году, после того как был исключен из Новороссийского университета (так назывался университет в Одессе) за участие в студенческих выступлениях. Двадцатилетний студент не ограничил себя занятиями в университете, скоро он начал вести и научные исследования. Первым заинтересовавшим его вопросом была лишь недавно родившаяся радиотелеграфия и связанные с ней электрические колебания. Возникшую в те годы любовь к радиофизике и теории колебаний Мандельштам пронес через всю жизнь.
По окончании университета молодой ученый остался в Страсбурге уже в качестве преподавателя и, как теперь говорят, научного сотрудника. О всем страсбургском периоде жизни Мандельштама есть свидетельство академика Папалекси. Николай Дмитриевич Папалекси, так же как и Мандельштам, проработал в этом городе почти полтора десятилетия. Дружба обоих ученых началась со студенческих времен и продолжалась до конца жизни. И не только дружба, но и постоянная совместная работа. «Радиодорога» творчества Мандельштама, если так можно сказать, пройдена им рука об руку с Папалекси — от начала нынешнего века и до сороковых годов.
Папалекси рассказывает, что уже тогда, с самых первых шагов в науке и преподавании, Мандельштам сумел завоевать репутацию вдумчивого, глубоко мыслящего ученого и талантливого лектора. С большим уважением относились к нему старшие по возрасту и положению профессора. На лекции, которые он читал, ходила вся профессорская элита, а учитель его, Фердинанд Браун, не только регулярно слушал их, но и подробно, как студент, записывал.
Страсбург был постоянным местом встреч физиков разных стран. По старой памяти навещал свою alma mater Петр Николаевич Лебедев во время поездок в горы. Вместе с ним бывал и друг его Эйхенвальд. Подолгу работал там Лазарев. Все они с удовольствием общались с Мандельштамом, стремились обсудить с ним интересовавшие их вопросы. Весной 1913 года, когда появились первые работы Эйнштейна по общей теории относительности, в Страсбург специально для беседы с Мандельштамом приехал Эренфест. Приезжал к нему и знаменитый немецкий физик Макс Лауэ, тот, кто впервые получил дифракцию рентгеновых лучей, наблюдая их рассеяние на кристалле.
Летом 1914 года все говорило о надвигающемся бедствии. Мандельштам распрощался со Страсбургом и выехал в Россию. На землю Одессы он вступил точно в день объявления войны.
Годы мировой войны и первые годы после революции для многих были временем частой и вынужденной перемены мест без всякой к тому охоты. Такой участи не избежал и Леонид Исаакович. Одесса, Петроград, Тифлис, снова Одесса. Здесь, в тяжелейших условиях гражданской войны, интервенции, Мандельштам деятельно участвует в создании Политехнического института, а потом заведует в нем кафедрой физики, читает лекции, организует лаборатории и физический практикум.
Помимо преподавания, Мандельштам продолжал заниматься и наукой, в частности теоретическим исследованием рассеяния света, — для экспериментальной работы никаких условий не было.
После занятий «чистой физикой» Мандельштам делает поворот к радио. Сначала в Москве, а потом в Ленинграде он совместно с Папалекси разрабатывает целый ряд вопросов радиофизики и радиотехники. Но Николай Дмитриевич вспоминает, как не хватало Мандельштаму чисто физических исследований и как скучал он без студентов, без общения с ними, без аудитории и лекций. Поэтому, когда Московский университет предложил ему заведовать кафедрой теоретической физики, он с радостью принял это предложение.
Надо сказать, что старая профессура встретила «чужака» в штыки. Так, видимо, бывает не редко. Ретрограды изо всех сил цепляются за свои позиции и должности, и новое враждебно им уже по одному тому, что оно новое и передовое. От глухого сопротивления до издевательств и ярлыков — все было пущено в ход. Зато молодежь — студенты и аспиранты — сразу полюбила нового профессора и стояла за него горой.
С приходом Мандельштама физика в МГУ начала возрождаться, и скоро школа московских физиков стала одной из ведущих в стране.
— Конечно, школы могут быть разного типа, — размышляет Игорь Евгеньевич Тамм. — Бывает, ученый соберет вокруг себя молодежь и заинтересовывает ее своими работами. А Мандельштам давал глубочайшие фундаментальные идеи.
«В первый московский период научной деятельности Леонида Исааковича возникла замечательная школа физиков, замечательная не только и не столько своим прекрасным знанием физики, искусным владением аппаратом современной теории и умением его конкретного применения, как уменьем физически логически мыслить, правильно ставить задачу и отделять в ней существенное от несущественного, продумывать ее глубоко и до конца. Эта школа завоевала международное признание как в области нелинейных колебаний, так и рассеяния света…» — этими словами обрывается рассказ о Мандельштаме Николая Дмитриевича Папалекси, скоропостижно скончавшегося в феврале 1947 года.
Академик Александр Александрович Андронов вспоминал, какой дух царил в их коллективе, каким был стиль отношений:
«Вокруг Л. И. Мандельштама существовала атмосфера подлинной научной школы. Во-первых, он любил учить — в самом прямом значении этого слова — молодых физиков, любил задавать и растолковывать им разные трудные и коварные задачи, разные „парадоксы“. Во-вторых, он непрерывно делился с сотрудниками и учениками своими соображениями и планами будущих работ, ставя перед ними вопросы, из которых вырастали научные исследования. Он был готов незаметным и деликатным образом отказаться от авторства в пользу своего ученика или сотрудника и умел придать его работе известный блеск и остроту, переакцентировав две-три формулировки и указав на новые следствия. Одновременно он никогда не забывал отмечать, если его ученик делал что-нибудь существенное самостоятельно.
Если пользоваться известной терминологией Оствальда, Мандельштам одновременно и классик — по образцовой ясности и законченности опубликованных им работ, по строгости и точности рассуждений, и романтик — по стремлению делиться своими идеями и догадками, по любви к преподаванию, по силе своего живого слова, способного вызвать напряженное внимание и радостное возбуждение аудитории».
Именно «глубочайшие фундаментальнейшие идеи» нащупывал Мандельштам в любой области физики, которой он занимался. Особенность его мышления и творчества состояла в том, что он не увлекался математическим анализом явления, а прежде всего старался выяснить принципиальную сторону, проникнуть в самую его суть, найти его связь с другими физическими явлениями. Он очень хорошо владел общими теоретическими представлениями, и всегда поражало, как он, оперируя наглядными простыми моделями, умел объяснить самые сложные процессы и закономерности.
По словам Андронова, «Мандельштам ощущал все точное естествознание, включая математику и технику, как единое развивающееся целое и хотел каждую новую вещь, будь то квантовая механика или теория нелинейных колебаний, понять и усвоить прочно, как необходимую составную часть всей физики, всего точного естествознания.
В наше время резкого деления физиков на теоретиков и экспериментаторов, на „чистых“ физиков и „технических“ физиков Мандельштам был одновременно и теоретиком, и экспериментатором, и „чистым“ физиком, и „техническим“ физиком.
В беседе с каждым своим учеником или сотрудником Леонид Исаакович имел свой особый разговор. Этот разговор был специфичен, он отвечал научным интересам ученика или сотрудника. Каждому из собеседников казалось, что Мандельштам особенно внимательно следит как раз за тем кругом вопросов, которые интересуют именно его. Но это была грубейшая аберрация, эгоцентрическая ошибка. Он точно так же беседовал и с другими людьми по вопросам разнородных направлений. В громадном здании физической науки для него не было запретных комнат».
Когда Леонтович был еще аспирантом, он услышал однажды от Мандельштама странный вопрос:
— Вы это действительно понимаете? Это у вас первая степень понимания или вторая?
Оказалось, Леонид Исаакович любил задавать такой вопрос. В одной из лекций он объяснил, какое содержание вкладывает в эти термины: «Есть две степени понимания. Первая, когда вы изучили какой-нибудь вопрос и как будто знаете все, что нужно, но вы еще не можете самостоятельно ответить на новый вопрос, относящийся к изучаемой области. И вторая степень понимания, когда появляется общая картина, ясное понимание всех связей».
Для Мандельштама очень важно было воспитать в своих учениках способность такого подхода к физическим вопросам. Поэтому ни на лекциях, ни в беседах он никогда не обходил и не затушевывал трудностей. Наоборот, всегда их подчеркивал — делал их «выпуклыми», как он любил говорить, — и уже после этого с ними расправлялся, устранял их без остатка силой своей изощренной и прозрачной мысли. Лекции Мандельштама были яркой и откровенной демонстрацией самого процесса физического мышления. В них видно было, как физик спотыкается о трудности, как на его пути накапливаются парадоксы и противоречия и как ему удается — иногда ценой умственного подвига, отказа от самых укоренившихся в человеческом мышлении привычек — высвободиться из противоречий и подняться на недоступную ранее высоту, откуда открываются новые горизонты. Ни одна деталь в лекциях не была пресной, безжизненной, в каждом вопросе Мандельштам умел находить и доводить до аудитории какую-то особую остроту и прелесть. Он не только принуждал посредством безупречной логики соглашаться со своими утверждениями, но старался — и умел — найти общий язык со слушателями, убедить их «изнутри», устраняя те трудноформулируемые психологические протесты, которые так часто в физике мешают пониманию. Все это вместе взятое создавало какую-то необыкновенную эмоциональную насыщенность, благодаря которой все услышанное от Мандельштама доходило до самых глубин сознания.
Об этом же говорил и Андронов:
— У Мандельштама и в научной работе и в преподавании было стремление устранять даже не совсем отчетливо сознаваемые трудности умозаключений, те психологические препятствия, которые часто мешают нам полностью принять те или другие выводы, как бы ни была неумолима логика, приводящая к этим выводам. Он умел в этих случаях быстро понять, что именно затрудняет его собеседника («А что вас шокирует в этом рассуждении?» — обычный для него в таких случаях вопрос), а поняв, двумя-тремя фразами «снять» все трудности. Точно так же он всегда знал, какие выводы будут шокировать аудиторию, и заранее в соответствии с этим строил аргументацию.
Многие, даже очень хорошие физики, часто так и не достигают «второй степени понимания», у них не возникает даже потребности так мыслить, заметил Михаил Александрович Леонтович.
В одной из последних лекций Мандельштама было интересное рассуждение о частном и общем в науке. Художник-специалист, сказал он, изучает на картине, как надо класть краски, как работать кистью. Но для того чтобы получить общее впечатление, надо отойти от картины. Детали при этом теряются, но зато приобретается нечто другое. Мы видим, как входят понятия в мировоззрение физика.
Самого Мандельштама отличало и великолепное знание деталей, «владение кистью», и удивительная способность обобщать, вводить новые понятия, формировать научное мировоззрение.
Он был ученым на редкость широкого профиля — «в громадном здании физической науки для него не существовало запретных комнат». Эти слова Андронова хороши не только образностью, но и точностью. Как ему удалось получить ключи от всех этих комнат?
Во-первых, он хорошо знал всю физику. И не просто знал — явления, факты, теории, но глубоко их продумывал, анализировал, каждый раз докапываясь до корней, до их сущности, находя аналогии там, где они, на первый взгляд, отсутствовали. Таким образом, фрагменты отдельных явлений вписывались у него в единую картину физического мира. Обычно по каждому вопросу у него было или уже сложившееся мнение — результат тщательного анализа и размышлений, — или он отчетливо представлял, что мешает сложиться определенному отношению, в чем есть неясность, недоработки, в каком направлении следует «рыть». А если вопрос был еще очень далек от разрешения, если трудности подхода, теоретические и экспериментальные, были пока непреодолимы, то и в этом он давал себе полный отчет и умел ценить степень затруднений.
Во-вторых, он любил математику и свободно владел математическим аппаратом, а это есть необходимое качество физика-теоретика. Вместе с тем ему всегда был свойствен глубокий интерес к общим вопросам структуры науки, научного мышления и познания. Поэтому его теоретические работы часто относились к узловым проблемам физики. Но и техника физического эксперимента давалась ему легко. И в технических приложениях физики — касалось ли дело радиотехники, электричества, оптики, ультразвука — он чувствовал себя как дома.
Действительно, все «комнаты» открывались перед ним. Но были среди них особенно привлекавшие его, к которым он постоянно возвращался. Примером такой постоянной привязанности было рассеяние света — процесс, в котором наиболее ярко проявляется взаимодействие света и вещества.
Когда на пути световых лучей оказывается какая-нибудь среда — газ, жидкость или твердое тело, — происходит контакт света с этой средой. В результате свет претерпевает изменения. Какие — это уже зависит от характера взаимодействия, от того, какие «струны» вещества сумело задеть направленное на него излучение. Если лучи света после их общения с веществом уметь разумно допросить, то ответы дадут немалую информацию о характере структуры среды, о том состоянии, в котором она находится как единое целое, и о состоянии и поведении составляющих ее атомов и молекул.
Таким образом, рассеяние света веществом есть ключ к раскрытию множества физических процессов. Мандельштам это понял еще в ранний страсбургский период своей деятельности. Ключ этот он всегда, всю жизнь носил с собой. Большинство его главных открытий связано с рассеянием света.
Издавна людей занимал вопрос: почему небо голубого цвета, хотя та же воздушная среда на близком расстоянии бесцветна и прозрачна? И почему солнце, находясь в зените, бледно-желтое, совсем светлое, а на восходе и закате становится красноватым, иногда даже багровым?
Эти долго остававшиеся загадочными явления лишь в семидесятых годах прошлого века объяснил выдающийся английский физик Джон Уильям Рэлей. Причина всех их — рассеяние солнечных лучей находящимися в движении молекулами воздуха.
Короткие световые волны — синие и фиолетовые — рассеиваются гораздо сильнее, чем длинные — желтые и красные. Поэтому в земной атмосфере преобладает коротковолновое сине-голубое рассеянное излучение. На восходе и закате, когда прямой свет солнца должен пройти большую толщу воздуха, прежде чем дойдет до нас, короткие волны почти целиком успевают рассеяться, и нам в глаза попадает свет с резким преобладанием длинных, красных волн.
Заслуга Рэлея была не только в объяснении этого феномена. Важно, что, строя свою теорию, он подчеркивал — причина рассеяния лежит в реальном существовании молекул, свет рассеивают движущиеся молекулы воздуха. Не только тогда, в конце XIX века, но даже и в начале нынешнего спор о реальности молекул не был еще завершен.
Вероятно, мало кто из физиков был настолько близок по духу Мандельштаму, как Рэлей. «Изумительная разносторонность этого ученого, глубина анализа, несравненное умение выделить существенную сторону вопроса, наглядно и выпукло показать его физическую сущность, дать теорию, пользуясь простейшим, но вполне адекватным аппаратом, — все эти качества творений Рэлея отвечали стремлениям и способностям ума Леонида Исааковича и вызывали в нем особый резонанс, были ему конгениальны. И действительно, в характере ума Мандельштама было много общего с Рэлеем, и не случайно, что пути их научного творчества часто шли параллельно и неоднократно перекрещивались», — свидетельствовал Николай Дмитриевич Папалекси.
При всем том именно Мандельштаму выпало доказать ошибочность (сам он предпочитал говорить «недостаточность») объяснения Рэлеем рассеяния света в атмосфере.
Процесс этот действительно происходит благодаря движению молекул воздуха. Но просто одно их беспорядочное тепловое движение, при котором среда, в данном случае воздух, остается, как полагал Рэлей, оптически однородной, не может вызвать рассеяния. Свет будет проходить через такую среду нерассеянным, неизмененным. Для рассеяния обязательно должна быть нарушена оптическая однородность среды, должна появиться мутность.
Что значит «оптическая однородность»? Оптически однородную среду можно разбить на достаточно малые пространственные области, размеры которых малы по сравнению с длиной световой волны; и каждая из таких областей будет содержать равное количество частиц. Равное число частиц в таких малых областях и есть определение однородности.
А что такое «мутность» среды? Это есть способность рассеивать свет. Рэлей полагал, что оптически однородная среда становится мутной благодаря движению молекул. Мандельштам это утверждение оспорил: «Мы приходим к выводу, что оптически однородная среда не может являться мутной, независимо от того, движутся частицы или нет. Мне кажется недопустимым приложение рэлеевской теории мутных сред к атмосфере». «Если среда оптически неоднородна, то падающий свет будет рассеиваться и в стороны. В этом случае среда является мутной».
Свой вывод, подкрепленный теоретическими расчетами и собственными экспериментами, Мандельштам изложил в 1907 году в профессорской диссертации «Об оптически однородных и мутных средах» — первой его работе по рассеянию света. В том же году он ищет и причину рассеяния, возможные нарушения однородности: «Газы в обычных условиях (атмосферное давление) должны рассматриваться как оптически однородные тела. Но тогда… нельзя ожидать никакого молекулярного рассеяния света в газах. Тем самым оказывается недопустимым сводить голубой цвет неба к рассеянию солнечного света самими молекулами воздуха… Скорее в атмосфере взвешены посторонние частички, и эти частички делают ее оптически неоднородной средой».
В диссертации Мандельштам полемизирует и с Максом Планком относительно природы явлений, наблюдаемых при прохождении света сквозь вещество. Эта довольно продолжительная дискуссия доказала правоту Мандельштама, его более точное и тонкое понимание физических процессов.
С такой смелостью и независимостью в научной позиции, в отстаивании своей точки зрения вопреки самым высоким авторитетам любопытно сочетались некоторые черты характера Мандельштама. Так, он всегда очень волновался и робел, когда надо было сдавать экзамены. При окончании университета для получения степени доктора требовалось не только представить диссертацию, но и сдать необходимые экзамены. Мандельштам так страшно волновался, что из Швейцарии в Страсбург специально приехал его дядя, биолог, пришел в университет и просто втолкнул племянника в зал, где шли экзамены. Этот зал Мандельштам покинул уже доктором «с высшим отличием».
Вопрос об истинных причинах молекулярного (его еще называют классическим, или рэлеевским) рассеяния света получил свое разрешение в течение нескольких последующих лет трудами Эйнштейна, выдающегося польского физика Мариана Смолуховского и Мандельштама. Когда была решена одна из великих проблем физики, когда победила молекулярно-кинетическая теория, тогда была найдена и истинная причина рассеяния.
Вывод Мандельштама был подтвержден — мутной, способной рассеивать свет может быть только оптически неоднородная среда. Но причина неоднородности — не посторонние частицы, или не только они, а постоянное возникновение и рассасывание в воздухе флуктуаций плотности, то есть хаотических, малых и неустойчивых отклонений от средней плотности, еле заметных сгущений и разрежений атмосферы. Изменения плотности влекут за собой столь же малые изменения показателя преломления, а раз меняется показатель преломления, то происходит и различное отклонение лучей, другими словами — их рассеяние.
В большой работе, опубликованной в 1913 году, Мандельштам с этих позиций рассмотрел рассеяние света уже не в газообразной среде, а при отражении его от поверхности жидкости.
Естествен был для него и следующий шаг — объяснить и рассчитать, как происходит рассеяние света при его взаимодействии с твердыми телами, в частности с кристаллами, имеющими ярко выраженную пространственную структуру — кристаллическую решетку. Для этого Мандельштам воспользовался теорией выдающегося немецкого физика Дебая, который рассматривал тепловые колебания атомов кристалла как некую совокупность акустических волн. Действительно, если тепловое движение в газах хаотично, то в твердом теле, где атомы известным образом связаны между собой, тепловые колебания тоже взаимосвязаны, упорядочены. Поэтому их и можно изобразить в виде волн. Не составляет большого труда мысленно представить себе эти волны — сгущения плотности в одних точках пространства и разрежения в других.
Однако, как отмечает Мандельштам, не только в газах и жидкостях, но и в твердых телах должны быть флуктуации плотности, значит надо рассматривать не только сгущения и разрежения в пространстве, но и какие-то изменения их во времени. Правда, в отличие от газов опять-таки из-за взаимосвязи атомов решетки эти изменения во времени тоже становятся упорядоченными, определенными для данного вещества, для данного типа кристаллической решетки.
Мандельштам всегда считал, что различные науки должны помогать друг другу своими идеями, методами и представлениями, и умел привлекать их к такой взаимопомощи. Теперь он призвал на помощь оптике радиофизику. Всем известно, что передача по радио речи, музыки стала возможна благодаря модуляции электромагнитных колебаний звуковыми. Другими словами, изменение электромагнитных волн во времени, совершающееся с частотой звуковых колебаний, и позволяет передавать звуки в пространстве — они как бы «приезжают» к радиослушателям на электромагнитной волне. Аналогичным образом рассеянный кристаллом свет модулируется добавочными колебаниями дебаевских акустических волн во времени. Значит, длина волны рассеянного света должна слегка изменяться — слегка, потому что частота акустических волн значительно ниже частоты световых волн.
Итак, рассеянный свет, помимо своих основных длин волн и соответствующих им основных линий в спектре, должен иметь еще и модулированные волны и им соответствующие спутники основных линий в спектре. Спутники должны быть расположены очень близко к основной линии и крайне слабы по интенсивности из-за малой величины флуктуаций по сравнению с основными колебаниями.
Эти идеи Мандельштам начал развивать теоретически с 1918 года, а опубликовал их через шесть лет. За это время некоторые из его результатов получил и французский физик Леон Бриллюэн, почему этот вид рассеяния называют эффектом Мандельштама-Бриллюэна. Мандельштаму очень хотелось экспериментально проверить свои предположения. Такая возможность представилась ему, наконец, когда он стал работать в Московском университете.
Вместе с Григорием Самуиловичем Ландсбергом он поставил опыты по рассеянию в кристалле кварца света от ртутной лампы.
При всем искусстве экспериментаторов им не удалось обнаружить столь малого расщепления. Но они открыли другой эффект: по обе стороны от основной линии, всегда присутствующей в спектре рассеяния кварца, но на гораздо больших расстояниях, чем ожидалось, находились слабые линии — спутники, или «сателлиты», как бы отщепленные от этой основной линии и симметрично расположенные относительно нее. «Сателлиты» оказались крайне устойчивыми, разница между частотами спутников и частотой основной линии была неизменной и не зависела от частоты основной линии.
Ученые сразу осознали важность открытого явления и стали его тщательно исследовать. Сомнений не оставалось. Обнаруженные ими линии могли быть тоже только результатом модуляции рассеиваемого света. Но какой?
После размышлений и расчетов Мандельштам нашел единственно возможное объяснение.
В кристалле совершаются колебания различных типов. С одними — дебаевскими акустическими волнами, отражающими колебания кристалла как единого целого, — мы уже познакомились. Но колеблются также отдельные атомы кристаллической решетки или комплексы атомов. Впервые такой процесс рассчитал Макс Борн. Борновские колебания тоже будут модулировать волны рассеиваемого света. И так как частота таких колебаний больше, чем дебаевских, то и спутники в спектре должны отстоять дальше от основной линии, чем те, которые первоначально рассчитал и пытался найти Мандельштам.
Итак, оба вида расщепления линий: и то, которое искали сначала, и то, которое обнаружили теперь, представляют собой две стороны, или две ветви, одного и того же процесса — колебаний кристаллической решетки. Колебания ее как целого есть дебаевские волны с относительно малой частотой колебаний; от колебаний отдельных ее частиц возникают борновские колебания.
Частота последних значительно выше, она соответствует инфракрасному участку спектра.
Мандельштам писал:
«При изучении молекулярного рассеяния света в твердых телах… нами было открыто явление, представляющее значительный теоретический интерес. Явление это заключается в изменении длины волны рассеянного света, однако значительно большем, имеющем иной характер и иное происхождение, чем то, которое мы искали.
…совершенно неожиданно обнаружилось, что все линии ртути сопровождаются спутниками, расположение которых вполне закономерно повторяется вблизи каждой линии.
…вся система спутников приходится в точности на одних и тех же местах: спектры полностью совпадают при наложении.
Одно из возможных толкований могло бы быть следующим. При рассеянии света могут возбуждаться собственные инфракрасные колебания кварца за счет энергии рассеиваемого кванта. При этом энергия, а следовательно, и частота рассеиваемого кванта должна уменьшаться на величину инфракрасного кванта, соответствующего собственным колебаниям кристалла».
Чтобы яснее представить себе физическое содержание явления, переведем наш разговор на язык спектров.
Большинство процессов во вселенной связано с изменением энергетических состояний. Энергия может рассеиваться, поглощаться, выделяться, менять форму. Например, при нагревании кристалла атомы его начинают возбуждаться, их электроны переходят на более высокие энергетические уровни. Как это происходит? Атом поглощает порцию энергии — квант определенной частоты, — и эта «пища» позволяет одному из валентных электронов «подняться» на более высокую орбиту. Этот и другие энергетические процессы находят вполне зримое воплощение в картине спектра. Если снять только что описанный спектр возбуждения атома, то на фотопластинке в строго определенном месте появится черная линия — характерная для данного вещества «линия поглощения». Это значит, что для наблюдаемого нами возбуждения атомов этого вещества поглощается световой квант данной, строго фиксированной энергии, то есть строго фиксированной частоты.
Бывает и обратный процесс, когда атом из возбужденного состояния переходит в нормальное. Тогда энергия, опять же в виде световых квантов определенной частоты, освобождается, и теперь уже в «спектрах излучения» появляется яркая линия, снова характерная для этого вещества.
Свет может не только полностью поглощаться веществом или излучаться, но, как мы знаем, и рассеиваться им. Поэтому и обнаруженное Мандельштамом рассеяние обсудим тоже на языке спектров.
Самая грубая схема явления будет выглядеть так. Существуют три возможности. Первая — падающий свет испытывает рассеяние, но не изменяет при этом своей частоты. Тогда в спектре появляется основная линия. Вторая — световой квант взаимодействует с атомом кристаллической решетки, находящимся в нормальном состоянии. При таком взаимодействии квант отдаст часть своей энергии, возбудит одно из возможных, присущих данному веществу колебаний, то есть переведет его на один из более высоких энергетических уровней, а сам рассеется уже новым квантом с меньшей энергией, и, соответственно, с меньшей частотой. Уменьшение частоты может быть различным, но ни в коем случае не произвольным. Всякий раз величина его равняется одному из значений, характерных для данного вида вещества. Но так как каждому веществу присущ свой ряд энергетических уровней, то в спектре рассеяния появится набор спутников с разными частотами.
Наконец, возможен и обратный, третий процесс. При соударении кванта с возбужденным атомом последний переходит в нормальное состояние. Тогда его избыточная энергия передается свету, и частота рассеянного кванта увеличивается — опять на величину, строго определенную, характерную для облучаемого вещества, атом которого поделился своим точно отмеренным ему избытком энергии.
Так как частоты спутников всегда представляют комбинацию (сумму или разность) частот падающего света и собственных частот облучаемого вещества, то явление это Мандельштам назвал «комбинационным рассеянием света».
Он сразу же дал верное истолкование вновь открытому виду рассеяния. И предугадал его роль в исследовании многих процессов, происходящих в веществе.
— Здесь пахнет Нобелевской премией, — обронил он в одном разговоре.
Тем не менее он не поторопился опубликовать такое открытие.
Всю жизнь Мандельштам руководствовался правилом: выпускать работы в свет только тогда, когда все тщательнейшим образом проверено и промерено. Так было и с комбинационным рассеянием. Уже давно и устойчиво получалось, что разница частот постоянна, а Леонид Исаакович продолжал еще и еще ставить проверочные опыты. Окружающим казалось, что такая чрезмерная требовательность к своим работам, такое преувеличенное чувство ответственности носят даже несколько нездоровый характер.
Когда после смерти Мандельштама ученики разбирали его бумаги, то нашли массу неопубликованных работ — целиком написанных статей с точными решениями и выводами. Вероятно, Мандельштам полагал, что там что-то не доведено до конца, что-то можно еще улучшить… Недаром его работы были эталоном строгости и законченности.
Наконец после всех проверок и расчетов статья Мандельштама и Ландсберга была послана в немецкий журнал «Натурвиссеншафтен» и в «Журнал Русского физико-химического общества». Спустя некоторое время авторы получили из Германии свою статью, им вернули ее с просьбой сократить. Они выполнили просьбу, и работа была опубликована в мае 1928 года. Вслед за тем их статья появилась и в русском журнале.
Тем временем индийские физики Раман и Кришнан, изучая рассеяние света в жидкостях, обнаружили тот же эффект. Едва получив первые результаты, Раман послал каблограмму в Лондон. И за десять дней до выхода «Натурвиссеншафтен» в английском журнале «Нейчур» появилась заметка Рамана. В ней не было ни теории, ни количественных расчетов, и первая интерпретация, данная Раманом эффекту, который благодаря случаю и несправедливости носит его имя, была совершенно неверной.
В 1930 году Раману присудили Нобелевскую премию. Сыграли ли тут роль политические причины — ведь советским ученым в течение многих лет не присуждали Нобелевских премий — или какие-нибудь еще, но так или иначе премию получил один Раман.
В мировой литературе с тех пор живут термины: раманэффект, раманспектры… Может, так короче и удобнее — «спектры комбинационного рассеяния» звучит длинно и громоздко. Но все отмечают, что явление одновременно и независимо было открыто советскими физиками Мандельштамом и Ландсбергом. Решение Нобелевского комитета навсегда останется актом несправедливости. Едва наша наука стала на ноги и поднялась на первые ступени, как сумела сделать очень важное открытие. И конечно, следовало бы его оценить по заслугам. Дискриминация всегда отвратительна, в науке она нетерпима.
Раман неоднократно приезжал в Советский Союз и бывал во многих институтах и лабораториях, в том числе и у академика Мандельштама. Очутившись там, он темпераментно воскликнул:
— Я счастлив, что нахожусь в лаборатории, где открыт раманэффект.
По-видимому, ему не показалось странным, как прозвучала эта фраза. Или он обладал чувством юмора…
Сам Мандельштам предпочитал не обсуждать этот казус, он был выше того, чтобы сокрушаться о проявленной к нему несправедливости. А главное, он радовался, что сделано большое дело, что открытие его много даст физике.
— В науке часто случается такое, — заметил Игорь Евгеньевич Тамм, — вы работаете над проблемой, которая вас мучает, вы одержимы ею и, наконец, чувствуете, что решение уже близко, а в этот момент появляется статья какого-нибудь, к примеру, американца, где все написано. Могут быть две реакции. «Ох, черт, ведь я уже был на пороге!»; и другая: «Слава богу, вопрос решен…» Мандельштам всегда был рад, что дело сделано — все равно им или кем-нибудь. Так бывает у настоящих, больших ученых. Хотя бывает и иначе… Когда ученый становится знаменитым, то не всегда его слава адекватна заслугам. У одних она превышает реальные заслуги, у других — наоборот. Последнее в огромной степени относится к Мандельштаму. Хотя сам он, вероятно, не задумывался об этом…
Открытие Мандельштама вызвало большой резонанс. Он проявился и в том, что сразу же, в 1928 году, его избрали членом-корреспондентом Академии наук, а в следующем году — академиком. В академики он был выдвинут почти всеми высшими учебными заведениями и научными институтами Советского Союза.
И то малое расщепление спектральных линий, которое Мандельштам искал вначале, не осталось теоретическим выводом. Он рассказал об идее и замысле опыта академику Дмитрию Сергеевичу Рождественскому, бывшему тогда директором Государственного оптического института в Ленинграде, и попросил поставить эксперимент. В ГОИ имелась более совершенная и современная аппаратура, в том числе подходящий спектрограф, а москвичам приходилось работать с пластинкой Люммера-Герке, разрешающая способность которой была невелика. Сотрудник ГОИ Евгений Федорович Гросс, исследуя жидкости, в которых рассеяние сильнее, чем в твердых телах, обнаружил предсказанное Мандельштамом расщепление.
Открытие комбинационного рассеяния света не было случайным для Мандельштама. Не должно удивлять и то, что он сразу осознал всю его важность. Недаром однажды он бросил такую фразу: «Каждый раз, когда в оптике происходит изменение частоты света, — это событие».
Всю жизнь у Мандельштама был глубокий интерес не только к оптике, но и ко всем видам колебательных процессов. Он говорил, что в физике есть «национальные» языки — механики, акустики, оптики, электродинамики, и есть «интернациональный язык теории колебаний», который охватывает все эти ветви физики. Если владеть этим языком и обладать активными знаниями в одной области, то разобраться в других уже значительно легче — «темные места, скажем, в оптике, освещаются, как прожектором, при изучении колебаний в механике».
Теория колебаний как самостоятельная наука родилась в конце прошлого века. Вероятно, Рэлей был первым, кто понял, что различные по своему характеру и внешним проявлениям колебательные процессы связаны внутренним единством, подчинены одним и тем же закономерностям. Другими словами, он первый научился распознавать «интернациональный язык» в «местном говоре» различных колебательных явлений. Начиная с Рэлея, теория колебаний стала завоевывать одну позицию за другой.
«В настоящее время вряд ли есть необходимость говорить о той громадной роли, которую играют колебания как в физике, так и в технике, — подчеркивал Мандельштам уже в тридцатых годах. — Мы выделяем их по общности метода или подхода к изучению, по общности формы и закономерностей, независимо от физического содержания, или, вернее, при крайне разнородном физическом содержании».
В одной из последних лекций Мандельштам сказал, что главные открытия в физике, начиная с открытий Коперника, были по существу колебательными. Он привел слова английского математика Уайтхеда о том, что рождение физики связано с применением абстрактной идеи периодичности к большому числу конкретных явлений.
Свое первое и свое последнее слово в науке Мандельштам произнес именно на этом «интернациональном языке». «Определение периода колебательного разряда конденсатора» — так называлась диссертация в Страсбургском университете, за которую в 1902 году двадцатитрехлетний Мандельштам получил степень «доктора натуральной философии». Весной 1944 года, уже тяжело больным, Мандельштам прочитал свои последние лекции по теории колебаний. Он назвал их беседами, и это был вдохновенный и в то же время интимный, задушевный рассказ о наиболее для него дорогой и важной области физики.
Интернациональный колебательный язык был не только родным для Мандельштама, этого полиглота в физике. Леонид Исаакович принимал самое активное и непосредственное участие в его создании.
Чтобы возможно точнее дать почувствовать роль Мандельштама в колебательной науке, пожалуй, лучше всего обратиться к Андронову.
…21 ноября 1944 года, за шесть дней до смерти Мандельштама, его навестил приехавший из Горького Андронов. Это была их последняя встреча, последний разговор.
«Мы знали уже давно, что Мандельштам тяжело болен, — рассказывал потом Андронов. — Мандельштама берегли, может быть, недостаточно. Его жена, Лидия Соломоновна, старалась, как могла, оберегать Мандельштама и выпроваживала собеседников после известного промежутка времени. Для нас, горьковчан, был установлен более либеральный режим. Мы старались его не нарушать. По разговорам трудно было заметить, что Леонид Исаакович тяжело болен. Он полностью владел своими умственными способностями, был весел, остроумен, шутлив. Сначала мне казалось, что он не так уже сильно болен. Но еще в 1943 году однажды у Лидии Соломоновны вырвалось несколько слов, из которых я понял, что дело действительно очень и очень серьезно и Леониду Исааковичу осталось жить если не считанные дни, то, может быть, считанные месяцы».
Как и всегда, разговор с Мандельштамом и в этот, последний раз не был лишь приятным времяпрепровождением. Как и всегда, он был важен для обоих собеседников. Андронов объяснил, почему так значительна и важна бывала каждая беседа с Мандельштамом. И почему она неизменно доставляла радость.
Доброжелательность Мандельштама к собеседнику была, может быть, даже чрезмерная. Обычно приходилось выяснять его мнение о том или другом научном результате не столько по словам, сколько по оттенкам, по заинтересованности. Он много, мягко шутил, рассказывал анекдоты. Для него анекдот был «логической карикатурой».
— У Мандельштама, — говорил Андронов, — был зоркий глаз, острая память и большой интерес к факту. Со многими физическими вопросами у него имелись богатые ассоциации. И многие вопросы, имевшие в моем сознании весьма «тощий» вид, наполнялись живым содержанием, приобретали полнокровность после беседы с Леонидом Исааковичем. Мандельштам серьезно относился к таким разговорам. Он чувствовал ответственность за сказанное. Не любил ошибаться и почти не ошибался. Если он ошибался — а ошибался он крайне редко — и когда понимал, что ошибся, то очень беспокоился, принимался вас разыскивать по телефону или передавал просьбу зайти к нему, чтобы исправить небольшую неточность. Он многое продумывал для себя раньше и на некоторые вопросы имел готовые ответы. Если даже вопросы и не решались, то они приобретали много новых аспектов, новых связей, новую окраску.
Тогда, 21 ноября, в деталях обсудив с Мандельштамом последние работы, свои и своих сотрудников, Андронов попросил совета, как лучше построить доклад о теории нелинейных колебаний на предстоящей научной конференции в Московском университете.
А через месяц, в конце декабря 1944 года, Академия наук собралась, чтобы почтить память выдающегося физика, и, словно реквием по Мандельштаму, прозвучали слова Андронова.
«Общепризнано как у нас в СССР, так и за границей, — сказал он, обращаясь к траурному собранию, — что деятельность Мандельштама оказала фундаментальное влияние на создание и развитие теории нелинейных колебаний, хотя вещи, связанные с нелинейной теорией, — это лишь одна, и при этом, по-видимому, не главная, сторона его научного творчества. Я попытаюсь показать, как Мандельштам руководил широким фронтом исследований по теории нелинейных колебаний, как он ставил задачи, как толкал и направлял своих учеников и сотрудников на их разрешение. Я попытаюсь также беглыми штрихами рассказать здесь о том, каким своеобразным и особенным ученым был Леонид Исаакович Мандельштам, как он понимал теорию колебаний — линейную и нелинейную, — и попробую дать представление о некоторых руководящих идеях его творчества в этой области».
Мандельштаму, по словам Андронова, было свойственно настороженное и постоянное внимание к вопросам теории познания. Он интересовался, как возникают, развиваются и трансформируются физические понятия, как они связаны с реальностью, какова область их применения. Из его лекций и высказываний ясно, как он глубоко исследовал логическую структуру физических теорий: механики, термодинамики, физической статистики, теории относительности, в последнее время — квантовой механики.
С этой же его чертой связано то внимание к вопросам идеализации — связи реальных вещей и процессов с изучаемыми нами математическими моделями. Этим же объясняется и его интерес к процессу взаимодействия старых и новых понятий, который он усматривал в любой развивающейся физической теории, в частности в теории нелинейных колебаний, и который он не только изучал, но старался направить и использовать. Здесь же, вероятно, лежат главные корни его интереса к истории наук, особенное внимание которой он уделял в последние годы жизни.
— Понимание нового на основе исключительного знания старого — вот одна из характерных особенностей мышления и творчества Мандельштама… Эту его черту я отношу прежде всего к теории нелинейных колебаний, одним из создателей которой является сам Мандельштам и которая по отношению к классической линейной теории колебаний является новой теорией. Он удивительным образом знал, любил и чувствовал классическую линейную теорию колебаний, которой он столь виртуозно пользовался. Но никто отчетливее и острее Мандельштама не понимал, что ее большие возможности являются все же ограниченными и что громаднейший круг важнейших физических и технических вопросов требует создания нелинейной теории.
…Точного определения колебаниям Мандельштам никогда не давал.
— Вот вы думаете: он все говорит о колебаниях и еще долго будет говорить, а не дал определения, что такое колебания, — полушутя заметил он однажды на лекции.
Давать определения, по его словам, это тяжелая и неблагодарная задача. Например, неблагодарная задача дать такое определение физики, которое отделило бы ее от химии. Важно другое — важны руководящие точки зрения, общие идеи. Одним из главных, определяющих признаков колебательного процесса является периодичность. Периодические явления или приблизительно периодические — это колебательные явления. Всякий периодический процесс относится к ведению теории колебаний. Но обратное, конечно, неверно. Многие непериодические процессы также относятся к колебаниям. Кроме того, подчеркивал Мандельштам, и равновесные режимы — это частные случаи периодических процессов.
При таком своеобразном и широком понимании теории колебаний выражением ее законов становятся, например, и теория движения планет, и теория радиоприема, и динамическая теория приливов, и еще много других теорий, описывающих процессы в природе и в технике.
От этого широкого подхода и пришел Мандельштам к своей идее интернационального языка. Особенно прельщала его в таком подходе возможность, как он называл, колебательной взаимопомощи различных областей физики и техники.
Естественно, что при столь широком понимании колебательных явлений Мандельштам не мог ограничиться изучением одних лишь линейных колебаний. Потому что по отношению к нелинейным задачам линейные представляют собой, как выразился Андронов, «дико частный случай».
Линейные и нелинейные колебания, системы… Пора объяснить, что это такое и чем одни отличаются от других.
Термины «линейность» и «нелинейность» не физического происхождения, они родились в математике. Линейное уравнение — это уравнение, в которое неизвестное входит в первой степени. А в нелинейном уравнении неизвестное может присутствовать в самом различном виде: в квадрате, в кубе, или в еще более высокой степени, сомножителем в произведении неизвестных, или находиться под знаком какой-нибудь функции.
Линейные колебания описываются линейными уравнениями. Соответственно, нелинейные колебания описываются нелинейными уравнениями.
Взглянем на какую-нибудь колебательную систему — на часы, или на электрический колебательный контур, или — чтобы попроще — на обыкновенные качели. Чтобы описать колебания каждой из этих систем, нужно прежде всего составить правильное уравнение, соответствующее процессу, а потом, естественно, это уравнение решить. В любое математическое уравнение всегда входят неизвестные и коэффициенты. В уравнении, описывающем колебательный процесс, коэффициенты должны заключать в себе так называемые параметры системы. Например, в электрическом колебательном контуре такими параметрами будут среди прочих емкость конденсатора, индуктивность катушки. Величины, определяющие в каждом типе колебательной системы ее колебательный процесс, и называются параметрами системы.
Бывает, что параметры не зависят от самого колебательного процесса системы; они остаются постоянными и, следовательно, как постоянные коэффициенты войдут в уравнение, описывающее процесс. В этом случае уравнение окажется линейным, а значит, и сама система — мы можем не сомневаться в том — будет тоже линейной.
Но это — «дико частный случай». В большинстве процессов — в природе, в технике, в физической установке — параметры системы не только определяют ее колебательный процесс, но и сами зависят от этого процесса. При такой ситуации очевидно, что неизвестные не только занимают положенное им место в уравнении, но еще и «влезают» в параметры. При этом они немедленно нарушают линейность уравнения. Действительно, если прежде неизвестное умножалось на постоянную величину, то теперь оно умножается на параметр, зависящий от него самого, от неизвестного, то есть умножается на величину, в которую оно само входит по крайней мере в первой степени. Значит, произведение дает уже, самое малое, квадрат неизвестного. Но если неизвестное имеет степень больше первой, то уравнение нелинейно. Можно было бы сказать, что и система, которую это уравнение описывает, тоже окажется нелинейной. Но естественней, конечно, не менять местами причину и следствие и сказать так: нелинейность системы выражается в том, что на ее параметры влияют ее собственные колебания. Подобная физическая ситуация приводит к тому, что уравнение, описывающее поведение такой системы, оказывается нелинейным.
Теория нелинейных колебаний — завоевание двадцатого столетия. Она была вызвана к жизни прежде всего бурным развитием техники, которым ознаменован наш век. Но в природе, во вселенной есть немало физических процессов, которые вдруг «признались», что и они разговаривают на нелинейном языке. После такого признания удалось заново осмыслить и расшифровать издавна известные явления: поведение переменных звезд — цефеид, отклонения в траекториях, по которым планеты обращаются вокруг Солнца…
А в мире, находящемся в ведении человека, нелинейные колебания расселились тоже очень широко. Например, они, по существу, главенствуют в радиотехнике: процессы, протекающие в генераторах радиоволн и частично в приемных устройствах, есть процессы нелинейные.
Все устройства автоматического регулирования, в какой бы области техники и производства они ни применялись, подчиняются законам обширного царства нелинейных колебаний.
Этим законам следуют: и работа паровой машины; и движение самолета, управляемого автопилотом; и устойчивая параллельная работа синхронных машин, параллельная работа электрических станций и целых энергосистем; и ход часов; и процессы в циклотронах.
Итак, не случайно терминология «линейные и нелинейные колебания» возникла из математики. В теории колебаний математический аппарат играет огромную роль. Поэтому, когда в физику и технику хлынул поток задач и процессов, имеющих нелинейную природу, для Мандельштама было крайне важно, как и прежде, когда дело касалось линейных колебаний, привить новый подход к изучению этих разнородных явлений, объединенных только тем, что все они имеют характер нелинейных колебаний. Андронов указал ту поистине узловую задачу, которая с начала тридцатых годов становится точкой приложения сил для Мандельштама, как ученого и учителя и как идеолога физиков-колебателей: «Идея выработки нелинейного мышления, опирающегося на твердую математическую базу, идея создания наглядных физических представлений и понятий, имеющих в своей основе адекватные нелинейным физическим объектам математические представления и понятия, является, как мне кажется, основной руководящей идеей научного творчества Мандельштама в области теории нелинейных колебаний».
«Выработка нелинейного мышления…» То, что именно такую цель посчитал Мандельштам самой главной, показывает, как глубоко он понимал не только природу научного творчества, но и человеческую природу вообще. В таком подходе проявил он себя не только тонким физиком, но и проницательным психологом.
Действительно, если проследить историю всех крупнейших открытий, совершивших переворот в представлениях человечества, то окажется, что всякий раз препятствием к их признанию и приятию было, по существу, одно и то же: не чьи-то злые козни и не печальное стечение обстоятельств, хотя и такое случалось… нет, препятствием был именно сам тот факт, что эти новые представления противоречили представлениям привычным, зачастую ниспровергали их.
Вот четыре примера — пожалуй, самых ярких, самых главных в истории науки и потому уже давно ставших классическими.
Открытие Коперника — создание им гелиоцентрической картины мира, в которой Земле отведена скромная роль одной из планет, обращающихся вокруг Солнца. Нет нужды повторять, как был воспринят такой переворот в господствующих представлениях, это всем хорошо известно. Может, только стоит посмотреть или перечитать «Жизнь Галилея» Брехта, чтобы почувствовать, насколько актуальны, как волнуют, как близки эти события, пусть они отодвинуты историей на несколько веков назад.
Открытие Лобачевским неэвклидовой геометрии. Казалось, такая уж сверхабстракция — сходятся или не сходятся параллельные линии и чему равна сумма углов треугольника… Гаусс, «король математики», пришедший к тем же идеям, что и Лобачевский, всю свою жизнь не решается высказать их публично, опасаясь, по его собственному признанию, «крика беотийцев» и «ос, которые поднимутся над головой» того, кто разрушает привычные устои. Гаусс не ошибся в прогнозах. Остроградский, один из крупнейших математиков России, современник Лобачевского, пишет пренебрежительно-издевательский отзыв о «Воображаемой геометрии» Лобачевского, а вдохновленные им «российские осы» из опекаемого Третьим отделением булгаринского «Сына отечества» помещают уже на сто процентов издевательский и злобный пасквиль.
Открытие Эйнштейном специальной теории относительности. Конечно, уже не те времена, не та эпоха. Не было преследований, не было обструкций, не было пасквилей. Но как трудно новые представления и парадоксальные постулаты теории относительности входили в голову даже серьезных, думающих физиков! Прошло еще несколько десятков лет, а для многих ученых идеи Эйнштейна были по-прежнему неорганичны. А ныне теория относительности читается уже не только в университетах, но и в Физико-техническом институте, и в Инженерно-физическом, и в МЭИ. Она уже давно перестала быть экзотикой, а стала такой же нормально воспринимаемой научной дисциплиной, как, к примеру, теоретическая механика.
Возвращаясь опять к первым десятилетиям века, надо назвать и общую теорию относительности, которую, как тогда говорили, помимо автора ее, понимали еще лишь два-три человека. И знаменитую, простую и привычную теперь формулу Эйнштейна E = mc2. Сколько шума и протестов вызвала она в свое время! Сколько обвинений! Сколько нареканий в противоречии основным законам природы — закону сохранения энергии прежде всего!
И наконец, открытие квантовой физики. Здесь уже сам Эйнштейн, один из авторов теории квантов, казалось бы, революционер из революционеров, до конца жизни не мог принять самую, пожалуй, главную идею квантовой физики — вероятностное истолкование процессов в микромире, или, как он считал, нарушение закона причинности. Его полуироническая фраза: «Я не могу поверить, что бог играет со вселенной в кости», не раз повторялась им, выражая глубокое смятение ученого перед крушением, как он был убежден, самых главных и незыблемых основ физики. А он не мог перестать верить, все-таки продолжал верить в их незыблемость.
Открытие обширного класса нелинейных колебаний не затрагивало глубоких философских вопросов. Поэтому оно и не порождало таких глубоко драматических ситуаций и конфликтов — внешних и внутренних. Вновь возникшая ветвь физики была в стороне от главных идейных битв, вне центров кипения страстей. Но это была настоящая и притом крайне важная наука. Кроме того, круг людей, которые ею занимались, становился все более широким, и все больше росла область ее применения. Потому-то к ней и надо было отыскать настоящий научный подход.
Такой подход, по необходимости, имеет две стороны — идейную и, так сказать, рабочую.
Идейная сторона и заключалась в выработке и распространении колебательного нелинейного мышления, нелинейной культуры.
А если говорить проще — она заключалась в той перестройке сознания физиков, которая позволяла им органически, естественно, без всяких затруднений и внутреннего принуждения рассматривать нелинейные задачи и нелинейные колебательные системы именно как нелинейные, а не как «почти линейные», «вроде линейные», «близкие к линейным» или, говоря по-научному, не как квазилинейные.
В те годы большинство физиков и особенно радиотехников стремилось, по словам Андронова, как бы «не замечать» нелинейности; они как раз и рассматривали системы как линейные и лишь потом вносили «поправки», которые, по их мысли, должны были в какой-то степени скомпенсировать неправильность подхода. На таком же «полулинейном» языке писались и иные серьезные курсы по радиотехнике, а значит, этот неправильный способ мышления прививали одному поколению ученых за другим.
Конечно, отдельные результаты, и притом важные, можно получить и при «почти линейном» рассмотрении задач. Тем более что есть классы систем, действительно довольно близких к линейным. Но при таком подходе, во-первых, не только возможны, но иногда и неизбежны ошибки, а во-вторых, и это, может быть, главное, физик, как выразился Андронов, «не способен идти впереди эксперимента, предсказывать качественно новые явления».
Мандельштам особенно остро чувствовал, вероятно больше, чем кто бы то ни было другой, как мешает успешному продвижению вперед «линейная психология», насколько необходимо иметь руководящие теоретические нелинейные концепции, которые позволяли бы физикам ориентироваться в сложных и разнообразных уже известных явлениях и помогли бы им находить и предсказывать новые явления. Он так и говорил:
«Мы находимся уже довольно долго в положении, когда с введением нелинейных систем, сильно отличающихся от линейных, мы должны отказаться от большинства руководящих концепций». И еще: «Я считаю, что в колебательных вопросах, в теории колебаний современное положение в смысле теоретическом довольно остро».
Эта идейная сторона проблемы — создание нелинейных теорий, выработка нелинейного образа мышления, нелинейного подхода — была самым тесным и нерасторжимым образом связана с рабочей частью — с поисками и созданием инструмента, соответствующего изображаемым процессам. Наибольшая заслуга здесь принадлежит академику Андронову и его школе, хотя немалое число задач разрешили Мандельштам и Папалекси.
Давно стал ходячим афоризм, что всякая наука лишь в той степени наука, в какой она математика. Без помощи математики, без соответствующего теоретического аппарата физика существовать и развиваться не может. Но если глубже вникнуть в суть дела, то окажется, что отношения между этими двумя науками не столь уж просты и однозначны.
Мандельштам не только отчетливо понимал это сам, но и стремился привить такое понимание другим. В частности, когда дело касалось колебаний. Он много раз подчеркивал, что общие закономерности, с которыми имеет дело теория колебаний, несмотря на их «математическое одеяние», нельзя считать чисто математическими.
«Конечно, — говорил он, — поскольку вы имеете дело с уравнениями, то с некоторой точки зрения все это математика. Но не в этом главное».
Действительно, физика далеко не только или не просто постоянный «потребитель» математики, а потому и отношение к математике у нее совсем не только потребительское. Физика постоянно обогащает математику, ставя перед ней новые и новые задачи, «допрашивая уравнения». Она играет, как говорил Андронов, роль «толкача».
Но и этим не исчерпывается сложность их взаимоотношений.
«Когда я перевожу физику на математику, я всегда от чего-нибудь отвлекаюсь», — сказал однажды Мандельштам. Он не уставал привлекать внимание к тому, казалось бы, очевидному обстоятельству, что в теории колебаний, как и во всякой другой физической теории, приходится работать с идеальными моделями реальных вещей и процессов.
Реальные процессы всегда сложней, запутанней, в них есть масса деталей, которые математика не может учесть. И физик, выбирая самую правильную идеализацию, точно угадывая, чем можно без большого ущерба пренебречь, всегда должен помнить, что и в оптимальном варианте это все-таки идеализация.
«Всякая идеализация обладает способностью мстить за себя, — говорил Мандельштам. — Правильный с точки зрения теории колебаний подход к вопросам идеализации лишь облегчает выбор математической модели, но решающую роль играют талант и научный такт исследователя».
И наконец, есть еще одна трудность, уже чисто математическая: нередко для нелинейного процесса затруднительным оказывается даже составить подходящие уравнения. А точно решить его уже просто нет возможности — точное решение лежит за пределами нынешнего умения математиков. Значит, единственный выход — искать различные способы наилучших приближенных решений.
Мандельштам это понимал, он говорил: нечего надеяться, что математика даст нам возможность работать со сколько-нибудь сложными характеристиками, все равно каждую из сложных задач приходится фундаментально упрощать.
Но, с другой стороны, он всегда опасался такого упрощенного подхода, относился с осторожностью к нестрогим методам решения. Особенно, как говорил Андронов, его задевали те случаи, когда различные нестрогие методы давали противоречащие друг другу результаты. Поэтому он так остро чувствовал необходимость по-настоящему строгого решения хотя бы самых основных, наиболее простых и в то же время жизненно важных задач теории нелинейных колебаний. В противном случае, говорил он, мы находимся на зыбкой почве и ни в чем не можем быть уверены — даже в приблизительной правильности наших отдельных математических моделей физических задач.
Именно на решение всех этих сложнейших проблем теории нелинейных колебаний и направлены были усилия и самого Мандельштама и большой группы его учеников. Такая ясность цели принесла немалые плоды. Вот почему Андронов имел все основания заключить:
«Основной центр исследований в области теории нелинейных колебаний находился в 1907–1921 годах в Германии. Основные работы, относящиеся к 1922–1929 годам, были выполнены в Голландии. Приблизительно с 1930 года основной центр исследований по теории нелинейных колебаний находится в СССР, чем мы обязаны в первую очередь Леониду Исааковичу Мандельштаму».
Конечно, Андронов ничего не сказал здесь о своей роли. Поэтому, когда он отмечает, что идеи Мандельштама в теории нелинейных колебаний имеют непреходящее значение и им предстоит интенсивное развитие и богатая событиями жизнь, то необходимо добавить, что Андронов, может быть, больше чем кто-нибудь другой наполнил содержанием эту жизнь. Целая серия первоклассных работ по теории автоколебаний, по теории регулирования, по движению самолета, управляемого автопилотом, создали теоретическую базу для важнейших разделов современной техники. Но об Андронове рассказ еще впереди.
Проблемами квантовой механики Мандельштам стал интересоваться при самом ее возникновении, хотя работ в этой области у него было сравнительно немного. Самый существенный вклад был им внесен в 1927 году в работе, сделанной совместно с Леонтовичем, — «К теории уравнения Шредингера». В этой статье содержались основы так называемой теории прохождения частиц через потенциальный барьер — теории, описывающей одну из фундаментальных особенностей микромира. На базе этой теории Гамову удалось объяснить давно известное явление радиоактивного α-распада.
— Когда Мандельштам и Леонтович делали эту работу, об α-распаде они не думали, искали общие закономерности, — вспоминал Игорь Евгеньевич ту давнишнюю ситуацию. — Гамов, прочитав их статью, он нам это потом рассказывал, сразу понял, что в ней все подготовлено и сделано для теории α-распада. Неизвестно, как бы он еще справился сам с математической стороной задачи, — сейчас все это тривиально, а тогда казалось очень сложным.
Теперь стало широко известно, какую роль в развитии идей и аппарата квантовой механики, да и в постановке общих вопросов теории познания на уровне атомной физики играла критика Эйнштейна — те замечания и парадоксы, которые он выдвигал в опровержении некоторых исходных принципов квантовой механики, его многолетняя дискуссия с Бором.
Незадолго до своей смерти Бор был в Москве. На встрече с московскими учеными в Институте физических проблем он говорил:
— Мне хочется сегодня, когда Эйнштейна уже нет с нами, сказать, как много сделал для квантовой механики этот человек с его вечным, неукротимым стремлением к совершенству, к архитектурной стройности, к классической законченности теорий, к единой системе, на основе которой можно было бы развить всю физическую картину. В каждом новом шаге физики, который, казалось бы, однозначно следовал из предыдущего, он отыскивал противоречия, и эти противоречия становились импульсом, толкавшим физику вперед. На каждом новом этапе Эйнштейн бросал вызов науке, и не будь этих вызовов, развитие квантовой физики надолго бы затянулось…
В своей статье «Дискуссия с Эйнштейном о проблемах теории познания в атомной физике», написанной в 1949 году, Бор подробно разбирает эти парадоксы Эйнштейна и свое решение их.
Но мало кому известно, что московские физики узнавали решения этих парадоксов еще до того, как их опубликовывал Бор. Дело каждый раз происходило так. Появлялась статья Эйнштейна. И через несколько дней Мандельштам предлагал ученикам:
— Поговорим.
Он начинал рассказывать о постановке вопроса, потом о его решении. Все парадоксы Эйнштейна он разрешал сам. Сразу находил способ, как доказать, что положения квантовой механики правильны, и проделывал все необходимые расчеты.
Ученики его спрашивали, почему он не публикует такие важные результаты.
— Был бы это не Эйнштейн… — отвечал Мандельштам. — Эйнштейн — гениальный человек, и такие простые соображения, которые я сейчас высказал, наверное, пришли в голову и ему. Может, есть какие-то моменты, которые я не учел.
А через некоторое время появлялся ответ Бора, где все было как у Мандельштама.
— Видите, Бор тоже так думает, — довольным тоном сообщал Леонид Исаакович.
Однако, как вспоминает Андронов, в те годы «положение вещей все же не являлось ясным до конца для широкого круга физиков, так как ответы Бора бывали написаны в его обычном „рембрандтовском“ стиле: наряду с яркими и отчетливыми местами в них были и темные пятна и полутени». В 1938–1939 году Мандельштам объявил курс лекций по основам квантовой механики. На этих лекциях был детально выяснен вероятностный характер явлений микромира и соответственно законов квантовой механики. В начале курса Мандельштам обещал слушателям в подробностях изложить содержание спора между Эйнштейном и Бором и точки зрения «сторон». Но в одной из лекций он вынужден был сказать об аргументах Эйнштейна:
— Я увидел ошибку очень скоро и потом уже утратил способность ее не видеть. Теперь мне даже трудно излагать дело так, будто ошибки нет.
И один из главных принципов квантовой механики раскрылся с такой «мандельштамовской ясностью», что сразу стал прозрачным для всех.
«Всегда, к любому вопросу Мандельштам подходил с точки зрения основ, — подчеркивает Игорь Евгеньевич Тамм. — Так было в теории нелинейных колебаний, так было и в квантовой механике».
Именно благодаря такому своему подходу Мандельштаму был открыт доступ в сокровенную сущность самых сложных физических процессов. Именно поэтому он мог предчувствовать, предвидеть, предугадывать пути движения науки. Тамм привел еще один пример такого предугадывания в фундаментальных вопросах физики:
«Сейчас идут лихорадочные поиски новой физической теории. В последние годы жизни Леонид Исаакович отчасти в лекциях, отчасти в беседах тогда уже очень правильно формулировал основы этой новой возможной теории. В начале сороковых годов Гейзенберг высказал такое мнение, что переход от классической теории к квантовой есть прежде всего отказ от классических представлений, — например, надо считать, что в атоме нет траекторий электронов. Но сейчас, когда мы приходим к новому классу явлений — экстремально больших энергий и экстремально малых расстояний, нужен дальнейший принципиальный отказ от наблюдаемых величин. Волновая функция — главное действующее лицо квантовой физики — уже не может описать эти новые явления, то, что происходит на малых расстояниях, вообще не поддается описаниям. Мандельштам в своих лекциях говорил, что основы наши — пространство и время и что каждому термину должно соответствовать реально наблюдаемое. Но внутри атома эти величины — пространство и время — нельзя измерить. Если бы мы ввели внутрь атома измерительный прибор, то уже этим самым нарушили бы атом. Смысл его высказываний, если его сформулировать в сегодняшних терминах, был такой: если для квантово-механических явлений характерен принцип неопределенности „координата — импульс“ (то есть с чем большей точностью мы определяем координату — положение частицы, — тем менее точно измерение ее импульса, и наоборот), то при проникновении в область больших энергий и малых расстояний сама координата — сама по себе! — становится неопределенной. У Мандельштама эта идея была очень ясной, хотя он точно и не стремился сформулировать ее».
Скромность Мандельштама поражала всех. Часто доходило до анекдотов.
Игорю Евгеньевичу Тамму особенно запомнился один эпизод.
В конце 1924 года в Ленинграде проходил Четвертый съезд русских физиков. Он был гораздо многолюднее и богаче по содержанию, чем предыдущие, да и не удивительно — советская наука заметно набирала силы. Темой основных докладов, сообщений и дискуссий стали самые животрепещущие проблемы физики тех дней — природа света и строение вещества. Один из докладов сделал Павел Сигизмундович Эренфест, приехавший для этого из Лейдена.
То была эпоха лихорадочных поисков, предшествовавших созданию квантовой механики. Впоследствии Дэвиссон и Джермер провели опыты по дифракции электронов на кристаллической решетке и наблюдали у электронов волновые свойства, то есть оказалось, что электроны ведут себя подобно волнам света. Это были поразительные опыты, потому что в то время все были убеждены, что волновая оптика к электронам неприменима.
Большой съезд, большая аудитория Политехнического института… Обсуждая эту проблему, Эренфест говорит:
— Надо спросить мнение самого крупного из современных оптиков — профессора Мандельштама.
Мандельштам и Тамм сидели рядом на задней парте. При этих словах Леонид Исаакович, высокий, крупный, постарался мгновенно спрятаться под парту…
Когда к Мандельштаму обращались с каким-нибудь вопросом, он прежде всего говорил: «Я это плохо знаю». Или даже: «Я этого не знаю». Говорил совершенно искренне.
Потом начинался обстоятельный разбор предмета, и тут собеседник Леонида Исааковича не только постигал, насколько глубоки и обстоятельны знания Мандельштама, как он все ясно и точно видит, но и сам обретал почву под ногами. Все становилось на свои места, неразрешимые, казалось, затруднения распутывались, сложности преодолевались. Когда довольный собеседник прощался, Леонид Исаакович провожал его обычно такими словами:
— Я над этим еще подумаю.
У Мандельштама было немало близких ему людей, друзей. Он любил своих учеников и был близок с ними. Самым старым и верным другом, несмотря на несходство характеров и темпераментов, оставался Николай Дмитриевич Папалекси.
Вообще Мандельштам часто сходился с непохожими на него людьми. Любил он Дмитрия Аполлинариевича Рожанского, замечательного физика, но крайне сдержанного, молчаливого человека. Очень импонировал ему Крылов — и это чувство было взаимным. Москвич и ленинградец, они общались при всякой возможности. Крылов, когда приезжал в Москву, обязательно приходил в Физический институт, чтобы встретиться с Мандельштамом. Особенно подружились они в войну, в казахстанском санатории «Боровое», куда были эвакуированы дети сотрудников Академии наук и большая группа нуждавшихся в лечении академиков.
Когда Академия наук собралась, чтобы почтить память одного из своих самых лучших и благородных собратьев, Алексей Николаевич Крылов выступил с горячей речью.
— Леонид Исаакович отличался прямотою, честностью, полным отсутствием искательства и лукавства, — говорил А. Н. Крылов, — и заслужил особенное уважение лучшей части профессоров Московского университета. Как ученый, как академик и профессор, Леонид Исаакович стоял в первом ряду.
Скончался Леонид Исаакович, можно сказать, внезапно, от припадка грудной жабы. В воскресенье 26 ноября казалось, что ему лучше. Он заснул и не проснулся.
Да будет земля ему пухом, ибо праведник он был!
Я уже говорила, что у меня осталось не воспоминание о Мандельштаме, а скорее воспоминание о чувствах, которые вызывало его присутствие. Мне не пришлось общаться с ним лично. Лишь позже поняла я, как много от этого потеряла. Но так уж случилось, что не было у меня с ним ни одного, даже самого беглого разговора.
Почему же и теперь, спустя столько лет, не проходит какое-то очень личное отношение к нему? Мне кажется, я нашла объяснение этому.
В науке от учителя к ученикам, от одного поколения к другому передается эстафета мыслей, открытий, идей; без подобной эстафеты сама наука была бы невозможна.
Но, оказывается, может быть еще и эстафета чувств — когда они сильны и незыблемы.
Чувства любви к Мандельштаму сильны и незыблемы у всех учеников и друзей его. Вот потому-то ощущение его как живого и прекрасного человека словно индуцируется в тебе самой, когда встречаешься и разговариваешь с близкими учениками. Да и не только тогда — оно существует все время.
Мандельштам был совершенно особенным. Речь даже не о его уме, даровании. Он был нравственной высотой. Это знали и чувствовали все. И больше всех те, кому выпало счастье часто и тесно с ним общаться.
— Я прожил большую жизнь, но другого такого человека не встречал, — с полной убежденностью сказал Игорь Евгеньевич Тамм. — Мандельштам — редчайшая личность. Такое сочетание могучего интеллекта с поразительной человечностью и чистотой!
Из рассказов об Андронове
С Александром Александровичем Андроновым я «познакомилась», когда впервые задумала писать о Мандельштаме.
Бывает, что человек особенно раскрывается в своем отношении к другому человеку, к людям. Я читала, что и как говорил Андронов о своем учителе, и мне все больше хотелось написать о нем самом.
Только потом обнаружилось, насколько это трудно. Обобщения часто оборачивались искажениями, и друзья не узнавали близкого им человека. А лишние слова не прибавляли вопреки задуманному убедительности, а отнимали ее и в чем-то шли против правды. Оставался, по-видимому, единственный путь: познакомить кое с чем из рассказанного о нем, с некоторыми фактами из жизни, вообще быть как можно ближе к документу.
Выступая на праздновании шестидесятилетия академика Андронова — это было в 1961 году, спустя восемь лет после его смерти, — Виталий Лазаревич Гинзбург высказал общее отношение к нему.
— Память об Александре Александровиче занимает какое-то особое место в душе многих людей, и в моей в том числе. Думаю, что это объясняется тем, что в одном Александре Александровиче переплелись и сочетались различные качества, которые, даже взятые в отдельности, встречаются не так уж часто. Хороший, очень квалифицированный, «настоящий» физик вызывает уважение тех, кто любит физику, учится или работает в этой области. Хорошего педагога ценят студенты. Благородного, принципиального и обаятельного человека любят те, кто понимает значение этих высоких качеств. Но вот когда все это объединяется в одном человеке, тогда-то и получается нечто неповторимое. Здесь нет простого сложения, напротив, проявляется какая-то когерентность, и в результате возникает исключительная человеческая личность. Я хочу ограничиться упоминанием только трех людей, связанных между собой. Это Павел Сигизмундович Эренфест, Леонид Исаакович Мандельштам и Александр Александрович Андронов. Эренфест относится к той категории людей, о которой идет речь, и вместе с тем он оказал явное и, видимо, глубокое влияние на Андронова. Мало о ком Александр Александрович говорил с таким энтузиазмом и теплотой, а ведь это было через добрых двадцать лет после встречи с Эренфестом. О Леониде Исааковиче Мандельштаме, учеником которого был Андронов, присутствующие, вероятно, знают немало, если говорить о нем как о выдающемся физике и педагоге. Но он был в не меньшей мере замечательным человеком. Отношение к нему многих, в том числе Андронова, было просто трогательным. Мандельштам пользовался огромным моральным авторитетом. Существование таких людей порождает стандарты, оказывает глубокое влияние на окружающих. Человеком именно такого калибра и был Александр Александрович Андронов. Говорить о нем, используя обычные эпитеты и термины, невозможно, получилось бы совсем не то, что нужно. Найти какие-то новые слова я не умею. Поэтому я и попытался пояснить свою мысль, упомянув об Эренфесте и Мандельштаме. Тот, кто знал Андронова, видел его отношение к науке, к преподаванию и к людям, должен был сам измениться, должен был многое понять.
Параллели, которые возникли у Гинзбурга при воспоминании об Андронове, конечно, не случайны. Как это важно для ученого, когда он принадлежит к научной школе и рядом с ним как старшие друзья стоят по-настоящему большие люди, когда его окружают близкие идейно, по интересам и устремлениям товарищи.
Научная школа… Какое большое содержание заключено в этих словах, если только школа подлинно научная и подлинно школа.
Когда Александра Александровича Андронова попросили рассказать, какой смысл он вкладывает в понятие «научная школа», он ответил:
— Научной школой я назову группу научных работников, возглавляемых одним крупным ученым или несколькими ведущими фигурами, объединенных областью научной работы и ее методом, дающих в науке нечто новое, оригинальное, характерное для всех работников данной школы. Для научной школы характерна апробация трудов внутри школы, что обеспечивает высокий научный уровень работ. Живой контакт с крупным ученым, участие в коллоквиумах и семинарах, когда открывается возможность систематически воспитывать научного работника, является фактором первостепенного значения. С другой стороны, наличие учеников, молодых ученых не позволяет руководителю отставать от жизни. Резерфорд говорил, что ученики заставляют его оставаться молодым…
Так определил Андронов научную школу.
Но, вероятно, научная школа и нечто большее. Это не только общие интересы, направление исследований, стиль и метод работы, единый взгляд на вещи и идейная близость. Как ни странно может это прозвучать, научной школе свойственны, мне хочется сказать, и человеческие качества. И Андронов был одним из лучших представителей такой именно школы Мандельштама, не только научной, но и человеческой.
В Андронове, как подчеркивал каждый, кто его знал, сочетались большая внутренняя сила, твердость и высшая честность с огромным обаянием. Вероятно, все вместе и послужило причиной исключительного влияния Андронова на окружающих его людей.
— Александр Александрович был для нас моральным эталоном и пользовался ни с чем не сравнимым авторитетом, — рассказывает Николай Николаевич Баутин, один из ближайших учеников Андронова. — Мы все часто бессознательно и в меру своих возможностей пытались подражать ему. В затруднительных случаях, когда мы не знали, как поступить, и нельзя было с ним посоветоваться, мы думали, как в этом случае поступит Александр Александрович. Это относится не только к вещам, связанным с наукой, но и к любым человеческим поступкам. Андронов был человек, который никогда не сфальшивит; и не думает о своей личной выгоде. Такое встречается не часто. К сожалению, бывает обратное. Кажется, что поступками руководят интересы дела или польза ближних. Но где-то, так сказать, в далеком плане, учитываются и собственные интересы — иногда сознательно, иногда подсознательно. У Александра Александровича такого никогда не было. И это знали все. Никому и в голову не могло прийти, что в чем-то может сыграть роль его собственная заинтересованность, собственная — в узком смысле. Это качество его даже нельзя свести к эпизодам. Оно некая аксиома или абстракция, которая возникает после общения с Андроновым в течение длинного ряда лет…
Последние слова Баутина в какой-то мере объясняют, почему об Андронове так трудно писать. Конечно, факты его жизни, слова его и поступки укладываются в его образ, характер, не противоречат ему. Но насколько сам человек сложнее и богаче суммы всех этих фактов, слов и поступков. И как показать живым такого человека и те черты его, что стали для окружающих «аксиомой или абстракцией, которая возникает после общения в течение длинного ряда лет»? Как мне, не знавшей Андронова, сделать это доступным для тех, кому тоже не довелось с ним общаться? Изложить факты, оценки — совершенно недостаточно. И все-таки придется повторить, здесь будет говориться только о некоторых фактах жизни, об эпизодах, о некоторых высказываниях и поступках, о содержании некоторых работ. Не потому, конечно, что такой путь лучший, а потому, что он, вероятно, единственно возможный. И я выбрала его с надеждой, что по этим разрозненным чертам и эпизодам читатель все-таки сумеет представить себе Андронова хоть в какой-то степени близким тому, каким он был в действительности.
— И в том, что касалось науки, Александр Александрович был щедр и лишен всяких элементов мелочности, — продолжал рассказывать Баутин, — был внутренне богат, не скупился и раздавал это богатство во все стороны. Но одновременно очень строго относился к тому, как эти богатства используются. Вообще был строг и требователен к ученикам, даже когда они становились самостоятельными. Один из учеников переехал в Ленинград, заведовал там кафедрой. Он долго работал над докторской диссертацией, и все кругом ему говорили, что пора защищать. Он отвечал: «Когда Александр Александрович скажет, что материала достаточно, я это сделаю». А Андронов работу одобрял, но считал, что для докторской она еще недостаточна. Так продолжалось почти восемь лет. Время было трудное, денег на жизнь семьи не хватало. Друзья настойчиво уговаривали защищать, и удержаться было нелегко. А Андронов находился далеко, в другом городе. Но ученик продолжал работать и все ждал, пока Андронов скажет «достаточно». Андронов сказал это в год своей смерти… Так у учеников его вырабатывалось стремление мерить себя той же меркой, что и сам Андронов.
— Влияние Александра Александровича на нас было колоссально, — подтверждает и второй из учеников Андронова, Юрий Исаакович Неймарк. — Причем оно было не только интеллектуальное, но, можно сказать, и физиологическое. Все мы даже переняли какие-то детали его почерка, какие-то буквы стали писать по-андроновски. Я заметил это на себе, а потом увидел у других. И в манере держаться, разговаривать мы невольно подражали ему. Андронов был сильной личностью, но, конечно, не в затасканном, ницшеанском смысле слова…
Одна «андроновская черта» у его учеников — поиски точных слов и выражений — бросилась в глаза и мне. Андронов страшно боялся неточности в словах — шла ли речь о науке, о физике или о жизни и литературе. Потребность в придирчивом отборе слов передалась и ученикам. «Это не то слово», «Тут надо сказать иначе», «Здесь не тот оттенок» — так нередко перебивались рассказы их об Андронове.
Александр Александрович никогда не говорил о научной работе «хорошая» или тому подобное. Лучшая похвала его была — «доброкачественная работа». Как-то, высказываясь об одной работе, Андронов назвал ее грамотной. Автор страшно обиделся на столь пренебрежительный, как ему показалось, отзыв. А Александр Александрович никак не мог взять в толк, почему такая реакция, — ведь что может быть выше этой оценки?
Еще он говорил о работе — разумная, и это тоже значило, что автор ее может быть доволен собой. Николай Николаевич Баутин с удовольствием вспоминает давний эпизод. В начале тридцатых годов Андронов прочитал одну его работу. Вскоре после этого Баутин стал аспирантом Александра Александровича. Спустя года три, когда они стали близкими людьми, Андронов как-то подошел к Баутину и, взяв его за плечо, сказал о той работе: «А ведь вы не написали там никаких глупостей».
Среди студентов ходили рассказы о необыкновенной научной прямоте Андронова. Говорил он, случалось, вещи жестковатые, но справедливые — иначе не мог. Так же строго принимал экзамены. Требовал хорошего и точного знания основ. Один студент сдавал ему теорию колебаний четырнадцать раз и неизменно уходил ни с чем. Вернее, уходил с новым полученным от Андронова заданием. Так Александр Александрович заставил его выучить чуть ли не всю физику.
Андронов много и серьезно занимался воспитанием своих учеников — студентов и аспирантов. В те годы из-за стесненности в средствах выделялось мало аспирантских мест. Больше трех аспирантов одновременно у Андронова не бывало. Да, вероятно, и не в его характере было набирать себе большее число учеников. Ведь каждому он отдавал очень много времени и внимания. Работа с ним носила, так сказать, домашний характер. Год за годом, в определенные часы или дни недели ходили они к Андронову домой. Беседы касались всего, а не только науки. Часто в разговорах засиживались до глубокой ночи.
Расспрашивая о вновь полученных результатах, Александр Александрович умел так ставить вопросы, что ученикам казалось, будто они сами приходят к нужным выводам. Советы он давал тоже, как говорят математики, в неявном виде, никогда не подсовывая готовые решения.
Он не любил водить и не водил учеников за ручку. Их самостоятельность импонировала ему. Но вместе с тем он всегда очень четко определял — для себя и своей школы — направление, фарватер движения той области науки, которой занимался, цель и идею ведущихся исследований. И в верности главной идее он был тверд и последователен — касалось ли это его собственной работы или работ его учеников. Идее должно быть подчинено все, изменить ей, предать ее нельзя ни в коем случае. Изменение направления, пока оно признается единственно правильным, исключено.
Андрей Викторович Гапонов, который был аспирантом Андронова в последние годы его жизни, рассказал, как он однажды принес ему очередную работу. Александр Александрович взял рукопись и спросил, то ли это, о чем недавно шла речь. Гапонов подтвердил, что то. Дальше произошел такой короткий разговор.
— Пользовались методом малого параметра? — спросил Андронов.
— Да, методом малого параметра.
Александр Александрович, не раскрыв рукописи, безразлично отложил ее в сторону.
Нет, он не отрицал полезности и эффективности метода малого параметра. Но для направления, которое в то время было им выбрано, применение этого метода не обеспечивало достаточной широты подхода, не вело прямо к поставленной цели.
У Андронова была абсолютная нетерпимость, даже ненависть ко всякому проявлению провинциализма в науке. Он говорил, что провинциализм — это самое ужасное, что может постичь науку, это означает ее прозябание, конец ее как настоящего, передового знания. Отсюда постоянное стремление Андронова знать все, что делается в данной области и в смежных областях, стремление его обладать исчерпывающей информацией. Он понимал, насколько необходимы, как ценны всякие связи между учеными, обмен информацией, обсуждение возникающих проблем. Понимал, как гибельно для коллектива ученых вариться только в собственном соку.
Быть всегда на переднем крае той области науки, которой занимаешься, вести исследования на самом высоком уровне — только так обязан работать ученый.
Михаил Александрович Леонтович, друг Андронова еще со времен их аспирантуры и соавтор первой их общей печатной работы, подчеркивал исключительную научную честность Андронова:
— Сейчас, когда наука играет все возрастающую роль в жизни общества, чрезвычайно важно напоминать, особенно молодежи, об этом свойстве Андронова — исключительной научной честности.
Научную честность многие толкуют крайне несложно: чисто и добросовестно делать работу, публиковать то, что действительно сделано лично тобой, трезво оценивать результаты. Такое было для Андронова не больше чем азбука. Наука, говорил он, прежде всего должна быть объективна, и притом безжалостно объективна. Она не смеет поддаваться никаким вненаучным воздействиям, в том числе влиянию конъюнктуры…
Потому-то так значительна оценка Леонтовича, который скуп на похвалу и еще больше — на высокие слова.
В чем был секрет Андронова как ученого и как руководителя? Важно не только чем заниматься, но и как заниматься. Может, последнее даже важнее. Если встретился человек, который помог тебе завязать все связи с наукой, и эмоциональные тоже, удовлетворить инстинкт познания, научить строгости и чистоте в работе, то это остается в тебе навсегда. Какими бы проблемами ученики потом ни занимались, полученное от Андронова, индуцированное им, оставалось главной движущей силой их деятельности.
Андронов сумел создать вокруг себя атмосферу своего, андроновского отношения к науке. Высокой требовательности к уровню, к качеству работ. Нетерпимости к спешке, небрежности, незаконченности. Строгой логики в проведении исследования. Полной ясности, во имя чего задумана и начата та или иная работа. Исключения случайного, необязательного, не ведущего к цели… Пожалуй, и не перечислишь и не назовешь всего, что для учеников и сотрудников Александра Александровича, для знавших его людей заключалось в словах «андроновское отношение к науке». Но они и без слов отчетливо понимали, ощущали это, общаясь с Андроновым, наблюдая его как ученого, участвуя в совместной с ним работе.
В такой атмосфере должна была возникнуть и развиваться серьезная, настоящая наука. И действительно, Горький, город, где Андронов прожил свои последние двадцать лет, именно благодаря его присутствию, активному и деятельному, стал городом настоящей, серьезной науки. Прежде всего в направлениях, связанных с физикой колебаний — той областью, которой занимался Андронов.
Свою деятельность в Горьком Андронов начинал почти что с нуля.
Шел 1931 год. Группа друзей: Александр Александрович Андронов, Виктор Иванович Гапонов, Мария Тихоновна Грехова — все молодые ученые, лишь недавно окончившие аспирантуру, решили вместе переехать насовсем в Нижний Новгород.
Незадолго до того Народный комиссариат просвещения заинтересовался состоянием науки в некоторых крупных городах России. Мало где университеты и другие высшие учебные заведения могли сколько-нибудь надежно готовить новые научные силы — прежде всего потому, что хорошо учить студентов было некому. Не оставалось сомнения, что если Москва и Ленинград не помогут, то существующие вузы будут прозябать и дальше. А о создании новых учебных заведений и думать нечего.
Тогда-то Андронов и его товарищи и вызвались переселиться в Нижний.
Это были нелегкие годы очень бедной еще страны. Конечно, ничто и отдаленно не походило на создание нынешних городов науки, когда выбирается живописное, но необжитое место — в Сибири, на Волге, на Оке, — и на этот дикий или полудикий участок среди лесов сначала приходит целая армия строителей, возводит институты, современные города, прокладывает коммуникации, а потом приезжают сложившиеся коллективы ученых, располагающие большими средствами и большими научными силами, и везут с собой эшелоны оборудования.
Тогда все было иначе. Несколько человек, в активе которых только молодость, знания, энергия, приехали в еще недавно купеческий Нижний — город со сложившимся бытом, традициями, всем укладом жизни. А по уровню науки он являл собой пример самого глубокого провинциализма.
Маленькая эта группа энергично принялась за дело. Спустя год к ней присоединился Сергей Михайлович Рытов, а в 1937 году — Габриель Семенович Горелик. Кроме того, постоянно, что все время играло большую роль, группа поддерживала тесную связь с физиками Москвы и Ленинграда.
Вскоре после приезда москвичей, 1 ноября 1931 года, возобновил свою деятельность Горьковский университет. Но начало его нового существования было трудным.
…Сейчас горьковская научная школа широко известна во всем мире. Уровень ее работ; разветвленность тематики, в которой представлены и радиоастрономия, и кибернетика, и теоретические проблемы квантовой электродинамики, и автоматическое регулирование; целый комплекс институтов, лабораторий, первоклассный астрономический полигон… — одно перечисление того, в чем «материализуются» колебательные науки в Горьком, — перечисление далеко не полное — говорит об их размахе и значении.
Конечно, нельзя утверждать, что все нынешние работы горьковчан пошли непосредственно от Андронова. Одному человеку, даже самых больших возможностей, просто не под силу все охватить. Да, вероятно, Андронова очень огорчило бы, если бы без него никто ничего не мог.
Но от Андронова пошел высокий и современный уровень исследований, передовая методика, целенаправленность, стремление всегда преодолевать научный провинциализм. Собственные работы Андронова, его отношение к науке, особая требовательность — прежде всего к себе, но и к окружающим тоже — все вместе стало своеобразным камертоном для ученых и учащихся города Горького.
В атмосфере, созданной Андроновым, или, во всяком случае, возникшей вокруг него благодаря его присутствию, становилось как-то затруднительно и стыдно плохо работать.
Высокий настрой сохранился и после Андронова. Правда, такое не бывает абсолютным. Кое-кто утратил заложенное в нем Андроновым, не сумел удержаться на заданной им высоте. Не у всех, может быть, хватило воли, или сил, или способностей не спуститься пониже. Такое неизбежно. И не в этом дело. Не в частностях, не в отдельных отступлениях. А в общей научной жизни больших коллективов. В них андроновское продолжает существовать, живет.
И еще от Андронова пошло, если можно так выразиться, колебательное направление в выборе изучаемых проблем. Тут слово «колебательное» понимается в самом широком смысле. В том, который заключает в себе разнообразнейшие процессы и явления как в природе, так и в технике, объединенные лишь присутствием какого-либо вида колебаний: радиоволн, длинных или ультракоротких, разного типа механических колебаний, звуковых… Тут может быть радиофизика и радиоастрономия, теория машин и механизмов, чисто астрономические проблемы, как теория переменных звезд — цефеид, автоматика и кибернетика, разработка математического аппарата для описания колебательных систем и процессов.
Одни направления возникли уже после Андронова. Другим при его жизни положили начало его ученики. Третьим — молодые московские профессора, которые, оставаясь москвичами, по многу лет постоянно сотрудничали в Горьком. Они учились в МГУ в те годы, когда Андронов уже уехал из Москвы, но они были питомцами той же школы, что и Андронов, и поэтому легко находили с ним общий язык. У них были свой круг интересов, свои задачи, свой подход, а вскоре появились и свои ученики.
Распространение радиоволн вдоль земной поверхности, в ионосфере, а затем и радиоастрономия — одна из важнейших сейчас областей деятельности горьковских радиофизиков — эти работы возникли по инициативе совсем еще молодого москвича Виталия Гинзбурга. Более двадцати лет проработал он в Горьком, руководя этими исследованиями. Андронов с большим интересом и симпатией следил за развитием новой тогда ветви радиофизики.
В молодости Андронов интересовался поведением переменных звезд — цефеид. Он высказал мысль, что периодическое изменение блеска цефеид связано с автоколебательными процессами. Ученику его Сергею Александровичу Жевакину удалось плодотворно развить эту идею. Его работы, посвященные раскрытию природы и поведения цефеид, получили широкое признание.
Другой пример — интересные, заслужившие известность и высокую оценку исследования, которые ведет Андрей Викторович Гапонов со своими сотрудниками. Это, во-первых, работы по высокочастотной электронике, которые вылились в создание новых электронных приборов — усилителей и генераторов; приборы эти есть не что иное, как классические аналоги квантовых генераторов и усилителей в оптике и радио — лазеров и мазеров. Во-вторых, теоретическая и экспериментальная разработка электродинамики нелинейных сред. В этих исследованиях — прямое продолжение и развитие андроновских идей, его «нелинейного подхода».
А некоторые из ближайших сотрудников Андронова — Николай Николаевич Баутин, Евгения Александровна Андронова, Юрий Исаакович Неймарк — продолжают и развивают работы, которые вел их учитель.
Интересен и такой факт. Во всех университетах есть факультет, который готовит физиков. В МГУ некогда был физико-математический факультет, потом он разделился: физиков разных специальностей стали учить на физфаке, а математиков, астрономов и механиков — на мехмате. В университетах многих городов до сих пор существует единый физмат. И только в Горьком появился первый в нашей стране радиофизический факультет. Не в Москве, не в Ленинграде, а в Горьком. Произошло это в 1945 году.
Можно представить ситуацию, которая привела к созданию университетского факультета, посвященного только одной ветви физики: высокий уровень подготовки студентов по радиофизике и вообще по теории колебаний — во-первых; глубокая и массовая заинтересованность их именно в этой области физики — во-вторых; обширное поле для будущей деятельности — в-третьих; и, может быть, самое главное и сильный коллектив учителей колебательной науки — в-четвертых.
Таков итог идейной и организационной сторон деятельности Андронова по созданию научной школы. А в натуре это поначалу выглядело так. Существовали сперва только кафедра теории колебаний и ГИФТИ — Физико-технический институт — маленький институт с крошечными отделами. Все помещение — несколько небольших комнат. И лишь одна — та, где происходили обсуждения, где Андронов вел семинары, вмещала значительное количество людей. В ней висела доска — за шкафами с книгами и приборами. Стояли грубые столы. На столах — окурки, бумага. Здесь же вешалка из вбитых в стену гвоздей.
Но атмосфера в этих маленьких прокуренных комнатах была самая свежая.
— В разных коллективах, — говорит Баутин, — могут обсуждаться разные вещи, и обсуждаться по-разному. В присутствии генерала для подчиненных его мнение обязательно, генералу не принято перечить. То же, мне кажется, бывает и у медиков в присутствии высшего авторитета. В Андронове не было ничего «генеральского». На его научных семинарах обсуждение носило очень свободный характер. Александр Александрович мгновенно понимал чужую точку зрения. И менял свою, если она была неправильна. Он тут же признавался, если допустил какой-нибудь промах, хотя промахи случались у него крайне редко. Но, с другой стороны, почти всегда за тремя-четырьмя фразами, которые он произносил, мы видели второе, глубокое понимание предмета, ситуации, природы вещей и чувствовали, насколько наше понимание примитивней и неоформленней.
Такая же атмосфера была у Андронова и дома. Всегда народ. Коллективная работа мысли, коллективное думание. В такой обстановке, казалось, сами собой рождались новые идеи.
Может быть, наивысшая из отпущенных человеку радостей — это возможность делиться своей радостью с близкими людьми. Самая большая радость ученого — творчество. И для того, кто испытывает потребность в творческом общении, кому оно действительно необходимо, такое сотворчество и есть, вероятно, наивысшая радость. Если этим отношениям не мешают побочные обстоятельства, вроде тщеславия, стремления к личной славе, ложного понимания авторитета, тогда они становятся одинаково необходимыми и учителям и ученикам.
Но отношения Андронова с учениками были не только радостью. Они были еще и напряженным трудом. Андронов постоянно держал в поле зрения научную деятельность учеников и сотрудников, направлял их, активно им помогал. Подобно своему учителю, Андронов при беседе с каждым учеником и сотрудником тоже имел свой особый разговор. Такие «свои особые разговоры» вовсе не возникали сами собой, они требовали немалой предварительной работы.
Андрей Викторович Гапонов показал мне сохранившуюся еще со времен его аспирантуры объемистую папку, заполненную листами бумаги с характерным андроновским почерком. Одни большие, исписанные формулами и чертежами, другие маленькие, всего в несколько слов, листки эти, копившиеся неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, отражают деловую сторону отношений Андронова со своими аспирантами; они — свидетели стиля его руководства. Новые мысли и идеи, предложения, замечания, критика, одобрение, варианты схем и решений — здесь присутствовало все.
Такие «дела» Андронов заводил на своих аспирантов. И на сотрудников. И на студентов — тех, кого он в то время «растил». Если собрать воедино все эти папки, то станет осязаемым труд, вложенный Андроновым в воспитание будущих ученых. Но в папках лишь доля этого труда. Сколько его было затрачено на семинары, на подготовку к чтению лекций, просто на беседы, не отраженные ни в каких записях, ни в каких бумагах. Но зато прочно вошедшие в сознание и в творчество его учеников. Не случайно близкий друг Андронова Габриель Семенович Горелик подчеркивал, что работы Андронова и его школы оставляют впечатление редкого единства.
Какие черты были характерны для Андронова-исследователя? Во-первых, целеустремленность, неуклонное движение в заданном себе самому направлении; маленькая деталь — на его письменном столе многие годы стояла модель часов, одной из первых исследованных им автоколебательных систем. Во-вторых, потребность в полнейшей, абсолютной логической ясности; отсюда стремление к стройной и четкой классификации всех возможных случаев, вариантов, модификаций. В-третьих, не менее необходимая для него потребность при разработке нового вопроса исчерпывающе познакомиться с его историей, его связями с другими проблемами. Со всем этим глубоко гармонировали его принципиальность и необычайная требовательность к качеству изложения научных результатов.
Не входят ли названные принципы в комплекс того, что Леонтович вкладывал в слова «исключительная научная честность Андронова»?
Об одном из принципов, неизменное следование которому стоило Андронову массы времени и усилий, хочется сказать подробнее. Речь идет о том, что он сам называл «мобилизацией информации».
Каждую новую работу Андронов начинал именно с мощной мобилизации информации. Ему надо было знать все, что в данной области сделано. Он обязательно должен был добраться до первоисточника, откуда все началось, — «в глубь веков», «к Адаму». И «от Адама» дойти до последних работ. Литературу он знал изумительно. Помогала ему редкая библиографическая память. В каждый период времени он занимался только одним каким-то вопросом и изучал его досконально. Очень скоро он становился, вероятно, крупнейшим в мире специалистом по этому вопросу.
Огромны были и усилия, которые он тратил на создание библиотеки. Он собирал не только и не столько книги, сколько фотокопии. Груды папок с материалами лежали у него в шкафах и по всей комнате. «Я не знаю, где это, но это, конечно, не потеряно», — часто говорил он, не сразу отыскивая то, что кому-то потребовалось, в этой груде.
— Библиотека для научного работника является одним из основных «орудий производства», — подчеркивал Андронов. — Она должна быть хорошо подобрана, и именно подбор книг, а не их количество должен стоять на первом месте. В библиотеке научного учреждения особенно показательны и ценны следующие ее отделы. Во-первых, отдел русских и иностранных журналов. Они особенно ценны в виде полных комплектов, серий за ряд лет. Здесь самое существенное, самое важное, чтобы не было пропусков («лакун»). Библиотека с пропусками в основных журналах — это некультурная, плохая библиотека. Во-вторых, отдел классиков, например, по физике — сочинения Кирхгофа, Максвелла, Стокса, Рэлея, Гельмгольца, Ампера, Вильяма Томсона, Жуковского и так далее. В-третьих, отдел справочников, хандбухов и энциклопедических словарей. Наконец, в-четвертых, ценен подбор монографий, оттисков, фотокопий и даже литографированных курсов по отдельным научным вопросам.
Нет нужды говорить, что сам Андронов именно таким образом стремился комплектовать и собственную библиотеку и библиотеки тех научных институтов, отделов и кафедр, в создании которых он участвовал. К тому же собственная его память почти всегда была достаточно полной энциклопедией интересовавших его областей науки.
— Моя специальность — теория нелинейных колебаний — довольно узкая, охватывающая сравнительно небольшой круг ученых-специалистов, — сказал однажды Андронов.
Действительно, его научная жизнь была целиком отдана теории нелинейных колебаний. А если уточнить — была посвящена поискам или созданию математических методов, аппарата, с помощью которого удавалось описывать нелинейные процессы, решать нелинейные задачи.
В конце двадцатых годов, когда появились первые работы Андронова, нелинейными колебаниями занимались очень немного и немногие. И несколько лет спустя у Андронова были еще основания говорить, что его специальность охватывает лишь небольшой круг ученых. А между тем физики начинали представлять себе довольно отчетливо и масштабы и значимость этой области науки.
Нелинейным оказалось множество колебательных процессов в живой и мертвой природе, во всех областях техники. Но не только в многообразии их коренились трудности изучения.
Нелинейные задачи, как правило, лежат на стыке физики, математики и техники или по крайней мере математики и физики. И подступиться к решению таких задач можно было только во всеоружии энциклопедических знаний; и при тонком понимании физических процессов в их взаимной связи; и при математической эрудиции, свободном и не пассивном, а творческом владении математическим аппаратом.
Чтобы овладеть многообразием нелинейных явлений — во всей их сложности и часто неповторимости, — надо научиться раскрывать их характер и физическую сущность, уметь описывать их и исследовать, предсказывать их поведение и управлять им. А если разобраться, о чем говорят слова «раскрывать, исследовать, управлять», то окажется, что за ними стоит прежде всего математический аппарат, соответствующий данному явлению или классу явлений. Если такой аппарат удается найти или создать.
Линейные колебания имеют разработанный, совершенный математический аппарат. И не удивительно. Тут гораздо проще физические процессы, а значит, проще и их математическое описание. Поэтому физика и математика достигли тут полного согласия, взаимопонимания. А кроме того, аппарат для классической теории линейных колебаний стал создаваться еще в XVIII веке великими математиками Эйлером, Даламбером, Лагранжем. Математические задачи, связанные с нелинейными колебаниями, мало того, что значительно «моложе» линейных задач, а потому менее разработаны, еще и во много раз сложнее.
Андронов понял это очень рано.
— Необходимо произвести реконструкцию существующего математического аппарата, необходимо отыскать аппарат, который был бы адекватен отображаемым процессам и который был бы, кроме того, достаточно эффективен, то есть который давал бы ответы на вопросы, выдвигаемые физикой и техникой, не требуя непосильной затраты труда, — говорил он в 1933 году. — Математические задачи, связанные с проблемами нелинейных колебаний, с нелинейными дифференциальными уравнениями, несравненно более сложны и менее разработаны, чем те задачи, которые возникают в теории линейных уравнений. К этим вещам следует подходить во всеоружии современной математики…
Совершенно очевидно, что, не будучи «во всеоружии современной математики», нечего и надеяться проникнуть в существо работ Андронова. Даже беглое знакомство с идеями и математическим аппаратом, инструментом его деятельности, требует немалой специальной подготовки.
Самое большее — можно попытаться контурно обрисовать и представить себе некоторые из узловых проблем, занимавших Андронова.
При этом, видимо, следует придерживаться хронологии, потому что деятельность Андронова не просто решение большого числа нелинейных задач, а поступательное движение, последовательное развитие и обобщение теории, охват новых и новых областей физики и техники.
Итак, с чего все началось?
Бурное развитие радиотехники сразу же предъявило серьезные требования теории колебаний.
— В двадцатых годах нашего века, когда началось победное шествие современной «лампы Аладдина» — электронной радиолампы, — радиотехника испытала своеобразный кризис теории, — рассказывает Сергей Михайлович Рытов. — Пытаясь развивать теорию радиоустройств и прежде всего теорию генераторов радиоколебаний, не только инженеры, но и физики хотели говорить, и фактически говорили, на хорошо знакомом и привычном языке линейных колебаний. Скудные успехи такого традиционного подхода к новым вопросам не могли скрыть его органического несоответствия их сущности. Линейная теория не могла выразить наблюдаемых сложных закономерностей, как язык ребенка не может выразить мысли взрослого человека. Задачи о колебаниях, выдвигавшиеся растущей радиотехникой, были, по сути своей, нелинейными, и для создания полноценной теории нужны были новые физические понятия и новые математические средства. Однако большинство радиоспециалистов тогда еще по-настоящему не осознавало этого. Поэтому часто пытались к процессам в ламповом генераторе приспособить представления, годные лишь для линейных систем. Эти представления приводили иногда к резкому противоречию с опытом.
Здесь речь идет прежде всего о тех процессах, которые вызывают возбуждение, генерацию радиоволн.
Основа всякой радиостанции — ламповый генератор. Именно он генерирует электрические колебания, которые становятся источником радиоволн. Для нормальной работы радиостанции колебания эти, естественно, должны быть незатухающими. Они не должны сами собой, когда им «захочется», уменьшаться, исчезать, даже хоть как-то менять свою величину.
Известны колебательные системы, в которых затухание предотвращается с помощью какой-нибудь периодически действующей внешней силы. Например, вы можете подталкивать качели всякий раз, когда они находятся в одном и том же положении, и таким простым способом сделать их колебания незатухающими.
Совсем на ином принципе работают часы. Они сами, своими колебаниями, регулируют приток энергии, идущей на поддержание этих колебаний. Источником энергии служит энергия, запасенная в поднятой гире или заведенной пружине. Маятник периодически в такт своим колебаниям и с их помощью как бы открывает и закрывает заслонку от резервуара энергии. В каждый период ее поступает ровно столько, сколько нужно, чтобы скомпенсировать все потери и таким образом не допустить затухания колебаний.
По тому же принципу действует и ламповый генератор — он тоже есть незатухающая колебательная система. Энергию он получает от батарей или электросети.
Итак, незатухающие колебания могут генерировать различные по своему характеру устройства, схожие лишь тем, что они сами поддерживают свои колебания за счет некоторого постоянного источника энергии.
Систему, работающую подобным образом, Андронов точно и метко назвал автоколебательной, что можно перевести как система, которая сама себя колеблет. Так оно, по существу, и есть.
Но Андронов не только окрестил автоколебания и выделил их в отдельный класс нелинейных колебаний. Именно он отыскал и математический аппарат, который был словно специально создан для описания таких систем, хотя об этом никто и не догадывался; в том числе и сам Анри Пуанкаре, который этот аппарат разработал, — ученый умер за год до того, как ламповый генератор впервые появился на свет.
И до Андронова пытались для нелинейных задач, в частности для процессов в ламповом генераторе, искать нелинейные подходы. При этом ряд задач был решен правильно. Но методы решения носили кустарный, искусственный характер, а полученные результаты были отрывочными. Это продолжалось, до тех пор, пока найденный Андроновым математический аппарат, соответствующий этим процессам, он сам и его последователи не стали применять для фронтального наступления на «нелинейные крепости» данного типа.
Вот почему, по общему мнению, именно Андронову принадлежит заслуга полного и строгого решения задачи — именно он сумел осветить вопросы генерации колебаний светом большой науки.
Основные идеи, определившие научный путь Андронова, возникли у него и оформились еще в аспирантские годы. Они составили содержание его кандидатской диссертации. А свет увидели в образе двух маленьких заметок.
Первая называется «Предельные циклы Пуанкаре и теория колебаний», вторая — «Предельные циклы Пуанкаре и теория автоколебаний». Вторая статья была напечатана в 1929 году в журнале Французской академии наук «Compte rendus», на родине Пуанкаре.
…Анри Пуанкаре по праву считается крупнейшим французским математиком второй половины XIX и начала нашего века. По авторитетному свидетельству многих ученых, Пуанкаре оставил печать своего гения почти во всех областях огромного математического мира. Его труды существенно повлияли на нынешние представления как в математике — в топологии, в теории вероятностей, так и в фундаментальных вопросах физики. Близки были ему и идеи специальной теории относительности. Недаром Эйнштейн сказал, что, не будь его, специальную теорию мог бы сделать или сделал бы Пуанкаре.
Математики отмечают, что всякий раз, обращаясь к работам Пуанкаре, они чувствуют обаяние оригинальности. Чтобы тоже дать хоть чуть-чуть почувствовать это обаяние оригинальности, хочется привести одну фразу из очень интересной его книги «Наука и гипотеза»: «Всякой истине суждено одно мгновение торжества между бесконечностью, когда ее считают неверной, и бесконечностью, когда ее считают тривиальной».
Но «тривиальность» истины — это ведь тоже ее торжество. Значит, она уже стала классикой, доподлинной истиной. Такой истиной стали и многие идеи самого Пуанкаре.
В 1881 году Пуанкаре был избран профессором Сорбонны. В тот же год вышло его сочинение «О кривых, определяемых дифференциальным уравнением». Это чисто математическая работа, не связанная с проблемами физики, механики или астрономии и, казалось, не имеющая к ним никакого отношения. Но в развитии математики роль ее была очень велика — Пуанкаре положил в ней начало так называемой качественной теории дифференциальных уравнений.
Качественная теория дифференциальных уравнений называется еще и топологической. «Топос» — по-латыни — место. В топологии математические отношения определяются не числами, не формулами, а взаимным расположением геометрических фигур. В тех случаях, когда решение дифференциального уравнения не может быть получено в виде числа или формулы, его иногда удается представить геометрической картиной. Например, для систем с одной степенью свободы такую картину можно нарисовать на плоскости в виде определенного набора кривых, а если система имеет большее число степеней свободы, эта картина становится объемной. Так, для двух степеней свободы она будет уже четырехмерной. Плоскость, на которой изображен такой геометрический «портрет» системы, называется фазовой плоскостью; она представляет собой некую специфическую систему координат.
Любой процесс в колебательной системе можно представить на этой плоскости движением точки по некоторой кривой, которая называется интегральной кривой, или фазовой траекторией.
Такое геометрическое изображение поведения колебательной системы Андронов назвал ее фазовым портретом.
Стремясь найти общий характер поведения интегральных кривых, Пуанкаре открыл свои «предельные циклы». Предельным циклом он назвал замкнутую интегральную кривую нелинейного дифференциального уравнения. Предельным этот цикл называют потому, что соседние с ним кривые как снаружи, так и изнутри приближаются к нему асимптотически, то есть подходят к нему все ближе и ближе, в пределе сливаясь с ним совсем.
С этой работой Пуанкаре и познакомился Андронов спустя почти пятьдесят лет после ее появления. И вдруг явственно увидел, что предельные циклы и есть решение волновавшей его задачи об автоколебаниях.
Но это была не единственная находка.
В одном и том же 1892 году появилось два сочинения. Во Франции, в Париже, вышел первый из трех томов «Новых методов небесной механики» Анри Пуанкаре. В России, в Харькове, Александр Михайлович Ляпунов защитил докторскую диссертацию под названием «Общая задача об устойчивости движения», которая была вскоре опубликована.
В сочинении Пуанкаре среди прочего был разработан так называемый метод малого параметра — способ решения нелинейных задач небесной механики, когда нелинейность достаточно мала, то есть когда колебательная система близка к линейной.
Ляпунов строго математически исследовал проблему устойчивости механических систем, опять-таки в применении к астрономии. Он нашел условия, при которых эта устойчивость сохраняется при небольших изменениях в начальных условиях, в начальном, исходном состоянии системы. Термин «устойчивость по Ляпунову» теперь занял прочное место в трудах по механике и математике.
Обнаруженные в этих сочинениях идеи и математический аппарат Андронов также взял на службу нелинейной теории колебаний, как взял и предельные циклы Пуанкаре.
Вот как он сам рассказывал об этом:
— Леонид Исаакович Мандельштам отнесся очень внимательно к моему утверждению, что незатухающие колебания в системах с одной степенью свободы — это предельные циклы Пуанкаре. Когда дальнейшая мобилизация математической информации привела к работам А. М. Ляпунова по устойчивости и к методу малого параметра того же Пуанкаре, то Л. И. Мандельштам — так по крайней мере мне показалось — был несколько удивлен. Он захотел отчетливо понять происхождение всех этих работ, их место внутри математики, их связь, а в некоторых случаях отсутствие прямой связи с астрономией, механикой и физикой. Поразительна та легкость, с которой он установился на новой точке зрения, сумел быстро нащупать ее сильные и слабые стороны и начал руководить атаками при помощи нового оружия…
До работ Андронова математики, занимающиеся качественной теорией дифференциальных уравнений, не подозревали, что предельные циклы имеют отношение к физике и технике, а физики и инженеры, исследовавшие процессы, связанные с генерацией колебаний, не знали, что математический аппарат, нужный для создания общей теории этих процессов, уже существует.
В этих первых работах Андронов выдвинул два требования, касающиеся устойчивости автоколебательных систем.
Одно — чтобы устойчивость не нарушалась при достаточно малых изменениях начальных условий. Это и есть «устойчивость по Ляпунову». Второе — чтобы устойчивость не нарушалась при достаточно малых изменениях самих уравнений, описывающих процессы в нелинейной системе. Второе требование вскоре привело Андронова к совершенно новым и очень глубоким математическим идеям, которые, как это ни парадоксально, едва ли могли возникнуть в самой математике. Потому что путь к ним шел от физики и техники. Идеи эти объединяются словом «грубость», также придуманным Андроновым. Но об этом чуть позже.
Словотворчество — орудие поэта. Словотворчество — органическая потребность ребенка, непременная и постоянная. Но взрослый человек, притом не литератор, редко способен к словотворчеству.
Андронов легко изобретал новые слова и собственные, часто смешные, выражения.
— Что вы ее стрóжите? — спросил он у родителей, при нем отчитывавших маленькую девочку.
— Ушел, завернув хвост колечком, — говорил он о человеке, который не довел до конца своего дела или сумел увильнуть от разговора.
— Отталкивание мягким пузом, — это о том нередком приеме, который потом получил у физиков название «спихотехника».
— Известно маленьким детям. Детский разговор.
Ландау говорил несколько иначе: «Это вам еще мама должна была объяснить». Речь шла, конечно, о вопросах физики, в которых разбирается, увы, не каждая мама.
Эти андроновские выражения часто входили в обиход, становились крылатыми словами. А Андронов, вероятно, просто не мог их не выдумывать. Но если в быту словотворчество было выражением его любви к ярким и метким словам, то, когда дело касалось науки, Андронова заботила прежде всего точность слова, соответствие его физическому процессу. А образность, иногда даже метафоричность, лишь помогала цели — наиболее полному раскрытию сущности явления.
Как первопроходчик, он давал имена открытым им землям, крестил их. Каждый, кто после Андронова совершает путешествие по этим землям, не может не оценить точности его словесных находок. Так появился и термин «грубость». И опять трудно не поразиться «единственности» найденного слова.
Какие ассоциации возникают, когда мы говорим о грубости?
Вот человек тонкой душевной организации. Он крайне чувствителен ко всяким отклонениям от привычных для него норм — в поведении окружающих, в их отношении к нему, в общей обстановке. Он легко выходит из равновесия даже от незначительных, едва заметных колебаний этой «внешней среды» или от каких-то перемен, колебаний внутренних, происходящих в нем самом. А другой, с более «грубой душой» — или «грубой шкурой» — останется совершенно нечувствительным к этим же колебаниям и переменам.
А «грубость» в науке и технике?
Для иных целей от приборов и физических систем требуется чувствительность, на много порядков превосходящая чувствительность самого тонко организованного человека (это, конечно, шутка, но вообразим, что мы нашли общий эталон для измерений и того и другого); требуется мгновенное улавливание почти неуловимых отклонений от заданной нормы, заданного режима и немедленная реакция на такое отклонение. В этом и состоит назначение многих из этих систем и приборов.
Но представим себе на минуту, что произойдет, если такой чувствительностью будут обладать все машины и приборы, все физические или технические системы.
В телевизоре или радиоприемнике перегорела одна из ламп. Ее заменили новой и… приемник замолчал навсегда. В природе нет, конечно, двух совершенно тождественных ламп, полностью совпадающих по всем своим качествам, по всем характеристикам; а он, приемник, «существо сверхтонкой организации», был «настроен» только на работу именно с этой одной-единственной лампой. Но и при самом налаженном автоматическом производстве, при самом строгом контроле повторить ее, сделать абсолютного двойника не удается.
Пример кажется почти абсурдным. В приемниках и телевизорах, в электрической сети лампы меняются запросто, и все отлично работает. Но представить себе такой «безумный мир» совсем не трудно. Обездвиженные навек самолеты и автомобили, в которых пришлось заменить одну деталь, остановившиеся часы, у которых сломалась пружина, или, того глупее, потерялась стрелка, и еще… и еще… и еще…
Короче, люди оказались бы в окружении то ли сбесившихся, то ли забастовавших — даже не роботов, что модно нынче в научной фантастике, — а обыкновенных, привычных и близких им приборов и машин.
Такая картина смахивает на плохую пародию плохого опуса из жанра фантастической литературы… Но на самом деле все это весьма серьезно, это предмет сложной науки.
Если говорить опять-таки упрощенно, но уже всерьез, то, видимо, надо сказать так: для нормальной работы физические системы, аппараты и машины должны обладать известной степенью грубости, то есть быть нечувствительными к малым изменениям и в своем устройстве, в своих параметрах, в режиме своей работы и во внешних условиях. Эти изменения не должны сказываться на основных, типичных чертах поведения системы. Другими словами, грубая система — это такая, качественный характер поведения, которой не меняется при малых изменениях ее параметров.
Да, «грубость» здесь хорошее слово и очень необходимое качество. Чтобы современная наша жизнь текла нормально (по крайней мере техническая и бытовая ее стороны), просто обязательно, чтобы машины, приборы, целые системы их были грубыми.
Но так как поведение систем должно описываться математически, с помощью уравнений, то появился новый в математике термин, выражающий новое понятие, — «грубые уравнения».
Этот круг проблем мобилизовал математическое дарование Андронова. Потому что на этот раз нужного аппарата для исследования таких процессов у математиков не было. И Андронову пришлось самому взяться за создание его.
Идея этой новой главы математики состояла в том, что характер решения «грубых уравнений», по существу, не должен был меняться при малых изменениях самих уравнений, вызванных главным образом некоторыми изменениями их параметров. Скажем, изменились немного параметры, соответственно изменилось немного уравнение, а фазовый портрет системы остался таким же, как и для неизменного уравнения… «Грубость», нечувствительность к подобным малым изменениям — вот что было главной особенностью решений «грубых уравнений». Требование это далеко не тривиально. Математики и физики знают, как часто незначительные изменения хотя бы в одном параметре могут обернуться совсем другим результатом.
Андронов с сотрудниками детально разработал новый математический аппарат для описания грубых систем. Работы эти оказались, вероятно, равно необходимыми и плодотворными и для физики, и для техники, и для математики; они послужили основой для решения многих задач. Для всей, так сказать, «земной» механики понятие «грубая система» стало столь же важным, как для небесной механики понятие «консервативная система». (В консервативной системе нет, или почти нет, потерь энергии. Такова наша солнечная система, изучение которой и породило небесную механику.) Как всегда, тесный контакт физики с математикой не только сложил, но и умножил успехи и той и другой.
«Грубость», которую Андронов сначала усмотрел в реальных системах, а затем перевел на язык математики, оказалась очень доброкачественным и тонким инструментом. С помощью этого инструмента удалось описать поведение многих физических систем.
Приближались сороковые годы. Автоматика сперва робко, потом все уверенней начинала заявлять о себе. И в мирной и в военной технике ручное управление машинами стало сменяться «самоуправлением» их — автоматическим регулированием. Автопилот на самолете, авторулевой на торпеде, регуляторы в тепловых и электрических машинах…
Андронов очень рано понял, какое будущее ждет автоматику в развивающейся технике, сколь велика станет ее роль в промышленности, науке, даже быте. И подошел к этой тогда для всех еще достаточно новой, малоизведанной проблеме со своих «колебательных» позиций.
Устройства автоматического регулирования были нелинейными системами. И потому в них могли возникать — и часто возникали — автоколебательные процессы.
Но если в радиотехнике автоколебания — необходимое условие работы системы, то в автопилоте, например, они зло. От них идет нарушение заданного режима работы, а иногда и полный уход от режима. Здесь автоколебания — источник ненадежности работы, а случается, и причина катастрофы. Самое пугающее было в том, что чем больше росли точность и быстрота действия регуляторов, тем больше росла и опасность появления автоколебаний — существовала тут некая коварная пропорциональность.
Никто не знал, как с этим злом по-настоящему бороться. Устройства налаживались вслепую, потому что надежной теории и надежных рецептов попросту не существовало. Старая теория авторегулирования создавалась в основном еще в конце XIX века как линейная теория. Авторами ее были великие ученые — Максвелл, Вышнеградский, Стодола. Но пора развернутого нелинейного подхода еще не наступила. Между тем в таких системах возникали автоколебания, что уже само свидетельствовало об их нелинейности.
Приход Андронова к проблемам автоматического регулирования был естественным и, вероятно, внутренне для него необходимым — ведь здесь тоже были «его» автоколебания. Пусть в радиотехнике устойчивость автоколебаний необходима, а в автопилоте она порок системы, но механизмы-то одинаковые, близкие. И способы изучения одни и те же. Полезные и вредные колебания надо равно заинтересованно изучать, одинаково хорошо знать и понимать их.
Как энтомолог с равным энтузиазмом и настойчивостью изучает полезных и вредных насекомых, а бактериолог — полезных и вредных микробов, так и Андронов изучал автоколебания в радиотехнике, где без них не может работать даже простейший передатчик, и в автопилоте, где они были вредны, а иногда и угрожающе опасны.
Давно уже в литературе и в жизни бактериологов стали называть «охотниками за микробами». Андронов всю свою жизнь был подобным же охотником за автоколебаниями. Он искал их и умел находить, разглядеть в различных, порой совсем неожиданных, системах, умел обнаружить там, где их не видели другие, умел объяснить, когда их неправильно понимали и истолковывали. Так было и в автоматике.
Нелинейность — отклонение от линейности — может быть маленькой, а может и большой. И методы решения задач с малой и большой нелинейностью совершенно различны. Потому что первые системы можно рассматривать как квазилинейные, а вторые — нельзя.
В автоматическом регулировании особенно много «сильно» нелинейных задач. Именно на разработке аппарата для решения задач существенно нелинейных сосредоточил главные свои усилия Андронов. Прежде всего он стал развивать качественную — топологическую — теорию дифференциальных уравнений. Потому что в этой теории он нашел необходимую общность.
Не ограничиваясь методами качественной теории дифференциальных уравнений, Андронов со своими учениками применял и другие методы. Это, например, уже упоминавшийся метод малого параметра (или его модификации), годный для слабо нелинейных систем. Хотя этот математический аппарат обладает высокой степенью строгости и нашел самое широкое применение при решении многих радиотехнических задач, Андронов относился к нему прохладно из-за его ограниченности.
Для сильно нелинейных систем Андронов нашел другой подход — он стал применять так называемый метод точечных преобразований. Рассказывать о нем — это значит забираться в математические дебри, да еще без подходящего снаряжения. Хотелось бы только сказать, что для целого ряда задач, когда система имеет несколько степеней свободы и ее поведение надо описывать не одним или двумя, а большим числом дифференциальных уравнений, даже топологический метод оказывается бессильным. А метод точечных преобразований — не в первоначальной форме, а усложненный и по-своему разработанный Андроновым и его учениками — позволяет разумно поставить такие задачи и найти их решение.
Пока Андронов не стал заниматься автоматическим регулированием, ему достаточно было фазовой плоскости для решения интересовавших его задач. Теперь же ограничиваться плоскостью было уже нельзя.
Марк Аронович Айзерман, один из учеников и друзей Андронова, сказал:
— Крайне важным, важным принципиально, в этих работах Андронова было то, что можно назвать «выходом из фазовой плоскости в трехмерное пространство». Такой переход был математически крайне сложен и, повторяю, принципиален. Дальнейшие переходы к большему числу измерений тоже очень сложны, но уже не столь принципиальны.
В этой связи Андронов однажды напомнил слова французского математика Бореля:
— В небесной механике, как в счете дикарей, «много» начинается уже с трех.
Речь шла о так называемой проблеме многих тел. Действительно, довольно просто рассчитать взаимодействие двух тел, например Солнца и Земли, если принять, что, помимо них, ничего поблизости нет. Но когда тел хотя бы три, задача усложняется неимоверно.
В теории автоматического регулирования «три» это тоже означало «много». Выйти за пределы двух измерений, «оторваться» от фазовой плоскости было очень трудно и в то же время необходимо, потому что автоматические устройства — это, как правило, весьма непростые системы со многими степенями свободы и их фазовый портрет не плоский, а многомерный.
Все эти работы Андронова и его школы, математический аппарат, найденный и разработанный или созданный им заново для решения нелинейных задач, и самый подход его, такой революционный и новый при своем зарождении, теперь уже стали классикой. Они вошли в подлинно золотой фонд научной мысли — но не как историческая ценность; они лежат в фундаменте сегодняшних исследований, они — часть обязательных курсов, им учат молодежь. Для студентов — колебателей, радиофизиков и механиков — «нелинейное мышление» теперь стало «своим», естественным. В этом огромная заслуга Андронова.
И во всем мире, когда речь заходит о поистине неисчерпаемом множестве нелинейных явлений, процессов, систем, прежде всего открывают работы Андронова как основополагающие и классические во всех смыслах — и по значимости, и по фундаментальности, и по классичности исполнения. Классикой давно стала и книга «Теория колебаний», написанная еще в середине тридцатых годов совместно А. А. Андроновым, А. А. Виттом и С. Э. Хайкиным.
Так, благодаря исследованиям Андронова и многочисленным работам, для которых эти исследования послужили основой и отправным пунктом, развилась советская «нелинейная» школа физиков, механиков и математиков, занявшая в области теории колебаний ведущее место в мировой науке.
Но и это еще не было завершением творчества Андронова. Ему виделась еще одна, весьма широкая область приложения нелинейной теории колебаний. Это была область машин — в самом широком понимании термина «машина». Андроновский подход оказался совершенно новым и непривычным для механиков, тех, кто имел дело с машинами. Андронов так рисовал себе предстоящую свою работу, которой — он тогда еще этого не знал — суждено было стать последним, незавершенным его трудом.
— За последние годы, — говорил Андронов в конце сорок четвертого, — начал происходить процесс, если можно так выразиться, известного перебазирования теории нелинейных колебаний. Возмужавшая на материале электротехники, она в настоящее время наряду с непрерывно расширяющейся в связи с новыми типами генераторных и приемных устройств областью применения внутри радиотехники получила другую, может быть, не менее обширную область систематического применения — теорию автоматического регулирования. И есть серьезные основания ожидать, что помощь, которую теория нелинейных колебаний оказывает теории автоматического регулирования, и те существенные, но спорадические услуги, которые она оказывает теории электрических машин, динамике полета, теории часов и т. д., приведут в конечном счете к созданию новой научной дисциплины, название которой я не хочу предвосхищать, но которая будет классифицировать машины и механизмы так, как это делает теория колебаний, — по структуре соответствующего фазового пространства, а не потому, будет ли машина работать сжатым воздухом или электричеством и будет ли механизм твердозвенный, упругозвенный или электрический…
Помните, теория колебаний стала наукой, когда найден был единый подход к различным колебательным явлениям — звуковым, механическим, световым, электрическим, электромагнитным, когда был развит «интернациональный язык» теории колебаний. Теперь подобный же в принципе интернациональный язык собирался создать Андронов для теории машин. Вскоре он нашел и имя для новой науки — общая динамика машин.
Почти любая современная машина — это сложная система со многими степенями свободы. Такие системы, как правило, нелинейны и нередко принадлежат к классу автоколебательных систем. Задача, которую поставил Андронов, заключалась в едином математическом подходе к этим разноликим и разнопринципным системам машин — механическим, электрическим, их комбинациям и тому подобное.
Но эту широко задуманную работу Андронов успел лишь начать. Так же, как успел только начать свой путь навстречу кибернетике. Дорога к кибернетике шла тогда в основном через область вычислительных машин — быстродействующих электронных вычислительных устройств.
Путь был трудным и технически и идейно. Кибернетику в то время, в начале пятидесятых годов, полагалось считать идеалистической лженаукой. Само это слово разрешалось употреблять лишь в ругательном смысле.
Несмотря на такую ситуацию, Андронов посвящает кибернетике вводную лекцию к курсу теории колебаний. Он рассказывает студентам, что такое кибернетика, убежденно говорит, что за ней будущее, что та критика, которой она подвергается, основана на чистом непонимании, на невежестве и к настоящей науке, какой является кибернетика, не имеет никакого касательства.
Андронов частично переориентирует и кафедру теории колебаний на новое направление, связанное с вычислительными машинами и теорией управления.
Когда слушаешь рассказы о характере и привычках Андронова, о его жизни, то поначалу создается впечатление, что он человек не просто сложный, а даже противоречивый.
Действительно, с одной стороны, ограничение своей научной деятельности одной областью, которую сам он считал довольно узкой, — нелинейными колебаниями. А с другой стороны, редкая широта и разнообразие интересов, и глубокие, совсем не дилетантские знания во многих науках и в искусстве.
Или еще. С одной стороны, всегда какой-то мальчишеский облик, пренебрежение к своей внешности, пренебрежение в быту, студенческая обстановка дома. И при этом несомненная любовь к комфорту.
Правда, мальчишество в облике и часто в поведении, озорство были в какой-то степени стилем Андронова. И все чувствовали, что этот стиль ему идет, естествен для него. Но интереснее другое. При мальчишестве, сохранившемся, несмотря ни на что, до конца жизни, поразительно было в Андронове, еще мальчике, на редкость серьезное и осмысленное — очень взрослое — отношение к науке и к своей работе в ней.
Здесь возмужание началось уже на школьной скамье. Сначала Андронова привлекала медицина. И он стал готовиться к занятиям ею, но готовиться по-своему. На столе у него появились книги по высшей математике, по физике — Андронов решил прежде всего поступить на физико-математический факультет университета. Сейчас, в последние годы, наконец, осознали, как важна математическая и физико-химическая подготовка для медиков и биологов, и всерьез стали учить этому студентов. А Андронов-школьник понимал это в 1916–1917 годах.
Интересно, что и Лобачевский на первом курсе университета, пятнадцатилетним мальчиком, хотел посвятить себя медицине, в то же время глубоко увлекаясь и интересуясь математикой. Лобачевский здесь упомянут не случайно. Многие годы своей жизни, до самого конца, Андронов глубоко интересовался Лобачевским и отдал немало сил розыскам документов, касающихся великого геометра. Лобачевский словно находился с ним рядом в последний период жизни Андронова.
К окончанию школы планы Андронова переменились, хотя глубокий интерес к медицине остался у него навсегда. Был восемнадцатый год. Шла гражданская война. Андронов поступил работать на завод, а потом уехал на Урал с военно-продовольственным отрядом.
Вернулся он в Москву в 1920 году и сдал экзамены в МВТУ, ныне — Бауманский институт. Но желание получить физико-математическое образование не оставляло его. Наряду с учебой в МВТУ он начал слушать лекции в университете, а затем и вообще перешел на физмат МГУ.
Университет Андронов окончил физиком-теоретиком.
Есть физики различного типа — в том числе и среди крупных физиков-теоретиков. Одни в течение своей жизни переходят от одной области науки к другой, в каждой из них оставляя заметный след. Другие всю жизнь остаются верны единственному, однажды выбранному направлению.
Трудно сказать, от чего это зависит. От склада ли ума и характера исследователя, от обстоятельств его работы и жизни, от научной ли среды, в которую он попадает? Или от состояния и развития самой науки? А может, и от каких-то иных, неконтролируемых обстоятельств? Вероятно, каждая из этих причин в той или иной степени вносит свою лепту в судьбу ученого, в направление его труда.
Андронова живо интересовали стиль и процесс творчества ученых, характер их мышления. Свидетельство этого — его запись беседы с Эренфестом.
Разговор с Эренфестом происходил в Ленинграде в сентябре 1924 года на Четвертом съезде русских физиков. После одного из заседаний группа студентов, в числе которых был и двадцатитрехлетний Андронов, завладела Эренфестом и стала расспрашивать его об Эйнштейне и Боре.
Неизвестно, запомнил ли Андронов слова Эренфеста точно, записал ли их сразу после беседы или записал потом, спустя какое-то время; может быть, он внес в них что-то свое, как-то по-своему трансформировал их. Во всяком случае, рассказ Эренфеста об отношении к науке Эйнштейна и Бора, об их воззрениях, о стиле их работы произвел на Андронова большое впечатление; он не раз пользовался случаем, чтобы повторить и напомнить содержание его. Вероятно, еще и потому, что многое в позиции обоих великих физиков стало как бы «символом веры» самого Андронова. Вот почему хочется привести целиком его пересказ той давней беседы, хотя отрывок из нее читателю уже знаком:
«На съезде 1924 года студенты, в числе которых был и я, спросили у Павла Сигизмундовича Эренфеста, чем отличаются Альберт Эйнштейн и Нильс Бор от других физиков и какие свойства их ума и характера определяют те блестящие научные достижения, которые связаны с их именами. И Эренфест, к моему удивлению, почти не задумываясь, ответил, что хотя Эйнштейн и Бор обладают резко выраженной индивидуальностью, у них есть ряд общих черт, отличающих их, как он выразился, от „обыкновенных“ физиков. Общим для них является то, что они оба исключительно хорошо знают классическую физику, они, так сказать, „пропитаны“ классическим знанием. Они знают, они любят, они чувствуют классику так, как не знает, не может знать „обыкновенный“ физик. Самое неправильное, что можно думать об Эйнштейне и Боре, это то, что они какие-то „декаденты“, что они хотят „эпатировать публику“, что они готовы принять новое только потому, что это новое. Наоборот, в известном смысле их можно скорее назвать консерваторами, с такой бережностью они относятся к классическим объяснениям, к каждому кирпичику здания классической физики. Для них новые вещи являются необходимостью только потому, что они хорошо знают старое и отчетливо видят невозможность старого классического объяснения».
Здесь стоит прервать Андронова, чтобы напомнить, во всяком случае молодежи, что разговор этот происходил более сорока лет назад. Новые воззрения только-только завоевывали умы самих физиков. Именно в их среде эти недавно возникшие идеи и представления, переворачивающие незыблемое, ниспровергающие устои, часто встречали самое большое сопротивление. Вероятно, и сами творцы новых идей приходили к ним, принимали их не без внутреннего сопротивления. И только, как говорил Эренфест, невозможность старого классического объяснения новых фактов заставляла их искать и находить объяснения, действительно ошеломляющие и, как казалось, сверхпарадоксальные. Так было и у Эйнштейна и у Бора.
«Не менее характерно для них обоих то, что при встрече с новым для них вопросом, выражаясь по-школьному (может быть, психологи на меня нападут), через их головы в единицу времени проходит большее количество мысленных комбинаций, возникает большее количество вопросов, на которые они дают себе ответ, чем через голову обыкновенного ученого. Например, если по поводу той или иной новой научной работы, которую Эйнштейн или Бор прочли, им задать разумный вопрос, то почти всегда они дают моментальный ответ. И это потому, что этот вопрос, им заданный, ими уже проработан, он им уже приходил в голову и они на него уже дали себе ответ. У них логический ум: они не только быстро думают, но глубоко и всесторонне, и, что, может быть, самое важное, в высшей степени последовательно. Ненужное они отвергают, ценное выделяют и сразу видят, „что с ним можно сделать“.
Таково у них характерное и общее.
Вместе с тем есть и нечто индивидуальное, отличающее одного от другого.
Эйнштейн уверен в себе, в своих идеях. Он уверенно и смело рисует картину и, образно выражаясь, пишет картину даже там, где, казалось бы, еще есть неясности, недоработанности. Его „кисть стучит о раму“. Нет светотеней. Для него все ясно. И он пишет картину набело, иногда даже ошибаясь.
Иное — Бор. Бор — это „Рембрандт от физики“. Он всю силу и яркость своей научной мысли сосредоточивает на каком-либо определенном месте, так сказать, на „ярком, доработанном пятне своей картины“. Остальное в картине — полумрак. Он осторожен, почти никогда не ошибается».
…Трудно сказать, к какому типу теоретика ближе подходил сам Андронов. Думается, он и не сопоставлял себя ни с Бором, ни с Эйнштейном. Он шел своим путем и оставался ему верен до конца: «Моя специальность — теория нелинейных колебаний».
Это была его работа. А рядом с ней существовало немалое число наук, которые не просто интересовали, а глубоко увлекали Андронова.
— На его рабочем столе, — вспоминает Гапонов, — книги по медицине, биологии, математике, физике, художественные и исторические — всегда присутствовали в равной пропорции. Интерес к медицине, биологии, физиологии и другим естественным наукам заставлял его систематически следить за научной литературой во всех областях. Андронов никогда не страдал узостью интересов, свойственной многим ученым даже с мировым именем. Конечно, в первую очередь он был физиком и математиком. Но трудно было встретить человека, столь глубоко знавшего русскую и зарубежную художественную литературу.
— Его образованность и широта интересов поражали всех, — рассказывает и Баутин. — Например, он как-то, еще до войны, выступил на защите биологической диссертации «О регенерации хрусталика в глазу рыб». Он участвовал в дискуссии наравне с биологами, совершенно свободно чувствуя себя в этой области. Нас тогда это очень удивило. Так же отлично знал он и историю. Во время войны у него на стене висела большая карта. Все взятые нами пункты он отмечал гвоздями, которые сразу же вбивал в стену — может, в этом вбивании накрепко заключалась для него некая символика.
При каждом случайно возникавшем разговоре на любую тему обнаруживалось, что и это Андронов тоже знает. Наконец, мы вовсе перестали удивляться энциклопедичности его знаний, какой бы области они ни касались. Часто в наших спорах мы стали пользоваться «недозволенным приемом», при недостатке собственных аргументов говорили: «Так сказал Александр Александрович». Это действовало мгновенно и безотказно, о чем бы спор ни заходил — о физике или математике, о биологии, медицине или истории.
Что касается художественной литературы, то у Андронова были очень резко выраженные вкусы и пристрастия по отношению к писателям и даже к отдельным произведениям. Очень любил он и отлично знал всего Пушкина, Герцена, Лескова. Он мог читать наизусть, страница за страницей, не только стихи, но и прозаические произведения, даже прозу Герцена, такую непростую. Любил «Думу про Опанаса» Багрицкого. Не сразу, но крепко полюбил Пастернака, особенно некоторые его стихи. Когда бывал у Рытовых, за столом всегда возникали литературные споры. Однажды кто-то из присутствующих сказал, что в стихах Пастернака много непонятного. Андронов стал с жаром доказывать, что у Пастернака осмыслено каждое слово. Если знать ситуацию, при которой написано стихотворение, то можно и в самых сложных стихах объяснить все, до последнего слова.
Неизвестно, действительно ли Андронов так уж полностью был в этом убежден или говорил в запальчивости, защищая поэта, потому что, когда его попросили объяснить что-то у Пастернака, он с чуть заметной иронией, подсмеиваясь то ли над собой, то ли над собеседником, ответил:
— Я теперь забыл некоторые из обстоятельств, а потому вряд ли смогу все объяснить.
А может, он и не захотел объяснять. Потому что разве можно и, главное, нужно ли так вот разъединять на отдельные слова, анатомировать поэзию? Тем более поэзию Пастернака…
Марина Цветаева в удивительно интересной статье о Маяковском и Пастернаке писала:
«Иносказание — Пастернак…
Шифр — Пастернак. Маяковский — световая реклама, или, что лучше, прожектор, или, что еще лучше — маяк».
В подтверждение, почему «иносказание — Пастернак», Цветаева расшифровывает строчки стихотворения, написанного им на смерть Маяковского.
«Беру любой пример. Смерть поэта:
Лишь был на лицах влажный сдвиг, Как в складках прорванного бредня.Слезный, влажный сдвиг, сдвинувший все лицо. Бредень прорван — проступила вода — слезы».
Наверное, подобным же образом мог бы «рассказывать Пастернака» и Андронов, если бы захотел…
Когда друзья вспоминают о различных увлечениях Андронова, то обязательно говорят и о его многолетних розысках документов, связанных с рождением и детством Лобачевского. Как бы ни относились окружающие к этому занятию, называли ли его хобби или уходом от трудности жизни, для самого Андронова, судя по всему, в нем заключался важный смысл.
«Мне кажется, — писал он академику С. И. Вавилову, бывшему тогда президентом Академии, — что Академия наук СССР не должна оставаться в стороне от этой работы. Неясность в отношении места рождения Н. И. Лобачевского, в дате его рождения, в занятиях и общественном положении его родителей не позволяет составить доброкачественную биографию Н. И. Лобачевского (конечно, в той ее части, которая касается происхождения и его детских и юношеских лет)».
Я думаю, что Андроновым владело не только стремление докопаться до истоков, найти и установить истину. Был, верно, еще и пристальный интерес к детству великого геометра. Ведь именно в детстве «конструируется» человек, закладываются его характер, склонности. И Андронову интересно и важно было знать, когда, как, где — не здесь ли, в Нижнем Новгороде, — в маленьком Николае Лобачевском начал формироваться человек невиданной смелости мысли.
Когда в 1951 году отмечалось 95 лет со дня смерти Лобачевского, Андронов выступил с речью в Горьковском университете:
— Имя Лобачевского, его трагическая судьба и мировая слава, может быть, приведут некоторых юношей и девушек из числа заполнивших аудитории нашего университета в «то мечтательное о себе самомнение», которым отличался молодой Лобачевский, и тем толкнут их к творческой деятельности в области математики…
И, тепло глядя на раскрасневшиеся лица этих юношей и девушек, Андронов, вспоминает сотрудница его Надежда Ивановна Привалова, задумчиво добавил, обращаясь прямо к ним:
— На улицах, по которым вы ходите, когда-то бегал босоногий мальчишка Лобачевский.
Так он чувствовал историю, видел ее «живою». Андронов был эмоциональным человеком, эта картина, представляясь ему, верно, всякий раз волновала его, и ему хотелось свое волнение передать молодежи, студентам.
Несколько отчужденный интерес историка вскоре, вероятно, стал все больше уступать место глубоко личному отношению к Лобачевскому. Думается, что многое здесь рождало ассоциации, как-то связанные с ним самим.
Горький, бывший Нижний Новгород… Он прожил в этом городе многие годы, заканчивал жизненный путь. А Лобачевский здесь его начинал.
Горьковский университет… Едва ли не главной своей задачей Андронов считал воспитание будущих ученых. Во всяком случае, для него это было не менее важно, чем собственные занятия наукой. Он читал и общие курсы теоретической физики — теорию относительности, электродинамику, теорию колебаний — и специальные. Особенно блестяще и увлеченно рассказывал он о фундаментальных основах физики, о самых глубоких и принципиальных сторонах явлений. Иногда чувствовалось, что обычные лекции ему читать уже не так интересно, но все равно никакого снижения уровня он не допускал. Лекции строились по безупречной логической схеме. Андронов не уставал повторять основы, чтобы «довести до ясности». У него были четко выработаны правила преподавания, он им следовал сам и внушал их всем, кто читал лекции.
Он говорил, что прежде всего надо сделать для студентов абсолютно ясными основы науки. Тогда и студенты и лекторы получат надежный фундамент для изложения и понимания самых сложных, по-настоящему трудно доступных вещей. Кроме того, надо воздействовать не только на ум, но и на воображение студентов. Без такого эмоционального воздействия наука останется для них сухой и абстрактной.
Ничто в университетской жизни не оставляло Андронова равнодушным. Он деятельно и пристально вникал во все стороны жизни, быта студентов и университета. И тогда, когда сам был уже тяжело болен, он следил за работой молодых физиков, остро переживал их успехи и неудачи.
Лобачевский отдал все свои силы другому городу на Волге — Казани: ее студентам, ее учебным заведениям, прежде всего Казанскому университету. Он был его кормчим и строителем во всех смыслах — и в буквальном и в переносном. Об этом Андронов думал много и часто. Привалова вспоминает об одной из встреч с Андроновым:
— Дорóгой Александр Александрович разговорился. Он говорил о значении Лобачевского как крупного деятеля русского университетского образования, создавшего «один из лучших наших университетов — Казанский университет», об его заслугах перед родиной, о «грандиозном подвиге» всей его жизни — неэвклидовой геометрии, давал оценку трудов великого математика, вспоминал известные слова Менделеева: «Геометрические знания составили основу всей точной науки, а самобытность геометрии Лобачевского — зарю самостоятельного развития наук в России». Полушутя, полусерьезно он утверждал, что хотел бы «стать на время палеографом», «перевоплотиться в архивного работника», сделаться «комплектатором всемирного обязательного экземпляра каждой из книг Лобачевского и о Лобачевском».
И он действительно становится «палеографом» и «архивным работником», и на очень длительное время. Привалова рассказывает, какую энергию и активность развивал Андронов. Он посылал сотрудников в командировки для розысков в разных архивах, каждому писал длинные «наказы», с чего начать, к кому обращаться, что в первую очередь выяснить, скопировать, сфотографировать…
Андронов и сам с удовольствием погружался в материалы, рылся в архивах, разыскивал и сопоставлял документы и факты.
— Вчера вечером проходил по Дзержинской и видел Андронова во дворе «Гастронома», — сказал как-то Приваловой ее знакомый. — Ходит, осматривает двор и что-то измеряет шагами. Что он там делал?
А делал он вот что.
Двор «Гастронома» оказался местом, где за полтораста лет до этого был расположен участок земли, принадлежавший матери Лобачевского Прасковье Александровне. Здесь некогда стоял домишко, в котором родился великий геометр.
Первые годы жизни Лобачевского и двух его братьев покрыты если и не совсем «мраком неизвестности», то, во всяком случае, «густым туманом».
Насколько известно, Лобачевский сам никогда и никому, даже жене и детям своим, не рассказывал о детстве, не любил упоминаний и о своем отце. Более того, он не только не внес полной ясности в свои формулярные списки — в то, что мы теперь называем «личным делом», а даже, как считал Андронов — и не без оснований, — сам добавил путаницы в них. Несомненно, между родителями его что-то произошло, вероятно это был полный разрыв. Братья Лобачевского стали числиться воспитанниками капитана Шебаршина, который и завещал впоследствии Прасковье Александровне Лобачевской свой дом, имущество и угодья. Был Шебаршин родственником Лобачевской или нет, каковы были у них отношения, установить, видимо, никогда не удастся. Едва ли где-нибудь сохранились еще неизвестные документы.
Вероятно, все, что, возможно, нашел тогда, к началу пятидесятых годов, Андронов со своими сотрудниками. Рассказывают, что, когда ему удавалось обнаружить новые данные, он радовался как ребенок: «Эта регистраторша, — весело говорил он, — меня с ума сведет».
«Эта регистраторша» была Прасковья Александровна Лобачевская.
…Собранные в разных концах страны материалы о Лобачевском исследовались, суммировались, обсуждались.
— Мне вспоминается декабрьский зимний вечер, — рассказывает Привалова, — освещенная комната со сводами, груда документов и книг на столах, а в центре крупная, запоминающаяся фигура человека в синем костюме. Улыбаясь, он громко и отчетливо ставит вопросы окружающим, внимательно прислушивается и либо решительно отвергает сказанное, либо задерживает внимание, и тогда новые вопросы, требования, порой ставящие в тупик собеседника… «Творческие силы ума остаются бесплодными при отсутствии энтузиазма и силы воли», — подчеркнул Андронов в одной из книг о Лобачевском. Эти слова как нельзя более применимы к нему самому. Трудно было встретить человека, в котором в совершенстве сочетались бы блестящие творческие способности с большой силой воли и принципиальностью ученого.
Таким запомнился Андронов…
Все его разные, казалось бы, даже взаимоисключающие черты уживались в нем. И вероятно, самое большое «противоречие» его характера было как раз в том, что при всем этом Андронов — на редкость цельная натура, для которой все присутствовавшие в нем качества были органичны и естественны.
Айзерман вспоминает несколько эпизодов, показывающих характер Андронова. Как-то у них произошла ссора. Надо было написать отзыв о работе одного ученого, выдвинутой на соискание крупной премии. Автор работы был болен, жил нелегко, и премия была бы ему очень кстати. Но Андронов воспротивился, когда Айзерман захотел дать незаслуженно хороший отзыв. Он сказал:
— Дело и правда — прежде всего. Болезнь и прочие подобные обстоятельства здесь ни при чем. Здесь они не должны играть никакой роли. Помочь надо обязательно, но совсем другим способом…
Вторая ссора, чуть не кончившаяся разрывом, случилась из-за того, что не был упомянут основатель одной из работ. Андронов рассердился, когда ему пытались объяснить, что этот человек больше ничего путного не сделал.
— Но ведь именно он открыл это первый. Такое нельзя забывать, — резко сказал Андронов.
В один из приездов Андронова в Москву они втроем — третьим был университетский товарищ Андронова, ныне тоже академик, — шли по улице Горького и возбужденно обсуждали какой-то научный вопрос. Шли большие, заметные, громко говорили, на них все обращали внимание. Потом Айзерман заметил, что они еще больше стали привлекать внимание, прохожие оборачиваются, показывают пальцем, что-то говорят. Оказывается, у их товарища отстегнулась резинка у носка.
— У вас отстегнулась резинка, — сказал ему Айзерман.
Тот на секунду остановился, потом махнул рукой:
— А, неважно, какое это имеет значение, — и продолжал говорить.
А прохожие по-прежнему оборачиваются. Тогда Айзерман шепнул Андронову:
— Скажите ему, что у него отстегнулась резинка.
— А какое вáм до этого дело?! — с великолепной непосредственностью и убежденностью в голосе ответил Андронов.
Это, конечно, вроде бы и незначительные эпизоды, мелкие штрихи. Но каждый из них что-то говорит об Андронове.
Если вернуться к мысли о «человеческих» чертах научных школ, то школе Иоффе, как мне кажется, гораздо больше, чем, например, школе Мандельштама, присущ стиль государственности, масштабной организаторской деятельности. Для нее характерен тип ученого — государственного деятеля и организатора науки. Сам Абрам Федорович Иоффе, Игорь Васильевич Курчатов, Николай Николаевич Семенов — вот наиболее яркие, но не единственные примеры.
Хорошо это или плохо для школы, для самих ученых? Теряют они при этом или приобретают — как ученые, как исследователи? А если в чем-то теряют, то теряет или приобретает вся школа, вся наука? Пожалуй, на такие вопросы нет однозначного ответа. Да дело и не в ответе. Такова эпоха. Таковы сейчас особенности науки — во всем мире, — что она в значительной степени становится наукой государственной.
И опять, наверное, бессмысленно рассуждать, благо это или зло. Главное тут — куда науку направляют или могут направить ученые-руководители — на пользу или во вред человечеству.
Но вопрос этот — должен ли ученый заниматься только исследованиями или он обязан и руководить наукой, направлять ее — волнует, продолжает волновать многих. Это стало извечным спором, причем кажется, что обе спорящие стороны правы; во всяком случае, обе приводят вполне убедительные аргументы.
Коль скоро наука приобрела ныне такие масштабы, что стала ведущей силой промышленности, и такое значение, что от нее зависит само существование человечества, то лучше, если ею будут управлять ученые, досконально в ней разбирающиеся. Так говорят одни.
Но ведь при этом ученые перестают быть настоящими учеными, перестают выдавать свою собственную научную продукцию, отвечают другие. А это уже большая, часто невосполнимая потеря для науки.
Конечно, каждый ученый, перед которым волей обстоятельств или его собственного характера и призвания встает этот вопрос, решает его для себя сам или по крайней мере пытается решить.
Одно бесспорно. Возможности человека, даже самого гениального, трудолюбивого и энергичного, все-таки ограничены, имеют предел. Если больше времени и сил отдается одному, то меньше остается на другое. Это, увы, аксиома. И когда выражается сожаление, что большой ученый сам, лично перестал заниматься наукой или занимается ею мало, меньше, чем прежде, меньше, чем мог бы по отпущенным ему дарованиям, то такое сожаление, конечно же, понятно всякому…
Школа Мандельштама дала очень крупных физиков, но это были ученые вообще-то не типа государственных деятелей. А Андронов?
Андронов долгие годы, до последних дней был депутатом Верховного Совета, а в течение одного созыва и членом Президиума Верховного Совета РСФСР. Избранию его нечего удивляться — академик, крупнейший ученый в городе, лицо, всем хорошо известное, с бесспорным авторитетом.
Андронов отдавал депутатским обязанностям не только много времени, но и много душевных сил, нервов. Это была большая работа, притом не связанная с наукой. Организация науки в Горьком, участие в создании новых институтов и факультетов для Андронова входили непременной частью в деятельность его как ученого и педагога.
Как депутат он занимался бесконечным множеством других дел, больших и малых, касающихся области, города, отдельных людей. Занимался не между прочим, не формально. Он вообще не умел ничего делать формально. Многие считают, и не без оснований, что его болезнь и ранняя смерть в какой-то мере были вызваны и этой сильнейшей физической и нервной перегрузкой. Потому что Андронов очень щедро, даже расточительно тратил свою энергию и темперамент на дела общественные и дела людские. А окружающие нередко злоупотребляли таким его отношением к депутатской работе и не щадили его.
Андронов ни к чему не мог относиться спокойно и не замечать или делать вид, что не замечает больших и мелких безобразий. Вот один случай из его депутатской практики.
Андронову стало известно, что весьма влиятельная в городе особа, директор одного завода, готовится самочинно занять квартиру своего дальнего родственника, одинокого и беспомощного старика. Выяснив, на какой день назначен въезд, Александр Александрович купил на этот день билет на московский поезд и с билетом в кармане явился к месту происшествия.
У дома стоял уже полупустой грузовик с мебелью, рабочие тащили по лестнице шкафы и серванты.
Андронов поднялся наверх, нашел главное действующее лицо и голосом, не допускающим ослушания, попросил, чтобы их оставили вдвоем.
Оставшись наедине с директором, Андронов назвал себя — хотя необходимости в этом не было, кто его не знал? — вынул билет на поезд и сказал следующие слова (может быть, здесь они несколько смягчены):
— То, что вы мерзавец и подонок, известно и вам и мне. Но если вы немедленно уберетесь отсюда и забудете о старике и его квартире, я вам тоже обещаю не вспоминать об этой грязной истории. В противном случае я сегодня же уезжаю в Москву, видите, вот билет, и, даю вам слово, не вернусь в Горький до тех пор, пока вы не понесете должного наказания.
Неизвестно, что ответил Андронову директор — Александр Александрович об этом не распространялся, — но мебель тут же стали сносить вниз.
О депутатских делах Андронова можно рассказывать долго. Деятельность эта протекала на глазах у горьковчан, результаты ее видела масса людей, очень многие ощутили ее на своей собственной судьбе. И все знали, что такую огромную общественную работу ведет выдающийся ученый…
В городском музее теперь лежат рядом удостоверения академика и депутата Верховного Совета.
И все-таки многого он сделать не мог…
Андронов остро и болезненно переживал происходившие в те времена нарушения законности. Он старался употребить свое влияние, воспользоваться своим именем и положением, чтобы хоть как-то повлиять на ход событий, облегчить судьбы людей.
Он мог прийти на заседание и сказать несколько теплых и уважительных слов о том, кого на этом заседании «обсуждали». Он приходил и говорил эти слова. Он утверждал, что именно он, Андронов, является инициатором данной «подозрительной» работы или соруководителем «порочного» семинара.
Слово его, едва ли не самого уважаемого в городе человека, академика, депутата, имело вес.
Последние годы были особенно трудными. Неизлечимая болезнь — тяжелая гипертония — разрушала организм, и владевшее им ощущение беспомощности накладывало отпечаток на всю его жизнь.
Сил становилось все меньше, работы — все больше.
Читатели Ольги Берггольц теперь часто произносят ее слова о «главной книге». Главная книга — это не только самая лучшая книга писателя, самая необходимая — и ему и читателю. Это большее. Это итог жизни, исполнение своего предназначения. Это книга, которая почти всегда впереди, книга, которая часто так и не бывает написана.
«Главная книга» Андронова могла оказаться второй частью «Теории колебаний». Весь огромный размах нелинейной теории колебаний, распространение ее на новые области физики и техники, успехи, завоеванные ею с тридцатых годов, когда была написана первая часть, — это стало бы содержанием новой книги. Она подвела бы итог проделанной работы — не только работ Андронова и его учеников, но и других ученых, других коллективов физиков, механиков и математиков. А может, главная книга стала бы «Общей динамикой машин»; Андронов много и глубоко размышлял над содержанием и структурой этой книги и уже начал ее писать. Вероятно, довести ее до конца мог только он один, только он представлял ее всю, видел ее в своем воображении.
Но силы уходили, и он уже понимал, что не напишет ее.
Ему становилось хуже и хуже. Оттого, что рядом с болезнью внутри шла внешняя «болезнь», и вторая отягощала первую.
Незадолго до конца Александр Александрович привел в порядок все бумаги — письма, обширную библиографию, работы своих учеников и его, Андронова, замечания и пожелания им.
На последнем семинаре каждому хотел сказать что-нибудь приятное. И не просто приятное, но особенно важное именно для этого человека. С каждым был особый, свой прощальный разговор, последнее напутствие.
— В последний раз видела его в августе пятьдесят второго года, — вспоминает Привалова. — Встретились в университетской библиотеке. Долго говорили. На мой вопрос, как он себя чувствует: «Я болен, — коротко сказал Александр Александрович. — Кончайте Лобачевского», — добавил он, вставая.
Уже тяжело больной, прикованный к постели, он говорил своему секретарю Нине Александровне Агатовой: «Лобачевский у нас так и не закончен».
Потом мы его провожали, было как-то особенно холодно в тот хмурый ноябрьский день, шел дождь…
Выступая с воспоминаниями о своем учителе, великом английском физике Резерфорде, Петр Леонидович Капица рассказал о таком эпизоде. В Кембридже был конгресс в память столетия со дня рождения Максвелла. После торжественного заседания, на котором выступило много учеников Максвелла, Резерфорд спросил Капицу, как ему понравились доклады.
— Я ответил, — говорит Капица. — Доклады очень интересны, но меня поразило, что все говорили о Максвелле только исключительно хорошее и представляли его как бы в виде сахарного экстракта. А мне хотелось бы видеть Максвелла настоящим, живым человеком, со всеми его человеческими чертами и недостатками, которые, конечно, есть у человека, как бы гениален он ни был.
Резерфорд рассмеялся и сказал, что поручает мне после его смерти рассказать будущему поколению о том, каким он сам был действительно.
И вот теперь, после его преждевременной кончины, я говорю, о нем, и мне хочется выполнить этот завет. Но когда я начинаю рисовать себе образ Резерфорда таким, как я бы хотел его представить перед вами, то я вижу, что его смерть и то время, которое прошло после разлуки с ним, поглотило все мелкие человеческие недостатки. И передо мной встает великий человек поразительного ума. Теперь я хорошо понимаю состояние тех учеников Максвелла, которые выступали тогда в Кембридже.
У таких людей, как Фарадей, Максвелл, Резерфорд, исключительные качества их ума и характера совершенно поглощают мелкие человеческие недостатки, и когда память воспроизводит их образ, то остается одно большое целое.
Вероятно, нечто подобное тому, что испытал Петр Леонидович Капица, вспоминая о Резерфорде, испытывали, может даже и подсознательно, те физики, из рассказов которых родилась эта книга. Поэтому, если кому-то покажется, что изображенные здесь ученые получились слишком хорошими, я попрошу того снова перечитать слова академика Капицы.
Мне кажется, что настоящего человека унижает всякая по отношению к нему недобросовестность — не только несправедливое принижение его, но и чрезмерное восхваление, неестественное возвеличение; так же как ученого — не только умаление его научных заслуг и достижений, но и преувеличение их.
«Правда, и только правда» — вот чем воздашь настоящему человеку и, конечно, настоящему ученому.
Никто из нас, ни те, с кем я беседовала, ни я сама не хотели приукрашивать героев этой книги.
Наоборот, хотелось, чтобы они были как можно больше похожи на самих себя. Но если память «потеряла» какие-то мелкие недостатки и сохранила большое и яркое, то что поделаешь… Может, в этом есть не внешняя, а более глубокая, внутренняя правда.
И еще хотелось, чтобы ученые не были лишь авторами своих открытий, некими символами, представляющими науку; чтобы не только для знавших их лично, для друзей и учеников, но и для тех, кто познакомится с ними из книг, они стали живыми людьми. Пусть знают все и помнят, что большая наука, равно как и большое искусство и другие великие свершения, делается людьми, которым, как любил повторять Маркс, «ничто человеческое не чуждо»; которые подвержены не только маленьким слабостям — это даже не очень интересно, — но и большим чувствам; и ничто из того, что суждено человеку: ни глубокие переживания, ни горе, ни болезни — их не обходит стороной и так часто достается им полной мерой. Но они, что бы ни было, до конца своих дней продолжают служить науке, а значит — и человечеству. Они честны и чисты перед наукой, перед народом, перед собой.
Содержание
Последние годы Лебедева … 5
Встреча с Эйнштейном … 35
Excelsior — значит выше! … 51
Сообща нарисованный портрет … 95
Доклад в Харуэлле … 131
«Вторая степень понимания» … 155
Из рассказов об Андронове … 199
Анна Михайловна Ливанова
Книга «Физики о физиках» написана Ливановой не случайно. Физик по образованию и специальности, она много лет занималась этой наукой. После окончания МГУ работала в Энергетическом институте имени Кржижановского Академии наук, в лаборатории, где изучаются мощные электрические разряды: искусственная молния — длинная искра — и корона. Тогда же начала писать первые очерки о науке.
В 1959 году в нашем издательстве вышла ее повесть «Три судьбы», посвященная неэвклидовой геометрии и создателям ее — Лобачевскому, Бояи и Гауссу. Книга была хорошо встречена читателями и прессой и переведена на иностранные языки. Продолжая эту тему, Ливанова написала повесть «Постижение мира», где идея о сложном строении вселенной прослежена от Римана до космологии наших дней.
Документальные рассказы «Физики о физиках» стали публиковаться в журналах с 1964 года.
И эту работу А. Ливанова собирается продолжать еще много лет.




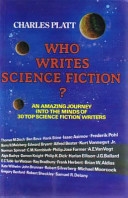
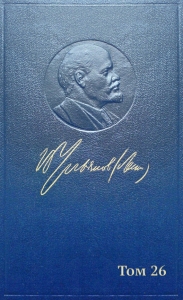
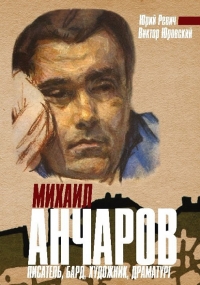
Комментарии к книге «Физики о физиках», Анна Михайловна Ливанова
Всего 0 комментариев