Анатолий Марченко Мы здесь живем. Том 1. Два рассказа о первом сроке. Мои показания
От составителей
По сравнению с большинством других диссидентов советской эпохи Анатолий Тихонович Марченко «относительно» не забыт. Его имя в обязательном порядке упоминается почти во всех более или менее подробных обзорных исследованиях, посвященных диссидентской тематике; о нем, как правило, не забывают и авторы статей на эту тему, ориентированных на широкого читателя. Книги, написанные им, в свое время были изданы и даже переиздавались.
Главный труд Анатолия Марченко, рабочего, волею судьбы ставшего политзаключенным, — «Мои показания», автобиографические записки о мордовских лагерях, — был одновременно первым его опытом в литературе. Он закончил эти записки осенью 1967-го; книга широко разошлась в самиздате, получила высокую оценку профессиональных литераторов, стала своего рода диссидентским бестселлером. «Мои показания» были изданы за границей, переведены на многие языки.
Для многих он так и остался автором одной книги — первого опубликованного свидетельства о советских политических лагерях и советских политических заключенных послесталинской эпохи. Кроме того, в общественном сознании (речь, конечно, о тех, кто хоть что-то знает о советских диссидентах) сформировался образ «диссидента из простых рабочих», этакого современного Горького, своим умом дошедшего «до правды» и не побоявшегося прокричать эту правду на весь мир.
Марченко также знают как «вечного зэка», как человека, который большую часть своей сознательной жизни провел в неволе. С 1958 по 1981 год его арестовывали и приговаривали шесть раз: первый — по уголовному обвинению, за драку, остальные пять — по политическим мотивам. И хотя некоторые из этих пяти арестов были замаскированы фальсифицированными обвинениями по «бытовым» статьям («нарушение паспортных правил» в 1968 году и «нарушение правил административного надзора» в 1975-м), все прекрасно знали, что на самом деле Марченко расплачивался за свои политические и гражданские взгляды, которые всегда без колебаний высказывал и в своих мемуарах, и в своей публицистике.
Если бы он отбыл свой последний срок — десять лет лагеря и пять лет ссылки — полностью, то вышел бы на свободу в 1996 году. Но он не вышел на свободу: в декабре 1986 года он умер в Чисто-польской тюрьме после четырехмесячной голодовки, единственным требованием которой было освобождение всех политических заключенных в СССР.
Это освобождение действительно было начато Горбачевым в январе 1987 года, через полтора месяца после гибели Марченко. Поэтому многие помнят Анатолия Марченко еще и как человека, отдавшего жизнь ради свободы советских «узников совести».
Помимо «Моих показаний», вышедших в 1969 году сразу в нескольких странах (Германии, Англии и др.), и публицистики, Марченко известен как автор еще двух книг: записок «От Тарусы до Чуны», изданных в 1976 году в Нью-Йорке, в которых он рассказывал о своем деле 1975 года: аресте, следствии, суде, этапе; и неоконченной «Живи как все», продолжающей «Мои показания», которую он писал с 1970-х годов и которая была прервана последним арестом. Эта повесть — точнее, ее фрагменты, сохранившиеся после многочисленных обысков и изъятий вариантов рукописи в 1970-е и объединенные в единый текст в начале 1980-х женой мемуариста Ларисой Богораз, — начинается с освобождения автора из Дубравлага в ноябре 1966 года и обрывается лагерным судом 1969 года.
Это и есть литературное наследие Марченко: «Мои показания», «От Тарусы до Чуны», «Живи как все». И, сверх того, еще пара десятков публицистических статей и заметок, распространявшихся в самиздате и/или напечатанных в разных зарубежных изданиях. Некоторые из его текстов начиная с конца 1980-х годов печатались в отечественной периодике, а в 1991 и 1993 годах вышли два авторских сборника[1]. И все.
Так мы полагали до середины 1990-х.
В середине 1990-х мы отправились во Владимир, где в 1981 году проходили последнее следствие и последний судебный процесс над Анатолием Марченко (в 1978–1981 годах он жил во Владимирской области, в городе Карабанове). Там, в архиве Владимирского управления Федеральной службы безопасности, хранилось его следственное дело. И там, среди прочих документов, мы обнаружили многочисленные рукописи.
О существовании двух рукописей нам было известно — это те черновые публицистические наброски, за которые, в числе прочего, он он был осужден в 1981 году; естественно, что они хранились в следственном деле. В протоколах обыска они обозначены так: «Тексты, начинающиеся словами: „Приговоры — демонстрация…” и „Войдут или нет советские танки…”». В свое время мы долго гадали, что кроется за этими обрывками (хотя тематика второго текста была более или менее нам ясна: в разгар польской революции не требовалось долго ломать голову над тем, куда именно могли войти или не войти советские танки).
Но помимо этих двух черновых набросков в деле обнаружилось великое множество других рукописных и машинописных текстов, производящих впечатление более или менее законченных новелл. Далеко не все они были изъяты на обыске 1981 года, сопутствовавшем последнему аресту; многие были взяты у Марченко в ходе других, более ранних обысков (таковых было около десятка) и, вероятно, до поры до времени хранились при оперативном деле, а в марте 1981-го были приобщены к делу следственному.
Некоторые из этих текстов, очевидно, представляли собой варианты и фрагменты книги «Живи как все», которую автор неоднократно восстанавливал после изъятий рукописи: в начале 1980-х Лариса Иосифовна Богораз, составлявшая книгу, этими текстами не располагала.
Но о некоторых рукописях мы даже не подозревали. Это были автобиографические новеллы, относящиеся к событиям до времени действия «Моих показаний» либо к периоду после 1975 года (времени действия очерка «От Тарусы до Чуны»), включая эпизоды, в которых описан недолгий период пребывания Марченко на свободе между 1978 и 1981 годами. Некоторые же фрагменты заполняли обширную временную лакуну между приговором 1969 года и арестом 1975-го: Соликамские и Ныробские лагеря, освобождение, скитания в поисках жилья и работы, жизнь в Тарусе (1972–1975). Эти фрагменты, очевидно, следует рассматривать как утраченную и вновь обретенную «вторую часть» книги «Живи как все».
Когда мы, оправившись от первого шока, стали разбирать и систематизировать эти рукописи, то с изумелением поняли, что перед нами — редчайший литературный феномен: совокупность текстов, не только заполняющих лакуны в «Живи как все», но образующих вместе с тремя известными и опубликованными произведениями своего рода мемуарную сагу, практически непрерывное повествование, охватывающее более двух десятилетий жизни автора, с 1959 до 1980 года.
Конечно, значительная часть этих текстов представляет собой варианты и черновые наброски, в том числе варианты фрагментов, уже опубликованных в «Живи как все». Мы не располагаем сведениями о том, какие из них автор считал окончательно завершенными. Несомненно, над многими, если не над всеми текстами Марченко собирался еще поработать: зная его тщательность и ответственность, с которой он относился к своему литературному труду, мы можем утверждать это с уверенностью. При составлении этого сборника у нас не было возможности строго следовать авторской воле, ибо она нам неизвестна и мы никогда ее не узнаем. Мы могли опираться только на собственную интуицию.
В итоге мы сочли полноценными частями биографического эпоса Марченко следующие тексты:
— две новеллы, действие которых протекает в Карлаге в 1959–1960 годах, в период отбывания Анатолием Тихоновичем своего первого, «уголовного» срока: «Целина» и «Восстание в Темиртау»;
— повесть «Мои показания» (время действия —1960–1966 годы);
— ранее опубликованную первую часть повести «Живи как все» (время действия — 1966–1969 годы), дополненную двумя большими фрагментами, относящимися к этому же периоду и обнаруженными в деле Марченко;
— ранее неизвестные части повести «Живи как все» — фрагменты «Соликамск — Красный Берег — Чуна» и «Москва — Таруса» (время действия — 1969–1974 годы);
— «От Тарусы до Чуны» — очерк об аресте 1975 года, суде и этапе в ссылку;
— «Мы здесь живем» — составленную совместно с Ларисой Богораз композицию из трех бытовых зарисовок («Сортирная сюита», «Квартирный вопрос», «Тихая пристань»). Автор первой новеллы — Марченко, автор второй — Богораз, третья — «Тихая пристань» — написана в форме «диалога» между обоими авторами и относится к 1978–1981 годам, продолжая тем самым «автобиографическую сагу» Марченко. Впрочем, и в «Сортирной сюите» присутствуют эпизоды, дополняющие эту сагу. Разделить эти три новеллы невозможно, сюжетно и жанрово они образуют единый текст, объединенный к тому же общим авторским заголовком. Поэтому мы включили все три новеллы как единое целое в книгу Марченко, несмотря на то, что вторая из них написана Ларисой Богораз, а третья — продукт совместного творчества.
Наконец, мы позволили себе еще одну вольность. Публикуемые в этой книге тексты свидетельствуют: Анатолий Марченко не только всю жизнь боролся за право оставаться свободным человеком. С 1967 по начало 1981 года он фиксировал на бумаге все, что с ним и вокруг него происходило, оценивал происходящее и размышлял о судьбе своей страны. Эта работа, которую он справедливо считал частью своей борьбы за свободу, была прервана последним арестом в марте 1981 года. Мы уверены, что, если бы Марченко вышел на свободу, его повествование о своей жизни и судьбе пополнилось бы новыми главами. Но он не вышел на свободу, он погиб в Чистопольской тюрьме. И мы сочли своим долгом завершить за него эту ненаписанную часть его книги, представив ее наиболее важными материалами, относящимися к его последнему сроку: судебными и следственными документами, записью его последнего слова на суде во Владимире, перепиской тюремщиков, письменными заявлениями самого Марченко и т. д. Эти материалы взяты нами частично из того же самого архивно-следственного дела, что и рукописи Марченко, частично же — из личного дела заключенного, копия которого хранится в архиве Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал» в Москве. Мы озаглавили эту ненаписанную часть его книги «Последний срок Анатолия Марченко в документах».
Анатолий Марченко не имел возможности сам собрать свою автобиографическую прозу воедино — мы вынуждены были сделать это за него. Поэтому мы сочли себя вправе дать собранной нами совокупности текстов общее название — «Мы здесь живем», по названию одной из ее частей. Это же название мы выбрали для сборника в целом[2].
Еще один раздел сборника включает в себя все, что нам удалось собрать из публицистического наследия Анатолия Марченко. Среди прочих мы поместили в этот раздел три текста, в которых Марченко выступает в роли соавтора (второй автор — Лариса Богораз). Это статья «„Tertium datur“ — третье дано», посвященная политике «разрядки международной напряженности», «Прошение о всеобщей политической амнистии» и «Письмо в газету» — рассказ о цепи обысков, которым авторы непрерывно подвергались в течение ряда лет. Из ключевых политических текстов, сыгравших определяющую роль в судьбе Марченко, мы не включили в этот раздел его открытое письмо в поддержку демократических реформ в Чехословакии — это письмо полностью входит в текст опубликованной части повести «Живи как все», там мы его и оставили. Мы также вынесли из этого раздела сборника два черновых наброска, инкриминировавшихся Марченко на судебном процессе в 1981 году. По нашему мнению, это всего лишь незаконченные черновики, извлеченные из письменного стола автора против его воли, и публиковать их в одном ряду с текстами, которые Марченко сознательно предавал гласности, точно зная, чем он рискует, значило бы действовать в рамках жандармской логики. Но эти тексты сыграли серьезную роль в его судьбе — за них он получил свой последний лагерный срок. Поэтому мы сочли правильным все-таки включить названные черновики в сборник, поместив их в примечаниях, расположенных в конце книги.
Туда же, в примечания, мы вынесли три фрагмента биографической прозы, два из которых — «Прописка в Александрове» и «Слежка» — хронологически и тематически примыкают к первой части «Живи как все», а третий — «Арест в Тарусе» — к запискам «От Тарусы до Чуны». На наш взгляд, эти рукописи — ранние наброски, которые автор не счел необходимым восстанавливать после изъятия их на обысках.
Отдельным приложением мы публикуем подборку официальных документов, имевшихся в нашем распоряжении. Это главным образом копии документов следственного и судебного производства 1958, 1961, 1968, 1969 и 1975 годов: приговоры, а также обзорные справки по уголовным делам, составленные в 1981 году. Все эти документы извлечены из архивно-следственного дела 1981 года. Кроме того, в документальное приложение к сборнику мы включили протокол объявления ему «предостережения» в январе 1974 года.
Документы по делу 1981 года и материалы, связанные с отбыванием им срока в Пермских лагерях и Чистопольской тюрьме в 1981–1986 годах, в это документальное приложение не вошли — как уже было сказано, мы использовали их в разделе «Последний срок Анатолия Марченко в документах».
Мы благодарим за содействие в подготовке издания сотрудников Научно-информационного и просветительского центра «Мемориал»: Геннадия Кузовкина, Алексея Макарова и Татьяну Хромову.
Жизнь и судьба Анатолия Марченко
1.
Барабинск, небольшой город в Новосибирской области, возник в конце XIX века, когда через степи и болота Барабы (так испокон веков называли эту местность ее коренные жители — сибирские татары) прошла Транссибирская железнодорожная магистраль. Собственно, города никакого поначалу и не было: железнодорожная станция, локомотивное депо, рабочий поселок.
В 1910-е годы станция Барабинск стала одним из перевалочных пунктов для крестьян-переселенцев, которых реформа Столыпина наделила землей в Сибири. Среди тысяч переселенческих семей, выгружавшихся из вагонов, была и семья харьковского крестьянина Акима Марченко. Одному из его сыновей, Тихону, было тогда года четыре.
Поселились Марченки в небольшой деревушке не очень далеко от станции и начали крестьянствовать, как крестьянствовали на родной Украине. На новом месте Аким стал, по местным понятиям, довольно зажиточным хозяином, даже завел кузницу, что давало семье дополнительный доход.
Гражданская война в Сибири была особенно ожесточенной, красные убивали белых, белые — красных, и те и другие грабили крестьян. Сибирские крестьяне не приняли «колчаковщины», связанной в их понимании прежде всего с реквизициями и насильственной мобилизацией; они уходили в тайгу, создавали партизанские отряды. Правительство Колчака отвечало карательными экспедициями и экзекуциями. Акима, который ковал пики для партизан, колчаковцы схватили и расстреляли. Его дети, в том числе и Тихон, которому было тогда около десяти лет, остались без отца.
Тихон вырос в деревне. Образования никакого он не получил (до конца жизни он почти не умел ни читать, ни писать), да и не нужно ему было в его крестьянской работе никакое образование. В начале 1930-х покинул родное село, спасаясь, вероятно, не столько от коллективизации (после гибели главы семьи Марченки обеднели, и раскулачивание им, скорее всего, не грозило), сколько от голода, наступившего вслед за коллективизацией, и поселился в Барабинске. Женился на крестьянской девушке, такой же, как он сам, неграмотной, тоже дочери переселенцев, только не с Украины, а из Центральной России. Тихон Акимович устроился кочегаром на паровоз, Елена Васильевна занималась хозяйством. В 1938 году у них родился сын Анатолий.
Анатолий Марченко так описывает свое детство: «Я рос среди детей железнодорожников. Наших родителей не называли паровозниками или вагонниками, для всех рабочих железной дороги было одно название: мазутник. Зимой и летом мазут с их одежды буквально капал, так они им пропитывались»[3].
В автобиографической прозе барабинскому детству и вообще Барабинску автор уделяет не так уж много места. Но и по тем немногим страницам, где он делится своими детскими воспоминаниями, читатель легко составит общее представление о жизни подростка из рабочей семьи в маленьком сибирском городке: убогой, трудной, голодной. Позволю себе, однако, предположить, что 17-летнего Анатолия погнали прочь из родного дома, едва только он окончил восемь классов средней школы, не столько голод и нищета, сколько узость горизонтов, общее ощущение безнадежной тупиковости провинциального бытия. В середине 1950-х рабочему парню нетрудно было вырваться в большой мир: для этого достаточно было завербоваться на какую-нибудь «стройку коммунизма». Анатолий Марченко так и поступил: уехал по «комсомольской путевке» (то есть по направлению от райкома комсомола) на строительство Новосибирской ГЭС. Там он получил рабочую специальность бурового мастера и следующие два-три года работал на разных стройках, в геологоразведочных экспедициях, на нефтепромыслах и т. д.
В январе 1958 года жизнь Марченко круто меняется: его арестовывают за участие в групповой драке (в которой он на самом деле не участвовал) и приговаривают к двум годам исправительно-трудовых лагерей. Подобные «судебные ошибки» возникали чаще всего из-за нежелания судов серьезно вникать в великое множество «мелких» дел и были скорее правилом, чем исключением: биографии рабочей молодежи того времени пестрят такими судимостями.
В советском обществе — в его социальных низах — этим судимостям особого значения не придавали. Да и срок Марченко получил вроде бы небольшой, к тому же в декабре 1959-го, за месяц до конца срока, по постановлению Президиума Верховного Совета СССР его досрочно освободили из Карагандинского лагеря со снятием судимости. Последнее обстоятельство — снятие судимости — указывает на то, что в конце концов в высших инстанциях разобрались в его деле и поняли, что парень попал в лагерь случайно. Казалось бы, Анатолий мог спокойно вернуться к прежней жизни. Но тут-то и проявилось основное свойство его характера — обостренная, яростная, непримиримая реакция на несправедливость и ложь. Это свойство бурно проявлялось в нем всегда, независимо от того, затронула ли несправедливость лично его или кого-нибудь другого. На этот раз несправедливость коснулась лично его: ни за что ни про что он отсидел почти два года, а его даже не признали невиновным официально, чтобы не портить судебную статистику, не увеличивать цифру в графе «судебные ошибки» на лишнюю единичку.
О причинах, заставивших Марченко осенью 1960 года, почти через год после освобождения, попытаться бежать из СССР, мы, в сущности, ничего не знаем, как не знаем и того, где и как провел он этот год. Сам он говорит об этом периоде лаконично и глухо: «Дальше обстоятельства моей жизни сложились так, что я решил бежать за границу»[4]. Но те, кто знал Анатолия, понимают, что для него достаточным поводом могла стать и та несправедливость, с которой он столкнулся и противостоять которой (как он тогда думал) не мог, а смириться не умел.
Что могло остановить его в этом намерении? Советский патриотизм? Для выходца из рабочей среды — а не было в тогдашнем СССР социального слоя, который ненавидел и презирал бы «рабочую власть» так люто, как рабочий класс, либеральная интеллигенция ему в этом отношении и в подметки не годилась, — любая патриотическая риторика была не более чем словами, да и лживыми к тому же. Страх неудачи? Но бояться Марченко, кажется, вообще не умел. Тоска по родному Барабинску? Но он бежал из этой дыры несколько лет назад и возвращаться, похоже, не собирался. Перспектива никогда в жизни больше не увидеть близких? Анатолий любил мать и отца, нежно относился к младшему брату. Но в последние годы он не часто с ними виделся, а годы скитаний ослабили если не силу родственных чувств, то уж, во всяком случае, крепость родственных связей. Боязнь не найти себя за рубежом, в чужом, инопланетном мире? Но он, в свои 22 года, уже привык полагаться только на себя и ни на кого больше.
Так или иначе, в конце октября 1960 года Анатолий Марченко был задержан пограничным нарядом на иранской границе, судим и приговорен к шести годам лагерей за «попытку измены Родине». Марченко получил шесть лет — по меркам Уголовного кодекса совсем немного, потому что за «измену Родине» давали от 5 до 15 лет, а теоретически могли и расстрелять. Но он почему-то не преисполнился благодарности к власти за ее гуманность.
«Измена Родине» считалась политическим преступлением, и осужденных по этой статье отправляли в политические лагеря. Если бы Марченко арестовали лет на шесть-семь раньше, он мог бы попасть куда угодно: на Колыму, на Воркуту, в Норильск, в Казахстан; по «политическим» статьям в лагерях и тюрьмах СССР отбывали сроки сотни тысяч безвинных людей. Но после смерти Сталина партия провозгласила «возвращение к нормам социалистической законности», большинство политических лагерей закрыли или заполнили уголовниками, а почти всех заключенных, сидевших по политическим обвинениям, освободили. В конце 1960 года в стране оставалось всего два политических лагеря: один — Озерлаг — в Тайшете (Восточная Сибирь), а другой — Дубравлаг — в Мордовии. Марченко отправили в Тайшет, но до лагеря он доехать не успел: Озерлаг тоже закрыли и всех политических заключенных перевели в Мордовию. В Дубравлаге Анатолий Марченко встретился не только с такими же, как он сам, полуобразованными искателями правды и справедливости, но и, впервые, с настоящими политзаключенными — борцами за свободу: национальную, религиозную и духовную.
В первой половине 1960-х «особо опасные государственные преступники» (так официально именовались осужденные по «политическим» статьям Уголовного кодекса) представляли собой очень пеструю публику. По данным Прокуратуры СССР, на 14 июля 1965 года (более ранними сведениями мы, к сожалению, не располагаем) в Дубравлаге таких содержалось 3816. Из них не всех можно было назвать политзаключенными: изрядную долю составляли «полицаи» — коллаборационисты, осужденные за сотрудничество с немцами во время войны; на совести многих из них были реальные злодеяния. Другая большая категория — украинские и литовские националисты-партизаны, досиживающие свои 25-летние сроки, полученные еще при Сталине; они, конечно, были самыми настоящими политическими заключенными — но никакая Amnesty International не решилась бы назвать их «узниками совести», свои убеждения они отстаивали с автоматами в руках. Иные, как Марченко, сидели за попытку покинуть СССР — таких тоже было довольно много. Остальные — за «антисоветскую пропаганду и агитацию». В последней категории в те годы было много случайных людей, попавших в лагерь за спонтанное выражение недовольства теми или иными сторонами советской жизни. Много было также осужденных «за веру» — свидетелей Иеговы, пятидесятников, баптистов, адвентистов, членов других запрещенных религиозных общин. Немало было и таких, кто действительно посвятил свою жизнь борьбе с советской властью, — активистов националистического подполья (уже не вооруженного) из Украины, Прибалтики, Армении, других национальных республик Советского Союза. Попадались и участники чисто политических движений, молодежных антисоветских кружков и групп, по преимуществу тоже подпольных.
Дубравлаг — с 1961 по 1972 год единственный политический лагерь (а точнее, группа лагерей — лагпунктов) в Советском Союзе — был совсем не из тех «истребительно-трудовых» лагерей сталинского времени, о которых пишет Солженицын. Люди здесь не гибли десятками и сотнями от голода и непосильной работы, и те из заключенных, которые прошли в свое время Колыму и Норильск, считали лагерный режим 1960-х очень мягким. Но все равно это был бесчеловечный режим, калечащий и раздавливающий людей, большинство из которых, по общечеловеческим понятиям, никаких злодеяний не совершили.
Марченко смотрел, слушал, учился, много читал. Впервые, наверное, за всю свою жизнь он столкнулся с таким морем человеческого несчастья, с таким количеством изломанных человеческих судеб, с таким откровенным и концентрированным противостоянием тупой силы государственного зла множеству самых разнообразных человеческих побуждений и идеалов. Похоже, сами эти побуждения и идеалы ему были не очень интересны; он не стремился выбрать что-то свое в пестроте лагерных мировоззрений, идеологий, политических платформ. Чтобы обозначить и назвать то, чему он в эти годы полностью и навсегда отдался, достаточно двух слов: противостояние злу.
В ноябре 1966 года, когда срок, определенный Анатолию Марченко судом, закончился, за вахту вышел совсем другой человек: начитанный, твердый, убежденный противник советской власти.
2.
К середине 1960-х значительная часть советской интеллигенции уже была охвачена «инакомыслием» и находилась в перманентной внутренней оппозиции к власти. Общество, потрясенное публичным разоблачением сталинского террора в 1956 году, пристально и критически вглядывалось в себя и власть. Одни с переменным успехом пытались противостоять партийному диктату в сфере собственных профессиональных интересов: воевали с цензурой в литературе, изобразительном искусстве, театре и кинематографе, в гуманитарных научных дисциплинах, выдвигали и отстаивали «еретические» идеи в экономике, социологии, культуре. Другие выбирали путь «малых дел»: честно и добросовестно выполняли свою работу школьных преподавателей, врачей, инженеров, пытаясь не обращать внимания ни на «партийное руководство», по мере сил препятствовавшее всему новому и дельному, ни на общий социальный и политический маразм, в который все глубже погружалась страна. Находились и те, кто пытался противостоять системе как таковой, организуя подпольные группы и кружки, — этим была прямая дорога в Мордовию; среди бывших солагерников Марченко они составляли небольшую, но заметную часть. Наконец, постепенно начали появляться в самых разных слоях общества люди, которые открыто выступали с критикой режима или его отдельных аспектов, игнорируя негласные и гласные запреты на подобную критику; этих последних позднее, уже в начале 1970-х, стали называть диссидентами.
Все большее значение приобретал самиздат — рукописи распространяли и сами авторы, и читатели, перепечатывавшие их на пишущих машинках. В самиздате циркулировали поэзия, художественная проза, политические трактаты и научные исследования, переводная литература.
Общество постепенно изживало иррациональный страх перед КГБ и вообще перед властью. Это стало возможным потому, что после смерти Сталина за инакомыслие перестали немедленно убивать, хотя, разумеется, «точечные» и «целевые» гонения на инакомыслящих продолжались в разных формах, а в отдельных случаях власти даже прибегали к арестам и лагерным срокам. По масштабам страны этих случаев (в сравнении с размахом террора в сталинские времена) было немного, и о них мало кто знал.
Одной из ключевых тем самиздата была история сталинского террора, в частности — история ГУЛАГа. Хотя критика «нарушений социалистической законности в период культа личности Сталина» прозвучала из уст высших партийных руководителей на съездах КПСС в 1956 и 1961 годах, тема репрессий эпохи Сталина, сталинских лагерей и тюрем просачивалась через цензуру с трудом: опубликованный в 1962-м рассказ Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» был скорее исключением, чем правилом. Множество мемуарных свидетельств, ходивших в самиздате (в том числе «Колымские рассказы» Варлама Шаламова или «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург), восполняло дефицит этой темы в официальной печати. Не говоря уже о том, что в 1950-е из лагерей вернулись сотни тысяч освобожденных политзаключенных, которым было что рассказать о пережитом. И было кому рассказать: «реабилитированных» встречали с колоссальным сочувствием и рассказы их слушали с огромным интересом. Так что широкая публика имела неплохое представление о политических лагерях сталинских времен.
Но, парадоксальным образом, эта же публика не имела практически никакого представления о современных ей политических лагерях и политических заключенных. То есть, родственники осужденных, ездившие на свидания, разумеется, хорошо знали и дорогу до станции Потьма Горьковской железной дороги, в семи с половиной часах езды от Москвы, и узкоколейку, ведущую вглубь мордовских лесов, в царство лагерных зон Дубравлага, и идиллический среднерусский пейзаж, перемежающийся вышками, проволочными заборами и бараками за проволокой, и путь к вахте, где следовало получить разрешение на свидание или передачу. Но это знание не выходило за пределы семей осужденных. Я хорошо помню, как в 1966 году приятельница нашей семьи, взявшаяся проводить мою мать и меня на свидание к моему отцу, писателю Юлию Даниэлю, который отбывал тогда свой срок в «столице» Дубравлага, поселке Явас, углядела за колючей проволокой своего знакомого, осужденного в 1958 году на 10 лет. Точнее, это знакомый ее углядел и окликнул — она сначала не узнала в оборванном и отощавшем зеке своего сокурсника. Конечно, она, как и многие, слышала о нашумевшем деле подпольного марксистского кружка на историческом факультете МГУ; конечно, она сочувствовала осужденным по этому делу — но о том, что с ними сталось после суда и приговора, она понятия не имела.
Возможно, это «забвение» было остаточным феноменом мироощущения 1930-х годов, когда люди, арестованные НКВД, уходили «в никуда» и возвращались — если возвращались — «из ниоткуда».
Положение начало меняться после ареста и осуждения в 1966 году Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Этот судебный процесс, прогремевший на всю страну и на весь мир (писателей осудили соответственно на семь и пять лет лагерей за то, что они под псевдонимами публиковали за рубежом свои повести и рассказы), вообще многое изменил в советском обществе. В ходе протестов против суда и приговора многие московские «диссидентствующие» кружки и дружеские компании слились в единую социокультурную среду: спустя два-три года этот сплав превратился в гражданское движение протеста против политических преследований в СССР вообще (еще позднее это движение стало принято называть правозащитным). Естественно, в этой среде и среди интеллигенции в целом (а интеллигенция, надо сказать, почти целиком горячо сочувствовала «протестантам» и всячески их поддерживала) живо интересовались дальнейшей судьбой осужденных писателей. О Дубравлаге стали говорить — как о месте «где-то в Мордовии, куда отправили Синявского и Даниэля». В более узком — но тоже довольно обширном — кругу, состоящем из друзей и знакомых обоих литераторов, зазвучали имена некоторых их солагерников (в том числе и имя Анатолия Марченко); завязались переписки, начали собирать деньги на помощь семьям, в Дубравлаг пошел поток посылок и бандеролей от незнакомых людей к незнакомым людям. Туман незнания и забвения, окутывавший политлагеря и политзаключенных начала 1960-х, понемногу рассеивался.
Но систематической картины все еще не было, и еще не пришло осознание того, что не только сам факт политических преследований, но и результат этих преследований — положение политических заключенных, обращение с ними лагерной администрации, их борьба за свои человеческие права — должен стать общественной проблемой и предметом общественного внимания.
И только благодаря «Моим показаниям» — запискам Анатолия Марченко о Мордовских лагерях и Владимирской тюрьме — политлагеря и политзаключенные оказались в центре внимания протестного движения, нарождавшегося в эти годы в Советском Союзе, а поддержка их борьбы стала одной из главных задач этого движения.
Марченко начал работу над книгой вскоре после выхода на свободу и работал над нею до поздней осени 1967 года, упорно и с огромным трудом осваивая новое для себя ремесло литератора. В конце года текст «Моих показаний» уже ходил по рукам и сразу стал самиздатским «бестселлером». Припоминаю восторженные отзывы первых читателей: писателя Льва Копелева, филолога Вячеслава Иванова, режиссера Георгия Товстоногова, актера Игоря Кваши и многих других. И в самом деле, «Мои показания» производили сильное впечатление. В первую очередь именно потому, что речь в записках шла не о сталинском времени, а о том, что происходит «здесь и сейчас», в семи часах езды от столицы, в тот момент, когда читатель откладывает прочитанную страницу и берет в руки следующую. Но, конечно, значительную роль сыграли и личность автора, и его несомненный талант мемуариста, и точно выбранная интонация. Отстраненное, внешне спокойное, почти этнографическое описание лагерной и тюремной жизни; россыпь эпизодов, иногда страшных и отвратительных, иногда забавных и трогательных, но всегда ярких и выразительных; вставные биографические новеллы и портретные зарисовки людей, с которыми его сводила арестантская судьба. И за всем этим — почти нигде в явном виде не вербализуемые, но отчетливо проступающие сквозь ткань повествования авторские эмоции: солидарность, сочувствие, жалость — к гонимым, ярость, гнев, презрение — к гонителям. В полном соответствии с названием своих записок автор ограничивает себя ролью свидетеля — свидетеля обвинения, разумеется; но очевидно, что из него получился бы и неплохой прокурор.
Интонация, счастливо найденная для «Моих показаний», сохранится без изменений и в других, более поздних мемуарно-автобиографических работах Марченко.
В 1969 году «Мои показания» были напечатаны за границей, сначала по-русски, и тоже произвели сенсацию: об этом можно судить хотя бы по тому, что в течение нескольких следующих лет книга была переведена на основные европейские языки и даже, кажется, на японский.
Все это — и самиздатский успех, и мировая слава — могло бы определить дальнейшую судьбу автора, счастливую, или трагическую, или счастливую и трагическую одновременно. Могло бы — если бы не то, что начиная с 1960 года Анатолий Марченко всегда определял свою судьбу сам, и никакие внешние обстоятельства не могли этому помешать.
3.
О жизни Марченко в 1966–1968 годах, между двумя лагерными сроками, нет смысла рассказывать подробно: он сам рассказал об этом в поздней автобиографической повести «Живи как все», также вошедшей в настоящий свод. Приезд в Москву, знакомство с московскими диссидентами, работа над «Моими показаниями», игра в кошки-мышки с КГБ. Несколько публицистических выступлений, подхваченных самиздатом, в основном посвящены той же теме, что и «Мои показания», — положению советских политзаключенных. Но не только: в июле 1968 года, в разгар Пражской весны, Анатолий Марченко отправляет в советские и зарубежные газеты открытое письмо[5], предупреждающее об угрозе советского военного вторжения в Чехословакию. Это было необычно: внешнюю политику правительства в то время еще остерегались публично критиковать. Незамедлительно последовал новый арест и новый срок по сфабрикованному обвинению в «нарушении паспортного режима».
Книга «Живи как все» была начата в 1970-е годы и оборвана последним арестом в 1981-м. В том варианте, в котором текст был впервые издан в 1987 году в Нью-Йорке, повествование завершается августом 1969-го. Тогда, отбыв срок, к которому его приговорили, Марченко не выходит на свободу, а получает еще два года — за «клеветнические измышления, порочащие советский общественный и государственный строй», якобы высказывавшиеся им в разговорах с солагерниками.
Что было дальше? Анатолий Марченко отбыл и этот срок, в 1971-м все-таки вышел на свободу, женился — на Ларисе Богораз, которая еще в 1966–1967 годах вводила его в круг московских диссидентов; в 1973 году у них родился сын Павел. После долгих мытарств — Анатолию не разрешали прописаться у жены в Москве — семья устраивается в Тарусе. Жизнь понемногу налаживается. Еще в 1968 году автор «Моих показаний» стал одним из самых известных советских диссидентов, но пока он не принимает активного участия в их движении. Его подпись появляется под несколькими коллективными обращениями правозащитников, но сам он почти не выступает публично. Вообще-то коллективные обращения — не его жанр, Анатолий Марченко по природе своей — «одинокий волк».
Больше всего его занимают две вещи: наконец-то появившаяся у него семья и автобиографические записки, над которыми он начинает работать и которые потом превратятся в книгу «Живи как все».
Однако условия для творчества совсем не идиллические: Марченко, как бывший заключенный, поставлен под административный надзор милиции, что фактически означает статус ссыльного — ему запрещено выезжать из Тарусы, выходить на улицу после 10 часов вечера, он должен регулярно отмечаться в милиции. Несколько раз к нему приходят с обысками и изымают черновики его записок — и каждый раз он садится и восстанавливает написанное. Время от времени он получает «дружеские» советы из КГБ: уезжай из страны, пока снова не посадили (не правда ли, причудливый поворот судьбы: некогда он получил свой первый «квазиполитический» срок за попытку покинуть СССР — теперь его уговаривают это сделать!). В конце концов Марченко ради семьи соглашается на эмиграцию. Он пишет заявление в Президиум Верховного Совета СССР об отказе от советского гражданства и о своем намерении эмигрировать в Америку (американские профсоюзные лидеры давно приглашали его приехать в Штаты). Но и уступая давлению, он не желает лгать «как все». В те годы существовал единственный способ переселиться за рубеж: получить вызов от «родственников» из Израиля, а оттуда уже отправляться куда угодно, где можно устроиться. Ему получить такой вызов не было никакой проблемы, и советские чиновники наверняка не стали бы выяснять, откуда у сына барабинского железнодорожника появилась троюродная тетя в Тель-Авиве. Но Марченко отказался участвовать в этой общепринятой игре: уехать он согласен и даже требует, чтобы ему разрешили покинуть страну, — но придумывать себе фальшивую тетю он не желает.
Ну что ж, так — значит, так. И в 1975 году Анатолия Марченко вновь арестовывают, за «нарушение правил административного надзора». Новый суд, новый приговор — четыре года ссылки. Эпопея 1975 года описана им в очерке «От Тарусы до Чуны», впервые вышедшем в Нью-Йорке в 1976-м, а затем многократно издававшемся за рубежом и в постперестроечные годы — в России.
Чуна — поселок в Восточной Сибири, куда его отправили в ссылку. Скорее, даже не поселок, а небольшой городок на БАМе, чем-то похожий на Барабинск. Впрочем, Марченко это место знакомо: там в 1969–1971 годах Лариса Богораз отбывала ссылку за участие в протестной акции на Красной площади против вторжения в Чехословакию, туда он к ней приехал, освободившись из лагеря в 1971 году. Теперь там живет он сам, работает, продолжает писать «Живи как все» (и раз за разом восстанавливать книгу после обысков). Пишет публицистические статьи: о политических преследованиях в СССР, о лжи и убогости советской системы, об излишней готовности Запада идти навстречу Кремлю в политике «разрядки напряженности» (эту политику, в том виде, в котором она осуществляется, Марченко считает лицемерной и опасной). В 1976 году его заочно кооптируют в Московскую Хельсинкскую группу — самую известную и активную правозащитную диссидентскую ассоциацию — и он не отказывается, несмотря на свою нелюбовь к коллективной деятельности.
По возвращении из ссылки — новые поиски жилья. Наконец Марченко устраивается во Владимирской области, покупает домишко в городе Карабанове, работает истопником в котельной, пытается наладить нормальную жизнь. Обычная рутина: хозяйство, семья, регулярные обыски, регулярное восстановление написанного и изъятого, диссидентская публицистика…
4.
Мне кажется, что в отношении сотрудников КГБ к Анатолию Марченко было много личного. Сотрудники этой организации не просто преследовали его по долгу службы, его ненавидели. Еще бы: простой рабочий — а туда же, что-то пишет, высказывается. И никак не получалось его сломать — не умели, не могли. Расправиться же с ним обычным способом — арестовать и до конца жизни держать в лагере — неудобно: слишком знаменит, а из-за «разрядки напряженности» лишних мучеников плодить не велено.
В декабре 1979 года советские войска вторглись в Афганистан и разрядка рухнула в тартарары. В январе 1980-го отправили в горьковскую ссылку академика Сахарова. Марченко, который Сахарова безмерно уважал и любил, еще успел обратиться по этому поводу с открытым письмом к коллеге Сахарова, патриарху советской ядерной физики академику Петру Капице. А в марте 1981 года Марченко арестовали в шестой и последний раз.
Владимирский областной суд приговорил Анатолия Марченко к десяти годам лагеря и пяти годам ссылки за «антисоветскую пропаганду и агитацию». Это уже был политический процесс: и обвинение, наконец, не было фальсифицировано — его судили за то, что он совершил. Точнее говоря, за то, что он написал. В обвинительном заключении и приговоре не было только «Моих показаний» и публицистики 1968 года: по этим «преступлениям» истек срок давности. Но все остальное ему с наслаждением вменили в вину: и «От Тарусы до Чуны», и публицистические выступления, и статьи о разрядке, и открытое письмо Капице, очерки, наброски и черновики, изъятые у него на десяти, что ли, обысках.
Марченко не вышел больше на свободу. Он умер от острой сердечно-легочной недостаточности (таков был официальный диагноз) в Чистопольской тюрьме 8 декабря 1986 года. За десять дней до своей смерти, 28 ноября, он объявил о прекращении голодовки, начатой им 4 августа. Требованием этой 117-дневной голодовки было освобождение всех политических заключенных в СССР.
Анатолий Марченко не был самоубийцей. Отчего же 4 августа 1986 года он начал голодовку с таким, как всем нам тогда казалось, невероятным, невозможным, самоубийственным требованием?
Вероятно, он, внимательный и чуткий читатель газет, умевший извлекать информацию даже из невразумительных публикаций советской прессы, уже тогда, летом 1986-го, почувствовал, что в стране начинает что-то происходить, что разговоры Горбачева о «перестройке» — не просто обычная партийная демагогия.
Что именно сейчас идея освобождения всех политзаключенных может оказаться не утопической фантазией, а вполне прагматическим требованием.
Марченко не был самоубийцей — но он не был и человеком, который легко меняет свои решения. А если не особо выбирать слова — он был человеком не только твердым, но и чрезвычайно упрямым. Голодовка, им объявленная, была бессрочной — что же заставило этого, пользуясь выражением Анджея Вайды, «человека из железа» снять ее в конце ноября? Все, кто знал Анатолия, убеждены, что физическая слабость не могла быть тому причиной.
Существует несколько свидетельств о том, что в конце ноября Марченко навестил в Чистопольской тюрьме какой-то важный начальник из Москвы: точно не по тюремному ведомству и, скорее всего, не по ведомству КГБ. Может быть, какой-нибудь партийный чиновник из аппарата ЦК? О чем они беседовали, неизвестно — но Марченко снял голодовку сразу после этой встречи. И еще: судя по его последнему письму, полученному семьей незадолго до известия о его смерти, он рассчитывал в ближайшее время оказаться на воле.
Что могло заставить этого упрямого человека прекратить голодовку? С какой стати он принялся тешить себя и близких фантазиями о жизни на свободе? И то и другое имеет только одно объяснение: он получил твердые и убедительные заверения в том, что в ближайшее время и он, и другие политические заключенные будут освобождены.
Через неделю после гибели Марченко Горбачев позвонил по телефону Сахарову в Горький, чтобы лично пригласить его вернуться в Москву. Долгое время мы были уверены, что именно смерть Анатолия Марченко в Чистопольской тюрьме и шум, вызванный этой смертью за рубежом, заставили советского лидера выпустить Сахарова из горьковской ссылки. Сейчас мы знаем, что это не так: архивные документы свидетельствуют, что вопрос о Сахарове обсуждался на Политбюро и в принципе был решен еще до смерти Марченко (хотя, возможно, именно его смерть ускорила осуществление принятого решения и побудила Горбачева прибегнуть к столь необычному и сенсационному жесту, как личный телефонный звонок опальному академику: ему нужно было как-то переломить возмущение, поднявшееся на Западе после того, как там стало известно о чистопольской трагедии).
Через месяц после гибели Марченко глава делегации СССР на Венской встрече Юрий Кашлев объявил о решении советского правительства освободить всех осужденных за «антисоветскую агитацию и пропаганду»; через несколько дней соответствующая заметка появилась и в газете «Известия».
А в феврале 1987 года вышли на свободу первые политические заключенные. Процесс освобождения растянулся на многие месяцы и даже годы, последние несколько человек были освобождены лишь осенью 1991-го — но все-таки к 1989 году основная масса политзаключенных оказалась на воле!
Естественно, тогда мы считали, что это — посмертная победа Анатолия, результат его голодовки. В определенном смысле я и сейчас не отказываюсь от этого мнения. Конечно, такие решения, как освобождение политзаключенных, принимаются не вдруг, к ним готовятся долго и исподволь. Уже потом, задним числом, мы сообразили, что в течение нескольких месяцев, предшествовавших смерти Анатолия, происходило что-то необычное: полностью прекратились аресты по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». Очевидно, рано или поздно Горбачев начал бы выпускать тех, кто уже сидел за эти самые «преступления». Но вот вопрос: «рано» или «поздно»? И насколько голодовка и смерть Анатолия Марченко сдвинули стрелку весов в сторону «рано»? Мы этого не знаем — и, вероятно, не узнаем уже никогда.
Так или иначе, если визитер из Москвы действительно существовал и если послание, которое он должен был передать Марченко, было именно таким, как мы предположили, то оно содержало правду: освобождение политзаключенных действительно началось. Только вот сам Анатолий его не застал. И освобождение Сахарова из ссылки, и начало освобождения политических заключенных, и все дальнейшее, что связано с именем Марченко, происходило уже за пределами его жизни.
5.
За пределами его жизни — выход в свет «Живи как все», так и не законченной им автобиографической повести. Уцелевшие от обысков фрагменты рукописи собрала вместе вдова Марченко Лариса Иосифовна Богораз; в этом виде повесть и была издана на русском языке в США в 1987 году.
За пределами его жизни — премия имени Сахарова, учрежденная и присуждаемая Европейским парламентом: в 1988 году Марченко стал первым (наряду с Нельсоном Манделой) лауреатом этой премии.
За пределами его жизни — первые публикации его текстов в 1989 году на родине. С тех пор основные книги Марченко несколько раз издавались и переиздавались в России.
За пределами его жизни — возвращение в середине 1990-х рукописей, изъятых у него на многочисленных обысках и хранившихся в его последнем следственном деле.
Муза Истории любит сближения, совпадения, рифмы.
Анатолий Тихонович Марченко, человек, который первым рассказал миру о политических лагерях послесталинской эпохи, человек, который своей отчаянной и героической акцией, возможно, приблизил начало массового освобождения заключенных из этих лагерей, стал в то же время замыкающим в многомиллионной шеренге жертв «58-й статьи» (историческое название раздела Уголовного кодекса, где перечислены политические преступления), последним советским политзаключенным, погибшим в неволе.
Но дело не только в совпадениях и рифмах, которыми забавляется история. Дело прежде всего в самом Анатолии Марченко, в его личности. Он не умел и не желал смиряться с ложью. Он не захотел стать конформистом, не пожелал «жить как все», он сознательно противопоставил себя системе. Он сам выбрал для себя участь политзаключенного, судьбу «вечного зека». Даже на фоне других политзаключенных Марченко выделялся твердостью характера, нежеланием идти ни на какие, даже самые ничтожные компромиссы со злом. Он боролся с ложью, несправедливостью и в лагерях и на воле.
Опыт индивидуального сопротивления лжи и несправедливости необычайно важен в современной России. Для тех, кто сегодня пытается не допустить «повторения пройденного», память о Марченко, его выборе, его трагической гибели и конечной победе — это живая память.
Было бы, однако, неправильно сводить личность Анатолия Марченко к какому-то определенному типажу, подменять реального человека образом «идеального политзаключенного» или «идеального борца». «Быть борцом», «быть политическим заключенным» для него не являлось ни профессией, ни хобби, а было вынужденной необходимостью, неприятным побочным следствием его писательского труда. Марченко — литератор; и не просто литератор, а выходец из рабочей среды, из социальных слоев, бесконечно далеких от писательства. Превратившись в интеллигента, точнее — превратив себя в интеллигента, он не забывает свои рабочие корни и не стыдится, а впрочем, и не фетишизирует их. Он не отказывается от своего исходного социального опыта. Но он ценит и мир русской интеллигенции, новый для себя мир, обретенный им лишь к тридцати годам ценой огромных усилий. Не то чтобы он чувствует себя в этом мире своим — полностью своим он не чувствует себя нигде. Но он говорит о советской интеллигенции и с советской интеллигенцией как равный с равными. Он хочет ввести — и вводит — в современную ему культуру свое мироощущение рабочего парня из Барабинска, он чувствует себя представителем той России, о которой, несмотря на широковещательные декларации, мало и редко писали в советской литературе и совсем редко писали правду.
Эта сторона творческого наследия Анатолия Марченко особенно очевидна теперь, когда мы располагаем всеми его текстами и можем до конца оценить масштаб его личности как литератора и публициста.
Александр Даниэль
Хроника жизни Анатолия Марченко
1938
23 января родился в Барабинске в семье паровозного кочегара Тихона Акимовича Марченко.
1954
Окончил среднюю школу и сразу начал работать (в геологоразведочных экспедициях, на нефтеразработках и т. д.).
1958
21 января впервые арестован — по уголовному обвинению за драку, в которой на самом деле не участвовал. Приговорен к двум годам лагерей и направлен отбывать срок в Карлаг (Казахстан).
1959
18 декабря досрочно освобожден решением Комиссии Президиума Верховного Совета СССР.
1960
31 октября задержан при попытке перехода советстко-иранской границы. Верховным судом Туркменской ССР приговорен к шести годам лагерей за «измену Родине». Наказание отбывал в Дубравлаге (Мордовская АССР) и Владимирской тюрьме.
1966
В ноябре вышел на свободу и приехал в Москву, где познакомился с друзьями и родственниками бывших солагерников и стал частью диссидентского круга.
1967
Закончил книгу «Мои показания» — о мордовских политических лагерях.
1968
В июле в самиздате распространялось открытое письмо Марченко в чехословацкие и западноевропейские коммунистические газеты, в котором автор возмущался нападками советских официальных инстанций на демократизацию в Чехословакии.
29 июля Марченко арестован «за нарушение паспортного режима».
21 августа приговорен к одному году лагеря и отправлен отбывать срок в Ныробские лагеря (Пермская область).
1969
В июле, накануне освобождения, против Марченко открыто новое уголовное дело — по обвинению в «распространении в устной форме среди заключенных клеветнических измышлений, порочащих советский строй».
22 августа он приговорен к еще двум годам лагерей.
1971
В июле освободился из Соликамских лагерей. Жил в пос. Чуна (Иркутская область), где отбывала ссылку Лариса Богораз, ставшая его женой. После ее освобождения они переехали в Тарусу (Калужская область).
1973
В марте у Богораз и Марченко родился сын Павел.
1975
26 февраля Анатолий Марченко арестован по обвинению в «нарушении правил административного надзора».
31 марта приговорен к четырем годам ссылки. Отбывал наказание в Чуне. К концу года закончил очерк «От Тарусы до Чуны» (издан в 1976 году в Нью-Йорке).
1976
12 мая Марченко включили в первый состав Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений (Московской Хельсинкской группы) — диссидентской организации, занимающейся мониторингом нарушений прав человека в СССР.
1978
Вернувшись из ссылки, стал жить в г. Карабанове (Владимирская область), работал над книгой «Живи как все».
1981
17 марта арестован в шестой раз, на этот раз по обвинению в «антисоветской пропаганде». Ему инкриминировано все, написанное и опубликованное им за последние десять лет, а также несколько черновых заметок, изъятых на обысках.
4 сентября Владимирский областной суд приговорил Марченко к 10 годам лагерей и пяти годам ссылки, направив его отбывать срок в Скальнинские (Пермские) лагеря.
1985
В октябре за «систематические нарушения режима» Марченко переведен в Чистопольскую тюрьму (Татарская АССР).
1986
4 августа объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех политических заключенных СССР. В конце ноября прекратил голодовку (по некоторым сведениям — после получения заверений, что процесс освобождения политзаключенных вскоре начнется). 8 декабря скончался в Чистопольской тюрьме, по официальному заключению — от острой сердечно-легочной недостаточности. Похоронен на городском кладбище.
Анатолий Марченко. Карлаг или Дубравлаг, конец 1950-х — начало 1960-х
Анатолий Марченко, 1966–1968
Елена Васильевна Марченко, Анатолий Марченко, Тихон Акимович Марченко. Барабинск, 1950-е
Лариса Богораз, Анатолий Марченко. Москва (?), 1966–1968
Майя Злобина, Анатолий Марченко, Лариса Богораз. Махра, 1967.
Из семейного архива Злобиных
Анатолий Марченко. Москва (?), 1973
Лариса Богораз, середина 1960-х
Анатолий Марченко, Лариса Богораз, Павел Марченко. Москва (?), 1973
Павел Марченко, Анатолий Марченко, Лариса Богораз. Иркутск, 1977–1978
Анатолий Марченко, середина 1970-х
Анатолий Марченко. Чуна, 1975–1978
Лариса Богораз, Анатолий Марченко. Чуна, 1975–1978
Анатолий Марченко, Тихон Акимович Марченко. Чуна, 1975–1978
Лариса Богораз. Таруса, 1974–1975
Иосиф Аронович Богораз, Елена Васильевна Марченко, Павел Марченко, Анатолий Марченко, Ольга Григорьевна Олсуфьева (псевд. Алла Зимина). Таруса, 1974 (?)
Лев Лурье, Анатолий Марченко, Арсений Рогинский. Ленинград, ноябрь 1980
Анатолий Марченко. Таруса, 1974–1975
Два рассказа о первом сроке
Целина
Да, да, я тоже был на целине. Правда, меня перед тем не вызывали в ЦК, но ведомство, направившее меня осваивать нетронутые целинные просторы в казахских степях, очень известное и солидное.
Под стук колес и паровозные гудки мы шумно и весело неслись сквозь тьму вьюжной ночи к не нами намеченной цели. Из нашего вагона тоже неслась песня тех лет: «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я…» Правда, вопреки общему запрету петь и даже громко переговариваться между собой, издавна существующему для пассажиров «Столыпина».
От карагандинской тюрьмы № 16 до карлаговской пересылки на станции Карабас поездом всего два-три часа. И вот мы плотной колонной под несмолкаемый мат конвоя и злобный лай овчарок тянемся вдоль бесконечных заборов запреток лагерей. Самих лагерей мы не видим, а только ярко освещенные запретные полосы: впереди ряд колючей проволоки, потом еще такой же ряд, а потом высокий сплошной деревянный забор с карнизом из колючей проволоки и прямо над ним электрические лампочки. А что там, за этими заборами-запретками?
Я тогда был, как и большинство моих попутчиков, зэком-новичком. Все мне было внове, все воспринималось и переживалось обостренно. Это потом, со временем и я очерствею и стану все воспринимать за должное, обычное.
О пересылке, о лагере я к тому времени знал только с чужих слов. Скоро все это предстанет передо мной, и я увижу все своими глазами, услышу своими ушами, почувствую и проверю на собственной шкуре.
Карлаговская пересылка поразила меня своим размером. И не только площадью, но и огромностью бараков. Ночью эти саманные приземистые бараки казались еще более длинными и угрюмыми. В одном из таких бараков нам открыли камеру и велели заходить. Нас было человек восемьдесят: остальных сотни полторы определили в другой барак. Почему-то те из наших, кто был в первых рядах, не стали заходить в камеру и стали требовать чего-то от дежурного офицера. Я был в середине толпы и не мог сначала понять, в чем дело. Но быстро выяснилось, что в камере, куда нас хотели поместить, не было света, и поэтому зэки уперлись. И загалдели все мы: «Не пойдем, пока не будет свет… ведите в другую камеру…»
Я, ориентируясь на свои сведения о порядках ГУЛАГа, ожидал крупного конфликта и неминуемой расправы с нами со стороны охраны. К моему удивлению, офицер быстро приказал отправить нас в соседнюю камеру, и нас торопливо в ней заперли. В камере еще шло обсуждение происшедшего и похвалялись победой, когда открылась дверь и тот же офицер с какими-то бумажками в руке назвал две фамилии. Вызванным было приказано выходить с вещами. Пересылка есть пересылка, и всякие передвижения и перетряски зэков здесь явление обычное. Двое названных вышли, а минут через пять снова открывается дверь и снова берут двоих. Все считали, что это либо берут на этап, либо раскидывают по разным камерам. Дошла очередь и до меня. Я попал в паре с украинцем Лесовым. Он шел за офицером первым, а я сзади. Подвели нас к той же камере, от которой мы вначале отказались. Надзиратель открыл дверь, и нам велено было туда войти. Лесовой уперся и отказался заходить, требуя посадить его в камеру, где есть электрический свет. Надзиратель попробовал ухватить его за рукав, чтобы втолкнуть в камеру, но Лесовой быстро и резко отпрянул к противоположной стене, а я в это время услышал стоны и всхлипывания, которые слышались в темноте камеры. На подталкивания офицера сзади я среагировал, как и Лесовой. Я уже видел, как его держали за руки и за воротник несколько надзирателей. Одновременно они колотили его кто как мог и по чему попало. Упрямый украинец твердил одно: «Не пойду!»
На меня орал офицер: «Заходи… твою мать! Не к теще в гости приехал! Сейчас рога обломаем!»
Кто-то из надзирателей пинком бросил меня на офицера, а тот подхватил меня на свой кулак под ребра. Удар был слабый и почти не причинил мне боли. Я еще размышлял в суматохе, что мне делать: то ли давать сдачи в меру своих возможностей, то ли сопротивляться пассивно, отказываясь зайти в темноту камеры. Не знаю, на чем бы я остановился, но за меня уже решили. Я был схвачен несколькими надзирателями за руки и за ноги и находился у них на руках в горизонтальном положении. В таком виде они меня поднесли к двери камеры, повернули головой к двери и, дубася остервенело кулаками и ногами, одновременно стали раскачивать, намереваясь бросить в камеру, как бревно. Во время полета я успел только вытянуть вперед руки, чтобы предохранить голову от возможной встречи со стеной или со стояком нар. Слава богу, на пол я приземлился животом, даже лицом не задел. Но руками и головой все же здорово врезался в стенку. Из-под нар вылез не сразу. Больше всего досталось правой руке, и я еще несколько дней не мог ею шевелить без боли.
Здесь, под нарами, догнал меня таким же способом Славка Ефимов — мой сокамерник по 16-й тюрьме, который будет со мной потом и на целине. Он отделался легче моего и сразу же выскочил из-под нар.
Когда я вылез, то не мог понять, в чем я здорово вывозился под нарами. Рассмотреть же было невозможно из-за отсутствия света. Одежда была в чем-то липком, какая-то слизь была на руках. Когда зажгли спички и немного осветились, то оказалось, что мы все в крови. Я был уверен, что кровотечения у меня нет, а значит, я вывозился в чужой крови. А к нам все швыряли и швыряли зэков с нашего этапа. Скоро камера была полна и мы мало-помалу стали ее обживать. Ложиться на нары было нельзя: они все были липкими от крови. Мы отчаянно и озлобленно колотили чем могли в обитую железом дверь, требуя начальства. Но к нам даже никто не подходил. Тем временем наступил подъем и в коридоре забегали надзиратели и обслуга-зэки. Мы отказались принять хлеб и завтрак, требуя начальства. Когда за окном стало сереть, мы лучше рассмотрели камеру и обнаружили, что стены расписаны. Кровью на стенах были написаны лозунги: «Коммунисты палачи» и «Смерть коммунистам».
Из разговоров с соседними камерами через окна мы уже знали, что зэки в этой камере ночью перед нашим этапом коллективно вскрыли себе вены и залили кровью камеру. Кого-то из них отправили в больницу тут же при лагере, кого-то посадили в карцер, а нескольких человек в «воронке» отправили в Караганду под следствие.
Начальство к нам пожаловало где-то часов в десять. Зашел зам. нач. пересылки с каким-то офицером. Наша братва, не стесняясь в выражениях, стала требовать перевода в другую камеру, грозили жалобами в прокуратуру и даже в ЦК в Москву. Майор иронически улыбался и все время молчал. Потом ему, видно, надоело нас слушать, и он обратился к офицеру: «А вообще-то это не порядок! Дать им воды, тряпки и пусть уберут кровь!»
«Мы не будем убирать!» — орали мы. Среди нашего общего ответа было много мата и ругательств в адрес МВД, но на это никто из вошедших не обращал внимания. Скоро они вышли, нам же в кормушку бросили несколько тряпок, а вслед за тем в открывшуюся дверь бросили два грязных ведра и принесли бак воды.
Вторая ночь тоже не обошлась без ЧП. Среди ночи, когда большинство уже спали и лишь заядлые картежники резались в карты при тусклом свете маломощной лампочки под металлическим колпаком в нише над дверью, нас всех поднял прозвучавший с ближайшей к нашему бараку вышки выстрел. Потом началась беготня надзирателей около бараков, а зэки стали переговариваться через окна и обсуждать да гадать, что бы это значило. А скоро мы получили точное сообщение: часовой застрелил зэка, пытавшегося перелезть через запретку. Зима была в том году очень снежная, снегу намело почти вровень с забором. Зэк был из обслуги пересылки, и что-то его толкнуло попытаться уйти на волю. Часовой его заметил только тогда, когда он перешагивал через карниз запретки. Уложил его намертво с одного выстрела.
Нам не повезло с этапом и суждено было загорать на пересылке дольше, чем держат тут зэков обычно. Зимой из-за малой потребности лагерей в рабочей силе меньше этапов. Ведь большинство лагерей здесь сельскохозяйственные. Ближе к весне пересылка будет пустой, так как этапы будут ежедневно. Еще в тюрьме я много слышал рассуждений на тему: где легче и выгоднее отсиживать срок. Одни хвалили сельхозлаг, то есть целину. Другие, наоборот, не хотели туда попадать.
Тогда в лагерях еще существовали зачеты. Зачеты были двух видов: один рабочий день в лагере засчитывался за два или три из срока. Если попасть на работу, где зачеты один к трем, то с трехлетним сроком можно освободиться через год. Вот все и рвались попасть туда, где день к трем. Из ближайших лагерей богатым на зачеты был лагерь в Топаре. Там строилась тепловая электростанция — ГРЭС, и зэки туда рвались. А в сельхозе, на целине, день к трем давался только механизаторам: шоферам, трактористам, комбайнерам.
Зато на целине летом было легче со жратвой: то картошкой бригада разживется, то морковью, капустой, зерном и даже молоком.
К тому же зачеты — штука ненадежная: сегодня ты заработал их, а завтра за какую-нибудь провинность у тебя их отобрали.
Я еще в тюрьме решил не «выбирать» и не рваться никуда, а предоставить выбор судьбе. «Куда повезут, туда и ладно», — решил я.
Под конец зимы, когда мы все выли от переполненности камер, начались ежедневные вызовы на этап. Приезжали на пересылку представители лагерей и отбирали себе рабсилу. Зэки называли их, этих лагерных представителей, «покупателями». Обычно они отбирали себе зэков по «делам». В этих папках о каждом из зэков сказано коротко все: кем работал до ареста, семейное положение и место жительства. Покупателей больше всего интересовала профессия зэков. Одним, например, из строительных лагерей, нужны были рабочие со строительными профессиями или просто здоровые мужики, способные на тяжелую физическую работу. В целинные лагеря нужны были механизаторы и тоже здоровые мужики на разные работы, в том числе и на строительные.
Но не у каждого зэка в «деле» есть документы о специальности и образовании. Это помогало многим зэкам называться кем угодно: электросварщиками, шоферами, трактористами, поварами… Лишь бы попасть туда, куда хотелось. А попав в лагерь, там уж устраиваться в меру своих возможностей и способностей.
Перед самой отправкой на этап я стал свидетелем еще одного лагерного ЧП. Вернее, не самого ЧП, а его последствий. В один из дней на пересылку привезли из Топара этап. Это было несколько машин раненых зэков. В лагере возникла одна из многочисленных в те годы поножовщин между зэками-русскими и зэками-чеченами. Трупы оставили хоронить там, а на пересылку привезли только тяжелораненых. Забили ими несколько камер, и они через окна продолжали вести словесную войну.
О национальной вражде между русскими и чеченами и ингушами в Караганде я слышал много еще до ареста, когда работал в Топаре. Доходило иной раз до того, что милиция не в состоянии была справиться с наведением порядка. Приходилось вызывать воинские части. В лагерях тоже то и дело вспыхивали стычки. Я тогда впервые столкнулся с национальной враждой в нашей стране.
Я попал на этап, идущий на целину. Несколько машин с зэками и конвоем из Карабаса прибыли сначала в Долинку, где находилось Управление Карлага во главе с генералом Запевалиным. В самой Долинке остались две машины, а три пошли дальше, до Сарепты. В Сарепте, маленьком поселке, находилось лагерное отделение и там же находился головной лагерь. В нем остались две машины. Я же на третьей поехал дальше, на отдаленную командировку при Сарептском отделении. Уже в Сарепте мы точно знали, что едем на Куянду.
Куянда оказалась даже и не поселком, а просто лагерем человек на пятьсот, да около него солдатская казарма и два-три многоквартирных барака, в которых жили надзиратели и начальство. А вокруг — низкие голые сопки.
Лагерь состоял всего из трех длиннющих саманных бараков, разделенных на четыре секции каждый. Уже тогда там не было нар, а были «самолеты». Так называли деревянные вагонки-кровати для зэков. Эти самолеты были разборными, легко разбирались и собирались. Были они четырехместными: два спальных места внизу и два — наверху. Парные места вверху и внизу отделялись перегородкой — доской, положенной посередине вдоль самолета. Недостаток таких постелей в том, что если один из четырех спящих поворачивался, или спускался сверху вниз, или залезал на место, то вся вагонка ходила ходуном и будила остальных спящих. Отапливались здесь бараки печами, топили их углем: рядом угольная Караганда. В Долинке тоже работало несколько шахт.
Работа в лагере в основном была сельскохозяйственная. В отличие от самой Сарепты здесь не сеяли зерновые, а занимались выращиванием овощей: капусты, картошки, свеклы, огурцов, моркови, помидоров… Да еще заготавливали сено для соседних лагерей.
В отличие от прославленных в советской печати целинников, направленных туда по путевкам комсомола и партии, нас, гулаговских целинников, одевали перед отправкой туда с ног до головы во все новенькое. Каждый из нас получал верхнюю и нижнюю одежду, обувь по сезону и постельные принадлежности. Публика тутошняя, в отличие от того паренька в кепочке, которого описал в своей «Целине» Брежнев, не драла горло, требуя теплой одежды. Она не сомневалась в своем праве быть одетой по сезону и получала свое без боя. В этом ГУЛАГ здорово выигрывает по сравнению с другими высшими инстанциями, направлявшими своих людей на целину.
Начальником лагеря на Куянде был плюгавенький и лысенький старший лейтенант (или капитан, забыл уже) Рыбкин. Я не могу сказать, что это был зверь или даже что он был человек крутого, злобного нрава. Нет. Он ничем не выделялся из массы виденных мною работников лагерей.
Из всего начальства и надзорсостава мне запомнился один надзиратель по кличке Буратино. Так звали его зэки, а вслед за ними и надзиратели, и солдаты. Эту кличку он получил за свою внешность: маленький, щупленький, с тонким и писклявым голоском, как у женщины. А главное — за длинный и уродливый нос. Буратино знал, что его зовут деревянным человечком, знал, что обязан этой кличкой зэкам, и мстил им в меру своих полномочий и таланта. На чем можно в лагере поймать зэка, чтобы наказать за нарушение лагерного режима? В основном это карты да водка. За картами здесь, как и везде в лагерях, проводили время почти все зэки: кто в надежде быстро и легко разбогатеть, а кто — провести время. Обычно играющие выставляли около барака караульного — зэка, который должен за определенную плату охранять играющих от внезапного налета надзирателей. Из всех надзирателей никто не умел, а может и не хотел, делать это с таким азартом и настойчивостью, как Буратино. Он умудрялся либо как-то обходить атасника, либо хватал его на посту и вместе с ним входил в барак и застукивал играющих. Но зэки быстро нашли способ мстить ему.
У Буратино была жена — бывшая зэчка из соседнего женского лагеря. Она была лет на двадцать моложе его, и он здорово за ней следил, чтобы она не путалась ни с солдатами, ни с зэками-бесконвойниками. И зэки на этом играли. Бывало, поймает Буратино внезапным наскоком кого-то с картами и собирается вести его на вахту или в кабинет к начальнику; вдруг кто-то из зэков вбегает в барак и, делая вид, что не видит Буратино, орет на весь барак: «Братва, братва, что я видел сейчас! Зойку два солдата к себе в казарму повели! То-то Буратино, когда до него дойдет, будет волоса на жопе рвать!» И все. Буратино в бараке как не бывало. Даже иногда и карты он из рук бросал, и ему было уже не до картежников. Он бежал сломя голову через весь лагерь и искал свою жену. Наверное, чаще всего он находил ее дома около детей, но тем не менее этот зэковский коварный прием никогда не отказывал. Буратино же становился всеобщим посмешищем. Даже если он куда-то торопился по своим делам, все посмеивались над ним, подозревая, что он снова бежит на розыски жены.
Этот надзиратель, казалось, не знал дома своего, не знал своего выходного дня, не знал отдыха и покоя. Его можно было встретить в лагере в любой день, в любое время суток, в любом углу зоны. Ты поздно ночью возвращаешься из сортира в барак, и вдруг над самым твоим ухом комариный писк: «Где был? Почему шляешься?»
* * *
Меня зачислили в бригаду к Григорию Григорьеву. Это был мужчина лет тридцати пяти — сорока, осужденный за убийство военкома. Дали ему сначала высшую меру — расстрел, но потом заменили двадцатью пятью годами лагерей. Он уже успел побывать на известном на весь Союз штрафняке Спасске и теперь вот бригадирил. Человек он вообще-то был неплохой, и бригадники на него не обижались. Он умел со всеми ладить, и бригада его считалась благополучной. Это значило, что зэки у него кое-что получали на руки в конце месяца. В основном же здесь обычно после месяца работы все оставались еще в долгу у лагеря, даже не могли покрыть своим заработком трат на одежду и питание.
Работала бригада ранней весной на переборке картошки и овощей в овощехранилищах. Готовили семена на предстоящую посадку, отбирали овощи для отправки в торговую сеть в Караганду. Я не могу сейчас сказать, чем объясняется то, что зэки за свою работу почти ничего не получали, хотя круглый год из лагерных овощехранилищ машинами возили в Караганду овощи.
Зэки же, несмотря на это, ходили сюда работать с охотой. Это объяснялось тем, что кормежка была в лагере плохой и недостаточной, на работе же всегда можно было что-то съесть сырьем или приготовить на печке или просто на костре.
Заведующим картофельным хранилищем был вольный мужчина. Он был инвалидом без одной ноги. Звали его Архипом, и жил он тут же, в Куянде, в отдельном домике-мазанке. Он не жалел для бригады картошки, и мы ели ее досыта и даже набирали с собой в зону. Частенько на вахте при шмоне надзиратели нас растаривали, отбирали всю картошку. Но иногда мы все же ее проносили и там делились ею с другими зэками, с теми, кто работал, например, в каменном карьере и не имел возможности доставать ничего из съестного.
С Архипом у бригады были хорошие отношения. Он смотрел сквозь пальцы на явные нарушения со стороны зэков и всегда говорил: «Я ж не надзиратель! Это их работа. А моя следить за картошкой!»
На работе здесь картежники могли свободно играть в карты, так как конвой почти не заходил в хранилище. Архип знал и видел, как зэки через шоферов-вольных приобретали водку, и не доносил об этом по начальству. Иногда его угощали этой водкой, и он не отказывался.
Однажды после такой совместной выпивки бригадники с ним разговорились, и кто-то у него спросил, где он потерял ногу.
— Если б на фронте, то не обидно бы было! А то ведь в тылу потерял!
— Под поезд попал, что ли?
— Да нет. Бандеровцы е…е! Напали на нашу машину и всех перестреляли. Меня вот подобрали потом наши с дыркой в легком и в ноге. А в госпитале ногу мне и оттяпали.
И он пустился матюгать бандеровцев на чем свет стоит. Мы все слушали его с сочувствием. И вдруг один наш бригадник, Миша Савченко, зло проговорил, обращаясь к Архипу: «Ты, мудак, а кто вас туда звал?»
— Куда?
— Да на Украину. Что, бандеровцы пришли к тебе домой и там ранили? На х… вы туда пришли с оружием? Кто вас просил?
Для меня это было открытием. Ведь я был воспитан советской пропагандой. Хотя во многом к этой пропаганде мы и относились с недоверием и даже издевались над ней, но кое-что все же крепко засело. Так вот и с бандеровцами. Для меня они всегда были предателями, сотрудничавшими с немцами и убивавшими наших солдат из-за угла. Числились они у нас только в бандитах. Не было им другого имени.
Казалось, что ведь истина довольно проста, чтобы увидеть все в правильном свете. И не требовалось большого напряжения ума, чтобы понять людей, поднявшихся с оружием в руках отстоять свою свободу от завоевателей. До меня довольно долго не доходило, что украинцам может не хотеться ни немецкой оккупации, ни советской.
С этого момента я переосмыслил свое отношение к национальному вопросу в нашей стране. И русский народ мне уже не казался таким бескорыстным защитником малых народов. Я увидел «старшего брата» в его настоящей роли. Мне стали понятны «агрессивность» и «враждебность» по отношению к русским таких народов, как чечены, ингуши или крымские татары. Я говорю только об этих народах, так как к тому времени я с ними уже сталкивался. С крымскими татарами я столкнулся в Средней Азии. У нас, русских, тогда было такое представление о крымских татарах, что это дикари, которые только и делают что нападают на нас, русских, и вырезают всех, кто им попадается. Особенно я в этом убедился в Ташкенте, где шла настоящая вражда с поножовщиной между коренным населением — узбеками — и высланными туда насильно крымскими татарами. Вражда была взаимной. Мне понятна воинственность крымских татар: это реакция маленького народа, насильно вывезенного за тысячи километров от родины и брошенного во враждебный лагерь. Ведь другое слово для определения узбеков и их отношения к несчастному народу подобрать просто невозможно. Почему так враждебно встретили узбеки крымских татар? Даже к русским у них не было такой озлобленности.
Советское руководство, высылая из Крыма коренное население, очень расчетливо определило татарам место жительства: утопить маленький народ в море отсталого и еще во многом сохранившего средневековую религиозную фанатичность народа. Были все основания полагать, что татар просто вырежут поголовно. К тому же государство не собиралось их защищать, а, наоборот, было заинтересовано в их уничтожении.
То же самое относится и к чеченам и ингушам, высланным в Караганду. Этим, безусловно, повезло больше, так как они попали в окружение народа более терпимого и уже к тому времени полностью избавленного от религиозного фанатизма. Ведь Караганда, хоть город и казахский, но население его было почти сплошь русским. Казахи тогда еще не шли в город и оставались в своих аулах.
И хотя между русскими и чеченами и ингушами часто были конфликты, переходящие в поножовщину, но их отношения не идут ни в какое сравнение с отношениями между узбеками и крымскими татарами.
И вспомнил я еще один маленький народ — калмыков. К нам в Сибирь их привезли где-то в середине войны. Тогда мы о них мало чего знали. Нам только засело в голову, что это предатели. И даже то обстоятельство, что выслан с родины целый народ вместе со стариками и младенцами, не заставило нас задуматься и усомниться. Я сейчас не могу припомнить, в какое именно время года они у нас появились. Помню только, что в Барабинске их поселили на окраине, между городом и городским кладбищем. Там среди картофельного поля стояло несколько огромных овощехранилищ. Они были целиком в земле, и только крыши возвышались над землей. Ни одного оконца, ни одной печки. Как они там жили в сибирскую стужу без какого-либо имущества?
Никто из нас, пацанвы, или взрослых никогда у них «дома» не бывал. Место их поселения было окружено какой-то тайной и внушало страх, постоянное ожидание какой-то опасности. Издали мы видели, что там есть и дети разных возрастов, но мы нигде больше в городе их не встречали. Не ходили они и в школу. Ни женщины их, ни дети вообще никогда не появлялись в городе. Казалось, что они просто не выходят из своих подземных жилищ на свет белый.
Мы ни от кого не слышали, чем они вообще занимаются и работают ли где. И на что они жили?
Мы только часто видели, как они проходили строем — одни мужчины — то с деревянными винтовками, то без ничего вообще. Но куда их водили? На работу или на стрельбище?
Зато о них много говорили такого, от чего становилось страшно по ночам. Это было время расцвета преступности в городах. Например, в Барабинске в сумерках уже нельзя было выйти из дома. Грабили и убивали везде: на улице, на работе и даже в собственных домах. Люди с наступлением сумерек запирались на замки и запоры и на улицу не выходили. Человека могли убить ни за что. Сколько было случаев, когда убивали прохожего или паровозника в мазуте в надежде найти у него деньги и оказывалось, что у жертвы при себе либо были считанные копейки, либо вообще не было ничего.
В народе было два козла отпущения: калмыки и милиция. Милицию обвиняли в том, что она сама, вместо того чтобы бороться с грабителями, участвует в грабежах. То проносился слух, что два милиционера прямо в форме ограбили кого-то на улице. А то еще и то, что милиционер или группа их работали заодно с бандой грабителей. И тут же ходило опровержение этих слухов: это не работники милиции грабят, а грабители и бандиты хитрят и переодеваются в форму милиционеров и грабят и убивают под видом милиции.
С калмыками все было проще: это их рук дело. По городу ползли страшные подробности, как калмыки воруют русских детей, убивают их и едят. Родители тряслись за детей-школьников, которым приходилось зимой возвращаться из школы в сумерках. Грабежи и убийства валились тоже на калмыков.
Но калмыки были неуловимыми. Попадались на грабежах местные жители, попадались и милиционеры. А вот не было ни одного случая, чтоб поймали или разоблачили калмыков. Тюрьма в соседнем городке Каинске постоянно была переполнена, суд в Барабинске работал с большим перенапряжением, но все это ни в какой мере не затрагивало калмыков.
Но никому все это не казалось странным. И слухи всевозможные о страшных и опасных калмыках только увеличивались.
В то же время калмыки-мужчины иногда ходили по городу и просили милостыню. И хотя сами жители тогда жили впроголодь, им все же подавали кто что мог. Их боялись, страшились, но как-то даже не высказывалось по отношению к ним враждебности. Просто вот есть такие люди-нелюди, которых надо бояться, и все. Я не помню ни одной драки или сцены, когда избивали бы калмыка, даже не слышно было такого.
Итак, мое прозрение в национальном вопросе началось с простого вопроса обыкновенного украинского парня: «А кто вас туда звал».
* * *
Карлаг хоть и расположен на казахской земле, но основная масса зэков русские. Попадаются украинцы, больше чеченов и ингушей. А вот казахов среди зэков очень и очень мало. Чем это объяснить? Наверное, к тому времени они еще не успели приобщиться к нашей культуре и продолжали жить по своим диким обычаям. Из пятисот зэков Куянды казахов не набиралось больше одного десятка. Все — и зэки, и начальство — к ним относились свысока и не считали за людей. И остальные зэки с ними не сближались без крайней нужды. Они и сами держались обособленно, в контакт с остальными входили нехотя и в основном в процессе общей работы. Обычно они уединялись где-нибудь в укромном углу зоны, пили свой крепкий чай и могли с утра до вечера слушать своего национального артиста. Мне их песни и игра на домре казались однообразными и неинтересными. Все казалось, что поют они все время одну и ту же печальную и заунывную песню. К этой самодеятельности все вокруг относились с презрением и часто мешали им просто из желания сделать пакость. Везде и всюду они всем мешали своим пением. Про их музыкальный инструмент говорили все одно: «Один палка, два струна». А про песни их ехидничали: «Гора крутой, крутой! Ишак худой, худой! Кибитка далеко, далеко! Вода глубоко, глубоко!»
Мне было неинтересно их слушать. Но они мне никогда не мешали. И уж если бы мне дали выбирать, с кем сидеть в лагере: с русскими, чеченами или казахами, то я бы выбрал именно казахов. Это очень тихий и доброжелательный народ. От казаха не жди подвоха, подлости, предательства. И всегда можно рассчитывать на бескорыстную помощь. Обиды и зла от них не жди. Во всяком случае ни с того ни с сего. Такими я их знал в середине 1950-х годов. Сейчас вроде бы и они стали похожи на нас.
Весной все вокруг лагеря буйно зазеленело. В ясную погоду стало жарко. Но все равно на работу мы ходили, прихватывая с собой телогрейки или бушлаты. Такой уж тут климат: чуть запасмурило небо, и становится холодно, а уж если стал накрапывать дождь, то и тем более.
До посадки овощей мы работали помимо овощехранилища на расчистке арыков. От старожилов мы уже знали, что вслед за посадкой овощей будет полно и другой сельхозработы: прополка, окучивание, поливка, сенокос и так вплоть до уборочной.
Моим соседом по самолету в бараке был грек Коля Пасалидис. Он из тех греков, что бежали в СССР от фашизма. Привезли его сюда родители еще мальчиком. Где-то здесь же под Карагандой их поселили и организовали из них совхоз. Так они и жили изолированно от остального мира. Коля, хотя ему тогда было уже за двадцать, прибыв в лагерь, почти не знал русского языка. Потребность в нем он впервые ощутил в тюрьме, когда оказался единственным греком. Я сейчас уже не могу припомнить, за что точно он был осужден. Но в лагере он выглядел довольно добродушным и спокойным. Совершенное незнание русского языка ставило Колю в особое положение в бригаде, да и на работе. Часто над ним подшучивали. А однажды он сам дал повод для насмешек на долгое время. Произошло с ним вот что. В Куянде агрономом работала вольная женщина лет двадцати восьми — тридцати. На всю Куянду было несколько женщин, но для нашей бригады она была самой доступной. Доступной не в смысле крутить романы, а просто с ней наша бригада была в постоянном контакте: она была нашим непосредственным начальством в поле. Поэтому за ней и старались все ухаживать, старались завоевать ее внимание. Коля как-то получил посылку от родных и на работу прихватил с собой конфет. При появлении у нас агрономши Коля стал ходить за ней по пятам и предлагать угощение — свои конфеты. Он говорил ей с забавным акцентом, протягивая горсть конфет:
— Кусай, сука! Позалуста, сука, ну кусай!
Вся бригада от этого ухаживания каталась по полю. Агрономша, схватившись за живот, убежала от нас и появилась только после обеда. Но подходя к бригаде, сама рассмеялась. Бедный Коля целую неделю переживал этот инцидент, так как об этом узнал весь лагерь и хохотал над ним. А у бедной женщины появилась незаслуженная кличка «Колина сука».
Устная речь зэков-уголовников так обильно напичкана матом, что если подсчитать, сколько в одной фразе матерных слов и сколько нормальных, то получится счет в пользу матерных не менее, как два-три к одному. Разговаривая между собой, зэки не стесняясь сыплют бранные слова, но это не оскорбляет собеседника. И сами говорят, что матерные слова употребляют просто для связки. Единственные исключения — это «педераст», «петух», «козел»: все это слова одного значения. И их не говорят кому попало. За любое из этих слов, сказанных в споре, приходится отвечать очень строго. Если этим словом назвали зэка не педераста, то этот зэк должен как бы доказать, что он действительно не педераст, тем, что сажает на нож сказавшего.
Те, кто отсидел много лет в лагерях, кажется, уже забыли русский язык. Нормальный человек не поймет их разговора, а если поймет, то ужаснется от содержания и смысла сказанного. Вот пример. Был у нас там зэк Вовка Пенин. Сам себя он звал Владимиром Ильичом, так оно и было по документам. Второе имя у него было «Сын ГУЛАГа». Ему было под тридцать и сидел он безвылазно с пятнадцати лет. Человек очень потрепанный и нервный, легко заводимый по малейшему пустяку. Часто по просьбе зэков импровизирует выступления своего знаменитого тезки. Эту его способность знали все: и зэки, и начальство. И однажды, на общем собрании перед посевной Вовка с места стал вставлять реплики во время выступления зам. начальника по ПВЧ. Тот пару раз смолчал, но потом не выдержал и оборвал горлопана: «Послушай, Ильич, может, тебе броневичок подать?» Ильич, когда хохот в зале немного стих, скартавил: «Непременно, батенька, с пулеметом!»
То ли его считали сумасшедшим, то ли еще почему, но ему многое сходило с рук у начальства. Например, почти еженедельно надзиратели забирали с его постели личную карточку, где содержатся основные сведения о зэке: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья и срок. Он надписывал полностью свои имя и отчество, а в фамилии первую букву П писал так, что она походила на Л. Надзиратели приносили новую, где очень четко видна была П, а вместо полных имени и отчества стояли только инициалы. Вовка в тот же день все ставил на прежнее место.
Однажды он где-то раздобыл карикатуру на Гитлера и приклеил хлебом этот портрет себе в изголовье. Пока мы были на работе, надзиратели сорвали Гитлера. Владимир Ильич стал бегать по всей зоне и кричать всем, что у него отобрали портрет его папы. Дошел он с этим до начальника лагеря и требовал отдать папу. Начальник пригрозил ему карцером. В ответ Ильич пригрозил: «Ну, б…, я вам завтра устрою!»
Все это приняли за обычный треп. Но на следующее утро вся зона проспала подъем. С большим опозданием забегали по баракам надзиратели, срывали одеяла с зэков, поднимая их на завтрак и на работу. Обычно сигнал подъема — рельсовый звон у вахты. Там на вкопанном столбике подвешен кусок рельса, и надзиратели бьют в него отбой вечером и подъем утром. По этому сигналу и живет лагерь. В это утро надзиратель подошел к столбику с молотком, а рельса нет. Пока выясняли да советовались, время шло, а потом забегали по баракам. А зэки, пользуясь моментом, огрызаются и ворчат еще: пошли на х…! Подъема еще не били! И снова под одеяло. Развод начался поздно, а зэкам того и нужно. Все знали, что это Ильич ночью упер от вахты рельс и утопил его в уборной. После этого новый рельс повесили уже около вахты по ту сторону запретки, а не в зоне.
Однажды мы возвращаемся с работы и видим: у вахты стоят мужчина и пожилая женщина. Видно, что они приехали к кому-то на свидание. Женщина близоруко всматривается в лица зэков, боясь пропустить своего. Это оказалась мать Владимира Ильича, а мужчина — его старший брат. Когда брат, узнав Вовку, окликнул его, тот выбрался из середины строя к краю и, поравнявшись с родными, воскликнул, обращаясь к матери: «Мамочка, твой рот е…л, как ты постарела!»
Я видел, как от этих слов отшатнулся назад брат, будто его кто сильным толчком отбросил. Мать зажмурилась и закусила сильно тонкие губы. Многих бригадников покоробило услышанное. Ильич же как ни в чем не бывало стал давать деловые советы матери и брату на ходу: что им делать, к кому обращаться за разрешением и т. д.
Интересно, что в бригаде было полно настоящих отбросов, людей, полностью разложившихся и не признающих никакой морали, для которых давно уже нет ничего святого. Но даже из них никто не хихикнул при этой сцене.
В разгар лета Владимир Ильич был отправлен на штрафняк. Видно, ему собрали все в кучу и оформили как злостно нарушающего лагерный режим. Мне с ним суждено будет увидеться ровно через год, когда и я загремлю туда же. Но там уже была не целина, и поэтому рассказ об этом подождет своего момента.
Из всех видов работ на Куянде мне больше всего нравилось работать на сенокосе. Нас поднимали не по общему подъему, а раньше. Мы запрягали своих волов в арбы и медленно двигались по утренней степи вглубь от лагеря. Оцепление было огромным, и мы почти не ощущали себя в неволе. Пока мы доезжали до места, солнце уже поднималось высоко и начинало сильно припекать. А на месте нас ждали лошади и конные косилки — их нам готовили зэки-бесконвойники. Мне было вдвойне приятно работать на конных граблях еще и потому, что это напоминало мне детство в деревне. Я каждое лето проводил тогда в деревне и работал вместе со своими сверстниками в поле. Там мы тоже на сенокосе работали на конных граблях.
Здесь, на сенокосе в Куянде, я своими глазами наблюдал акт скотоложства. До этого я только слышал об этом и принимал за лагерный треп. А тут на вот, пожалуйста, смотри. А хочешь, так можешь попробовать, так как доступ для всех свободен. Зэки использовали для этого кобыл. Да что зэки! И солдаты тоже по очереди подходили за своей долей. Нас конвоировали три солдата: один с автоматом и двое с карабинами. Кобылу для удобства запрягали в конные грабли, и желающий получить удовольствие становился ногами на оглобли, отводил в сторону кобылий хвост… Все так просто! Я не скажу, что все зэки увлекались этим. Многие отказывались и даже осуждали тех, кто использовал животных. Но были и заядлые любители кобыльей любви. Некоторые зэки из других бригад рвались к нам только ради этого.
На Куянде я еще прихватил в лагерях практику коллективных случек. На великие советские праздники начальство устраивало из зэков самодеятельность. При лагере организовывали культбригаду, и она под руководством зам. начальника по КВЧ (культурно-воспитательная часть) составляла программу и развлекала зэков. Для поощрения зэков устраивали между лагерями соревнование на лучшую самодеятельность. Эти культбригады иногда выезжали в соседние лагеря. Помимо этого вида контактов между зэками разных лагерей существовал и еще один: также обменивались опытом передовики производства. Эти чаще выезжали. И обычно ездили из мужских лагерей в женские. Попасть в такой «коллектив» было чрезвычайно трудно. Здесь нужно было быть не только отличником и передовиком производства, и не столько им, сколько своим человеком у начальства. Или быть хорошим артистом. Но даже ведущий артист не всегда мог рассчитывать на такую поездку. О предстоящей поездке в женскую зону знал весь лагерь за много времени вперед, и от желающих записаться в лагерную художественную самодеятельность отбоя не было. Какие только интриги не велись вокруг этого между зэками! Какие драмы порой разыгрывались в женских и мужских лагерях ради возможности съездить к бабам! Везли случников под конвоем, а по прибытии в женскую зону их просто пропускали туда, условливаясь, что через три или четыре часа они все вернутся сами на вахту. Вообще-то встреча должна начинаться с торжественной части, а уж потом «живые контакты». Но, как правило, стоило зэкам пройти через вахту женской зоны, как их сразу же расхватывали и растаскивали гулаговские обольстительницы.
Я ни разу не участвовал в этом мероприятии. По двум причинам. Во-первых, я всегда с отвращением относился к лагерной самодеятельности. И это исключало для меня одну из двух возможностей съездить на случку. К тому же у меня и способностей нет для участия в самодеятельности. Во-вторых, я не мог попасть в число поощряемых передовиков производства. Я мог быть передовиком при своем желании. Но этого ж мало! А на большее для такого дела я опять-таки не был способен.
Поэтому о коллективных случках я знаю со слов непосредственных участников. Но все предшествовавшие этому события и последующие происходили на моих глазах.
Один из женских лагерей находился у нас по соседству. Это был маленький хуторок из нескольких бараков. Я говорю «хуторок», потому что издали на фоне бескрайней степи бараки казались очень привлекательными. Их обычно белили известью, и они ярко выделялись и были видны издалека. Среди нас были зэки, которые до ареста работали здесь шоферами. Не раз им приходилось видеть издали эти беленькие строения, да не знали они тогда, что это такое. Лагерь этот назывался Кайбас. Наши же передовики почему-то ездили на случку не на Кайбас, а на более отдаленную женскую командировку. А Кайбас в Куянде у всех был на языке из-за своей близости. До нас только слухи доходили о жизни в женском лагере. Больше всего эти слухи затрагивали половой вопрос. То и дело рассказывали то надзиратели или солдаты, а то и наши зэки-бесконвойники очередную историю про то, как зэчки-бесконвойницы изнасиловали случайно заехавшего к ним тракториста или шофера. Туда же на Кайбас бегали в самоволку солдаты, как они говорили, «перепихнуться».
Я пробыл на Куянде до конца лета, а потом оказался на головном лагере в самой Сарепте. Произошло это так. Была организована новая бригада для работы на ремонте кошар — нужно было их приготовить к зиме. Вот в эту бригаду из сенокосной я и был переброшен. Ездить на работу было километров двенадцать. Ездили на арбах, запряженных лошадьми. И конвой наш — два автоматчика — ехали на лошадях, но только верхом. В бригаду были отобраны малосрочники, поэтому конвой был не очень строгим. К тому же солдаты были уверены, что никто из нас не убежит в этой открытой на все четыре стороны на многие километры степи. Доходило до того, что конвой спал, а бригада работала. Мы издали видели, как к нам подъезжала бричка с двумя солдатами из дивизиона, снабжавшая наш конвой обедом, и заблаговременно будили нашу охрану. Обычно конвойные солдаты стояли на двух углах воображаемого четырехугольника оцепления. На каждом углу этого четырехугольника втыкали красные флажки. Каждый солдат брал арбу и устраивался под ней от знойного солнца. Трудно было не уснуть в таком положении. Солдат конвоя нам часто меняли. Это прием начальства: чтобы не устанавливались слишком близкие отношения между зэками и солдатами. Солдаты попадались нам разные. Злых и вредных зэки умели проучивать. Однажды вот нас принял новый конвой и с первого же дня стал вредничать: то и дело орет, приказывая не растягиваться, не курить, не переговариваться, не смеяться и еще черт знает чего не…
И два дня с конвоем этим мы ездили со скандалом. А на третий нам удалось от него избавиться. Как и другие, наши охранники часов в одиннадцать спали каждый на своем «боевом посту». Обед им привозили где-то в половине первого. А тут пораньше внезапно появился верхом на коне их командир. Видно, капитан объезжал и проверял своих подчиненных. Зэки видели подъезжающего офицера, но не стали предупреждать вредных охранников, а с любопытством и злорадством наблюдали молча за тем, что же будет. А офицер подъехал к одному из спящих солдат, слез с коня, взял у спящего его винтовку. Офицер хотел выстрелить вверх над ухом солдата, но потом передумал и просто разрядил ее и вытащил и забрал затвор. После этого он пошел к другому, тоже спящему, солдату. Тот был с автоматом. Капитан легко забрал оружие, а солдат продолжал спать. Капитан отошел метров на десять от солдата и дал короткую очередь из автомата в небо. Оба солдата вскочили и ошалело смотрели: один на капитана, а другой на свою обезвреженную винтовку. При зэках офицер разматерил солдат, вернул им отобранное у них и предупредил, что по возвращении в казарму он их накажет. С тем он и уехал. На следующий день у нас был уже другой конвой. И после этого случая все охранники старались не портить отношения с зэками.
Восстание в Темиртау
Новый день в штрафном лагере Карлага на станции Карабас ничем не отличался от обычных дней. Как всегда, для зэков он начался с гулаговских курантов — шести ударов по подвешенному у вахты метровому обрезку железнодорожного рельса.
Заспанные зэки вываливались из душных саманных бараков на свежий воздух в одних трусах. Одни спешили к умывальникам, другие к сараю-сортиру, третьи просто присаживались на корточки вдоль бараков в ожидании завтрака.
К половине восьмого весь лагерь должен быть у вахты и по-бригадно выходить через предзонник за ворота. По ту сторону вахты постепенно выстроится огромная серая колонна. Единственный рабочий объект лагеря — каменный карьер. Он расположен в полукилометре от лагеря и обеспечивает камнем две крупнейшие стройки: Карагандинский металлургический комбинат в Темиртау — казахстанскую Магнитку — и строящийся новый шахтерский город Тентек.
Не больно-то загоришься желанием идти на солнцепек и, обливаясь потом, вкалывать ломом, кувалдой и клином.
Вот уже и баланду привезли с пайками: штрафняк не имеет ни своей хлеборезки, ни столовой-кухни. Еду привозят с кухни соседнего общего лагеря — ДОКа, тут же, рядом, на Карабасе. Привозят ровно пайка в пайку и черпак в черпак.
Завтрак уже в разгаре, и никто не замечает, что сегодня не видно в зоне ни единого мента. Обычно они задолго до окончания завтрака бегают и подгоняют зэков на работу.
Но вот кто-то заметил это и громко говорит: «Мужики, а чего это менты не появляются?»
И сразу зашушукались, заволновались. И поползли параши по зоне одна невероятнее другой: подох Никита, началась война, амнистия…
Внезапный невывод на работу для зэков всегда праздник. Это редкость необычайная и спроста не бывает. Причины для этого всегда очень важные.
Тем не менее часть зэков уже толпится у вахты в готовности идти на выход на работу. Большинство же просто подошли сюда, чтоб хоть что-то узнать. То и дело слышатся крики из толпы: «Эй, старшой, открывай!», «Долбо…, выводите!»
Но вахта мертва. Дверь ее не открывается, и никто из ментов в ней не показывается. Даже зэк-нарядчик не может достучаться. Все это здорово разжигает любопытство зэков, и они настойчивей требуют начальства. Наконец нарядчика впустили на вахту. Он скоро вышел обратно, объявив зэкам: расходитесь.
Как бы подтверждая сказанное, вышли начальник лагеря старший лейтенант Журавлев и кум, прозванный зэками за свою обезображенную оспой рожу «Шилом бритый», и тоже потребовали: «Разойтись от вахты! Развода сегодня не будет!»
«Почему?», «В чем дело?», «Гражданин начальник, а…»
Но все зэковские вопросы остаются без ответа, так как начальство быстро юркнуло в дверь вахты.
Что-то стряслось. Что-то будет! И лагерь гудит и наполняется все новыми и новыми парашами.
Но с въездом с обеденной баландой бесконвойника с ДОКа все проясняется. Новость невероятнее всех рожденных параш: на работу не вывели потому, что в Темиртау восстание и войска МВД отправлены туда на подавление.
Восстание в Темиртау! Мне тогда было двадцать лет, и о бунтах против советской власти на воле я никогда не слышал; знал о лагерных бунтах да о грузинском 1956 года. Но чтобы бунтовали рабочие на воле — этого я никогда и ни от кого не слышал. И не верилось как-то.
К тому же в Темиртау стройка считалась ударной комсомольской. Находясь в Карлаге, я регулярно читал областную газету «Социалистическая Караганда» и республиканскую «Советский Казахстан». Там много писалось об этой стройке. И вот тебе на: комсомольцы бунтуют против советской власти! А комсомольцы-солдаты будут их усмирять!
Три дня нас не выводили на работу. А на четвертый все пошло по-привычному. От солдат конвоя мы в первый же выход на работу узнали подробности о Темиртау. На наши расспросы солдаты отвечали охотно, чувствовалось, что им самим хочется рассказать. Мыто думали, что раз они вернулись, то бунт подавили. А оказалось, что их просто заменили подошедшими регулярными войсками.
Так что же произошло в Темиртау в первых числах августа 1959 года? Мои сведения — это пересказ слышанного от очевидцев, в основном солдат МВД — непосредственных свидетелей и участников событий. Еще есть сведения от шоферов, которые возили наш камень в Темиртау и которые застряли там из-за этих событий на несколько дней.
Наш конвой не без гордости сообщил нам: только наш дивизион расстрелял там 11 000 патронов!
Конечно, не все эти 11 000 были всажены в людей. Большая их часть наверняка была выпущена в белый свет как в копеечку. Но ведь в Темиртау согнали карателей со всего Карлага!
О причине бунта нам выложили одну версию:
Стройка в Темиртау была первой, куда приехали иностранные строители, молодые рабочие. Это было начало обмена рабочей молодежью между соц. странами. В Темиртау приехали несколько сот молодых болгар.
Для этих гостей-строителей были созданы особые условия и в быту, и на работе. Их условия резко отличались от тех, в которых жили и работали остальные рабочие — советские.
Жили болгары в отдельном городке, куда заглядывать посторонним, то есть советским, строителям было запрещено: за этим строго следили милиция и особые посты-наряды из партийно-комсомольского актива города.
Чистота, простор и порядок в общежитиях, отличное снабжение продуктами и промтоварами в их магазине — все это было в диковинку не то что видеть, но даже и слышать нашим строителям.
И на работе тоже было устроено так, что разница ощущалась во всем: в распределении по рабочим местам и объектам, в оплате, в самих условиях работы.
Вот та почва, на которой и разразилась катастрофа.
Начальник лагеря ст. лейтенант Журавлев вместе со своим заместителем по КВЧ ст. лейтенантом Цыбулей объясняли нам, что бунт подняли не комсомольцы, а пригнанные вербованные, среди которых было много уголовников, только что освободившихся из мест заключения. Начальство нам ничего конкретного о причинах бунта не говорило, а твердило одно: «Из хулиганских побуждений!»
Зэки же донимали начальников своими просьбами: «Отправьте в Темиртау добровольцем!» — «Зачем?» — «Комсомольцев постреляем, комсомолок по…!»
Сначала войска МВД попробовали войти в город, но им оказали такое сопротивление, что они вынуждены были отступить. Убитых было много с обеих сторон. Восставшие с самого первого дня разоружили милицию и военизированную охрану. Они захватили склады со взрывчаткой, которую употребили для изготовления бомб и мин. Это все не представляло большой проблемы для них: среди тысяч строителей было много парней, только что демобилизованных из армии.
И все же кажется невероятным, чтобы хорошо вооруженные каратели не вошли в город с ходу. То ли поступил приказ им не соваться при сильном сопротивлении, то ли они на самом деле оказались бессильными?
К тому же восставшие предупредили: если только войска попрут в город, то все важные объекты взлетят на воздух. А о том, что взрывчатки для этого на стройке вполне хватит, власти хорошо знали. Так что под угрозой уничтожения была вся стройка. Да еще на стадии скорого пуска первой домны.
На четвертый день к Темиртау подошли регулярные войска; из Ташкента прибыло несколько эшелонов с танками и бронетранспортерами. Они заменили войска МВД, и те вернулись на свои места.
Прибывшие войска двойным кольцом оцепили город и никого не пропускали ни туда, ни сюда. Днем танки стояли железными громадами на близком расстоянии друг от друга, а между ними разъезжали бронетранспортеры. Ночью вся эта техника заливала светом все пространство между собой и городом.
С первого дня восставшие предъявили требование: встретиться с кем-нибудь из руководителей страны — Хрущевым или Ворошиловым.
Сначала их попробовали уломать на уровне республиканского начальства, но ничего не добились. И в конце концов, когда стало ясно, что восставшие от своих требований не откажутся и могут взорвать стройку, из Москвы приехал Клим.
Заявился он с огромной свитой: несколько генералов и много лиц в штатском. Но без видимой охраны — таково было условие восставших. Интересно, не был ли в этой свите друг Ворошилова и знаток Казахстана тех лет Брежнев?..
Ворошилов вел разговор в таком духе: «Комсомольцы! Вы же резерв нашей ленинской партии!»
Ворошилов настаивал и требовал прекращения беспорядков, требовал повиновения, а после этого обещал договариваться и обсуждать требования восставших.
Переговоры ничего не дали: восставшие и Ворошилов не уступали друг другу. Ворошилов под конец спросил: «Знаете ли вы, как карает советская власть?» Ответ ему был следующий: «Мы построили Казахстанскую Магнитку — мы ее и взорвем!»
Как бы там ни было, а Ворошилов отдал приказ войскам подавить бунт. И танки, бронетранспортеры с автоматчиками ворвались в город.
А первый маршал, поди, отдав этот приказ, поехал с Брежневым осматривать поля с будущим целинным урожаем. Брежнев пишет в своих мемуарах «Целина», что Ворошилов не раз приезжал к нему на целину и живо интересовался целинными делами.
Сколько было жертв при подавлении этого восстания? Никто не ответит на этот вопрос. Но вот шоферы рассказывали нам в карьере, что танки на себе несли крыши бараков строителей, подминали под себя деревянные вагончики-общежития, наматывали на свои гусеницы палатки — временные летние общежития. А каково было сопротивление этой силе? Помнится, начальник конвоя лейтенант говорил: что это за комсомолка, если она ставит впереди себя двухлетнего ребенка и из-за него стреляет?
Уже будучи в политических лагерях Мордовии, я услышал, что подобное восстание было и в Новочеркасске. Но я ни разу ни от кого не слышал о дальнейшей судьбе участников восстаний.
Где они, что с ними?
В Темиртау всех, кто попадал под руку карателей, бросали в крытые грузовики и куда-то увозили. Бросали в одну кучу трупы, раненых, живых. Куда их отправляли? Производили ли где сортировку или, прикончив живых, трупы где-то закапывали?
Или где-то есть особо секретные лагеря или тюрьма специально для таких заключенных?
Большинству участников событий в Темиртау только что перевалило за сорок. И неужели никто из них так ничего и не расскажет?
Хочется верить, что мое воспоминание об этом когда-нибудь станет лишь одним в ряду прочих.
Мои показания
От автора
Когда я сидел во Владимирской тюрьме, меня не раз охватывало отчаяние. Голод, болезнь и, главное, бессилие, невозможность бороться со злом доводили до того, что я готов был кинуться на своих тюремщиков с единственной целью — погибнуть. Или другим способом покончить с собой. Или искалечить себя, как делали другие у меня на глазах.
Меня останавливало одно, одно давало мне силы жить в этом кошмаре — надежда, что я выйду и расскажу всем о том, что видел и пережил. Я дал себе слово ради этой цели вынести и вытерпеть все. Я обещал это своим товарищам, которые еще на годы оставались за решеткой, за колючей проволокой.
Я думал о том, как выполнить эту задачу. Мне казалось, что в нашей стране, в условиях жесткой цензуры и контроля КГБ за каждым сказанным словом, это невозможно. Да и бесцельно: до того все задавлены страхом и порабощены тяжким бытом, что никто и не хочет знать правду. Поэтому, считал я, мне придется бежать за границу, чтобы оставить свое свидетельство хотя бы как документ, как материал для истории.
Год назад мой срок окончился. Я вышел на свободу. И понял, что был неправ, что мои показания нужны моему народу. Люди хотят знать правду.
Главная цель этих записок — рассказать правду о сегодняшних лагерях и тюрьмах для политзаключенных, рассказать ее тем, кто хочет услышать. Я убежден, что гласность — единственное действенное средство борьбы с творящимся сегодня злом и беззаконием.
За последние годы в печати появилось несколько художественных и документальных произведений о лагерях. Во многих других произведениях говорится об этом то между прочим, то намеком. Кроме того, эта тема полно и сильно освещается в произведениях, распространяющихся через самиздат. Так что сталинские лагеря разоблачены. Разоблачение не дошло еще пока до всех читателей, но, конечно, дойдет.
Это очень хорошо. Но это и опасно: невольно возникает впечатление, что все описанное относится только к прошлому, что сейчас ничего подобного нет и быть не может. Раз уже даже в журналах об этом пишут, то наверняка сейчас у нас все иначе, все как надо и все участники страшных злодеяний наказаны, а жертвы вознаграждены.
Неправда! Сколько жертв «вознаграждено» посмертно, сколько забытых и сейчас в лагерях, сколько новых туда попадает; и сколько тех, кто сажал, допрашивал, мучил, и сейчас занимают свои посты или мирно живут на пенсии, не понеся никакой — даже моральной — ответственности за свои дела. Когда я еду в подмосковной электричке, вагоны наполнены благостными, умиротворенными старичками-пенсионерами. Один читает газету, другой везет корзину клубники, третий нянчит внука… Может, это врач, рабочий, инженер, получивший пенсию после многих лет тяжелого труда; может, этот старик со стальными зубами потерял их на следствии «с применением физических методов» или на колымских приисках. Но мне в каждом мирном пенсионере чудится следователь, который сам выбивал людям зубы.
Потому что я их достаточно видел, тех самых, в лагерях. Потому что сегодняшние советские лагеря для политзаключенных так же ужасны, как сталинские. Кое в чем лучше. А кое в чем хуже.
Надо, чтобы об этом знали все.
И те, кто хочет знать правду, а вместо этого получает лживые, благополучные газетные статьи, усыпляющие общественную совесть.
И те, кто правду не хочет знать, закрывает глаза и затыкает уши, чтобы потом когда-нибудь иметь возможность оправдаться и снова выйти чистеньким из грязи: «Боже мой, а мы и не знали…»
Если у них есть сколько-нибудь гражданской совести и истинной любви к родине, они должны выступить в ее защиту, как это всегда делали настоящие сыны России.
Я хотел бы, чтобы это мое свидетельство о советских лагерях и тюрьмах для политзаключенных стало известно гуманистам и прогрессивным людям других стран — тем, кто выступает в защиту политзаключенных Греции и Португалии, Южно-Африканской Республики и Испании. Пусть они спросят у своих советских коллег по борьбе с антигуманизмом: «Что вы сделали для того, чтобы у вас, в вашей собственной стране, политзаключенных хотя бы не воспитывали голодом?»
Я не считаю себя писателем, эти записки не художественное произведение. Все шесть лет я старался только видеть и запоминать.
Здесь, в этих записках, нет ни одного вымышленного лица, ни одной придуманной истории. Там, где есть опасность причинить вред другим людям, я не называю имен, умалчиваю о некоторых обстоятельствах и событиях. Но я готов отвечать за истинность любой рассказанной здесь детали. Каждый случай, каждый факт могут подтвердить десятки, а иногда и сотни, и тысячи свидетелей — моих товарищей по заключению. Они могли бы, конечно, привести и еще множество подобных и даже еще более чудовищных фактов, чем те, о которых я рассказал.
Легко можно предположить, что мне попытаются отомстить и разделаться с правдой, которую я сказал на этих страницах, бездоказательно обвинив в «клевете». Так вот, я заявляю, что готов отвечать на публичном процессе, с приглашением необходимых свидетелей, в присутствии заинтересованных представителей общественности и прессы.
Если же будет сделана еще одна инсценировка «публичного процесса», когда у входа в суд представители КГБ отталкивают граждан, пользуясь вместо публики переодетыми кагэбистами в штатском, когда корреспонденты иностранных газет (в том числе и коммунистических) топчутся у входа и не могут получить никакой информации — как было на процессах писателей Синявского и Даниэля, Хаустова, Буковского и других, — то это лишь подтвердит мою правоту.
…Однажды начальник отряда капитан Усов сказал мне:
— Вот вы, Марченко, всем недовольны, все вам не нравится. А что вы сделали для того, чтобы было лучше? Убежать хотели, и все!
Если я после этих моих записок попаду под начало к капитану Усову, я смогу ему ответить:
— Я сделал все, что было в моих силах. И вот я опять у вас.
Начало
Неужели к нам не присоединятся все свободные умы, все горячие сердца?
Пускай они соединятся вместе, пускай они пишут и говорят! Пускай они с нами заодно стараются просвещать общественное мнение, всех тех маленьких и скромных людей, которых теперь отравляют и сводят с ума! Дух отечества, его энергия, его величие заключаются лишь в справедливости и великодушии. Я забочусь только об одном, а именно, чтобы свет истины распространился как можно шире и скорее. Суд при закрытых дверях, после секретного следствия, ничего не докажет. Тогда-то и начнется настоящее дело. Придется заговорить, так как молчание явилось бы доказательством [тайного] сообщничества.
Какое безумие воображать, что можно уничтожить историю! Нет, она будет написана, и тогда каждая вина, как бы она ни была мала, получит свое возмездие.
Эмиль Золя. Письмо к Франции[6]Меня зовут Анатолий. Фамилия Марченко. Я родился в небольшом сибирском городке Барабинске. Мой отец, Тихон Акимович Марченко, всю жизнь проработал на железной дороге помощником машиниста. Мать, Елена Васильевна, работала уборщицей на вокзале. Оба они совершенно неграмотны, и письма от матери всегда написаны чужой рукой.
Я, проучившись восемь лет, бросил школу и уехал по комсомольской путевке на строительство Новосибирской ГЭС. С этого началась моя самостоятельная жизнь. Я получил специальность сменного бурового мастера, ездил по всем новостройкам ГЭС в Сибири, работал на рудниках, в геологоразведке. Последняя моя командировка была на Карагандинскую ГРЭС.
Здесь я попал под суд. Мы, молодые рабочие, жили в общежитии, ходили в клуб на танцы. В этом же поселке жили сосланные с Кавказа чеченцы. Они были страшно озлоблены — ведь их выселили из родных мест в чужую Сибирь, к чужим и чуждым им людям. Между чеченской молодежью и нашей все время возникали потасовки, драки, иногда с поножовщиной. Однажды произошла большая драка в нашем общежитии. Когда она как-то сама собой кончилась, явилась милиция; похватали всех, кто был в общежитии (большинство участников успели убежать и скрыться). Среди арестованных оказался и я. Нас увезли из поселка, где все знали, как было дело. Судили всех в один день, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Так я попал в страшные карагандинские лагеря — Карлаг.
Дальше обстоятельства моей жизни сложились так, что я решил бежать за границу. Я просто не видел для себя другого выхода. Со мной вместе бежал молодой парень Анатолий Будровский. Мы пытались перейти иранскую границу, но нас обнаружили. Взяли в сорока метрах от границы.
Это было 29 октября 1960 года[7].
Пять месяцев меня держали в следственной тюрьме ашхабадского КГБ. Все это время я сидел в одиночке, без посылок, без передач, без единой весточки от родных. Каждый день меня допрашивал следователь Сафарян (а потом Щукин): почему я хотел бежать? КГБ предъявил мне обвинение в измене родине, и поэтому следователя мои ответы не устраивали. Он добивался от меня необходимых показаний, изматывая меня на допросах, угрожая, что следствие будет длиться до тех пор, пока я не скажу то, что от меня требуется, обещая за «хорошие» показания и раскаяние добавку к двухразовому тюремному питанию. Он не добился своего и не получил ни от меня, ни от сорока свидетелей никаких материалов, подтверждающих обвинение. Но меня все-таки судили за измену.
2-3 марта 1961 года Верховный суд Туркменской ССР рассматривал наше дело. Суд был закрытым: в огромном зале не было ни одного человека, кроме состава суда, двух автоматчиков за нашими спинами и начальника конвоя у дверей. Два дня мне задавали те же вопросы, что и на следствии, и я отвечал так же, отвергая обвинение. Мой товарищ по побегу Анатолий Будровский не выдержал следствия и одиночки, уступил давлению следователя. Он дал показания против меня, выгораживая и спасая себя. Показания же сорока человек свидетельствовали в мою пользу. Я спросил, почему суд не обращает на них внимания, и получил ответ: «Суд сам решает, каким показаниям верить».
Я отказался от защитников, но мой адвокат присутствовал на суде и произнес речь. Он говорил, что у суда нет оснований судить меня за измену родине: свидетельству Будровского нельзя доверять, поскольку он заинтересованное лицо, тоже подсудимый по тому же делу; суд должен был принять во внимание показания остальных допрошенных до суда; Марченко можно судить за попытку нелегально перейти границу, а не за измену.
От последнего слова я отказался: я не признал себя виновным в измене, а к моим показаниям мне нечего было добавить.
3 марта суд вынес приговор: Будровскому за попытку нелегально перейти границу два года лагерей (меньше максимального срока по этой статье, трех лет), мне — шесть лет по статье за измену родине (тоже значительно меньше предусмотренной максимальной меры, «вышки» — расстрела).
Мне было тогда двадцать три года.
Меня снова привезли в тюрьму, в мою камеру.
Честное слово, на меня не произвел впечатления срок. Это потом каждый год заключения растягивается на дни, на часы и кажется, что шесть лет никогда не кончатся. Значительно позже я понял, что словами «изменник родины» мне искалечили не шесть лет, а всю жизнь. Тогда же у меня было только одно ощущение: совершена несправедливость, узаконенное беззаконие, и я бессилен, я могу только собирать, копить в себе обиду, отчаяние, копить, пока меня не взорвет, как перегретый котел.
Я вспомнил пустые ряды кресел в зале, равнодушный тон судьи, прокурора, секретаря суда (она все время жевала баранку), молчаливых истуканов-конвоиров. Почему на суд никого не пустили, хотя бы мать? Почему не вызвали свидетелей? Почему мне не дали копию приговора? Что это значило: «Приговор вам не дадут, он секретный»?
Через несколько минут мне в кормушку камеры протянули синюю бумажку:
— Распишитесь, что приговор вам объявлен.
Я расписался. Все! Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
Я объявил голодовку. Написал заявление — протест против суда и приговора, подал его в кормушку и перестал брать пищу. Несколько дней ничего не брал в рот, кроме холодной воды. Никто не обращал на это внимания. Надзиратели, выслушав мой отказ, спокойно уносили мою пайку и миску с супом, а в обед приносили снова. Я снова отказывался. Дня через три в камеру вошли надзиратели и врач. Приступили к операции под названием «принудительно-искусственное питание». Меня скрутили, надели наручники, воткнули в рот распиратель, ввели шланг в пищевод и стали лить через воронку питательную смесь, что-то жирное, сладкое. Надзиратели говорили:
— Снимай голодовку, все равно ничего не добьешься — мы тебе даже похудеть не дадим.
Та же процедура повторилась на другой день.
Я снял голодовку. Ответа на заявление я так и не получил.
Через несколько дней за мной пришел надзиратель. Он повел меня по лестницам и коридорам на первый этаж и впустил в обитую черной клеенкой дверь. На табличке надпись: «Начальник тюрьмы». В кабинете за столом, под большим портретом Дзержинского, сидел сам начальник тюрьмы. На диване — знакомые мне по следствию прокурор по надзору и начальник следственного отдела. Четвертым был незнакомец, глянув на которого, я вздрогнул: так неестественна и отвратительна была его внешность. Маленькое, шарообразное тельце, коротенькие ножки еле достают до пола, тоненькая-тоненькая шейка. А на ней огромный сплющенный шар — голова. Щелки глаз, еле заметный носик, тонкий улыбающийся рот тонули в желтом, тугом, лоснящемся тесте. Как эта шейка не переломится под таким грузом?
Мне сказали, что это заместитель прокурора Туркменской ССР. Предложили сесть. Разговор вели в дружески-фамильярном тоне. Спросили, как я себя чувствую, снял ли голодовку. Я поблагодарил за трогательную чуткость и внимание, сказал, что голодовку снял, и тоже спросил:
— Скажите, пожалуйста, когда меня отправят? Куда?
— Поедэшь на комсомольская стройка. Будэшь комсомолец, — ответило чудище, так и расплывшись в улыбке, радуясь собственной шутке.
Мне стало невыносимо противно. Мне, осужденному ими за измену родине, было как-то неловко слышать от них эти слова здесь, в этом кабинете, видеть их циничные ухмылки. Они все отлично понимают! Я тоже понимал.
Вернувшись в свою камеру, я вспомнил стройки, на которых работал. Около каждой — лагерь, колючая проволока, вышки, часовые, «комсомольцы в бушлатах». Я вспомнил, как меня, девятнадцатилетнего парня, послали в двухмесячную командировку на Бухтарминскую ГЭС. Поселок Серебрянка, где жили мы, вольные строители, находился довольно далеко от стройки. Там же, в Серебрянке, был и лагерь. И нас, и заключенных каждую смену возили поездом на работу и обратно. «Вольный» поезд — пять-шесть двухосных вагончиков. Он останавливался метров за пятьдесят от вахты, мы предъявляли свои пропуска вахтеру-солдату и шли через проходную. Потом открывались ворота и прямо на территорию стройки вкатывался длиннющий состав с зэками. Он состоял не из несчастных двухосных вагончиков, а из здоровенных четырехосных пульманов, и в каждом зэки, как сельди в бочке. На каждой тормозной площадке по два автоматчика, а в хвосте поезда открытая платформа с солдатами. Солдаты открывали двери зэкам, отгоняли их от вагонов и строили в колонну по пяти. Потом начинался счет по пятеркам: первая, вторая, третья, пятнадцатая, пятьдесят вторая, сто пятая… Счет-пересчет, сбились. Считают заново. Окрики, мат, опять считают. После проверки зэки идут по своим рабочим местам. После смены то же самое, но в обратном порядке.
Я работал вместе с ними, с «комсомольцами в бушлатах». Получал зарплату, ходил в выходной на танцы и ни о чем особенно не задумывался. Один только случай запал в память.
В начале августа, днем, вдруг стрельба с вышек в сторону Иртыша. Все побросали работу, побежали к берегу, столпились у самой запретки — вперемешку зэки и вольные. Нас отгоняли, но мы, конечно, не уходили, глазели. Уже за серединой реки, близко к противоположному берегу, плыл человек. Нам было хорошо видно, что он плывет с трудом и старается двигаться побыстрее. Это был зэк; он, оказывается, подкараулил момент, когда земснаряд не работал, пробрался по его трубе и вынырнул на Иртыше далеко от берега. Увидели его не сразу, а когда увидели и стали стрелять, он уже был довольно далеко. За ним в погоню пошел сторожевой катер. Сейчас он как раз нагонял беглеца, был от него всего в десятке метров, но офицер с пистолетом в руке почему-то не стрелял.
— Ну да, он выстрелит и убьет, а зэк утонет — поди потом докажи, что не убежал! — объясняли зэки в толпе. — Он обязан представить или живого, или труп.
Между тем беглец доплыл до берега, поднялся и, шатаясь, сделал несколько шагов. А катер уже ткнулся носом в камни, офицер спрыгнул и очутился в двух шагах от зэка. Я видел, как он поднял пистолет и выстрелил в ноги. Зэк упал. Подбежали автоматчики, и офицер при них и на глазах толпы на другом берегу выстрелил несколько раз в лежащего человека. В толпе ахнули. Кто-то матерно выругался.
Тело потащили по камням и, как мешок, бросили в катер. Катер ушел по направлению к лагерю.
Я невольно вспомнил и Бухтарму, и этот случай, и другие стройки. Куда бы меня ни повезли, я теперь везде буду вот таким «комсомольцем», буду мокнуть и мерзнуть при проверках, жить за колючей проволокой, меня будет охранять вооруженная охрана с овчарками, а если я не выдержу и попытаюсь бежать, меня так же подстрелят, как того парня на Иртыше.
Этапы
На другой день меня отправили. Отдали одежду, отобранную при аресте, только ботинки не вернули — их изорвали на мелкие куски, искали «советского завода план». Велели одеться-обуться и вывели из тюрьмы. «Воронок» стоял вплотную к двери. Меня сунули в бокс, заперли. Машина тронулась. Моя клетушка — без окон, ничего не видать, только чувствуется движение. Вот машина замедлила ход, развернулась, пятится задом. Значит, подъезжаем к вагону. Из машины — скорей, опять скорей, через две плотные шеренги солдат, прямо в вагон.
Вагонзак — его еще называют «Столыпин» — устроен так же, как обычные купированные вагоны. Вдоль стен с одной стороны узкий проход, по другую сторону — отдельные кабины-купе. Только двери купе не сплошные, а с решеткой. Одна сторона вагона глухая, а окна в коридоре забраны решетками, только снаружи этого не видно — решетки закрыты шторами. Снаружи смотреть — вагон как вагон, никто не догадается, что в нем везут арестантов. Правда, все окна наглухо закрыты и зашторены, никто не выглядывает, не машет рукой провожающим. Угрюмые и нелюбопытные пассажиры, видно, собрались в этом вагоне. Внутри купе полки, по три одна над другой с каждой стороны. Между средними полками можно перекинуть щит — получаются сплошные нары. В общем, лежачих мест здесь — семь, если потесниться — восемь; а набивают в каждую кабину-клетку обычно человек двенадцать-пятнадцать, а то и больше. Вдобавок — вещи заключенных.
И все закупорено, свежему воздуху и попасть неоткуда, разве когда на остановке откроют дверь, чтобы кого-то ввести или вывести.
В коридоре ходят солдаты с пистолетами. Если попадется неплохой парень, он откроет на ходу окно в коридоре и через дверь-решетку ненадолго потянет свежестью. Но есть такие конвоиры, что проси не проси — не проветрят. И зэки задыхаются в своей клетке, как рыба на песке.
От Ашхабада до Ташкента меня везли, как принца, — одного в клетке! В других клетках было битком, я спросил соседей через стенку — сколько их, и мне ответили: «Семнадцать». Оказывается, предоставленный мне комфорт объяснялся не особой заботой о политических, а тем, что боятся соединять с бытовиками: как бы не разагитировали дорогой. Так что от тесноты я не страдал, как другие. Зато в остальном мне было так же скверно, как и всем.
В ашхабадской тюрьме мне выдали харчей на дорогу: буханку черного хлеба, граммов 50 сахару и одну селедку. Сколько бы ни пришлось ехать до следующей пересадки, больше ничего не дадут: в вагонзаке не кормят. Но хуже, чем голод, заключенных мучит в пути жажда. Утром и вечером дают по кружке кипятку, а воды — какой солдат попадется. Если подобрее, так раз или два принесет, а надоело ему бегать с чайником — хоть умирай от жажды.
Под вечер я решил поужинать. Развернул свой ашхабадский паек, оторвал руками полселедки, съел с хлебом. Попросил у солдата воды или кипятку — не дает: «Когда всем — тогда и тебе». Жду. Минут через двадцать начали раздавать кипяток. Солдат с чайником ходит по коридору, наливает кипяток в протянутые сквозь решетки кружки. Подходит к моей клетке.
— Давай кружку!
А у меня кружки нету, не запасся, сидя под следствием. Я прошу:
— Может, у вас найдется, из чего сами пьете…
— Ишь чего! Кружку ему дай! А х… не хочешь?
И отошел. Я стал макать хлеб в сахар, есть всухомятку. А пить хочется невыносимо. Давно не пил, во рту пересохло, а тут еще селедки поел. Почему-то во всех этапах заключенным дают именно селедку — нарочно, что ли? И потом, сколько меня ни возили, — всегда селедка. И старые зэки тоже говорят: селедку жрали, а пить нам не давали.
Соседи за стенкой, услышав, что у меня нечего и не из чего пить, стали просить передать мне их кружку с кипятком. Конвоир ругался, но все-таки передал. Я выпил кипятку с сахаром.
— Оставь кружку себе, пригодится!
Я ее все шесть лет с собой возил: и в Мордовию, и во Владимир, и снова в Мордовию.
Потом новое мучительство. Прошу солдата выпустить меня в уборную. Отвечает:
— Потерпишь!
Конечно, потерпишь, куда же денешься!
Уборная в вагонзаке одна: один унитаз, один умывальник. Водят по одному: открывают дверь-решетку, ставят в коридоре против своей двери лицом к стенке, руки за спину; дверь за тобой запирают, ведут чуть не бегом по коридору. Пока ты делаешь свое дело, дверь уборной открыта настежь, солдат стоит и наблюдает. Торопит: скорей, скорей! Кончил — штаны не дадут застегнуть, все так же бегом, с руками за спиной, в свою клетку. Народу в вагоне битком, пока так всех переводишь, начинай сначала. А солдатам лень, не хочется, что ж, так вот с этими дармоедами и бегать по коридору целый день туда-сюда! Ну, и кричат: «Потерпишь!» — и не выводят, сколько ни проси, хоть плачь; жди, пока всех начнут водить, пока дойдет очередь до тебя.
Самая что ни на есть пытка и с питьем, и с оправкой. Ее давно изобрели, говорят. И до сих пор она держится и будет держаться, наверное, до тех пор, пока возят по России арестантов.
Всю дорогу до Ташкента я спал, как бог, мучился от жажды, есть тоже хотелось. Наслаждался человеческими голосами за стенкой: там шла непрерывная ругань — то с конвоиром, то между собой, то с дальними соседями. Отборный мат казался мне музыкой — пять месяцев я не слышал человеческой речи, только следователей КГБ да судейских.
На другой день поезд прибыл в Ташкент. Нас по одному вывели из вагона, прогнали по узкому коридору между двумя шеренгами солдат и стали набивать в машины.
Когда я поднимался по ступенькам, зэки уже кричали из машины, что больше некуда. Но конвоир заорал на них, меня втолкнули внутрь, прямо на людей. Потом еще нескольких. «Черный ворон», «воронок» — крытый грузовик, кузов внутри переделен дверью-решеткой. По одну сторону решетки зэки, по другую — два конвоира. Здесь же, где конвоиры, находятся «боксы» — железные ящики для одиночников, в них можно сидеть, только скорчившись в три погибели. Но в общем отделении еще хуже. Там вдоль стен идут скамейки, середина пустая. Места человек на десять — и сидячих и стоячих — не больше. А нас набили около тридцати или все тридцать. Первые садятся на скамейки плотно друг к другу. Следующие к ним на колени. Остальные стоят. Это бы еще ничего, но как стоят! Потолок такой, что стоять можно только согнувшись, голова и плечи упираются в железный верх. А народу набивается столько, что даже пошелохнуться невозможно, не то что переменить положение. Впихнули тебя — как удалось стать, так и стой всю дорогу. Спина, плечи, шея затекают, все тело начинает ломить от неестественной позы. Но даже если у тебя подогнутся ноги, ты не упадешь — некуда, тебя подпирают тела твоих товарищей.
Последний зэк уже никак не мог поместиться. Тогда два солдата уперлись в него, приналегли и вдавили в человеческую массу, а потом стали вжимать дверью. Дверь кое-как закрыли, заперли на замок. Наша машина готова. Но другие еще не набиты, поэтому ждем. Солдаты закрыли наружную дверь, сели, закурили. Теперь снаружи нипочем не узнаешь, что это за машина и что в ней творится. Крытый кузов без окон, единственное окошко над дверью, где конвоиры, и то задернуто занавеской.
Люди начинают задыхаться. Кто-то кроет матом:
— …ваш род-позарод, думаете отправлять?
— Отсидишь свое, тогда на «Волге» будешь раскатывать, — слышен насмешливый голос солдата. — А это тебе не «Волга», а «ворон». Зэк уже и говорить не может, только хрипит:
— Тебе ли……о «Волге» заботиться? Ты и «Москвича» только издали видел! Сам всю жизнь десятый х… без соли доедаешь, а дали тебе автомат, ты и рад над нами поиздеваться.
— Поговори, поговори! Приедем, посмотрим, какой ты разговорчивый в наручниках.
Вмешиваются другие:
— Только тем и держитесь, что наручниками!
— Фашисты е…! В душегубку загнали!
— С автоматами командуют. А без автомата, небось, в… целовал бы — тебе не привыкать!
Слышно было, как к машине подошел офицер. Зэки притихли, прислушиваясь. Солдаты называли его «товарищ старший лейтенант», но самого разговора мы не услышали, только слово: «Подождут».
Опять зэки стали кричать:
— Начальник! Отправляй.
— Над людьми издеваются!
— Фашисты с красными книжками!
Людям здесь нечего терять, они доведены до отчаяния этими муками, вот и кричат все что попало. Впрочем, уголовник может заработать политическую статью, новую судимость и дополнительный срок до семи лет за антисоветскую агитацию. Но в этих условиях никто уже ни о чем не думает, ничего не соображает. Кто их придумал, эти душегубки — эти «воронки», селедку в дорогу и все остальное? Его бы сюда, этого изобретателя!
Машина задрожала: завели мотор. Поехали. Нас трясло и кидало, но упасть было некуда. Здесь мертвый — и тот стоял бы стоймя, подпираемый со всех сторон.
Сколько времени ехали, неизвестно. Здесь смещены всякие представления о времени и минута кажется вечностью.
Когда машина замедлила ход и сделала несколько поворотов, мы поняли, что подъезжаем. Скорей бы! Хоть выйти, разогнуться, вздохнуть. Но вот машина остановилась, а нас и не думали выпускать. Уже не было сил ни просить, ни ругаться. Наконец солдат начал открывать. Сначала он выпустил из боксов одиночников, и те вышли согнувшись — видно, не сразу могли выпрямиться. Потом открыли нашу дверь-решетку:
— Выходи!
Это оказалось непросто. Люди так спрессовались и переплелись дорогой, что никто не мог выпутаться, не мог вырваться из общей массы. Пока первый сумел выбраться, он буквально разделся, телогрейка его осталась в машине. И только после того, как из машины вышли почти все, первому вынесли его телогрейку.
Вышли. Я, как и все, не мог разогнуться, не мог шагу ступить — ныло и болело все тело.
Мы прибыли в ташкентскую пересыльную тюрьму. Над входом — огромный лозунг, белым по кумачу: «В условиях социализма каждый выбившийся из трудовой колеи человек может вернуться к полезной деятельности».
Сначала нас сунули в карантинную камеру — большое мрачное помещение с двухъярусными нарами вдоль стен и маленьким зарешеченным окошком. Накормили обычным тюремным обедом и повели в баню.
При бане парикмахерская. Даже удивительно было, что на свете существуют чистые комнаты, белые занавески на окнах. Парикмахеры-зэки в белых халатах. На стенах зеркала. Что за чудо? Оказалось, что в этой же парикмахерской стрижется и бреется вся тюремная администрация от надзирателей до высшего начальства. Здесь остригли и меня.
Обычно всех стригут наголо сразу же после ареста. Но в тюрьмах КГБ такого правила нет, там арестованным оставляют волосы. Но это до первой пересылки. На зависть своим сокамерникам я еще носил шевелюру. Я объяснил:
— У нас с вами крестные разные: у вас МВД, а у меня КГБ.
В бане, заметив мою прическу, надзиратель схватил меня за рукав и потащил в парикмахерскую. В два счета меня оболванили, и теперь я больше ничем не отличался от других зэков.
Баня в ташкентской пересылке — ад кромешный, особенно после чистенькой парикмахерской с зеркалами. В раздевалке две лавки, а загоняют туда человек сто. Под ногами чавкает мокрая каша из обвалившейся, осыпавшейся штукатурки, уличной грязи и воды. Разделся, сдал белье в прожарку — стой голый и жди, пока разденутся другие. А в раздевалке холодина, кожа на голых синяя, в пупырышках. Все орут, ругают матом и надзирателей, и тех, кто задерживает остальных. Только когда все готовы, надзиратель отпирает дверь в моечную. Каждому выдают крошечный ломтик мыла. Но где там намылиться! Не все и воду набрать успели: «Выходи. Нечего тут размываться, не дома!» Кое-как окатились и вышли. Вышли — а белье еще из прожарки не вернули, жди голый и мокрый на этом холоде. Наконец принесли большие обручи, на которые каждый из нас нанизал свое белье перед баней. Его должны были прожарить, чтоб уничтожить вшей, а оно даже нагреться не успело, только теплое. Лишь бы формальность выполнить, галочку поставить: заключенные вымыты, вещи обработаны.
Да разве успеть сделать все как надо, когда столько народу, каждый день гонят и гонят!
Я получил белье и стал одеваться. И уж, кажется, не избалован, а тошно становилось, как подумаю, что придется натягивать штанины через вывоженные в грязи ноги. Полотенцем вытереть — а чем завтра лицо вытирать? Я вытащил из своих вещей единственную майку, обтер ею ноги и, расстелив на полу, встал на нее. Кое-как оделся. Вокруг меня, толкаясь, задевая друг друга, одевались другие зэки, приспособившись кто как мог. Ругань, крики надзирателей: «Быстрей, быстрей!»
Нас снова привели в ту же камеру. Мы разместились кое-как, надолго никто не устраивался: скоро будут разводить по этапным. А пока что каждый развлекался как мог. На нижних нарах началась картежная игра, на верхних — несколько мастеров своего дела клеили новую колоду. Кого-то уже успели избить. Кто-то встретил земляков, у них свои разговоры.
Часа через два явился дежурный офицер с двумя надзирателями, по списку выкликнул человек двадцать пять, их увели. Потом увели следующую партию. И еще одну. Я оказался в четвертой.
Нас привели в этапную камеру, в точности такую же, как карантинная. Такая же грязь, духотища, света от оконца никакого, круглые сутки горит лампочка. Нары изрезаны буквами-инициалами. На стенах надписи — все больше похабщина, но попадаются и надписи-весточки, надписи-письма: «Иван и Муся из Бухары ушли за 114-й. Привет бухарским!»
В камере человек восемьдесят. Одни сидят день-два, другие неделю, третьи ждут этапа и по месяцу. Все это время — на голых нарах, без постелей. Все это время — без прогулки. Вместо прогулки оправка два раза в день по полчаса. В углу камеры ржавая параша, одна на всех, от нее по камере зловоние.
Принесли ужин. Раздали плохо вымытые, липнущие к рукам ложки, стали разливать баланду. К кормушке выстроилась очередь, те, кто еще не получил, ругались между собой, крыли раздатчиков; кто получил и отходил с миской от кормушки, крыл баланду: «Синюха, помои».
Некоторым, мне в том числе, баланды не хватило: произошла какая-то путаница со списком. Пока выясняли, прошло минут сорок. Нам досталась уже какая-то совсем остывшая бурда. Сесть поесть негде. Кто пристраивается на нары, кто выпивает свою баланду стоя, через край — «через борт». Кто-то кого-то толкнул — немудрено в такой тесноте, — баланда пролилась, а второй раз не дадут — скандал, драка. Кто-то полез хлебать на верхние нары и пролил, юшка закапала сквозь щели на тех, кто внизу, — опять скандал, драка. И так каждый день.
Я просидел в этой камере дней двадцать. Обжился, нашел себе местечко на верхних нарах. Кое с кем познакомился. Люди здесь все время менялись: одних забирали в этап, на их место пригоняли новых. Появление новых в камере — событие: других-то событий нет. Все отрываются от своих занятий, разглядывают новичков, окликают знакомых. Я не рассчитывал встретить здесь знакомого, но тоже, как и все, свешивался со своих нар — поглазеть.
Но вот однажды вводят новеньких, я смотрю, а среди них Будровский. Толя Будровский, мой подельник, который закопал меня, чтобы выкарабкаться самому! Я откинулся на нары и смотрю из темноты, чтоб он не мог меня видеть. Войдя в камеру, Будровский быстро окинул взглядом нары зэков и прошел мимо меня. Дверь за новенькими закрыли и заперли. Тогда я слез с нар и сел внизу, глядя прямо на Будровского. Рожа у него была сытая, отъевшаяся. Наконец он увидел меня. Моментально переменился в лице. Забился в дальний угол камеры, следит за мной, но не подходит. Он, конечно, боялся, что я расскажу о его предательстве и тогда его изобьют до полусмерти, а могут и убить. В камере уголовники, а у них закон простой: продал товарища — получай свое!
Пришло время идти на оправку. Будровский не идет, отказывается. Я его успокоил:
— Иди, не бойся. Я никому не скажу, а поговорить с тобой мне хочется.
Вышли вместе. И тут мой подельник расплакался:
— Толик, прости меня. Я не мог, я боялся. Мне следователь сказал, что ты дал показания, какие надо, и если я не подтвержу их, значит, я виноватее тебя. Тогда все равно обоим вышка…
— Тебе что, показывали эти «мои» показания?
— Нет, Толик, но все равно я не мог, следователь требовал, грозил расстрелом — сам знаешь, измена родине…
— Что ж от тебя требовали?
— Чтоб я сказал, что у тебя были враждебные намерения, что ты хотел предать…
— Дурак, что я мог предать?! А ты, значит, — самому спастись, а меня под дуло?
— Толик, но ведь не расстрел, шесть лет всего. Тебе все равно дали бы больше, ты старше, и мы же договорились, что ты большую часть вины возьмешь на себя. Толик, прости!..
— Что с тобой говорить?!
Вернулись в камеру. Когда принесли кипяток, я достал свои припасы — остаток сегодняшней пайки, щепотку сахару. Будровский подсел ко мне со своими. Он развернул пакет, и я ахнул: конфеты, печенье!
— Откуда у тебя?
— Еще из Ашхабада, из тюрьмы.
— А там откуда? Из каких денег?
— Мне следователь выписывал. Он говорил, у них есть фонд для подследственных, и выписывал на ларек два раза в месяц рублей по семь-восемь. А папиросы так приносили, даром. Я первое время не знал, покупал из выписанных.
— Что-то мне ни копейки не выписали…
— Так, Толик, он говорил, кто хорошо себя ведет.
— Ну-ну, за папиросы, за семь рублей на ларек!..
— Толик, прости! Возьми, ешь!
Мне стало противно смотреть на него, на его сытое, желтое, заплаканное лицо.
Через несколько дней Будровского взяли в этап куда-то на Вахш, на стройку ГЭС. А я остался.
Один сокамерник, тертый мужик Володя, объяснил мне, что меня здесь держат неправильно, что, раз я политический, меня не могут держать вместе с уголовниками. Очевидно, в суматохе перепутали, не разобрались. Но я помалкивал: боялся снова оказаться один. После пяти месяцев одиночки мне здесь было интересно с людьми. А когда эта грязная, мрачная камера мне надоела, я на проверке спросил дежурного офицера, долго ли меня здесь будут мариновать?
— Сколько надо, столько и будут. Жди.
— Но мне нельзя здесь находиться.
— Это почему? За что сидишь? Какая статья?
— А вы посмотрите мое дело, узнаете.
Офицер выскочил из камеры, а через несколько минут пришел еще с одним.
— Марченко, быстро с вещами. Как вы попали в эту камеру?
— Я себе камеру не выбирал.
Меня перевели в пустую камеру, а через два дня отправили этапом в Алма-Ату.
Райская жизнь кончилась, больше меня не сажали в отдельную клетку. Из Ташкента отправляли столько заключенных и сосланных, что было не до правил. Все клетки-купе вагонзаков были забиты до отказа. Восемь человек сидят внизу, четверо на втором этаже, двое лежат на самой верхотуре. Там, наверху, адская жара и духота, и они мокрые, как мыши, пот с них прямо капает. Впрочем, внизу тоже все взмокли.
Из Ташкента отправляли в ссылку «тунеядцев».
В одной из клеток едут женщины, у них немного просторнее, их всего тринадцать. Но у одной грудной ребенок. На весь вагон слышен плач младенца, женщина о чем-то просит конвоира, а он грубо отказывает. Женщина начинает рыдать, ее соседки кричат, ругаются с конвоиром. В это время в коридор входит начальник вагона, капитан:
— Кончай базар! Наручников захотелось?
Женщина, плача, объясняет: ребенок обмарал пеленки, а у нее всего две смены, она просит, чтоб ее вывели в уборную постирать.
— Ничего не случится, подождешь!
— Да у меня ребенка завернуть не во что, что же делать?
— Рожала — меня не спрашивала, — отвечает капитан и уходит.
Когда женщин стали водить на оправку, первой пошла мать ребенка. Она кое-как замыла пеленки в раковине и оставила их там. Следующая тоже постирала сколько успела и тоже оставила. И следующая. Пока сводили всех женщин, пеленки были постираны и последняя захватила их в клетку. Там их и сушили.
Хорошо, что люди и за решеткой остаются людьми.
Всю дорогу идут бесконечные проверки. Входишь в вагонзак — обыск, даже только что выданный в тюрьме хлеб и тот весь перетыкали. Потом проверка — фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, конец срока… Сверяют тебя с фотокарточкой на деле. Выходишь из вагона — проверка… На пересылке — обыск, проверка, опрос по делу. Вызывают на этап — опять обыск, проверка, опрос по делу. И так каждый день по нескольку раз.
Сколько же мне ехать? Куда? Наверняка до Новосибирска — через Алма-Ату, Семипалатинск. А из Новосибирска куда — на Урал? На Север? На Восток? Везде есть комсомольские стройки…
В Алма-Ате после «воронка»-душегубки нас, как полагается, выстроили в колонну по пяти, стали считать пятерками, проверять по фамилиям, чтобы вести в корпус. В конце колонны те самые женщины, из нашего вагона. Уголовники, едва очухавшись после «воронка», стали заводить знакомства. Надзиратели, офицеры орут на зэков, гоняют от женщин, угрожают: разговаривать вообще нельзя, с женщинами тем более.
— А катись ты, начальник, со своим карцером вместе. Хоть погляжу на бабу, а там сажай. Мне теперь пять лет баб не видать, только на картинках ваших… комсомолок, — отвечает зэк.
Пока нас вели по тюремному двору к корпусу, один зэк стал пробираться в хвост колонны, ближе к женщинам. Надзиратель это заметил, остановил колонну, выудил нарушителя и потащил его в первую пятерку. Зэк вопил:
— Козел, педераст, чтоб у тебя на лбу… вырос!
Надзиратель заикнулся было, что он обязан оберегать женщин от таких, как этот. Тогда взвились женщины:
— Благодетель нашелся!
— Веревки на вас нет, на благодетелей!
На галдеж набежали еще надзиратели. Упиравшегося зэка стали крутить, надели наручники. А он орал:
— Если тебе этих баб жалко, так приведи свою! Или сам подставь, вон какое с… отъел на дармовых харчах!..
Скандалиста стали избивать, колонна зашумела, послышались возмущенные крики. Тогда из колонны выхватили еще одного наугад, тоже надели наручники и тоже стали бить — сапогами по ногам. Обоих уволокли, а колонну повели в корпус.
Алма-атинская пересылка отличается от ташкентской разве что обилием клопов. Их здесь столько, что в камерах все стены красные. То же и в Семипалатинске, хотя здесь вместо деревянных нар железные двухъярусные койки. Ни матрацев, ни подушек не дают ни в одной пересылке, валяйся от прибытия до этапа на голых досках или на металлической решетке. А в вагоне тоже голые полки, к тому же негде ни лечь, ни встать; и снова селедка, снова не дают пить, снова не водят на оправку.
В Новосибирской пересылке полно крыс. Они бегают по полу под ногами, бегают между спящими на полу, влезают на них. Здесь я встретил в коридоре группу заключенных, которые стояли не как все, а прислонившись к стене. Их было человек восемь, и у них были страшно изможденные лица. Нас поместили в одну общую камеру. Я узнал, что это «религиозники», верующие. Они отказывались принимать участие в выборах, и вот их арестовали, судили закрытым судом и приговорили к ссылке как «тунеядцев». С самого дня ареста все они объявили голодовку, и их, голодающих, отправили по этапам в Сибирь. На каждой пересылке им насильно вливают питательную смесь и отправляют дальше.
— Мы страдаем за веру, — говорили они.
Из Новосибирска меня отправили в Тайшет, там были огромные лагеря для 58-й статьи. Но когда я туда приехал, оказалось, что там уже не осталось ни одного политического лагеря. Три дня назад ушел последний спецэшелон в Мордовию. Свято место пусто не бывает: тайшетские лагеря сразу же стали заполняться бытовиками-уголовниками. Их везли сюда со всего Союза — надо было валить тайгу, очищать дно будущего Братского водохранилища. Кто же еще будет здесь «трудиться с комсомольским огоньком», если не зэки?
На пересылке в Тайшете я впервые попал в камеру с политическими — несколько человек еще застряли здесь, их по разным причинам не успели отправить со всеми. До сих пор я все гадал: что это за люди, за что сидят, как держатся, о чем думают?
Народу в камере было немного. Два деда, оба двадцатипя-тилетники: один поволжский немец, старик с большой седой бородой, фамилии его не помню, другой был бодрый, подтянутый, чувствовалась военная выправка. Он и был военный — сначала капитан Красной армии, а потом офицер в армии генерала Власова. Фамилия его Иванов. Иванов был на год старше немца и звал его не иначе, как «кислей». Был еще один двадцатипятилетник, Иван Третьяков, хороший дядька.
Еще с нами сидел дядя Саша, крикливый мужик, офицер-фронтовик, всю войну провоевавший в советской армии, много раз раненный. Из молодежи нас было трое: ленинградский студент, я и душевнобольной парень. Жили мы в камере дружно, без ссор, наши старики опекали нас, вводили в курс лагерного житья-бытья — они были опытные каторжане, за плечами у каждого десять-пятнадцать лет самых страшных лагерей.
В конце апреля в нашу камеру кинули какого-то афганца. Он почти не говорил по-русски, и мы с трудом добились от него, что с ним было. Оказалось, он несколько лет назад перешел границу — захотел в Советский Союз: ему плохо жилось у себя в Афганистане, он служил пастухом у какого-то богача. Его, конечно, сразу же посадили в тюрьму. Но скоро разобрались, что он не шпион и не диверсант, выпустили и разрешили жить в Советском Союзе, как он хотел. Его отправили в колхоз, тоже в пастухи. Но в колхозе афганцу не понравилось. Он стал проситься обратно в Афганистан, да не тут-то было: не пускают. Он долго думать не стал и пошел тем же путем, как и явился. Его поймали, судили, дали три года за попытку нелегально перейти границу. Три года он отсидел и вот должен был на днях освободиться. Афганец ходил по камере, бил себя по голове и приговаривал:
— Турак, ох турак!
— Куда же ты теперь? Опять в колхоз?
— Нет, нет! — мотал головой афганец. В колхоз он не хотел. — Афганистан пошел.
— Так тебя же не пустят! Поймают — десятку дадут, теперь уже за измену родине.
— Афганистан пошел, — твердил афганец. — Колхоз нет.
Перед освобождением ему выдали новую телогрейку и черные лагерные брюки. Он так разозлился, что затолкал и брюки, и телогрейку в парашу и вышел на волю в том рванье, в каком был. Что стало с ним дальше, не знаю. «С тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде», — как поется в песне.
4 мая нас всех посадили в вагонзак. Снова этапы. Опять через Новосибирск, а оттуда на запад: Свердловск, Казань, Рузаевка.
По дороге к нам подсаживали новых попутчиков. Где-то на пересылке добавили нескольких украинцев-«националистов». Тоже двадцатипятилетники. Из них мне особенно запомнился Михаил Сорока, очень спокойный, доброжелательный, душевно крепкий человек. Потом подсадили парня родом из Польши. Его отец был польский офицер, расстрелянный в Катынском лесу. Мать арестовали, и она тоже погибла. Его самого отдали в детдом, там он рос до шестнадцати лет, а когда получил паспорт, его записали русским. Он все требовал, чтобы ему разрешили уехать в Польшу, но ведь он «русский», вот и не пускают. Он писал в МИД и в польское посольство — дело кончилось сроком.
В Казани нашего «деда» Иванова вызвали в спецчасть. Он как раз кончил пятнадцать лет, и ему объявили, что по прибытии на место его представят на суд. Ведь у нас больше нет двадцатипятилетнего срока, осужденным раньше на двадцать пять лет суд снижает срок до нынешнего максимума, до пятнадцати.
Я очень обрадовался за Иванова и за остальных двадцати-пятилетников:
— Теперь вам уже совсем недолго осталось. Вот доберемся — и сразу на волю! Вас я тоже буду провожать из лагеря, — говорил я старику немцу.
— Нет, Толя, мне свободы не видать, — отвечал он. — Я так и умру за колючей проволокой.
Десятый лагерь —1961 год
…Сверят стрелки вахта и конвой, Втянется в ворота хвост колонн. Ровно в десять лагерный отбой Прогремит над проволокой зон. Рельс о рельс колотится: отбой! Зэк в барак торопится: отбой! Рельсовый, простуженный, стальной Благовест плывет над Колымой. Вам вступать, Игарка и Тайшет! Завернись в бушлат, Караганда! Рельсовый заржавленный брегет Вызвонит недели и года. Тень до середины доползла, Тень перевалила за Урал… В свой черед вступает Дубравлаг В колыбельный лагерный хорал. Песням неродившимся — отбой! Звездам закатившимся — отбой! Я не сплю в московской тишине: Через час — подъем на Колыме. Песня о часовых поясах, 1967 год[8]В конце мая мы прибыли в Потьму. После пяти месяцев следствия, после так называемого суда, после этапов и пересыльных тюрем я добрался наконец до знаменитых мордовских лагерей.
Весь юго-западный угол Мордовии перекрещен колючей проволокой, заборами особой конструкции, утыкан вышками, залит по ночам светом спаренных прожекторов. Здесь повсюду развешены таблички «Стой! Запретная зона!» и по-мордовски: «Тят сувся! Запретная зонась!»
Здесь чаще, чем мордвина, встретишь солдата, конвоира, охранника, здесь полным-полно офицеров. Здесь на душу населения их приходится больше, чем овец на душу на Кавказе. Здесь вообще встала на дыбы вся статистика: и соотношение мужчин и женщин, и возрастной, и национальный состав населения. Русские, украинцы, латыши, эстонцы и «отдельные представители других национально-стеи» живут здесь за проволокой столько лет, что давно перекрыли всякий ценз оседлости. Отцы и старшие братья нынешних заключенных остались навсегда в мордовской земле — в виде скелетов или в виде разрозненных, перемешанных с песком костей. Дети нынешних заключенных приезжают сюда «на свиданку» со всех концов необъятной многонациональной страны.
Вот и я прибыл сюда после всех предварительных мытарств, чтобы еще чуть-чуть накренить ошалевшую мордовскую статистику…
С потьминской пересылки меня направили в десятый лагерь.
Как всякий новичок, я настороженно присматривался к людям и обстановке, а заодно, не теряя времени, устраивался на новом месте. Казалось бы, чего уж там зэку устраиваться, какое такое у него имущество, движимость и недвижимость? Однако у новичка в лагере хлопот полон рот: надо найти место в бараке, получить койку, тюфяк, подушку, одеяло, постельные принадлежности, форменную спецовку для работы, за все расписаться, все пристроить к месту…
Мне показали завхоза моего отряда — тоже зэка. Он повел меня за койкой, по дороге расспрашивая о том о сем: откуда родом, за что попал, какой срок. Узнав, что шесть лет, он ухмыльнулся: «Срок детский!» Многие потом тоже улыбались, услышав, что мне осталось сидеть пять лет с небольшим довеском.
За углом барака, куда меня привел завхоз, валялось несколько ржавых железных рам от коек. Мы выбрали, какая получше, и я потащил ее в барак. Там все было плотно забито «спальными местами»: койки стояли одна на другой в два этажа, попарно сдвинутые вплотную. Мне нашлось местечко во втором ярусе. Я закрепил свою раму на нижней койке, и мы вдвоем отправились искать деревянный щит (сбитые вместе четыре узкие доски, их кладут на раму вместо сетки). Облазили всю зону — наконец нашли подходящий.
Тумбочки в бараке — одна на четверых. Завхоз показал мне мою половину полочки, но мне еще нечего было туда класть — у меня не было даже своей ложки.
Пока я устраивался, наступило время обеда. Зэки потянулись к большому бараку-столовой, я пошел за всеми. Внутри барака-столовой очень тесно стоят длинные столы из грубых, кое-как окрашенных красной краской досок; вдоль столов такие же скамейки. Столовая набита битком. Одни, найдя себе местечко за столом, хлебают свою баланду. Другие едят стоя — кто где пристроился. К раздаточным окнам тянутся длинные очереди. Я стал в хвост к первому окну. Но как я буду есть без ложки? Заметив мою растерянность, ко мне подошел один из ребят нашего отряда и предложил мне ложку — он уже пообедал. Очередь продвигалась быстро. Я не успел и моргнуть, как раздатчик, схватив из высокой стойки перед собой мятую алюминиевую миску, плеснул в нее черпак щей и сунул мне в руки. Я отошел и глянул вокруг: все места заняты, «приземлиться» негде. Вон у окна какой-то зэк, стоя, заканчивает обед — облизывает ложку. Я пробрался к нему как раз, когда он кончил и отошел от окна; занял его место: поставил миску на подоконник и начал хлебать бурду, которую кто-то торжественно назвал щами. Потом, оставив на окне кепку и ложку, отправился в очередь за вторым. Так же ловко раздатчик во втором окне выхватил миску у меня из рук, стукнул по ней черпаком, и миска вылетела на обитый жестью подоконник… По дороге к своему месту я заглянул в нее: по дну растеклась пшенная размазня, приблизительно три столовые ложки. Справиться со вторым было недолго; я облизал ложку («отшлифовал», как говорят зэки) и вышел из столовой.
Мне повезло: каптерка оказалась случайно открытой во внеурочное время, и я смог получить лагерное имущество сразу после обеда. Мне выдали матрац, одеяло, подушку — все такое древнее, как будто служило еще моему дедушке: серые застиранные бязевые простыни, наволочку, два вафельных полотенца, алюминиевую кружку и ложку. Можно было сразу получить и спецовку, но с этим я не спешил: она мне еще осточертеет за пять с лишним лет.
На сегодня обзаведение и устройство закончены, можно осмотреться. Но, оказывается, в этот день мне предстояло еще высокое знакомство: пришел завхоз и сказал, что меня вызывает к себе отрядный.
Постучавшись в дверь с табличкой «Начальник отряда», я вошел. Кабинет был небольшой, чистенький, аккуратный. Офицер — начальник отряда — сидел за письменным столом против двери и рылся в ящике. На одной стороне висел портрет Ленина, а под ним — отрывной календарь и список дежурств членов СВП (секции внутреннего порядка). На противоположной стене, точно против портрета Ленина, глаза в глаза, — портрет Хрущева и большая карта СССР. Большой шкаф и ряды стульев вдоль стен — вот и все.
Услышав, что я вошел, офицер задвинул ящик, запер его и поднял голову:
— Снимите головной убор! Заключенный при разговоре с представителями лагерной администрации обязан снимать головной убор. Понятно?
Я снял кепку.
— Новенький? Сегодня прибыл? Садитесь.
Я сел, а отрядный, листая мое дело, стал задавать вопросы: фамилия, имя, отчество, статья, срок — обычные формальные сведения о заключенном. Покончив с этим, он откинулся на спинку стула и коротко приказал:
— Ну, рассказывайте.
Я удивился — что я должен рассказывать? Тогда отрядный пояснил: он хочет, чтобы я рассказал о своем преступлении. Я отказался:
— Я не на следствии и не на суде. Здесь моя тюрьма, и я не обязан и не хочу объясняться с тюремщиками на эту тему.
Отрядному мое заявление не понравилось, он поморщился, но промолчал. Потом коротко и сухо вычитал мне обязанности заключенного и правила внутреннего распорядка: «заключенный обязан… обязан… обязан… Выходить на работу в форменной лагерной одежде… Посещать политзанятия…»
Я спросил, кто ведет политзанятия. Оказалось, он сам, отрядный, раз в неделю по вторникам. Тут же он мне объяснил, какие кары меня ждут за непосещение политзанятий, а также за другие нарушения правил: я могу, по его усмотрению и распоряжению, лишиться свидания, ларька, посылки, права переписки — короче, всего немногого, на что я имею право в лагере. Кроме того, могу угодить в штрафной изолятор… И так далее — перечень наказаний, не менее длинный, чем перечень обязанностей. Все учтено, каждое движение строго регламентировано.
— Идите в каптерку и получите форменную одежду, — закончил отрядный. — Завтра выходите на работу. Вы зачислены в полеводческую бригаду. Можете идти!
Я вышел. В бараке меня окружили зэки из нашего отряда.
— Ну как, познакомился с капитаном Васяевым? Как он тебе понравился? А ты ему? Плачь, плачь, скоро расстанетесь: он на пенсию собирается…
Кто-то с досадой сказал:
— Живучи, сволочи. Еще и на пенсии — на дармовых народных денежках — сколько протянет. А заработал пенсию не трудом — нашими муками.
Спросили, в какой я бригаде; рассказали, что полеводческая бригада работает за зоной, на работу гоняют под конвоем.
— Ты не вздумай на работу в своем выйти: прямо с вахты в карцер суток на пятнадцать!
Потом меня расспрашивали про суд: какой был, открытый или закрытый? А приговор на руки дали? И на каждый мой ответ понимающе кивали головами, ну да, здесь почти все осуждены закрытым судом; и приговора, как и я, большинство в глаза не видело. Расписались, что им его зачитали, как неграмотным. Есть в лагере, правда, несколько десятков человек, осужденных открытыми судами, — это полицейские, каратели, военные преступники, за которыми числятся кровавые преступления, преступления против человечности. Этих-то судили открыто, в клубах, парках, сообщали о судах по радио и в газетах. А статья у них та же, что у тебя или у меня, — вот народ и думает, что здесь, в лагерях, все такие же предатели и изменники…
Стали спрашивать про свободу: как там сейчас, как жизнь, лучше ли? По газетам-то не узнаешь, есть ли сахар и масло в магазинах. Тут кто-то сжалился надо мной:
— Отпустите парня, в каптерку опоздает, а завтра на работу.
Зэки неохотно разбрелись, а я пошел и получил одежду: бумажные брюки и куртку, фуражку-«сталинку», телогрейку, две пары нижнего белья, портянки, кирзовые ботинки. Сколько придется работать, чтобы расплатиться за все это! Пока долг отдашь, ботинки сносятся…
На ужин дали какой-то жиденький суп и маленький кусочек отварной трески. Суп был такой пустой, что ни к чему было работать ложкой, и я, глядя на других зэков, выпил его через край. После ужина, скорее голодный, чем сытый, пошел бродить по зоне до отбоя. Познакомиться с кем-нибудь поближе успею потом, когда присмотрюсь к людям.
Был теплый вечер, весна, зеленела трава. Медленно наступали сумерки. Зэки разбрелись кто куда: на одной скамейке около стола забивали козла, в другом месте играли в шахматы. Многие устроились на свежем воздухе с книгой или журналом. Кое-где шли оживленные разговоры, споры. Мне навстречу попадались такие же прогуливающиеся, как я, — по одному и по двое-трое. Большинство молодежь, люди среднего возраста. Но я заметил, что здесь есть и старики, некоторые совсем дряхлые. Мимо меня, стуча по дорожке палкой, шаря ею перед собой, прошел парень лет двадцати пяти — двадцати восьми. Когда он оказался рядом со мной, я увидел, что вместо глаз у него какие-то синие шрамы, из-под которых непрерывно текут слезы.
— Куда идешь, Саня? — окликнули его.
— Посол в санцасть, с зелудком замуцился, — невнятно ответил слепой. Я долго смотрел ему вслед, а потом зашагал в ту же сторону. Барак санчасти стоял ближе к вахте. Я обошел его кругом. В одном крыле жили заключенные-инвалиды, и я увидел на скамейке около барака калек: слепых, безногих, безруких, паралитиков. Поскорее отошел в сторону.
— Что, земляк, свежий, только с воли? — обратился ко мне проходивший зэк, на вид лет сорока, невысокий, с заметной лысиной.
Я сказал:
— Совсем свеженький — полгода следствия, одиночки.
Мы познакомились, а позже сошлись довольно близко. Он оказался действительно моим земляком, к тому же тезкой: звали его Анатолий Павлович Буров.
Вечером, еще засветло, вокруг всего лагеря вспыхнули огни: зажгли фонари и прожекторы над запреткой. Я пошел в свой барак, чтобы постелить еще до отбоя, — после отбоя в секциях гасят свет. Постелил и снова вышел, не сиделось на месте. Дошел до красного кирпичного здания, здесь меня и застиг отбой. Десять часов. Десять звонких ударов по рельсу разнеслись над нашей зоной. Когда умолк последний удар, я ясно услышал, как вдали тоже бьют отбой. А потом донеслись еще более далекие, еле слышные удары. И мне представилось, что такой перезвон идет сейчас по всей стране, от лагеря к лагерю, удары о рельсы отзываются на бой часов на Спасской башне…
Однако после отбоя нельзя шататься по зоне. Надо идти к себе — «домой». В коридоре нашего барака еще толпились зэки: в одном нижнем белье докуривали по последней перед сном, продолжали недоконченные споры. Человека четыре торопились дописать письма. Вдруг кто-то от двери крикнул:
— Мусор!
И все кинулись по секциям, на ходу бросая свои самокрутки. Писавшие вскочили из-за стола, подхватили листки, ручки — и по местам. Я тоже заспешил к своей койке. Разделся при свете синей лампочки над дверью, покрутился-покрутился со своим барахлом, не зная, куда его пристроить, потом догадался, сунул под матрац в ноги и полез на свой второй этаж. Зэки вполголоса договаривали свои дневные разговоры. Но понемногу все стихло. Сосед, старик лет шестидесяти-семидесяти, шепотом спросил:
— Ну, сынок, как тебе на новом месте?
— Ничего… Рай по сравнению с вагонзаками и пересылками.
Я почувствовал, что старик смеется: моя койка, вплотную придвинутая к его, задрожала. Немного погодя он сказал:
— Человек хуже скотины. Помотают его по пересылкам, потом сунут в лагерь, а он и рад. Определился. Ты еще увидишь, какой это рай. Ну, спи, спокойной тебе ночи.
Старик отвернулся и замолчал. А мне не спалось, я долго-долго думал. Нет, я не вспоминал новых знакомых, беседу с начальником. Наконец-то я в лагере — пора подумать о побеге. Я давно решил, что не буду сидеть за проволокой, как бы распрекрасно здесь ни было. Я просто не могу примириться с заключением. Убегу, пусть даже рискуя жизнью. Мне и в голову не приходило прикидывать, хуже здесь, чем я ожидал, или ничего еще, можно жить. Убегу. Надо только хорошо продумать, как это сделать. И с кем — не найдется ли напарник? Вот тут я стал вспоминать сегодняшних случайных знакомых. Я их еще совсем не знаю. Может, кто-то из них сейчас думает о том же?..
Уснул я под утро. Проснулся от качки, моя койка тряслась и прыгала, как лодка: это слезал со своего второго этажа сосед-старик, а нижние уже заправляли свои койки. Все четыре койки — две внизу и две верхние — связаны между собой для прочности веревками, и стоит кому-то одному из четырех пошевелиться, как все остальные начинают дрожать и качаться. Старик, увидев, что я проснулся, спросил:
— Сынок, что видел во сне на новом месте?
— Прокурора, конечно. Или, может, судью, — ответил за меня сосед снизу. — Угадал?
— Нет, не угадал. Я на новом месте сны не смотрю, чтоб потом не думать, к добру или к худу.
— Как же это ты ухитряешься — не смотреть, если снится?
— А я, как только начинают показывать сон, зажмуриваюсь покрепче. Попробуйте сами — и у вас получится.
Молодой парень запротестовал:
— Я не согласен, мне нравятся сны. Интересно, а кроме того, все больше воля снится. Хоть во сне поживешь…
— Э, посиди с наше, сынку, так и во сне про волю забудешь, а побачишь только те же самые хари надзирателей, — заметил пожилой украинец с пышными усами. — Я, конечно, тебе того не желаю, чтоб ты столько сидел. Так, к слову сказано.
Старики согласились, что им воля давно уж и во сне не снится.
Вместе со всеми я умылся, наскоро проглотил утренний «суп» и вернулся в барак, ожидать развода. Соседи по бараку сели пить чай. Это только называется «чай», а на самом деле кипяток, чуть подкрашенный суррогатом кофе. Его «заваривают» в многоведерных котлах на весь лагерь, а дневальные разносят в бачках по баракам… У меня к чаю ничего не было, кроме пайки хлеба. Соседи пригласили меня к себе, угостили сахаром, маргарином. Тогда, в 1961 году, в лагерях еще разрешены были продовольственные посылки, в ларьке продавали продуктов на десять рублей в месяц, и не только из заработанных денег, а можно было и от родных получить. Правда, всех этих благ могли лишить за любой пустяк; но все-таки у многих были тогда свои продукты.
Пока мы гоняли чаи, наступило время развода — половина восьмого утра. Зэки начали помаленьку собираться у вахты. Вот появились нарядчик и надзиратель. Нарядчик выкликает бригаду, а зэки этой бригады выходят из толпы ближе к воротам. Надзиратель берет из ящика стопку картонных карточек — для каждой бригады в ящике особое отделение — и начинает вызывать по фамилиям. Карточка заведена на каждого зэка (это только для вывода на работу, а в спецчасти хранится на каждого целая папка), здесь и фамилия, и статья, и срок, и фотография. Назвали твою фамилию — иди к воротам, мимо надзирателя (он тебя оглядит с ног до головы, ты ли это, по форме ли одет, острижен), в предзонник, отделенный от зоны колючей проволокой. Пока идет перекличка, подбегают опоздавшие, на ходу дожевывая кусок, застегивая свои форменные куртки. Их могут наказать за опоздание. А карточки тех, кто совсем не откликнулся, не вышел на работу, надзиратель кладет обратно в ящик. После развода ими займутся отдельно, уже не надзиратели, а офицеры-отрядные.
В предзоннике обыск, потом открываются ворота и вся бригада выходит за зону. По ту сторону еще один предзонник, снова такая же проверка-перекличка, и мы поступаем в распоряжение вооруженного конвоя с собаками (в зоне надзиратели без оружия: предосторожность, чтобы зэки не отняли и не вооружились сами). Нам велят построиться в колонну по пяти, пересчитывают по пятеркам, предупреждают, что в случае неподчинения конвой применяет оружие, и — шагом марш!
Наша бригада работает в поле. Привели на место, расставили красные флажки, отметив запретную черту, за которой стреляет конвой без предупреждения, за флажком — это уже попытка к побегу. Участок весь на ладони, семь конвоиров следят за каждым твоим шагом — нет, с работы не убежишь, бесполезно!
Мы высаживали рассаду капусты, помидоров, сажали картошку, морковь. Обыкновенная крестьянская работа, только принудительная, из-под палки. Крестьянин работает, надеясь на урожай, а мы знали, что не увидим ни одной моркови. Нас и на уборку не пошлют, разве что картошку копать — ее сырой не съешь.
А норма такая, что работаешь целый день, не разгибаясь, и все равно еле-еле выполняешь. Кто не выполняет, плохо работает, тех лишают посылок, ларька, переводят на штрафной, голодный паек — это все меры воспитательного характера, они должны привить зэкам любовь к труду!
Я работал очень усердно — и после всех вычетов у меня на лицевом счету осталось от месячного заработка 48 копеек. Даже на ларек не заработал! За второй месяц вообще ничего не получил.
Я бы плюнул к черту на каторжную работу — пусть карцер, пусть БУР, один черт. Но я решил непременно бежать, а для этого надо осмотреться и познакомиться поближе с зэками. Может, среди них найдутся напарники.
В одной бригаде со мной работал Анатолий Буров, тот самый, который в первый день окликнул меня: «Земляк!»
Буров
На самом деле Бурову оказалось не сорок, а едва за тридцать лет. Он был еще совсем маленьким, лет двух-трех, когда их семью раскулачили. Он только помнил, как их, ребятишек, вместе с отцом, матерью и слепой бабушкой выгнали зимой на мороз в чем стояли. До весны они кое-как прожили в хлеву у кого-то из деревенских, а весной семьи раскулаченных собрали, погрузили на пароход и повезли вниз по Оби. Высадили где-то на пустом берегу, за сотни километров от жилья: живите, как сумеете. И пароход ушел.
Сначала вырыли землянки, потом стали валить лес, ставить дома, корчевать пни. С великим трудом обживались на новом месте, обрастали хозяйством. Мужики, собравшись по пять-шесть человек, тайком уходили «на материк». Подработают и ведут домой скотину, тащат утварь. Года через три-четыре снова пришлепал пароходик с начальством. Пристани у села не было, подъехали на лодке, ходили от дома к дому, осмотрели и хозяйства, и пахоту. Удивлялись: здесь же должны быть одни могилы. Вот кулачье проклятое! Мироеды — и здесь живут! Власть села в лодку, отчалила, пароход ушел, а через месяц подошли два: тот, первый, и еще один, побольше. Высадилось много военных с оружием, снова стали раскулачивать: повыбрасывали всех из домов, не дали взять ни ложки, ни плошки, согнали на пароход и повезли еще дальше. Чего им сделается, они и на болоте не сдохнут; а сдохнут, туда и дорога, трупы комары сожрут. Кулаки и кулацкое семя — чего их жалеть!
На новом месте обживались труднее, жили голодно. Кое-кто потихоньку перебрался «на материк». Отец Бурова умер, семья пропадала. Как раз началась война, стало совсем худо. В конце войны подошел год Анатолия Бурова, его призвали в армию. Направили было на фронт, но с полдороги направили в Омск, в танковое училище. А он вообще не хотел служить, ни в тылу, ни на фронте, из училища сбежал. Его поймали, судили как дезертира, дали всего пять лет. Но он узнал, что отправят в Норильск, на каторгу, а оттуда не возвращаются. И бежать оттуда невозможно, все равно что с Луны. И вот Буров договорился еще с тремя зэками: решили бежать из тюрьмы, пока не поздно, пока не отправили. Лучше уж здесь погибнуть от пули, чем там, в Норильске, умирать медленной смертью. Когда их вечером повели на оправку, они напали на надзирателей. Рассчитывали связать их, заткнуть им рты и бросить: вчетвером-то они справятся с двумя надзирателями. Но один из четверых в последнюю минуту струсил, а троим с двумя не справиться, особенно, чтобы без шуму. Пока двое зэков вязали «своего», третий схватился с надзирателем один на один, тот вырвался и кинулся бежать. Весь план рушился. Зэк схватил тяжелую крышку от параши и ударил надзирателя по затылку. Убил! Ну, теперь все равно. Они вызвали звонком вахтера, убили и его, взяли пистолет и сумели выбраться из тюрьмы. Им удалось скрыться. Они пробирались в Монголию. Шли ночами, днем отсыпались. А когда добрались до Монголии, до монгольского поселка, их поймали и, конечно, передали советским властям. Приговор они знали заранее: за убийство надзирателя и вахтера всем троим вышла вышка.
Семь месяцев Буров и двое других просидели в камере смертников, каждый день ожидая расстрела. Через семь месяцев вызвали одного. С вещами. Значит, не расстрел. Потом так же увели второго. Буров ждал еще несколько дней один. Настала и его очередь. Его повели по коридору, в самом конце коридора велели остановиться и стать лицом к стене. Он ждал — вот сейчас конец. Он настолько был не в себе, что даже не подумал: не станут же расстреливать вот здесь, прямо в коридоре. Ему велели повернуться лицом к надзирателям, и он увидел перед собой офицера с какой-то бумагой. Буров был уверен, что ему зачитывают приговор перед тем, как привести его в исполнение. Смысл прочитанного не доходил до него. Ему повторили еще раз: «…смертную казнь заменить двадцатью годами каторги».
Только когда его повели в баню, он поверил, что не расстреляют: смертников в баню не водят.
Вскоре Бурова отправили на Амур, в лагеря под Комсомольском.
Там он встретил заключенных, которые сидели еще с 1930-х годов. Они строили этот город, а теперь строили вокруг него заводы и дороги. Город назвали Комсомольском, в честь комсомольцев-добровольцев, но их было раз-два и обчелся. Строили его зэки, и вокруг него были лагеря, лагеря, лагеря…
Буров бежал из лагеря. На этот раз он пробыл на свободе дня три. В городе его задержала милиция. Новый суд, новый срок, добавок к двадцати годам каторги. На этот раз Норильск. К 1961 году у него за плечами было уже шестнадцать лет лагерей и тюрем. Из Норильска его перевели в какой-то сибирский лагерь, потом в другой, третий. Когда он в 1959 году сидел в Тобольской тюрьме, надзиратели избили его и еще троих зэков до потери сознания. Бурову при этом сломали руку, и, чтобы отделаться от него, его сплавили в Мордовию.
Буров мне понравился — отчаянный парень. Мы с ним подружились и стали вместе обдумывать план побега.
Рассказ Ричардаса
Мы с Буровым присматривались к людям. Кто из них составит нам компанию? Осторожно прощупывали в разговоре, знакомились поближе и только потом прямо спрашивали: «Рискнешь бежать?» Так нас собралось несколько человек: Анатолий Озеров, Анатолий Буров, я и еще другие — я не хочу их называть. Мы решили копать подкоп — другого пути из лагеря нет. Решили, что мы, три Анатолия, займемся разведкой, выясним, где лучше копать, а тогда уже скажем остальным.
Мы все хорошо знали, на что идем. Знали, что если политических ловят при побеге, то в живых они могут остаться только чудом. Чаще всего их сначала изобьют, искалечат, затравят собаками, а только потом пристрелят.
Здесь же, на десятом, сидел литовец Ричардас К. Он участвовал в побеге и рассказывал мне, как их поймали. Они втроем, три литовца, как-то сумели уйти от конвоя в поле. Их заметили, когда они были уже около леса. По ним открыли стрельбу, но было поздно. Тогда вызвали автоматчиков из дивизиона, оцепили лес, и солдаты с собаками стали искать беглецов. Собаки быстро взяли след, и скоро Ричардас и его товарищи услышали погоню чуть ли не за спиной. Они понимали, что им все равно не уйти, но все-таки попытались спрятаться — а вдруг конвой с собаками проскочит мимо. Те двое полезли на дуб и спрятались в листве, а Ричардас закопался в опавшие листья под кустом — дело было осенью. Дальше все произошло буквально у него на глазах. Он даже не успел как следует прикрыться листьями, когда появились два автоматчика с собаками. Собаки закружились около дуба, рвали передними лапами кору. Прибежали еще шестеро автоматчиков и офицер с пистолетом. Беглецов на дереве обнаружили сразу. Офицер закричал:
— Свободы захотели, е… вашу мать?! А ну, слезай!
Первый сук был метрах в двух над землей. Ричардас видел, как один из беглецов сначала стал ногой на этот сук, потом опустился на корточки, свесил ноги и повис на животе и на руках, готовясь спрыгнуть. В это время раздалось сразу несколько автоматных очередей, и парень, как мешок, свалился на землю. Но он был жив, извивался и корчился от боли. Офицер ударил его еще раз и велел спустить собак. А тот не мог даже защищаться. Когда собак оттащили, он остался лежать неподвижно. Офицер приказал поднять его и отвести в сторону. Его били сапогами, но он не вставал. Тогда офицер сказал:
— Что вы ноги об него обиваете? Оружие у вас на что?
Солдаты стали колоть раненого штыками, приговаривая:
— Давай, давай, поднимайся, нечего прикидываться!
Раненый с трудом начал подниматься на ноги. Перебитые автоматными очередями руки болтались, как пустые рукава. Изорванная одежда сползла до пояса. Он был весь в крови. Подкалывая по дороге штыками, его повели к соседнему дереву. Офицер скомандовал:
— Хорош, стой!
Около дерева первый беглец свалился. Его остались стеречь два солдата с собакой, а остальные занялись следующим. Второму тоже было приказано слезать с дерева. Он, видно, решил схитрить и, добравшись до нижних сучьев, свалился на землю прямо под ноги автоматчикам. Никто не успел выстрелить. К нему, лежащему, подскочил офицер и выстрелил несколько раз из пистолета по ногам. Потом с ним было то же, что с первым: его колотили сапогами, рвала собака, кололи штыками. Наконец офицер велел прекратить избиение, подошел к парню и спросил:
— Ну, свободная и независимая Литва, говори, где третий?
Парень молчал. Офицер ударил его сапогом и повторил вопрос. Ричардас слышал, как его товарищ прохрипел:
— Назвал бы я тебя фашистом, только ты хуже!
Офицер обиделся:
— Я сам воевал на фронте с фашистами! И с такими, как ты, тоже. Мало вы наших у себя в Литве постреляли?!
На раненого снова накинулись и снова стали избивать. Потом офицер приказал ему ползти ползком к тому дереву, где лежал первый:
— Не хочешь идти, ползи! — И раненый с перебитыми ногами пополз, а его, как и первого, подбадривали штыками. Офицер шел рядом и приговаривал:
— Свободная Литва! Ползи, сейчас получишь свою независимость! — Ричардас говорил мне, что этот парень был студент из Вильнюса и получил семь лет за листовки.
Когда оба беглеца были рядом, их снова стали избивать и колоть, теперь уже насмерть. Наконец не стало слышно стонов и криков. Офицер убедился, что они мертвы, и послал в поселок за подводой. Он, видно, рассчитывал разделаться и с третьим до тех пор, пока приедет подвода. Но Ричардаса искали довольно долго. То ли собаки уже устали, то ли запах прелой листвы перебивал им чутье, только они никак не могли его найти. Солдаты бегали по лесу, чуть не наступая на него, офицер стоял в двух шагах от его куста. Ричардас говорил, что несколько раз готов был вскочить и бежать. И только когда Ричардас уже слышал, как стучат по дороге колеса подводы, офицер подошел к куче листьев, пнул их ногой и тут же закричал:
— Вот он, сволочь! Вставай!
В это время подъехала подвода:
— Товарищ майор, где беглецы?
Ричардас встал. Прямо на него был направлен пистолет майора. Ричардас инстинктивно дернулся как раз в ту минуту, когда раздался выстрел, почувствовал, как обожгло ему плечо и грудь, и упал. Он не потерял сознания, но лежал неподвижно, стараясь не шевелиться и не стонать. Вокруг собрались еще люди, кто-то спросил:
— Товарищ майор, а может, он еще жив?
Майор ответил:
— Где там жив! Стрелял в упор прямо в грудь, — он, наверное, не успел заметить, что Ричардас отклонился.
Ричардаса бросили на дно телеги, — он и тут сумел не застонать, — а сверху на него бросили два трупа. Подвода двинулась к лагерю. Ричардас слышал, как кто-то подходил к ней и майор объяснял:
— Убиты во время преследования.
По тону было слышно, что и спрашивающие, и майор отлично понимают, что это значит. Потом подвода остановилась — наверное, подъехали к вахте. Кто-то приказал сбросить трупы около вахты.
Когда потащили Ричардаса, он застонал. Сказали: «Смотри, живой еще». Он открыл глаза. Было еще светло, даже не горели огни на запретке. От группы офицеров к нему двинулся тот самый майор, на ходу вытаскивая пистолет. И Ричардас понял: сейчас пристрелит. Но за майором пошел начальник режима, схватил его за руку:
— Поздно, нельзя! Смотрят же все.
Около вахты, действительно, толпилось много народу, военные и гражданские, — сбежались смотреть, как привезут беглецов.
Ричардаса сбросили с телеги. Кто-то из начальства отдал распоряжение солдатам. К нему подошли и спросили, может ли он идти. Он сказал, что может. Его повели к вахте, а в зоне надзиратели сразу же препроводили его в карцер.
Там он в первые дни сидел один, к нему никто не заходил, хотя он просил сделать перевязку. Только на четвертый или пятый день пришел фельдшер-зэк, перевязал рану. А на следующий день пришла врач, осмотрела его и сказала, что надо отправлять в больничную зону. Он был в жару, и рука сильно болела.
В больнице ему отняли руку по самое плечо — лечить уже было поздно.
Потом его судили, добавили срок и отправили во Владимирскую тюрьму. Это было года за три до меня, и многие еще помнили эту историю.
Но суд судом, а убивают беглецов при поимке специально, чтобы другим неповадно было бегать. И раненых или избитых нарочно не лечат. Увидев вот такого безрукого Ричардаса, многие задумаются — стоит ли рисковать? А суд, срок — это никого не остановило бы при тех условиях, какие существуют у нас в лагерях.
Но и без рассказа Ричардаса я хорошо помнил случай на Бухтарминской ГЭС. Там офицер стрелял почти в упор в безоружного беглеца. Я сам это видел.
И я, и все остальные знали, что если мы попадемся, то вряд ли останемся в живых. Но все-таки мы решили рискнуть.
Подкоп
Первым делом мы втроем разведали почву.
У нас в лагере рыли траншеи под барак, и в них всегда стояла вода. Но, может, так не везде в лагере? Мы достали железную полосу (в лагере нет ни лопат, ни какого другого инструмента) и в ночь, после отбоя, часов в одиннадцать, вышли поодиночке из барака, будто по нужде. Пролезли под крыльцо и очутились под нашим бараком. Все бараки в лагере строятся на высоком фундаменте, и каждую неделю надзиратели проверяют крючьями, металлическими штырями, нет ли подкопа. Мы с Буровым пробрались подальше и стали копать, а Озеров нас караулил. Сняли верхний слой — щепки, камни; дальше шел песок, копать стало легко. Но на глубине полуметра показалась вода. Дальше бесполезно. Мы засыпали яму, сверху снова положили мусор, чтобы надзиратели при проверке ничего не заметили, и поползли к Озерову. Знаками показали ему: ничего не вышло, вода! Теперь надо скорей по местам. Часа в два ночи обход бараков, надзиратели входят, зажигают свет и считают спящих. Если кого-нибудь нет в это время на койке, то это вызывает подозрение, что зэк готовится к побегу. За это строго наказывают, сажают в карцер, могут даже отправить в тюрьму. Но мы успели вовремя. Все сошло благополучно.
Следующей ночью мы облазили остальные бараки, даже дальние запретки. Везде было то же: вода. В жилой зоне мы так и не нашли места для подкопа. Тогда мы решили проверить и рабочую зону.
Рабочая зона в десятом маленькая: пекарня, гараж на три машины, пилорама, небольшой токарный цех и крольчатник. Там же, вблизи крольчатника, шло строительство нового цеха. Рабочая зона вплотную примыкает к жилой, отделена от нее только двумя рядами колючей проволоки, причем эта запретка без постоянного освещения. Только часовые с вышек наводят на нее время от времени свои прожекторы. Так что проникнуть в рабочую зону можно. Но когда? До часу ночи там работает вторая смена, а в два проверка в бараках. Ничего не поделаешь, придется после двух и до света, хотя это очень опасно. А вдруг кто-нибудь в бараке не спит? Что он подумает, увидев, как зэк одевается, одетый уходит из секции и пропадает не десять минут, а несколько часов? В каждом бараке есть стукачи. Вышел во двор — ночью здесь ходят надзиратели, ночные сторожа, зэки-повязочники из секции внутреннего порядка. И ведь нас трое, а достаточно, чтобы заметили одного…
Несмотря на все эти опасности, нам как-то везло, ни разу не засекли. Мы заранее решили, где будем копать. Пекарня отпадает: там работают круглые сутки. В гараже-автомастерской — бетонный пол. Остановились на токарном цехе — он ближе к наружной запретке, так что если почва окажется сухой, то копать будет недалеко.
Договорились встретиться после ночного обхода около крольчатника. Нам удалось благополучно пробраться в рабочую зону, миновать ночного сторожа, прокрасться к цеху. Дверь заперта висячим замком, но мы его легко открыли гвоздем. Озеров снова остался караулить, а мы с Буровым вошли в цех. Свет выключен, но в цехе светло: свет от запретки проникает в окна. Самый цех не подходит, в нем высокий деревянный пол. Мы обошли складские помещения. Одна кладовая нам показалась подходящей: пол выложен кирпичом, но без цемента, а прямо по песку. Вынимай кирпичи из любого угла и копай. К тому же кладовая завалена деревянными чурками, заготовками, так что после работы можно забросать все снова и ничего не будет заметно. Если только почва хорошая, без воды, — какое удачное место! Всего метра четыре от запретки, да запретки по обе стороны забора еще метров двадцать, да еще сколько-нибудь от запретки на волю — достаточно хода в тридцать метров. Это ничего, это можно выкопать. А яму в кладовой можно закрывать деревянным щитом (материала здесь хватит), сверху присыпать песком, уложить кирпичи, замаскировать — и до следующей рабочей ночи.
Мы с Буровым размечтались. Но пока пора уходить, скоро рассветет. Договорились копать в следующий раз. Выбрали подходящую ночь, пробрались в цех, в кладовую и стали копать. Опять неудача! Как и в жилой зоне, через полметра в яме показалась вода. Пришлось ее засыпать, утрамбовать, замаскировать место разведки кирпичом и заготовками.
До сих пор одни сплошные неудачи, кроме разве того, что нас пока не поймали. Видно, надо придумывать новый план. Может, придется даже отказаться от подкопа, хотя еще не все места проверены. Но пока не придумали ничего лучшего, надо искать место без воды. Не отказываться же вообще от побега. Не хотелось верить, что весь лагерь стоит на воде.
Между тем силы у нас троих кончились. Шутка ли, столько ночей не спать, копать, а днем ходить на работу! Да на лагерном пайке. Буров к тому же инвалид, рука перебита. А меня перевели в строительную бригаду, это еще тяжелее, чем в полевой.
В июне я заболел.
ШИЗО
Я простудился еще в карагандинских лагерях, а медицинской помощи не было. С тех пор у меня хроническое воспаление обоих ушей и время от времени бывают обострения. В этот раз тоже разболелись уши. Голова раскалывается, в ушах стреляет, ночью трудно уснуть, за обедом больно рот раскрыть. К тому же мутит и кружится голова.
Я пошел в лагерную санчасть. Пошел, хотя лагерные старожилы говорили мне, что бесполезно: ушник приезжает раз в год, вызывает сразу всех, кто жаловался на уши в течение этого года. Таких набирается много. «Что болит?» — «Уши». Не глядя запишет в журнал и выпишет перекись водорода. Ни обследования, ни настоящего осмотра, освобождения от работы не дадут, не жди. Вот если высокая температура, тогда могут освободить от работы на несколько дней.
Я обращался к врачу несколько раз и каждый раз слышал только оскорбительные утверждения, что, раз у меня нет температуры, значит, я здоров и просто отлыниваю от работы. А в конце июня за невыполнение нормы меня посадили на семь суток в ШИЗО — штрафной изолятор, иначе — карцер. Ничего неожиданного для меня в этом не было: норму не выполняю — карцера не миновать. Сначала вызовут к начальнику отряда: изволь выслушать внушение, что каждый зэк должен честным трудом искупить перед народом свою вину.
— Почему норму не выполнил? — спрашивает отрядный под конец своей проповеди. Спрашивает, хоть и видит, что человек перед ним еле на ногах стоит. — Болен? Но ведь температуры нет! Нехорошо обманывать, симулировать, отлынивать от работы.
И, чтоб тебе это было понятней, дает несколько суток карцера.
Что представлял собой штрафной изолятор в 1961 году? Обыкновенный лагерный барак, разделенный на камеры. Камеры разные: и одиночки, и на двоих, и на пятерых, есть и на двадцать человек, а набить туда могут по мере надобности и тридцать, и сорок. Карцер находится в зоне особого режима, в полукилометре от десятого. Для прогулок отгорожен крохотный, выбитый, вытоптанный дворик, на котором и летом нет ни травинки; любую зеленую стрелочку съест изголодавшийся в карцере зэк.
В самом карцере голые нары из толстых досок, никакого тюфяка, ничего даже похожего на подстилку не полагается. Нары короткие — спи согнувшись; когда я пытался вытянуться во весь рост, ноги у меня свисали. Посредине нар, поперек их, набита толстая нелепая полоса, скрепляющая доски. Ну что бы набить ее снизу?! Или уж сделать желобок, если надо, чтобы она шла поверху. Нет, эта железная полоса шириной пальца в три и толщиной в палец возвышается поверх досок посредине нар, чтобы, как ни ляжешь, она врезалась в твое тело, ничем от нее не защищенное.
На окне толстая решетка, в двери глазок. В углу неизменная спутница заключенного — параша; ржавая посудина ведра на четыре, крышка к ней приварена толстой цепью. К стенке параши приварен длинный железный штырь с резьбой на конце. Его вставляют в специальное отверстие в стене, и на его конец, выходящий сквозь стену в коридор, надзиратель навинчивает большую гайку. Таким образом параша намертво прикрепляется к каменной стене. Во время оправки гайку свинчивают, чтобы зэки могли вынести и опорожнить парашу. Эта процедура происходит один раз в день, утром. Все остальное время параша стоит на своем законном месте, распространяя по камере страшную вонь…
В шесть утра раздается стук во все двери:
— Подъем! Подъем на оправку! — Ведут умываться. Доходит очередь и до нашей камеры. Однако это только так называется — умываться. Не успел руки обмыть, тебя уже гонят в шею:
— Быстрей, быстрей, на воле будешь размываться! — На умывание одного зэка приходится меньше минуты. Кто не успеет умыться — ополоснет лицо в камере над парашей.
И вот мы в камере, ждем завтрака. Это тоже одно название. Кружка кипятка и пайка хлеба — 450 граммов на весь день. В обед дадут миску постных щей — почти одна вода, в которой выварена вонючая квашеная капуста, да и той в миске почти нет. Наверное, и скотина не стала бы их есть, эти щи. А зэк в карцере выпьет их через край, еще и миску корочкой оботрет — и будет с нетерпением ждать ужина. На ужин — кусочек отварной трески со спичечный коробок, скользкой и несвежей. Ни грамма сахара, ни грамма жира в карцере не полагается.
Жутко вспомнить, до чего доходит в карцере человек от голода. Выхода в зону ждешь больше, чем конца срока. Даже общая лагерная полуголодная норма кажется в карцере небывалым пиром.
Жутко вспоминать, как сам голодал. Еще страшнее сознавать, что вот сейчас, когда я пишу об этом, в карцерах голодают мои товарищи…
Томительно ползет время между завтраком и обедом, между обедом и ужином. Ни книг, ни газет, ни писем, ни шахмат. Два раза в день проверка, до и после обеда получасовая прогулка по голому дворику за колючей проволокой — вот и все развлечения. Во время проверки надзиратели не торопятся: считают заключенных в каждой камере, пересчитывают, сверяются с числом, поставленным на доске. Потом начинается тщательный осмотр камеры. Надзиратели большими деревянными молотками выстукивают стены, нары, пол, решетку на окне — не подпилены ли прутья, нет ли подкопа, не готовят ли зэки побег из карцера. Проверяют, нет ли каких надписей на стенах. Во время проверки все мы должны стоять, сняв головные уборы, — я еще расскажу, для чего это нужно.
Во время тридцатиминутной прогулки можно сходить в уборную. Однако, если в камере человек двадцать, успеть трудно: уборная на двоих. Выстраивается очередь, снова тебя торопят:
— Скорей, скорей, время кончается, нечего рассиживаться.
Не успел — в камере есть параша. А в уборную больше не выпускают, будь ты хоть старик, хоть больной. Днем в камере духотища, вонь. Ночью даже летом холодно: барак каменный, пол залит цементом, строят карцер специально так, чтобы там было холодно и сыро. Нечем накрыться, нечего подстелить, кроме бушлата — его, как и все теплое из одежды, отбирают перед тем, как посадить в карцер, и выдают только на ночь.
Нечего и думать взять с собой в карцер что-нибудь из продуктов или курева хоть на ползатяжки, бумагу, грифель от карандаша — все отберут при обыске. Тебя самого, скинутое тобой белье, брюки, куртку прощупают насквозь.
Ночью, с десяти вечера до шести утра, лежишь скорчившись на нарах. В бок впивается железная полоса, сквозь щели между досками тянет от пола сыростью, холодом. И хотел бы уснуть, чтобы хоть во сне забыть о сегодняшних мучениях, о том, что завтра повторится то же самое, — но никак не успеешь. А встать, побегать по камере нельзя — надзиратель в глазок увидит. Промаешься, ворочаясь с боку на бок, чуть не до света, только задремлешь — стук в дверь, крики:
— Подъем! Подъем! На оправку!
Срок в карцере ограничен — не более пятнадцати суток. Но это правило начальнику легко обойти. Вечером выпустят в зону, а на другой день снова посадят, еще на пятнадцать суток. За что? Всегда найдется за что: стоял в камере, загораживая глазок; подобрал на прогулке окурок на две затяжки (кто-нибудь из друзей перебросил из зоны через запретку); грубо ответил надзирателю. Да новые пятнадцать суток просто так, ни за что дадут. Потому что если на самом деле возмутишься, если дашь себя спровоцировать на протест, то получишь уже не пятнадцать суток карцера, а новую судимость по указу.
В Караганде меня однажды продержали в карцере сорок восемь дней, выпуская только для того, чтобы зачитать новое постановление о «водворении в штрафной изолятор». Писателю Юлию Даниэлю в Дубравлаге дали два карцерных срока подряд за то, что он «грубил часовому». Это было совсем недавно, в 1966 году.
Некоторые не выдерживают нечеловеческих условий, голода и калечат сами себя: авось положат в больницу и хоть на неделю избавишься от голых нар, от вонючей камеры, получишь более человеческое питание. Пока я сидел в камере, двое зэков проделали следующее: отломали от своих ложек черенки и проглотили; потом, смяв каблуком черпачки, проглотили и их. Этого им показалось мало — они выколупали из окна стекло и, пока надзиратели отпирали дверь, успели проглотить по нескольку кусков стекла. Их увели, и я их больше не видел, слышал только, что их оперировали на третьем, в больнице.
Когда зэк режется, или глотает проволочные крючки, или засыпает себе глаза битым стеклом, сокамерники обычно не вмешиваются. Каждый волен распорядиться собой и своею жизнью, как хочет, каждый вправе прекратить свои мучения, если не в состоянии их вынести.
Одна камера в карцере обычно заполнена голодающими. Решил зэк в знак протеста объявить голодовку, написал заявление (начальнику лагеря, в ЦК, Хрущеву, все равно кому, это не имеет никакого значения; а просто без заявления голодовка «не считается», хоть подохни, не евши) — и перестал принимать пищу. Первые дни никто на его голодовку и внимания не обращает; через несколько дней — иногда через десять-двенадцать — зэка переводят в отдельную камеру к другим таким же и начинают кормить искусственно, через шланг.
Сопротивляться бесполезно, все равно скрутят, наденут наручники. В лагере эта процедура еще более жестока, чем в следственной тюрьме: два-три раза «накормят», так и без зубов можешь остаться. И кормят не питательной смесью, как меня в Ашхабаде, а той же лагерной баландой, только пожиже, чтобы шланг не засорить. В камере дают баланду чуть теплую, а при искусственном питании стараются дать погорячее. Знают, что это верный способ погубить желудок.
Мало кто в состоянии долго выдерживать голодовку, добиваясь своего; однако я знаю несколько случаев, когда заключенные голодали по два-три месяца. Главное же, что это все равно бесполезно. На заявление о голодовке в любую инстанцию ответ такой же, как на прочие жалобы. Только что к голодающему начальник сам придет в камеру, поскольку ослабевший зэк ходить не может.
— Ваш протест необоснован. Снимайте голодовку, умереть мы вам все равно не дадим: смерть избавляет от наказания, а ваш срок еще не кончился. Вот выйдете на волю — пожалуйста, умирайте. Вы жалуйтесь, жалуйтесь на нас в вышестоящие органы! Пишите, это ваше право. Разбирать вашу жалобу все равно будем мы…
Вот в такой «санаторий» я попал из-за болезни. Отсидел семь суток и вышел, как говорится, держась за стены, — приморили.
Но, несмотря на слабость, пришлось на другой же день идти на работу, чтобы не заработать новой отсидки в ШИЗО.
Последняя попытка
Пока я отсиживал свои семь суток, Буров и Озеров отчаялись, потеряли надежду на подкоп. Не то чтобы как раз я был заводилой в этом деле, а просто двое теряют надежду скорее, чем трое. Один засомневался: мол, как же копать, когда везде вода? Другой с ним поневоле соглашается. И нет третьего, чтобы сказать:
— Братцы, да что же делать, не сидеть же сложа руки, давайте пытаться бежать любым способом, пока живы…
Словом, когда я вышел из карцера и чуть оправился, мы снова стали договариваться о побеге. Решили еще раз попытаться копать в рабочей зоне — из строящегося барака. Решение на этот раз подкреплялось преимуществами нового места подкопа: подведенные под крышу стены будут загораживать нас от часовых и охраны, кучи свежей земли вокруг барака помогут скрывать следы подкопа, туда легко попасть через оконный проем, не надо с замком возиться…
Мне сейчас трудно судить, но думаю, что, если бы пришлось искать новый план, и еще, и еще, мы каждый раз находили бы преимущества в каждом последующем варианте — так невыносима была для нас мысль о том, что в неволе придется остаться надолго.
Мы договорились на следующую ночь пробраться в недостроенный барак — посмотрим, глубоко ли там вода. Как раз на условленный вечер было объявлено кино. Летом кино показывают на улице около столовок. Начинают после ужина, когда стемнеет, заканчивают поздно, после времени отбоя. Так что летом дважды в месяц зэки допоздна шатаются по зоне, дышат свежим ночным воздухом — кино мало кто смотрит, после журнала помаленьку разбредаются по одному, по двое-трое, стараясь, конечно, не попасться на глаза надзирателям. Вот как раз на такой удачный вечер мы и договорились: идем в кино, садимся в разных местах, а после журнала сматываемся — и в рабочую зону. Обсудили, конечно, и какие опасности подстерегают нас в новом месте. Близко вышка — надо очень осторожно пробираться в барак, работать бесшумно. От ночных сторожей решили выставить охрану — Бурова, а Озеров и я будем копать. Буров, работавший рядом с «нашим» бараком, в крольчатнике, сказал, что строительная бригада оставляет на ночь носилки — хорошо, пригодятся; что весь инструмент, как обычно, уносят и сдают, — ничего, рядом много строительного мусора, попытаемся копать палками, щепками.
В условленный вечер я ходил по зоне, дожидался начала сеанса. Вдруг слышу голос начальника моего отряда, капитана Васяева. Вернее, не голос, а крик:
— Мало ты в ШИЗО сидел, тунеядец! — орал он на какого-то беднягу, как и я, только что вышедшего из карцера. — Опять норму не выполняешь! Даром, что ли, тебя государство будет кормить? Вон вас сколько здесь, дармоедов!
— Я сюда на дармовые харчи не просился, — ответил зэк. — Я на заводе работал. Худо-бедно, а себя и свою семью сам кормил. Какой же я тунеядец?
Вокруг них собралась кучка зэков и слушала эту дискуссию, явно сочувствуя своему товарищу. Это еще больше злило капитана.
— Не знаю, как ты там зарабатывал, а здесь даром хлеб ешь, — продолжал он воспитательную работу.
Зэк тоже разозлился и не смолчал, хоть и знал, что ему за это будет:
— Сколько я зарабатывал, не тебе считать, капитан. Мне хоть за мой труд платили, а тебе за что платят вдвое больше, чем рабочему? За то, что над нами, работягами, с палкой стоишь?
— Я служу родине!
— Служишь? Гордишься? Это здесь; а небось в отпуск поедешь — так никому не скажешь, где служишь! Постесняешься перед людьми признаться, за что тебе большие деньги платят!
В это время я заметил позади толпы зэков двух надзирателей:
— Взять его! — показал капитан на своего оппонента. — На вахту!
А сам пошел выписывать постановление на пятнадцать суток.
Дискуссия кончилась на этот раз сравнительно благополучно: нередко такого языкатого заключенного отдают под суд за «антисоветскую агитацию» и дело кончается новым сроком, спецрежимом или тюрьмой.
— Надо же было ему лезть в этот спор! — тихо говорили зэки, расходясь после этой сцены. — Нашел кому доказывать, кого воспитывать! Да разве их проймешь?
— Так что же, молчать, что ли? Молчать, что бы тебе ни говорили, как бы с тобой ни поступали?! — вырвался кто-то, наверное, из молодых. К счастью, нельзя было разглядеть кто: хотя капитан Васяев ушел, но и среди своих, зэков, могли быть стукачи; донесли бы — и с этим парнем расправились бы так же, как со спорщиком.
Бежать, как угодно, пусть любой риск, только бежать! Здесь мы не люди, даже от оскорбления нельзя защищаться…
Стемнело. Подойдя к столовой, около которой уже висел экран, я стал вглядываться в толпу. Оба здесь — и Буров, и Озеров. Они тоже нашли меня и друг друга глазами — и мы сразу же перестали глядеть друг на друга. Даже молчаливое переглядывание может показаться подозрительным какому-нибудь стукачу, только и ждущему, чем бы выслужиться перед начальством.
После журналов, как мы и рассчитывали, нам удалось незаметно улизнуть. Через три ряда колючей проволоки и невысокий заборчик, отделявший жилую зону от рабочей, тоже перебрались благополучно: здесь темно, прожектора освещают только наружную запретку. Около крольчатника надо двигаться совсем бесшумно: ночные сторожа бдительно стерегут кроликов от голодных зэков.
Наконец мы в нашем недостроенном бараке; можно вздохнуть свободнее, стены загораживают нас. Огляделись. Вот и стенка, ближняя к общей запретке, — копать будем здесь. Только бы почва оказалась подходящей, без воды! Тогда мы замаскируем яму досками, их здесь много; присыплем сверху землей и в следующие ночи продолжим подкоп. Мы молча, даже не перешептываясь, заняли свои места: Буров выполз из барака следить за сторожами, мы с Озеровым стали копать. У Озерова оказалась железная полоса — та самая, с которой мы лазали под жилой барак; он сумел прятать ее до сих пор. Дело пошло. Копаем, а по бараку время от времени скользит яркий луч света — это часовой на вышке водит прожектором по зоне, и в бараке становится светло, как днем. Прижимаешься к земле. Луч скользнул над нами, мимо — и мы снова копаем, стараясь не стукнуть, не звякнуть. Выкопали яму сантиметров в пятьдесят — песок стал влажным. Еще сантиметров через двадцать дно ямы покрылось водой. Снова неудача! Мы еще не успели осознать, что наш план провалился, как в барак вошел Буров:
— Только что мимо этого окна прошел сторож.
Слышал ли он нашу возню? Он мог даже увидеть нас, если заглянул в окно.
— Куда он прошел?
— Вон туда, — Буров показывает в сторону, противоположную вахте.
Если слышал, если хочет сообщить вахтерам, тогда он должен еще раз пройти мимо нас к вахте. Мы решили поскорее засыпать яму, пока сторож не прошел к вахте, и только тогда убежать. Ведь если обнаружат следы нашей работы, всю зону перевернут, будут искать, кто готовит побег. Ну пусть даже до нас не докопаются, все равно охрана будет начеку, будет следить за каждым зэком — куда пошел, что понес, с кем перешептывается… Придется надолго, а может, и насовсем распрощаться с мыслями о побеге. Нет, мы этого ни за что не хотели. Подкоп безнадежен — будем думать и придумаем какой-нибудь другой способ убежать.
Поскорее, поскорее засыпать яму! Буров снова выполз за сторожем: как только он пройдет к вахте, мы бросаем работу и кидаемся к запретке. В жилой зоне, может, удастся смешаться с другими заключенными. Если нас поймают — убить не убьют (в зону надзиратели с оружием не заходят), но уж изобьют до полусмерти, может, совсем искалечат.
Мы с Озеровым сбрасываем землю в яму, уже не заботясь о тишине. Через несколько минут снова появляется Буров:
— Сюда бегут надзиратели!
Потом мы поняли, что сторож, услышав нас, пошел не на вахту, а к другим сторожам, а те уже сообщили охране.
Мы выскочили из барака. Все вокруг было залито светом: часовой направил прожектор прямо на барак, на нас. Ослепленные прожектором, мы кинулись в сторону жилой зоны. Я почти не помню, как очутился в крольчатнике, вскочил на невысокий заборчик около запретки — вдоль всей запретки уже стоят надзиратели! Я спрыгнул обратно в крольчатник, пополз под клетками. Где-то здесь мои друзья: я видел Бурова рядом с собой несколько секунд назад.
В крольчатник вбежали надзиратели. У каждого в руках заостренный березовый кол и зажженный фонарь.
— Окружить, ни одного не выпускать! — услышал я голос майора Агеева, руководившего охотой.
Надзиратели стали тыкать кольями под клетки. Первым обнаружили Озерова.
— Вылезай, — скомандовали ему.
Но когда он попытался выползти, его стали так подбадривать кольями, что он забился еще глубже. Все-таки его выгнали из-под клетки, и я видел и слышал, как несколько надзирателей начали колотить его сапогами и колоть кольями. Остальные тем временем продолжали поиски. Бурова и меня нашли почти одновременно — мы оказались под соседними клетками. С нами сделали то же, что с Озеровым. Не знаю, долго ли продолжалось избиение. Наверное, недолго, раз мы остались целы.
На шум и крики сбежались заключенные, столпились по ту сторону запретки в жилой зоне. Их пытались разогнать, но они не расходились. Из толпы раздавались крики:
— Убийцы! Палачи!
Часовые с вышек дали несколько автоматных очередей над головами зэков — это не помогло. Майор Агеев подбежал к проволоке:
— Что, сроки маленькие? Добавим! Места в тюрьме и в БУРе хватит! Расходись!
Но толпа не расходилась. Тогда нас троих подняли и погнали от запретки к вахте в рабочей зоне. Гнали, избивая на ходу. Сзади подгоняли острыми кольями. То и дело кто-нибудь из надзирателей, разбежавшись, бил нас по ногам коваными сапогами. Или метил сапогом повыше — с разбегу по ребрам или еще куда-нибудь, куда достанет; лишь бы побольнее. Я шел, низко пригнув голову, согнувшись, как только мог, сцепив руки на затылке; кистями старался защитить от ударов голову, локтями прикрывал ребра. Рук я не чувствовал, да и все тело давно перестало ощущать боль от ударов.
На вахте избиение продолжилось. Потом майор Агеев провел короткий допрос:
— Кто еще хотел бежать с вами?
Каждый из нас отвечал, что, кроме нас троих, никто. После допроса нас должны были с вахты отправить в карцер. Карцер, как я уже говорил, находился в другой зоне. И вот мы все трое думали об одном, наденут на нас наручники или нет? Если не наденут — значит, решили застрелить по дороге. Выстрелят в спину, а потом напишут: «убиты при попытке бежать от конвоя по дороге в карцер», — сколько таких случаев было! Мы машинально отвечали на вопросы Агеева, а сами ждали, что сейчас будет — наручники или сразу команда «выходи!».
Но вот вошли еще надзиратели, с наручниками, мы переглянулись, и я понял, что Буров и Озеров почувствовали в эту минуту то же, что и я.
Одной парой наручников соединили меня с Буровым, другой с Озеровым. На Бурова и меня надевал наручники сам майор, другую пару затягивал старшина. Майор старался на совесть, забивал наручники рукояткой пистолета. Руку заломило так, что я чуть не взвыл. Лицо Бурова перекосилось.
— Потуже, потуже, чтоб всю жизнь помнили, — приказал майор старшине, и Озеров скривился и застонал.
Нас протолкнули сквозь несколько узких дверей и повели через полотно в соседнюю зону. Я все же боялся: не пристрелят ли по пути — ведь здесь, за зоной, и конвой вооружен автоматами, и у майора Агеева пистолет в руке. Но нет, и для этого беззакония, видно, писаны свои законы: зэка в наручниках нельзя застрелить. Майор только бил нас рукояткой под ребра.
Оставив свое оружие на вахте, майор и конвоиры повели нас в дежурку. Здесь нам велели стать у стенки — и снова стали избивать.
Мы, скованные наручниками, не могли даже заслонить лица от ударов. Потом нас свалили на пол и стали топтать сапогами.
— Так их, так… рот-позарот, — приговаривал Агеев. — Пусть помнят и другим расскажут, как бегать.
Наконец с нас сняли наручники, поволокли по коридору и бросили в камеру.
Суток трое-четверо мы лежали, не поднимаясь. Откроется дверь, позовет раздатчик брать пайку или обед — а мы встать не можем. Раздатчик зовет надзирателя, тот от двери, не заходя, глянет на нас — и велит закрыть камеру. Только дня через три начали мы подниматься за обедом и хлебом. Однажды утром нам зачитали постановление о том, что нам выписано по пятнадцать суток карцера. Это от администрации. А потом нас ждет суд: приговорят к двум-трем годам тюрьмы по закону. Кончатся пятнадцать суток карцера, и мы останемся ждать суда в той же камере, только на общем режиме: лагерное питание, постель на нары, книги, прогулка час в день, разрешается курить. Чтобы неудавшиеся беглецы не очень радовались всей этой роскоши, сначала и дают полмесяца карцера — такая уж традиция.
Наша камера была маленькая, на троих, зато на бойком месте: расположенная в углу барака, она зарешеченным окном выходила на два прогулочных дворика, к уборной; из окна можно было увидеть и вахту. Так что в последние несколько суток карцера, когда мы оправились настолько, что могли ходить по камере, мы только и делали, что толклись у окна, глазели на зэков на прогулке, а они на нас, на новичков, которых вели от вахты к бараку. Иногда удавалось и незаметно перекинуться несколькими словами с гуляющими.
Это была зона особого режима, иначе — специального. И лагерь называется «спец»; «был на спецу», — говорят зэки.
На спецу
В первую свою отсидку я не видел толком ни зоны, ни людей — никого, кроме сокамерников. Теперь же, за то время, что мы сидели в карцере, а затем под следствием, ожидая суда, мы не только пригляделись к спецрежиму, но и познакомились с некоторыми зэками со спеца. Впоследствии в лагерях, где я побывал, и в больничной зоне я встречал много заключенных, побывавших на спецу. Так что я хорошо знаю, что это такое.
В жилой зоне спецрежима стоят бараки метров семьдесят в длину, двадцать — двадцать пять в ширину. Вдоль барака, посередине, идет длинный коридор, делит барак поперек; в обоих концах каждого коридора двери, замкнутые на несколько замков и запоров. Из длинного коридора ряд дверей ведет в камеры, такие же, как и в карцере: нары, решетки на окнах, параши в углу, в двери глазок под заслонкой (заслонка снаружи, и отодвинуть ее может только надзиратель — чтобы зэки в коридор не заглядывали). Дверь в камеру двойная: со стороны коридора — массивная, обитая железом, запертая на внутренний и висячий замки; вторая дверь, со стороны камеры, тоже постоянно запертая, решетки из тяжелых железных прутьев на тяжелой железной раме, как в зверинце. В двери-решетке окошко-кормушка, оно тоже замкнуто и отпирается только во время раздачи пищи. Дверь-решетка отпирается только для того, чтобы выпустить и впустить зэков — их ведь гоняют на работу, чтобы, как говорил капитан Васяев, не даром хлеб ели.
Во дворе спеца не увидишь того, что в лагере общего или строгого режима; двор абсолютно пуст: после работы — под замок до утра, до вывода на работу. Все нерабочее время в камере, а по коридору неслышно ходят надзиратели в валенках, подслушивают, подглядывают в глазок… Кого же держат на спецу — за толстыми решетками, да под семью замками, да за несколькими рядами колючки, за высоким забором? Каких страшных зверюг-бандитов?
Официально на спецрежим, как и в тюрьму, отправляют особо опасных преступников-рецидивистов, а также зэков, совершивших преступления в лагере. Таков порядок для уголовников, для бытовиков: общий режим, потом усиленный, потом строгий, потом спец или тюрьма. Политические начинают свой путь сразу со строгого режима — мы все с самого начала «особо опасные», так что для нас до спеца или тюрьмы путь значительно короче.
Можно получить спец и по приговору суда — за повторное политическое преступление. Однако чаще всего сюда попадают зэки из лагерей строгого режима. За побег (если, конечно, не застрелят при поимке), за подготовку к побегу, за отказ от работы, за невыполнение нормы, за «сопротивление охране и надзирателям»… Оказаться бандитом, злостным хулиганом в лагере легче легкого: достаточно сохранить элементарное чувство собственного достоинства — и так или иначе ты непременно попадешь в злостные дезорганизаторы порядка, а дальнейшее полностью зависит от произвола начальства (ограничится ли оно административными мерами воздействия или отдаст тебя под суд). Вот пример: я уже говорил, что в карцере не дают умыться по-человечески, нечего и думать о том, чтобы почистить зубы, вот в камере, над вонючей парашей — пожалуйста. Одно только подобное желание зэка вызывает возмущение и праведный гнев надзирателя: преступник, а туда же, зубы чистить! Но даже и просто умыться не дают. Только смочил руки под рукомойником — «Довольно! В камеру!» И если ты не отошел сразу, тебя хватают и отталкивают. И вот тут, не дай бог даже инстинктивно воспротивиться, оттолкнуть руку, оттаскивающую тебя от рукомойника: надзиратели затащат тебя в дежурку и там начнут оскорблять, насмехаться, толкать. Им одно нужно — чтобы все это зэк сносил молча, покорно, чтобы видно было: зэк знает свое место. А если ты осмелишься ответить на оскорбление, на удар — вот и злостное хулиганство, сопротивление представителям надзора, рапорт начальству, суд и приговор — по Указу вплоть до высшей меры. В лучшем случае добавят срок, переведут на спец.
Немного позже, на пересылке в Потьме, я встретил нескольких зэков из десятого, получивших спец или тюрьму за то, что они в лагере «организовали политическую партию»; Чингиз Джафаров что-то сказал, стукач стукнул куму (оперуполномоченному КГБ), и стали хватать людей — и кто был при разговоре, и кого видели рядом, и кто мог слышать.
На практике на спецу или в тюрьме может оказаться любой зэк, неугодный начальству: чересчур строптивый, независимого характера, популярный среди других зэков. За каждым из нас таких преступлений, как невыполнение нормы или нарушение режима, числится более чем достаточно. А иногда это и просто дело случая, невезучая судьба.
Уже после того, как меня увезли из десятого, этот лагерь по каким-то причинам решили превратить из политического в бытовой. Куда же девать политических? Часть развезли по другим лагерям, а большинство попало на спец, благо рядом. И в 1963 году по дороге в лагерь, проезжая по знакомым местам, я увидел, что на спецрежиме прибавилось бараков с решетками на окнах — там теперь были мои товарищи из десятого лагеря.
Решетки, запоры, усиленная охрана, камеры в нерабочее время — конечно, только часть воспитательных мер, применяемых к особо опасным преступникам. Здесь и работа тяжелее, чем в других лагерях, — сначала строили кирпичный завод, а теперь на нем работают. Кирпичный завод и на воле-то не сахар, а тем более в лагере. Главная машина, знаменитая «осо» — две ручки, одно колесо, да еще носилки, вот и вся механизация. Работа в сырости, на холоде — зэки вымокнут, намерзнутся; потом долгий-долгий развод: по одной камере из рабочей зоны в жилую, перед входом в корпус — тщательный обыск каждого зэка, а остальные все это время ждут под дождем или под снегом, на морозе, переступают с ноги на ногу; впустили наконец в камеры — ни обсушиться, ни обогреться, ни переодеться, переобуться: одежда одна и для работы, и в камере после работы, грязная, мокрая, потная. Кое-как своим собственным телом высушивает зэк за ночь свою одежду; не успел высохнуть — уже утро, подъем, снова на работу, снова давай, не стой, не выполнишь норму — штрафной паек.
Нормы такие, чтобы их нельзя было выполнить, чтобы любого зэка можно было еще как-нибудь наказать за невыполнение.
Самое главное наказание, самая сильная воспитательная мера в лагерях, легкая в исполнении, проверенная на практике, — это голод. На спецу эта мера особенно чувствительна: посылки, передачи здесь вообще запрещены. В ларьке можно купить только зубную пасту, щетку и мыло, а чтобы купить курева — пиши заявление начальству, а там начальство посмотрит. Никаких продуктов с воли сюда не попадает ни грамма — только пайка, известно какая: подохнуть не подохнешь, но и только… И то за невыполнение нормы начальство может перевести на штрафной паек, такой, как в карцере.
И вот люди, приговоренные к спецрежиму, годами живут в этих страшных, нечеловеческих, неописуемых условиях. Не так уж трудно, оказывается, довести человека до звериного состояния, заставить его позабыть о собственном человеческом достоинстве, о чести и морали. В лагерях спецрежима стукачей больше, чем в каких-либо других. При этом камеры комплектуются так, чтобы в каждой было не меньше двух стукачей — доносить на других и друг на друга. Что он выгадывает, стукач, на спецу? Во-первых, не переведут на штрафной паек; во-вторых, может быть, не урежут свидания — здесь полагается одно свидание в год до трех часов, обычно же дают тридцать минут, а чаще совсем лишают свидания. А самое главное — лагерная администрация может хлопотать перед судом о том, чтобы заключенного досрочно перевести со спеца на строгий как «вставшего на путь исправления». Не раньше, правда, чем полсрока, но все-таки надежда! Хоть на год, на полгода раньше вырваться из этого ада — вот ради чего люди становятся здесь доносчиками, провокаторами, продают своих товарищей.
В бараках часто воруют хлеб — лучше съешь свою пайку сразу или бери с собой на работу, а то другой такой же голодный не выдержит, украдет и съест.
Я рассказывал о членовредительстве в карцере — на спецу такие случаи еще чаще. Выкалывают себе глаза, засыпают их стеклянным порошком, вешаются; ночью под одеялом вскрывают себе вены — и если сосед не проснется, подмоченный кровью, вот и освободился мученик.
Однажды трое зэков договорились покончить с собой обычным способом, то есть с помощью часового. Днем, часа в три, взяли на кирпичном заводе три доски, приставили их к забору. Часовой кричит с вышки:
— Не лезь, стрелять буду!
— Сделай милость, избавь от счастливой жизни, — отвечает зэк и лезет дальше. Долез до верха, до козырька из колючей проволоки, и запутался в ней. В это время автоматная очередь с вышки, он упал на козырек, повис на заборе. Тогда полез другой — он спокойно ждал своей очереди. Короткая очередь — и он упал вниз, под забор. За ним третий — тоже свалился рядом со вторым.
Мне потом говорили, что один из них остался жив, его видели в больнице на третьем; все же от спеца хоть на время избавился. Двое же избавились навсегда, убиты наповал.
Это самоубийство отличалось от других подобных тем, что было групповым. Точно таких одиночек много, и не только на спецу.
Часового, снявшего такого «беглеца», награждают дополнительным отпуском, объявляют ему благодарность. Но отношение солдат к стрелку не всегда совпадает с отношением начальства. Однажды на седьмом осенью 1963 года солдат-часовой пристрелил на запретке очередного самоубийцу, больного парня. Отпуск-то он получил, но домой поехал избитый: ночью солдаты устроили ему темную, конечно, под другим предлогом.
Вообще многие солдаты стыдятся этой своей службы, даже домой не пишут, что охраняют заключенных. Бывает, разговоришься с таким, и если он убежден, что ты его не продашь, то откровенно скажет все, что думает о лагерях и о своей службе.
— Через год освобождаюсь, и катись она к такой-то матери, эта служба.
Говорит так, что ясно: для него эти три года то же, что для зэка срок. Скажешь ему:
— А ведь прикажут — и ты расстреляешь меня, а будешь на вышке — дашь очередь по такому же зэку, хоть какой он там беглец — просто отчаявшийся человек…
— Конечно, — соглашается он. — Прикажут и застрелю, и бить буду. А куда денешься, раз приказ?
— А что я могу сделать? — говорит другой.
— Самому-то в зону неохота, — отвечает третий.
Многие солдаты служат за страх, а не за совесть. И когда Бурова, Озерова и меня избивали, солдаты били нас больше для виду, для порядка.
Надзиратели — дело другое. Конечно, они служат не за совесть, а за деньги, стараются выслужиться перед начальством, дослужить до пенсии, чтоб не выгнали раньше, да чтоб похвалили, да, может, в должности повысят, сделают старшим. К тому же безграничная власть над зэками развращает их — как, впрочем, и высшую администрацию.
И все-таки в большой зоне, где много зэков, надзиратели иногда перед ними заискивают: то сквозь пальцы посмотрят, что ты со свиданки пачку папирос вынес, то за взятку передадут подогреву (что-нибудь из еды). Некоторые спекулируют чаем, водкой, особенно в бытовых лагерях. Они наживаются на зэках и их семьях и в то же время хотят прослыть хорошими, добрыми среди зэков. Ведь они в зоне целыми днями, а от обозленных, доведенных до отчаяния людей всего можно ждать.
Начальство справедливо не доверяет ни солдатам охраны, ни даже надзирателям. Среди тех и других есть свои стукачи. Строго следят за тем, чтобы солдаты не разговаривали с зэками, особенно с политическими. На охрану мордовских лагерей стараются пригнать солдат из нацменьшинств или из дальних республик (но только не из Прибалтики!), таких, которые плохо знают русский язык.
Здесь, на спецу, я увидел и такое, о чем раньше только слышал, но не мог проверить: надписи, вытатуированные не только на руках, на теле, но и на лице — на лбу, на щеках. Обычно это бытовики-уголовники, которых тоже немало в политических лагерях.
Уголовники переходят в политический лагерь, можно сказать, добровольно. По уголовным лагерям ходит легенда, что у политических условия сносные, кормят лучше, работа легче, обращение более человеческое, охрана не избивает… В основе этой легенды молва о действительно существующем в Мордовии лагере для иностранцев, осужденных за шпионаж: там на самом деле условия чуть не как на курорте: посылки не ограничиваются, кормят досыта, норму не спрашивают, да и вообще работа там — дело добровольное, хочешь работай, не хочешь — играй в волейбол в зоне. Вернувшись на родину из заключения, иностранец ничего плохого не может сказать о наших лагерях и тюрьмах. Ну а в народе по газетным статьям создается мнение, что всякий политический у нас непременно шпион, агент иностранной разведки. Вот и идет по лагерям молва о райских политических зонах. Но есть в легенде и доля правды. Политических не гоняют сейчас на лесоповал — их охраняют тщательнее, а на лесоповале почти бесконвойная работа. К тому же там у зэков в руках топоры, пилы. Кроме того, у политических другие отношения между собой: не убьют, не зарежут, в основном зэки уважают друг друга, помогают в беде, чем могут. И охрана здесь не решается избивать публично.
И вот уголовник совершает государственное преступление, чтобы попасть в политический лагерь, пусть даже с добавочным сроком. Он пишет листовку против Хрущева, против партии; обычно там половина слов — мат. Или сделает из тряпки «американский флаг», нарисует на нем побольше звездочек (сколько их, он не знает, известно только, что много). Дальше надо попасться. Листовки он раздает другим зэкам: кто-нибудь непременно донесет начальству. Или клеит их в рабочей зоне, так, чтобы все видели. Флаг он вывешивает на видном месте или шествует с ним на разводе. Вот и готов новый государственный преступник.
В политическом лагере он голодает еще больше, чем в уголовном. При случае угодит в карцер, там в дежурке его изобьют надзиратели. Он начинает писать жалобы — и убеждается, что это бесполезно. А срок впереди немалый. А формы протеста он принес с собой из блатного мира, оттуда же привычки и представления.
И вот — наколки.
Я увидел двух бывших уголовников, ныне политических, одного по кличке Муса, другого — Мазай. У них на лбу, на щеках было вытатуировано: «Коммунисты — палачи», «Коммунисты пьют кровь народа». Позже я встречал очень много зэков с подобными изречениями, наколотыми на лицах. Чаще всего крупными буквами через весь лоб. «Раб Хрущева», «Раб КПСС».
Здесь же, на спецу, в нашем бараке сидел один парень, Николай Щербаков. Когда я его увидел из окна в прогулочном дворике, то чуть не упал. На его лице не было живого места. На одной щеке: «Ленин палач». На другой продолжение: «Из-за него страдают миллионы». Под глазами: «Хрущев, Брежнев, Ворошилов — палачи». На худой и бледной шее черной тушью вытатуирована рука, сжимающая его горло, и на кисти буквы «КПСС», а на большом пальце, упирающемся в кадык, — «КГБ».
Щербаков сидел в такой же угловой камере, как и наша, только в другом конце барака. Сначала я только видел его из окна, когда их камеру водили на прогулку. А потом нас троих перевели в другую камеру, и мы часто гуляли одновременно в соседних прогулочных двориках. Переговариваясь потихоньку от надзирателей, мы познакомились. Я убедился, что он нормальный человек, не псих, как я было подумал сначала. Это был неглупый парень, он довольно много читал, знал по газетам все новости. В одной с ним камере сидели Мазай и педераст Мика, оба с наколками на лицах!
В конце сентября 1961 года, когда нашу камеру вывели на прогулку, Николай жестами спросил, нет ли у кого из нас лезвия. В таких случаях не полагается спрашивать зачем; просят — значит, надо. Есть у тебя — дай, ни о чем не спрашивая. У меня было три лезвия — еще на десятом, до карцера, я спрятал их в козырьке фуражки — это вещь нужная; во время всех обысков их не обнаружили. Я зашел в уборную, подпорол зубами шов под козырьком и достал одно лезвие. Во дворе, когда надзиратель отвлекся, я сунул его в трещину деревянного столба, на котором крепится колючка. Николай следил за мной из окна. Лезвие пролежало в щели целый день. Многие зэки видели его — наш брат на прогулке обшарит глазами каждый камешек, каждую щелку, не попадется ли что полезное. Но раз положено лезвие, значит, есть у него хозяин, для которого оно лежит; такую вещь никто не возьмет. К тому же Николай весь день не отходил от окна, караулил, не взял бы кто. На другой день на прогулке он взял свое лезвие и унес в камеру.
А к вечеру из камеры в камеру пошел слух: Щербаков отрезал себе ухо. Позже мы узнали подробности. На ухе он сделал наколку: «В подарок 22-му съезду КПСС». Видимо, наколку он сделал раньше, чем отрезал ухо, — иначе истек бы кровью, пока накалывал. Потом, совершив ампутацию, стал стучать в дверь, и когда надзиратель открыл наружную сплошную дверь, Щербаков выбросил ему сквозь решетку свое ухо с теми же словами: «В подарок двадцать второму съезду!»
Об этом случае знают все зэки в Мордовии.
Через день мы снова увидели Щербакова в окне камеры. Голова его была перебинтована, на месте правого уха повязка пропитана кровью, в крови лицо, шея, руки. Дня через три его отправили в больницу, а что с ним сделали потом, не знаю.
Вот поэтому-то во время проверки зэкам и полагается быть без головного убора, с открытым лбом — проверяют, не накололся ли еще кто-нибудь. Наколовшихся сажают для начала в карцер, а потом держат в отдельных камерах, чтобы не разлагали остальных. За ними в деле повсюду идет опись: место и текст надписи. И при проверке сверяют татуировки с описью — не появились ли новые?
Сокамерников Щербакова таскали за то, что помогали ему, — за соучастие в антисоветской агитации.
Как ухитряются зэки в карцере, в тюрьме накалываться? Ведь нужны иглы, краски. Я много раз видел и на спецу, и на пересылке, и во Владимирке, как это делается. Выдирают из ботинка гвоздик или на прогулке подберут кусок проволоки, заострят конец о камень — вот и игла. Чтобы сделать тушь, сжигают кусок черной резиновой подошвы от ботинка. Эту золу разводят мочой.
Но гораздо больше, чем техника, меня поражала сама идея такого деяния. Чего хотят эти несчастные? Зачем, ради чего уродуют себя на всю жизнь? Ведь это надо навсегда поставить крест на себе, на своей жизни, почувствовать себя, как поется в песне, «навечным арестантом», чтобы обезобразить свое лицо. Или вот ухо отрезал. Зачем? Но иногда, в минуты бессильного отчаяния, я и сам ловил себя на мысли: ах, сделать бы что-нибудь! Кинуть бы в лицо мучителям кусок своего тела! Зачем? Об этом в такие минуты не спрашиваешь.
…Со временем я привык к разрисованным, расписанным лицам и телам. И только смеялся над новичками, которые чуть не падали, увидев такое, как и я в первый раз:
— Погоди, еще и не то увидишь!
Просидели мы в камере на спецу месяца три. Сначала пятнадцать суток карцера. Потом, как и полагается перед судом, — следствие. На шестнадцатый день нас стали по одному вызывать на допрос в кабинет начальника лагеря. Допрос вел офицер из Управления, майор Данильченко, начальник десятого. Первым вызвали Озерова. Майор Данильченко спросил:
— Кто еще хотел бежать вместе с вами?
Озеров, как потом Буров и я, отвечал, что больше никто, только мы трое. Ни о чем больше не спрашивали, только читали мораль. Озеров сказал, что нас избивали — и в зоне, и на вахте, и дорогой до карцера, когда мы были в наручниках, и в дежурке:
— При избиении присутствовал майор Агеев. Он и сам колол нас березовым колом и бил пистолетом.
— Это клевета! — закричал офицер. — Кто вам поверит? На вас нет следов побоев!
— Это было шестнадцать дней назад. Мы тогда требовали врача, к нам никто не заходил, даже надзиратели…
После Озерова вызвали Бурова, и повторился такой же разговор. Только, когда Бурову заявили, что насчет избиения — это клевета, он сказал:
— Ну ладно, я, наверное, на волю не выйду, так и умру зэком. Но те-то двое — они молодые, отсидят свои шесть-восемь лет и выйдут и расскажут кому-нибудь, что такое советский концлагерь.
— Расскажут — опять здесь, у нас, очутятся. Что ж, они этого не понимают, что ли? И без них тысячи выходят на волю, а язык за зубами держат. А если кому расскажут, так тот намотает себе на ус, постарается сюда не попадать.
Когда вызвали меня, я не стал портить себе нервы бессмысленным разговором. Допрос закончился быстро.
— Может, вы тоже скажете, что вас избивали? — спросили меня под конец.
— Да, избивали. И меня, и Озерова, и Бурова.
— Почему же вы промолчали? Ваши сообщники сделали заявление.
— Мое заявление вы тоже назовете клеветой. А сами не хуже нас знаете, что это правда. Вот вы, — обратился я к Данильченко, — раньше, чем стать начальником лагеря, вы сами были таким же Агеевым, сами делали то же, что и он.
— Уведите его! — прервал меня Данильченко.
Надзиратель, стоявший за моей спиной, ткнул меня кулаком в бок и повел в камеру.
Больше допросов не было, и мы «отдыхали» в камере около трех месяцев, до суда. Это на самом деле была передышка: на работу не гоняли, давали общий лагерный паек, книги, разрешали курить, прогулки увеличили до часа в день. Сначала нас держали в той же угловой камере на троих, а незадолго до суда перевели в большую камеру, человек на двадцать. Остальные наши сокамерники тоже дожидались суда — кто за отказ от работы, кто за систематическое невыполнение нормы, кто за веру. В соседней камере сидели подследственные, человек двадцать.
В конце сентября, через несколько дней после истории с Щербаковым, в лагерь приехал суд: судья, прокурор, два заседателя. Одного за другим уводили зэков сначала из соседней камеры, потом из нашей. Вернувшись буквально через несколько минут, каждый сообщал: два, три года тюрьмы, Владимир. Вот увели и привели обратно Бурова — три года Владимирки. Следующим вызвали меня. Надзиратель ввел меня в кабинет и остался стоять за моей спиной. В кабинете кроме членов суда была и «публика» — полным-полно офицеров, лагерного начальства. Судья, солидный мужчина в хорошем костюме, сидел за столом, покрытым красной материей; по обе стороны от него — два заседателя. Я не думал ни о суде, ни о своей судьбе — она была известна заранее, а смотрел на заседателей.
Они казались совершенно чужими и потерянными в этом кабинете, среди людей в офицерской форме, рядом с холеным судьей. Один был пожилой дядечка в заношенном бумажном пиджаке, в темно-серой стираной-перестираной рубашке. Он не знал, куда девать свои заскорузлые, почти черные руки: то положит их на стол перед собой, то боязливо спрячет их на коленях. Второй заседатель — женщина с морщинистым лицом, в платочке, завязанном узлом под подбородком, с такими же натруженными руками. Вид у нее был еще более жалкий, забитый и затравленный, чем у ее напарника. Мне было их очень жаль, они так боязливо оглядывались по сторонам; и ведь они даже не понимали своей роли, своего зависимого положения. К ним никто ни разу не обратился во время суда, как будто это были безгласные куклы; у них никто не спросил, есть ли вопросы, и решение было вынесено без их участия.
Когда судья начал задавать мне обычные процедурные вопросы, я сразу же заявил, что отказываюсь участвовать в этой комедии, играть в игру под названием «народный суд». Мое заявление никого не смутило. Мой начальник отряда капитан Васяев зачитал характеристику: Марченко — злостный тунеядец, злостный отказчик от работы, злостный нарушитель лагерного режима, не стал на путь исправления, не посещал политзанятий, не принимал участия… не раскаялся, вредно влияет… Затем была краткая, но выразительная речь прокурора; не вдаваясь в детали, он сказал:
— По-моему, в тюрьму на три года.
Судья тут же, не пошептавшись с заседателями даже для вида, объявил мне: три года из моего лагерного срока заменяются тюремным режимом.
Меня увели, вызвали следующего. Камера встретила меня вопросом:
— Сколько — два или три?
Мы все трое — и Буров, и Озеров, и я — получили поровну. «Чтобы никому не было обидно», как говорили наши сокамерники.
В оставшиеся до отправки дни наши более опытные соседи, побывавшие уже во Владимирке или слыхавшие о ней, рассказывали нам, что нас всех там ожидает. Выходило, что хорошего мало: все сходились на том, что в тюрьме еще хуже, чем на спецу, — а спец был у нас перед глазами. Еще больше не по себе становилось, когда вспоминали об этапах, вагонзаках, пересылках.
Вскоре после суда нам принесли с десятого наши вещички, а дней через пять отправили первую партию. Мы трое попали во вторую партию, которая в начале октября отправилась со спеца на Потьму.
Два дня на потьминской пересылке, вагонзак; два дня пересылки в Рузаевке, вагонзак; пересыльная тюрьма в Горьком. И пересылки, и вагонзаки такие же, как везде.
В Рузаевке один заключенный из нашей партии заболел и не смог подняться во время проверки. Дежурный офицер и надзиратели стали осыпать его нецензурной бранью, заставляя встать. Камера заволновалась, потребовали прекратить издевательство и вызвать врача. Результат был такой, как обычно: схватили несколько человек, кого попало, вытащили из камеры и избили.
Из рузаевской пересылки нас привезли на станцию днем. «Воронки» остановились за железнодорожными путями, напротив станции — тюрьма находится за городом. Нас высадили из машин, построили по пятеркам и погнали под пешеходным мостом через пути к станции. Со всех сторон колонны конвой, собаки, конвоиры кричат на зэков: «Разговоры! Иди-иди, скорей, не отставай!»
На мосту собралось много народу, подходили все новые, кричали сверху:
— Эй, ребята, вас откуда гонят? Куда?
С моста в колонну летели пачки папирос, сигарет, завернутые в бумажку деньги. И вот откуда-то явился тип в штатском, спросил что-то начальника конвоя и с места в карьер начал разнос:
— Куда это годится?! Вас предупреждали, чтоб не водили колонны на виду у всего города?
Начальник оправдывался:
— Да не дают нам ночных поездов, мы сколько раз просили. Нам самим неприятно, послушайте только, что о нас говорят на мосту.
— Еще бы! Собрали публику, как в театре. А милиция разгоняй!
Я вспомнил: сколько раз читал, как в России всегда, всю ее историю, простые люди жалели арестантов, давали им хлеба, в деревнях выносили попить молока. Достоевский пишет, что в праздники острог заваливали всякой снедью, калачами, пирогами, мясом. А теперь вот гонят, смотреть даже не велят.
Наконец последний этап, во Владимир. Когда группу выводили через коридор горьковской пересылки, нам навстречу прогнали другую такую же группу — вновь прибывших. Позади всех шли несколько заключенных в наручниках — значит, смертники, приговоренные к расстрелу.
— За что обручили? — спросил кто-то из наших.
Один из смертников успел ответить:
— Нападение на милицию.
Это были осужденные то ли из Мурома, то ли из Александрова. В обоих этих городках произошли одинаковые события, и откуда была именно эта группа, я позабыл. Дело там было такое: в милиции после побоев скончался один парень. Это вызвало взрыв — как избивали в милиции, знали многие. В результате — нападение на милицию, и вот цепь смертей: убийство парня, убийство милиционеров, смертный приговор нападавшим.
Владимирка
Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи…
А.С. ГрибоедовПрибытие
Пассажирский поезд, к хвосту которого был прицеплен наш вагонзак, прибыл во Владимир в три часа ночи. К перрону уже были подогнаны «воронки», нас набили в них, как кильку в бочку, и помчали по ночным улицам древнего русского города… Я вспомнил, что когда-то читал, как Герцен, еще до отъезда за границу, стоял, бывало, на балконе своего дома здесь, во Владимире, и смотрел на каторжников в кандалах, которых гнали по знаменитой Владимирке «из России в сибирские дали». Вспомнил «Владимирку» Левитана — я видел открытку с репродукцией этой картины. Теперь, наверное, нет уже этой разъезженной, истоптанной ногами каторжников дороги. Нет и кандалов. Нас никто не видит, о нас никто не помнит, кроме наших тюремщиков. И нет нынешнего Левитана или Герцена, который рассказал бы о наших этапных путях сегодня, в 1961 году.
Пока я думал об этом, машина остановилась. Приехали. «Выходи!» Дверца открылась, и я перешагнул прямо из задних дверей машины в дверь здания, к которому нас подогнали вплотную. Меня повели по коридорам и привели в большой зал; здесь уже было полно заключенных, прибывших в эту ночь, — и знакомых, и незнакомых: были и уголовники — их все время подсаживали в наш вагон по пути из Горького во Владимир; правда, везли нас отдельно и здесь тоже разместили по разным камерам — увидел я их ненадолго, только в этом зале, а потом их увели.
Нас рассовали по боксам — крохотным норам в каменной стене, каждая на одного человека. Из них вызывали с вещами по одному. Обычный опрос: фамилия, имя, отчество, статья, срок… Потом тщательный обыск, раздели догола, осмотрели с ног до головы, раздвигали даже пальцы ног, ощупывали подошвы, заглядывали в задний проход. В личных вещах перещупали каждую ниточку, отобрали все, кроме того, что было надето. С собой разрешили взять две пары бумажных носков, два носовых платка, зубную щетку и порошок. Все. Ни запасной пары трусов, ни шерстяных носков — ничего. Все отобранные вещи записали в квитанцию, и вместо ничтожного имущества зэка, которым он тем не менее очень дорожит (носовые платки, может, память, подарок жены или матери; теплые носки — впереди зима, и в каменной камере с каменным полом они пригодились бы), вместо отобранных вещей каждый получил бумажку-квитанцию. Из продуктов могли взять с собой только дорожную пайку — 700 граммов хлеба (только черного) и одну селедку. У кого был какой-никакой лагерный запас — может, несъеденный сахар за десять дней, может, остаток передачи или купленное в ларьке — пришлось с этим запасом расстаться. После обыска и опросов нас повели через тюремный двор. В стороне от остальных корпусов, позади больничного корпуса, за высоким забором, отгороженный ото всей тюрьмы — корпус для политзаключенных. Даже тюремные надзиратели не пройдут туда без специального разрешения. Нас ведут мимо больничного корпуса, и в это время оттуда доносится крик:
— Караул, коммунисты издеваются! — Наверное, здесь находятся и душевнобольные. Надзиратели сразу заторопили нас:
— Быстрей, быстрей, нечего по сторонам глазеть.
Нас остановили около крайней двери корпуса, надзиратель отпер дверь ключом, впустил нас и снова запер дверь. С площадки, на которой мы очутились, шла лестница на верхние этажи; здесь же была еще одна запертая дверь. Надзиратель открыл ее ключом и впустил нас в коридор первого этажа. Дверь за ним снова сразу же закрылась на ключ, а нас развели по камерам. Камеры были пустые, нас поместили в них временно, до бани и окончательного распределения.
Здесь мы и встретили первый тюремный подъем. Очень громко, низким басом загудел какой-то механизм, и сразу же по коридорам забегали надзиратели, стуча ключами в двери камер: «Подъем! Подъем! В карцер захотели?» — это, наверное, тем, кто замешкался. Минут через пять в двери нашей камеры загремели ключи, и нас повели на оправку. Потом дали завтрак: 500 граммов черного хлеба на весь день, штук по семь-восемь мелкой, расползающейся, как кисель, ржавой кильки, по миске супа, в котором не было ни жиринки, ни крупинки или кусочка капусты или картошки. Это была тепловатая мутная жижа, которую мы пили через край. Миски после такого супа и мыть незачем.
Часов в девять нас повели в баню. Главная процедура здесь не мытье, а стрижка. Голые, в чем мать родила, покрывшиеся гусиной кожей — хоть это и называлось баней, но здесь было довольно холодно, — мы по одному попадали в руки парикмахера — зэка-уголовника. Стригут голову, той же машинкой бороду и усы — в тюрьме эти украшения запрещены. Увидев такое дело, старый украинец с длинными усами чуть не заплакал:
— Мени шестьдесят пять рокив, и вуса в мене, ще як я парубком був…
Он наотрез отказался сесть под машинку. Тут же несколько надзирателей схватили его за руки и за ноги и уволокли. (Я встретил его через год в этой же тюрьме. Конечно, он был без усов. Он рассказал мне, что его затащили в какую-то темную клетушку, надели наручники и сначала основательно избили, а потом в наручниках остригли усы. За «бунт» он получил десять суток карцера.)
У меня тоже были усы; у многих заключенных-религиозников были бороды, усы. Всех нас ждало то же, что и этого украинца. Первым после него была моя очередь. Я сел на скамейку, и парикмахер принялся за мою голову. Он прошел по ней несколько раз машинкой и перешел к усам. Я сказал, что не дам стричь: даже в моем деле я на всех фотографиях с усами. Зэк-парикмахер отошел к надзирателю:
— Вот он тоже не хочет. — Два надзирателя (Ваня и Саня) схватили меня, заломили мне руки за спину, свалили на пол, и, пока они вдвоем держали меня, а еще один надзиратель за уши поворачивал мою голову, парикмахер в два счета оставил меня без усов. То же самое сделали и с двумя религиозниками. Остальные уже не противились. В карцер нас не сажали: первого посадили для острастки, и хватит пока. А может, некуда уже было сажать?
После стрижки нас всех впустили в помещение для мытья: несколько скамеек, десятка два тазиков, один холодный и один горячий кран. К кранам сразу же выстроилась очередь. Едва последние успели набрать воду, как надзиратели принялись выгонять нас:
— Довольно, намылись! — В подкрепление они перекрыли горячую воду. Поневоле пришлось идти в раздевалку. Вытирались какими-то серыми лоскутами-полотенцами, выданными каждому. Одеться нам не разрешили: все, что было на нас, мы должны сдать в каптерку, а взамен нам выдадут тюремную одежду.
Не могу передать, до чего мне было противно в первый раз надевать казенное белье, которое до меня носили бог знает сколько заключенных. Кальсоны, рубашка, форменные бумажные брюки и куртка, брезентовые ботинки с крохотными лоскутками-портянками, форменная арестантская шапка, телогрейка (или бушлат) — все ношеное-переношеное, латаное-перелатаное. Белье такое ветхое, что надевать приходилось с опаской: того и гляди разлезется в руках. Наши собственные вещи мы связали в узелки, а у кого были мешки, уложили туда, на каждый была навешена бирка с фамилией, а взамен получили еще по одной квитанции.
После бани нас заперли в тех же камерах, на первом этаже, и стали вызывать по одному. Дошла очередь до меня. Надзиратель привел меня в какую-то кладовую. Здесь мне велели еще раз раздеться догола. Пока один из надзирателей ощупывал мое барахлишко — только что полученную мною в тюрьме одежду, — несколько других снова обыскали меня совершенно голого. Мне было велено вытянуть руки вперед, несколько раз присесть и встать, меня перещупали снова во всех положениях. Потом разрешили одеться и выдали под расписку постель: матрац, такой твердый и тяжелый, как будто его набили кирпичами; серый чехол на матрац вместо простыни; такую же, как матрац, комковатую подушку; еле живое фланелевое одеяло. Кроме того, выдали алюминиевую миску, кружку и ложку. Со всем этим имуществом меня повели по тюремному коридору. Около камеры № 54 велели остановиться. Надзиратель отпер дверь — я в камере, в которой, может быть, мне придется просидеть ближайшие три года.
Камера. Режим
Камера на пятерых. Когда меня впустили, в ней уже были трое — все новички, с нашего этапа. Не успел я оглядеться, как снова загремели ключи, открылась дверь и в камеру, навьюченный матрацем и прочим, вошел Озеров. Вот теперь нас полный комплект.
Стали осматриваться. Камера тесная. Метра 4,5 в длину, 2,5 в ширину — около 12 квадратных метров, меньше трех метров на каждого. Прямо против двери высоко над полом маленькое окно, застекленное мутным непрозрачным стеклом с металлической сеткой — небьющееся. Через такое стекло и увидеть ничего нельзя, света даже днем проникает так мало, что в камере круглые сутки горит электрическая лампочка. Окно, конечно, с решеткой; кроме того, снаружи оно прикрыто щитом — «намордником» (намордник в тюрьме не на всех окнах, а только в камерах строгого режима; есть здесь и общий режим — тогда окна без намордников). В старых, дореволюционной стройки корпусах окна были вчетверо больше — их заложили кирпичом, и на старой стене теперь ясно выделяется более новая кладка.
Вдоль двух глухих стен стоит по две железные койки, пятая под окном. Койки — это решетки из прутьев, они приварены к стене и устроены так, что их можно поднять, подогнув ножки, и прикрепить к стене. К правой стене, около окна, намертво прикреплен железный ящик — «буфет»; внутри он разделен на несколько клеток, в которых заключенные держат свои миски, ложки, кружки, хлеб. Посредине камеры к полу приварен маленький столик с железными ножками, возле него с двух сторон две небольшие скамеечки, тоже приваренные к полу. Осталось назвать еще один предмет меблировки — неизменную парашу около двери; без параши и тюрьма не тюрьма. Да, еще дверь — обычная тюремная дверь с глазком и кормушкой, обитая железом, всегда запертая снаружи; глазок под стеклом с заслонкой со стороны коридора; кормушка тоже на запоре. Вся мебель в камере — стол, скамейка, «буфет», дверь — окрашена в темно-красный цвет.
В камерах общего режима есть еще радио — обычно над дверью висит старенький динамик. Он работает с шести утра до десяти вечера; большая часть этого времени занята местным тюремным радиоузлом: нам сообщают о нарушениях — разумеется, «нетипичных» и допущенных «отдельными» заключенными, зачитывают приказы и постановления о наказании виновных. Нередко выступают тюремные врачи с лекциями «Как уберечься от туберкулеза», «Как предупредить желудочно-кишечные заболевания», «О вреде алкоголизма», «Как уберечься от венерических болезней». Советы известно какие: соблюдайте личную гигиену, гигиену питания, остерегайтесь случайных знакомств, не общайтесь близко с больными и т. п. В одной камере эти передачи с юмором слушают туберкулезники и здоровые: как им разделить общую парашу, как не дышать воздухом, зараженным мокротой? Остальные советы (мыть овощи проточной водой, тщательно пережевывать пищу, соблюдать необходимую диету), может, и пригодятся когда-нибудь на воле, лет через пять, десять, пятнадцать… На строгом режиме заключенные лишены и этого развлечения.
Вот такие камеры тянутся вдоль коридора по обе его стороны. Есть камеры и на троих — «тройники». Одна сторона корпуса для заключенных обращена внутрь тюрьмы — к прогулочным дворикам и другим корпусам. Другой стороной здание выходит на кладбище — конечно, отделенное от нас, как и весь остальной мир, каменной стеной, запреткой и проволокой. Правда, из окон камер все равно ничего не видно, но со стороны кладбища иногда доносятся звуки похоронного марша — единственные живые свидетельства того, что за стенами тюрьмы обычным чередом идет жизнь: вот чья-то кончилась. Окно нашей камеры выходит в сторону кладбища.
С внутренней стороны по фасаду здания три входа: центральный и два боковых. Нас вводили через боковой; там на каждом этаже площадка и запертая дверь — в коридор. От центрального тоже ведет лестница на верхние этажи. Лестничные площадки делят здесь длинный коридор пополам; в каждую половину ведет дверь-решетка, запертая со стороны площадки. По каждой половине коридора запертые в ней, как в клетке, расхаживают в мягких валенках надзиратели, заглядывая то в один глазок, то в другой. По инструкции у надзирателей на этаже не должно быть ключа от двери-решетки — они в свое рабочее время тоже под замком, как и мы; но, конечно, как и везде, у нас эта инструкция нарушается. Все ключи от всех этажей у дежурного надзирателя; он сидит внизу, в дежурке. Есть еще и офицер, дежурный по корпусу.
Я уже упоминал, что наш корпус отгорожен от других высоким забором. По нашу сторону забора — прогулочные дворики для политзаключенных; по другую сторону — корпуса бытовиков, уголовников, больничный, баня. Часть зданий построена давно, еще до революции — когда нас водили в баню, мы обратили внимание на цифры: то ли 1903, то ли 1905 год. Тюремные корпуса, построенные в советское время, отличаются, как я уже говорил, тем, что окна у них сразу сделаны небольшие, а в старых — заложены кирпичом на три четверти, и более свежая кирпичная кладка резко выделяется на старой стене.
Есть и еще отличие, на глаз сначала незаметное: более новые корпуса намного холоднее, там в камерах сыро, и дрожь пробирает даже летом, а уж зимой и в бушлате невозможно согреться. Заключенные, засунув руки в рукава бушлатов и подняв воротники, топчутся по камере, стучат ногой об ногу. А те, кому не хватило места для ходьбы, сидят, скорчившись, поджав колени, спрятав нос под бушлат. Тюремные шапки натянуты у всех до самых бровей. Наклонишь голову вправо — греешь правое ухо, а левое тем временем мерзнет… В старых, дореволюционных корпусах, хотя тоже каменных, значительно теплее и суше.
Корпус для политических, к сожалению, новый.
Вся тюрьма обнесена трехметровой каменной стеной, а по обе стороны ее, как в лагере, колючая проволока в несколько рядов, вспаханная контрольно-следовая полоса. На сторожевых вышках — часовые с автоматами; ночью запретка ярко освещена прожекторами. В книгах пишут, что раньше, бывало, из тюрем запросто убегали. Теперь из тюрьмы не убежишь, особенно из политической. Камера под замком, этаж под замком, внутренний забор, запретка. И если бы оказался какой-нибудь сочувствующий надзиратель, то и он не смог бы помочь: система охраны и надзора устроена так, что надзиратели контролируют друг друга. У одного — ключи от камер, у другого — от этажей. И решетку не подпилишь, чтобы бежать через окно по веревочной лестнице: ежедневно проверка, все осматривают, ощупывают, выстукивают… Словом, ничего не скажешь, тюрьма устроена на совесть.
Распорядок дня заключенных в тюрьме такой же, как и на спецу (только что на работу не гоняют): в шесть утра подъем, оправка, проверка, завтрак, обед, прогулка до или после обеда, ужин, проверка, в десять вечера отбой. От подъема до отбоя на койку лечь нельзя: заработаешь карцер на семь-пятнадцать суток. Сиди, ходи, стой, дремли стоя или сидя — но ни в коем случае не лежа. К окну подходить запрещено… То есть можно подойти, чтобы открыть или закрыть форточку. Но если заметят, что ты подтянулся к окну и пытаешься хоть одним глазом глянуть на вольный свет, — карцер обеспечен. Чем можно заниматься шестнадцать часов в сутки? Только читать или писать. Тетради покупаем в ларьке: одну ученическую, в двенадцать листов, на полмесяца. Что написал — проверяют надзиратели, если что покажется подозрительным — отберут. Еще в камеру дают шахматы, домино, книги, газеты из тюремной библиотеки (на каждого две книги на десять дней).
Однако через некоторое время чтение по шестнадцать часов в день теряет свою привлекательность для постоянно голодного человека. К тому же, если надзиратель увидит, что заключенные в камере читают, он выключает свет: он имеет на это право, ведь на улице белый день; а что в камере сумерки — это его не касается.
Один из заключенных в камере дежурит — дежурства по очереди. Его обязанность подметать и мыть камеру, во время оправки выносить и мыть парашу, докладывать начальству на проверке или при внеочередном посещении о том, сколько заключенных в камере, не было ли происшествий. Плохо выполнял обязанности дежурного — будешь наказан!
Петь, громко разговаривать, шуметь в камере запрещено, за нарушение вся камера будет наказана! Я уже говорил, что для заключенных в тюрьме существуют два режима: общий и строгий. Когда я попал во Владимирку, порядок был таков: впервые попавший в тюрьму содержится для начала на строгом режиме два месяца; попавший в тюрьму не в первый раз — шесть месяцев (вот Бурову, например, предстояло шесть месяцев строгого режима, а Озерову и мне — по два); потом заключенные переводятся на общий режим, и строгий им полагается за какие-нибудь нарушения. С 1964 года обязательные два или шесть месяцев строгого режима отменены; теперь этот вопрос полностью на усмотрении начальства. Обычно всех заключенных держат на строгом и переводят на общий на полтора-два месяца и только после того, как комиссия из тюремного начальства (с непременным участием врача) решит, что дальнейшее содержание на строгом режиме угрожает жизни заключенного. Подержат некоторое время на общем, очухается человек — и снова его на строгий. И так годами — ведь во Владимирке есть люди с десяти-, пятнадцати-, двадцатипятилетними сроками. Разница между этими режимами для человека, не испытавшего их на себе, может показаться ничтожной, для заключенного она огромна. На общем режиме есть радио, на строгом — нет; на строгом окно с намордником, на общем — нет; на общем прогулка по часу каждый день, на строгом — полчаса в день, в воскресенье прогулки нет; на общем есть еще свидание раз в год — на тридцать минут.
Голод
А самое существенное — разница в питании. Вот что получает заключенный на общем тюремном режиме: 500 г черного хлеба в день, 15 г сахару — его обычно выдают сразу на пять дней — 75 г; на завтрак — 7–8 штук тухлых килек, миску «супа» (350 г), такого, как дали в первый день, и кружку кипятку — можно выпить «чай» с сахаром; обед из двух блюд — на первое граммов 350 щей (вода с гнилой капустой, иногда попадается крохотный кусочек картошки), на второе — граммов 100–150 жиденькой каши, чаще пшенной, очень редко овсяной; на ужин 100–150 г картофельного пюре — снова такое жиденькое, и так мало его, что посмотришь в миску, а в ней на дне тоненьким блинчиком расползся твой ужин и дно просвечивает. Очень, очень редко вместо пюре на ужин дают так называемый винегрет: та же гнилая квашеная капуста, изредка попадается кусочек гнилого соленого помидора. Но и этот силос заключенные считают лакомством. Говорят, что на общем режиме полагается класть в пищу по нескольку граммов какого-то жира. Может, это и так, но заметить этот жир в щах или каше мне не удалось ни разу.
На строгом режиме паек и того скуднее: ни сахара, ни жиров не полагается вообще ни грамма; хлеба черного 400 г, на завтрак только килька и кипяток; обед — одни щи, без второго; ужин такой же, как и на общем.
Еще в паек входит пачка махорки (50 г) на шесть дней. Причем заключенный на общем режиме может пользоваться ларьком. До 15 ноября 1961 года разрешалось тратить три рубля в месяц на ларек, после 15 ноября эту сумму уменьшили, теперь можно только два рубля пятьдесят копеек. И можно получить раз в году одну посылку, не более 5 кг — пять килограммов продуктов в год!
На строгом режиме не полагается никаких дополнительных продуктов — ни в посылке, ни в ларьке; только то тюремное питание, которое я описал. В ларьке можно купить только зубную щетку и зубной порошок, больше ничего.
Но о тюремном ларьке надо рассказать особо. Он бывает дважды в месяц — раз в пятнадцать дней. За несколько дней до этого заключенные начинают гадать — когда? В обед надзиратель через кормушку подаст список продуктов, которые можно купить, и бланки для каждого заключенного. После обеда он собирает заполненные бланки — кто что хочет купить, и продукты могут принести или в тот же день вечером, или на следующий утром. Все напряженно ждут этого момента. Вернее, ждут и обсуждают не все: один лишен ларька, другой имеет право купить, да у него нет денег — некому прислать; мог бы сосед написать своим родным, прислали бы денег товарищу — два с полтиной в месяц никого не разорят, да ведь письма проверяет цензура, не пропустят такую просьбу. Итак, одни с нетерпением, другие с грустью ждут дня, когда можно заказать продукты. Что купить, как распорядиться этой суммой в один рубль двадцать пять копеек? Я имею право купить до двух килограммов хлеба (с 1961 года — только черного), до 200 г маргарина, до 200 г колбасы, до 200 г сыра… Масло, сахар — это в ларьке запрещено. Но разрешенной суммы не хватит, чтобы купить то, на что я имею право, тем более что колбаса и сыр только дорогие по три рубля — три рубля сорок копеек. Кроме того, нужны мыло, зубной порошок, носки, конверты. Так что приходится брать колбасы, сыра, маргарина даже меньше, чем разрешено (от хлеба никто не откажется — он стоит дешево, и им можно хоть раз наесться досыта). А тем, кто курит, и того хуже: почти все деньги уходят на курево. В тюрьмах курят много, пачки махорки хватает от силы на два дня; а в ларьке махорки нет, только папиросы: «Беломор», по двадцать две копейки пачка, «Север» — четырнадцать копеек. Пачки на день еле-еле хватит, значит, в дополнение к махорке надо бы еще двадцать пачек в месяц — двух с полтиной не хватит…
Но вот принесли заказанные продукты. Изголодавшиеся за две недели люди набрасываются на них и съедают все за каких-нибудь два-три часа — и два кило хлеба, и маргарин, и сыр, и колбасу — что там купили. Далеко не у всех хватает выдержки растянуть удовольствие на два-три дня; и снова на голодном пайке две недели — чтобы потом набить себе желудок двумя килограммами зараз.
Я тоже решил наесться досыта; съел буханку хлеба сразу, мне стало очень плохо, поднялась изжога, замутило, но сытым все равно я себя не почувствовал, глазами ел бы еще и еще.
Очень скоро у заключенных в тюрьме начинаются желудочные болезни, катары, колиты, язвы. От неподвижности — геморрой, болезни сердца. От всего вместе — нервные болезни. В тюрьме нет ни одного здорового человека, разве что новички, да и те ненадолго. Во всяком случае, среди тех, с кем меня сталкивала судьба и начальство с 1961 по 1963 год, не было ни одного здорового.
Нет, невозможно передать, что это такое, эта пытка голодом. Кто сам не пережил ее, тот вряд ли поймет.
…Наступает утро. Задолго до подъема уже никто из нас пятерых не спит. Все ждут подъема, а вслед за ним — хлеба. Только прогудел подъем — встаем. Наиболее нетерпеливые расхаживают по камере: два шага вперед, столько же назад. Всем ходить невозможно — нет места, поэтому остальные сидят. Ждут сидя. Вот прошла оправка. Открывают кормушку, в нее заглядывает раздатчик — сверяет для верности наличие со списком. Вся камера уже у кормушки — скорей бы, скорей!
Начинают подавать пайки. Один заключенный взял поскорее пайку и отошел, другой караулит у кормушки пайку побольше, пытается на глаз определить и выбрать кусок побольше, ревниво сравнивает свой кусок с куском соседа — как будто эти десять граммов спасут его от голода! Дальше один несет свой хлеб в «буфет», в свою ячейку. Другой старательно и аккуратно разламывает его на три части: к завтраку, обеду и ужину. Все крошки при этом тщательно подбирает — и в рот. Третий не выдерживает и съедает всю пайку тут же, у кормушки, еще до завтрака. И как же он потом смотрит весь день на своих более терпеливых сокамерников, когда они обедают и ужинают с хлебом!
А каково весь день испытывать мучительный голод, зная, что в твоей ячейке лежит твой хлеб, оставленный на обед и на ужин! Помнишь про этот хлеб весь день до ужина, пока хоть кусочек еще есть. Как тебя тянет к нему! Как хочется достать его и съесть! Иногда не выдерживаешь, подходишь к ящику, отламываешь крохотный кусочек корочки — положишь его на язык или за щеку и сосешь, стараясь протянуть подольше, сосешь, как ребенок конфету, только этот кусочек хлеба еще слаще. Но вот корочка кончилась — и как тебя опять тянет к хлебу!
Вот так и идет день за днем. Ложишься спать и думаешь: скорее бы ночь прошла да хлеба дали. Встал, дождался хлеба, баланды, еще пьешь ее, а уже думаешь: скорей бы обед, торопишь вечер, скорей бы ужин. Вытирая корочкой (если есть) со дна миски следы картофельного пюре, мечтаешь — скорей бы отбой, а за ним утро, свою пайку получишь… Свой счет времени, свой календарь у зэка в тюрьме: хлеб — завтрак — обед — ужин, и снова хлеб — завтрак — обед — ужин, день за днем, месяц за месяцем, год за годом.
От заключенных в камере требуется большая выдержка, большая моральная сила, чтобы в таких нечеловеческих условиях сохранить себя, свое человеческое достоинство, чтобы сохранить человеческие отношения между собой.
Просидишь в одной камере несколько месяцев, и тебя начинает все раздражать в соседе: и как он встал, и как сел, и как ходит, и как ест, и как спит. А ты, в свою очередь, раздражаешь его. Даже при внешне мирных отношениях нервы у каждого натянуты до предела, держишься только тем, что не позволяешь себе распускаться, срывать свою злость на соседе. А уж что делается в камерах у бытовиков, уголовников, где собраны люди, не привыкшие сдерживать себя! Скандалы, истерики, драки — и кончаются они, конечно, карцером для всех, и правых, и виноватых. Но и в камерах для политических случаются скандалы и даже драки: люди-то разные, немало случайно осужденных за «политику», нервы у них расшатаны, а обстановка такая, что может вывести из себя самого спокойного и уравновешенного человека. Уединиться некуда, разве что в карцер.
Зимой чаще всего возникают ссоры из-за форточки. Дело в том, что форточку разрешено открывать в любое время (с шести утра до десяти вечера, конечно), чтобы проветрить камеру. А зимой в камере зверски холодно, но при этом не выветриваются вонь от параши и от плохо вымытых людских тел, дым махорки — хоть топор вешай. И вот кто-то из пяти сокамерников предпочитает мерзнуть, но подышать свежим воздухом. Другие не в состоянии перенести холод — они истощены, у них и без форточки зуб на зуб не попадает. Есть и старики, и больные, которых знобит. Вот и повод для ссоры, для скандала — и неизменно итог спору подводит карцер.
Еще чаще возникают скандалы из-за пищи. Подумать только, ведь в камере обычно часть заключенных на общем режиме, а часть — на «строгой норме питания» (это один из видов наказания — условия общие, а паек как на строгом режиме); у некоторых есть ларек, у других нет; одним разрешены посылки, другим нет. Нелегко и тем и другим. Тем, кто без посылок, без ларька, — как смотреть голодными глазами на соседа, получившего посылку? Или на купившего в ларьке буханку хлеба? Или хотя бы на получившего пятидневный паек сахара — 75 г? А тому, у кого продуктов чуть-чуть побольше, чем у соседа, — как ему быть? Поделиться голодному с еще более голодным? Не обращать внимания и есть свое, зная, что у товарища при этом голодные спазмы?
Не у всякого заключенного хватает силы поделиться посылкой или ларьком с сокамерниками. Но, по-моему, есть и видеть их голодные, измученные глаза — еще труднее, еще невыносимее. Поэтому некоторые заключенные, получив посылку, съедают свои продукты тайком, чтобы другие не видели, иногда ночью под одеялом. Конечно, на воле каждый осудит такого — как это не поделиться с голодным товарищем?! Но я не уверен, что тот, кто сегодня осуждает этого заключенного, после полугода строгого тюремного режима не хранил бы свой сахар у себя под подушкой и не вытаскивал бы ночью из пачки по кусочку — тихонько, так, чтобы никто не услышал и не позавидовал бы. А сколько людей, никогда не только не бравших, но и не глядевших на чужое, становятся ворами — крадут из ящика продукты соседа! Голод для него оказывается непосильным испытанием. Дойдя до этой — последней — степени падения, человек уже вообще готов на все; начальство обычно знает таких подонков и использует их в своих целях — хотя бы для того, чтобы внести раздор в «мирную» камеру. Подсадят одного такого — и начинается: у одного хлеба меньше осталось, другой сахара недосчитался — кто взял? Все друг на друга начинают смотреть с подозрением. А начальству только того и надо — есть повод раздавать наказания направо и налево, да и вообще люди выведены из равновесия, таких, если надо, ничего не стоит вызвать на «проступок», на «нарушение».
Иван-мордвин
Наша 54-я камера была «спокойной» — старались не отравлять друг другу и без того скверную жизнь. К декабрю 1961 года нас в камере осталось четверо (пятого перевели куда-то еще раньше): Толя Озеров, Николай Королев, «террорист», Николай Шорохов — кажется, заработавший «политику» в бытовом лагере, и я. Где-то в середине декабря в нашу камеру посадили пятого, Ивана-мордвина. Я не помню ни его фамилии, ни за что он сидел; Иван-мордвин — так его все называли. И вот он, не таясь, рассказывает, как он попал в нашу камеру. Оказывается, он раньше сидел в соседней. Вместе с ним сидел Олег Данилкин — «религиозник» (я позже сидел с Олегом несколько месяцев в одной камере). Так вот, Олег получил от сестры из Москвы посылку — положенные пять килограммов продуктов. Он угостил всех сокамерников, в том числе и Ивана, а пятисотграммовую пачку сахара отложил: приближался какой-то религиозный праздник, и он хотел сохранить сахар для всей камеры до праздника, чтобы всем вместе попить чай с сахаром в праздничный день. Сахар лежал не в ящике, а наверху. Иван не мог совладать с собой — ведь вот рядом, протяни только руку, лежит сахар, целых полкило. Днем, у всех на глазах, его, конечно, не возьмешь. А ночью встанешь по нужде к параше — все спят, а сахар лежит. Иван не выдержал соблазна, взял раз, другой, а дальше уже вошло в систему: встанет будто бы по нужде, прислушается — если все тихо, все спят, он поскорее к ящику, возьмет несколько кусочков, закроет пачку, как была, — и на место. А если кто заворочается, просыпаясь, Иван идет прямо к своей койке — ляжет и ждет, пока все уснут, а потом снова поднимается. Что сахар убывал, этого пока никто не знал; лежит пачка и лежит, а сколько в ней кусков, хозяин не проверял — зачем лишний раз дразнить себя.
Так Иван-мордвин таскал сахар, пока кто-то из сокамерников не прихватил его прямо у «буфета». Иван заорал на весь корпус, будто его резали, — он нам объяснял, что кричал нарочно, чтобы поскорее прибежали надзиратели, пока его не избили. Надзиратели, действительно, прибежали до драки и, расспросив, в чем дело, вывели его с вещами (значит, насовсем) сначала в «тройник», где в это время никого не было. Потом с ним беседовал начальник корпуса. Иван ему во всем признался — и что воровал, и зачем поднял крик. Его никак не наказали, а перевели в нашу камеру. Рассказывал обо всем этом Иван не стыдясь, а как будто хвастаясь: вот, мол, какой я ловкий, вот какой я хитрый, украл — и вышел сухим из воды.
То ли он на самом деле не понимал низости своего поступка и ждал нашего восхищения, то ли откровенным рассказом старался вызвать наше доверие. Ни восхищения, ни доверия он, конечно, не дождался. Мы презирали его, старались с ним не разговаривать. А вскоре и в нашей камере произошла подобная история.
Мы как раз отсидели положенные два месяца на строгом режиме, и нас всех только недавно перевели на общий. Сняли с окон намордник, увеличили прогулку. Ждем разрешенных посылок. Первым получил посылку от матери Коля Королев: два с половиной килограмма сахара — пять пачек, еще продукты и домашнее печенье, мать сама пекла. Королев разделил посылку на всех, но себе оставил побольше: это была для него не только еда, а материнская забота — а Коля мать очень любил, из-за нее и сел. Мы все это хорошо понимали. Иван съел свою долю сразу и все 500 г сахара тоже. Мы, все остальные, не сговариваясь, решили протянуть продукты подольше. Я, например, решил брать в день по четыре кусочка сахара, не больше, два утром и два вечером, чтобы два раза в день пить не пустой кипяток, а сладкий чай (вообще-то я люблю чай послаще, мне двух кусочков на кружку мало, но тут приходится экономить, не баловать себя).
А назавтра вечером, перед самым отбоем, Николай все свои продукты, оставшиеся от посылки, собрал в наволочку и спрятал на ночь под голову. Мы все молча переглянулись. И мне, и другим, наверное, всем стало не по себе, стыдно как-то друг перед другом. Как будто каждого подозревали в какой-то подлости. Я не спал всю ночь, все никак не мог успокоиться. Ведь никто не заставлял Кольку делиться посылкой, зачем же он теперь прячет свое добро от нас, как будто боится за него, не доверяет нам?! Только под утро меня сморило и я задремал. Не успел уснуть покрепче — подъем, пришлось вставать, чтобы не угодить в карцер, не попасть снова на строгий режим. Поднялись все, заправили койки, ждем оправки и пайки. Иван в нетерпении бегает взад-вперед по камере. Озеров и Шорохов сидят на заправленных койках, обхватив колени руками, натянув бушлаты на голову, — так лучше подремывать, делаешь себе темноту и кимаришь, пока надзиратель не придет, — видно, они тоже плохо спали ночь. Королев читает какую-то книжку с крупным шрифтом. Я тоже взял в руки книгу, смотрю в нее, но читать не могу, до того мне стало неприятно в камере. Ни на кого смотреть не могу — и стыдно, и противно.
По коридору бегают надзиратели, гремят ключами, заглядывают в глазок:
— Не спать, не спать, в карцер захотели? — это Озерову и Шорохову, больше для порядка (ведь они дремлют сидя, а не лежа).
Наконец стук в дверь: «На оправку!» Встаем, снимаем телогрейки, бушлаты — как бы ни было холодно, на оправку запрещено идти в верхней одежде. Сегодня дежурит Шорохов, ему выносить парашу. Но параша тяжелая, одному, да еще после двух месяцев голодовки на строгом, не под силу. Обычно несут парашу на пару, кто-нибудь помогает дежурному. На этот раз потащили мы вдвоем, Шорохов и я. На оправке, как обычно, стук в дверь, крики надзирателей:
— Давай, давай, не задерживай, вы здесь не одни, забыли, где находитесь? — все в таком духе. Возвращаемся с оправки по коридору — в дальнем от нас конце уже бегают раздатчики, старик-кипятильщик (заключенный) разносит кипяток по камерам. Только заперли за нами камеру — открывается кормушка:
— Давайте чайник под кипяток! — Подали пустой чайник, получили свои пайки и чайник с кипятком. Кипяток зимой ждешь с большим нетерпением, чем баланду: он горячий, им хоть на полчаса согреешься; а баланда — та же вода, только еле теплая. Стали пить чай. С сахаром — ведь у каждого (кроме Ивана-мордвина) почти полкило из королевской посылки. Я достал два кусочка из своей пачки, сижу и греюсь чаем, ни на кого не смотрю — все еще не могу прийти в себя после вчерашнего. Я не видел, как Шорохов брал свой сахар и как он оказался рядом с Иваном. Опомнился только, когда Шорохов со всего размаху ударил Ивана по лицу. Иван вскочил, они сцепились. Шорохов оказался сильнее (хотя на вид он был более щуплый, чем Иван) или, может, злее; он разбил Ивану губы, зубы, раскровянил все лицо. Во все время драки мы, остальные, вскочив с мест, стояли молча и не вмешивались: мы еще не поняли, кто кого бьет и за что бьет. Не следует только представлять себе эту сцену подобной всем знакомой уличной драке. У заключенных, просидевших какое-то время в тюрьме, да еще на строгом, нет сил ни чтобы ударить сильно противника, ни чтобы устоять на ногах после слабого толчка. Они вцепляются пальцами друг другу в лицо и боятся даже оторваться — а то упадут. Стоят, раскачиваясь от слабости, и только пытаются пальцами разодрать физиономии… Жалкая, унизительная картина!
Очнулись все, только когда открылась дверь и в камеру ворвались надзиратели. Драка сразу прекратилась. Надзиратели вышли, сказали, что будут вызваны оба — и Шорохов, и Иван-мордвин.
Потом, после баланды, Шорохов объяснил нам, в чем дело. Оказывается, он, когда брал себе сахар, обнаружил, что в пачке нет и половины того, что было вчера. Он сразу подумал на Ивана — никого из нас троих он заподозрить не мог. Иван не оправдывался, молча сидел на своей койке. Погодя немного Королев сказал, что у него в первую же ночь после получения посылки пропала половина продуктов и сахара; вот он и решил на другую ночь все спрятать под подушку, чтоб не украли последнее. Озеров сказал, что тоже обнаружил пропажу нескольких кусков сахара. Мне тоже хотелось посмотреть свою пачку, но я отложил это до вечера — мне почему-то неловко показалось проверять сейчас. Вечером, доставая сахар к чаю, я незаметно пересчитал сахар в верхнем слое — не хватало кусочков семи. (Это ведь легко проверить: у зэка каждый кусочек сахара на учете, он помнит, сколько съел вчера, позавчера, даже неделю назад, а сколько слоев в пачке, сколько рядов в каждом слое, сколько кусочков в ряду — это все подсчитано заранее и заранее распределено.) Так вот я недосчитался семи кусочков. Прикинул еще раз, сколько брал кусочков позавчера, сколько вчера да сколько сегодня утром, — семи не хватает. На столько я не мог обсчитаться — ну, на два, на три, но не на семь. Как же я этого не замечал? Ну, да я ведь доставал сахар, не снимая пачку, и мне не приходило в голову его пересчитывать.
Я так никому и не сказал, что и у меня недостача; чего-то было стыдно, что ли. Но обидно было до смерти: ведь это почти два дня чая с сахаром…
В этот же день начальник корпуса вызвал обоих — и Шорохова, и Ивана-мордвина. Иван отделался внушением, а Шорохова перевели на строгую норму питания, оставив в нашей камере. Зато через несколько дней без всяких причин от нас забрали Озерова, а на его место перевели парня из соседней камеры, Андрея Новожицкого.
Андрей сидел за измену родине: он служил в танковых частях в Восточной Германии, ушел в Западную, прожил там около года и, стосковавшись по родине, решил вернуться. Его там, на Западе, не отговаривали от возвращения, но предупредили, что его ждет в России лагерь. Он не поверил, подумал, что это буржуазная пропаганда. Вернулся — и сразу в лагерь (заочно он уже был приговорен к десяти годам). Это обычная история, я встречал в лагере многих возвратившихся на родину — и не только бывших военнослужащих. А во Владимирскую тюрьму Новожицкий угодил из лагеря за невыполнение нормы.
Голодовка
Через несколько дней после перевода в нашу камеру Андрей Новожицкий объявил голодовку — очевидно, эту мысль он обдумал давно. Он написал заявление, в котором нагромоздил кучу причин, побудивших его объявить голодовку: протест против того, что его судили закрытым судом; что ему не выдали на руки приговора; что за невыполнение нормы его посадили в тюрьму, но он не в состоянии был выполнить норму; протест против нечеловеческих условий содержания политзаключенных во Владимирской тюрьме… Через несколько дней после Новожицкого объявил голодовку Шорохов. В своем заявлении, адресованном в ЦК КПСС и в Президиум Верховного Совета СССР, он также протестовал против закрытого суда, несправедливого и необоснованного приговора, текст которого он, как почти и все мы, в глаза не видел, и против голода в тюрьме.
У нас в камере стало двое голодающих. Их оставили вместе с нами, в той же камере, хотя это и против правил: голодающих полагается изолировать. Тюремное начальство всегда нарушает это правило — поголодай-ка в общей камере, глядя, как твои соседи получают баланду, жуют хлеб! Некоторые не выдерживают — ведь это настоящая пытка! — и снимают голодовку через три-четыре дня. Я сам пережил эту пытку, я еще расскажу когда-нибудь о своей многодневной голодовке в карагандинских лагерях.
У голодающих одно «преимущество»: они могут лежать целыми днями на койках, не поднимаясь. Теперь дежурный по камере во время утренней проверки к обычному рапорту — «Гражданин начальник, в камере № 54 пять заключенных» — добавляет: «Двое голодающих». Первые пять-шесть дней после заявления на них никто не обращает никакого внимания. Зайдет на четвертый-пятый день офицер, спросит: «Голодаешь? Ну и хрен с тобой!» или еще посочнее, позабористее. Заглянет в глазок надзиратель, увидит, что двое лежат на койках, — застучит ключом в дверь:
— Встать! В карцер захотели, мать вашу перемать?! — но, видя, что эти двое не поднимаются, лежат не шевелясь, вспомнит, что это голодающие, и отойдет от двери, поминая матушку. А другой не сообразит сразу, в чем дело, — упомни-ка всех, когда чуть не в каждой камере таких по одному, по два, — отопрет дверь — и к койкам. Только тут опомнится; да еще кто-нибудь в камере съязвит:
— Подними его, подними, в карцер его, чего это он полеживает, как баран! — Надзиратель уходит, чертыхаясь, а языкатому пригрозит карцером (за «пререкания с надзирателем»). Бывает, что и посадит, обозлившись.
С пятого-шестого дня на утренних проверках кто-нибудь из надзирателей подходит к койке голодающего, откидывает с лица одеяло, проверяет: жив ли? и заодно: не наколол ли чего на лбу?
Люди в одной камере с голодающими обозлены, взвинчены до последней степени. Безразличие, даже злорадство начальства выводит из себя. И до правил никому нет никакого дела, и на наши протесты все чихать хотели! Просто невозможно есть свою пайку на глазах у товарищей, которые держат голодовку. У меня было такое ощущение, как будто я виноват, что не могу им помочь. Мы тоже старались проглотить свою еду поскорее, незаметнее…
Новожицкий и Шорохов сами отворачивались к стенке во время завтрака, обеда и ужина. Они не брали в рот ни крошки все эти дни. Иногда только попросят попить; поднесешь кружку воды — отопьют несколько глотков и снова отворачиваются к стенке. Другой раз кто-нибудь из нас не выдержит и начнет уговаривать Андрея или Николая: мол, возьми кусок от пайки, съешь потихоньку; один черт — из камеры не уберут раньше, чем на десятый день; ну хоть крошечку, надзиратель не узнает. Новожицкий обычно вежливо отказывался. Шорохов крыл такого добренького почем зря. И правда, чего вязаться, человеку и так трудно.
Каждый день в камеру приносят хлеб и баланду на всех пятерых. Дежурный обязан спросить у голодающего, берет ли он сегодня свою пайку. После отказа он должен вернуть ее надзирателю. Таким образом, голодающему приходится трижды в день отказываться от пищи. Дежурному тоже тошно принимать участие в таком мучительстве. Новожицкий и Шорохов заранее договорились с нами, чтобы каждый из нас в свое дежурство отдавал их пайки и миски, не задавая никаких вопросов. Мы, конечно, согласились — это была единственная услуга, какую мы могли им оказать. Так всегда поступают, и на это идут даже уголовники, хотя дежурный рискует тем, что его накажут, если узнают.
Андрей и Николай страшно мерзли, хотя и лежали на койках, укрывшись одеялами с головой. Ведь даже нам, получавшим какую-никакую еду, расхаживающим по камере в бушлатах или телогрейках, удавалось согреться на несколько минут только дважды в день — утром и вечером, когда приносили кипяток. В камере было так холодно, что чайник с кипятком, оставленный на полу, остывал через четверть часа. А тут люди совсем без пищи и даже без кипятка — они ни разу не выпили горячего. И к тому же оба после нескольких лет недоедания в лагере, только что после настоящего голода на строгом тюремном режиме; да у них в теле не сохранилось ни капли запасов, какие есть у человека в нормальных условиях. С первого дня голодовки такой истощенный организм начинает пожирать себя сам.
Андрей перестал подниматься с койки на четвертый день; на десятый он уже не разговаривал. Николай мог встать на ноги еще на восьмые сутки после начала голодовки. Разговаривал он, хотя с трудом, до последнего дня, пока его от нас не забрали. За все время, что они были в нашей камере, к ним ни разу не заглянул врач.
Сестра, как обычно, каждый день — кроме воскресений — подходила к кормушке, задавала свой обычный вопрос: «Есть ли больные?» — и, не взглянув на голодающих, переходила к кормушке следующей камеры.
Мы трое чуть ли не каждый день писали жалобы, что голодающих не переводят в отдельную камеру, а держат вместе с нами. Когда к нам заходил кто-нибудь из офицеров, мы заявляли протест. Ответ был всегда один:
— Администрации виднее, кого где держать. Пока что мы здесь командуем, а не вы.
На одиннадцатый день после того, как Новожицкий объявил голодовку, ближе к вечеру, в камеру вошли несколько надзирателей. Дежурный доложил, что положено. Надзиратели подошли к Ново-жицкому, подняли одеяло. Он, неподвижный, лежал на постели — в куртке, в брюках, в ботинках, и лицо у него было как у покойника. Надзиратели осмотрели его и убедились, что он еще жив. Тогда старший велел кому-нибудь из нас собрать его имущество и вывести его из камеры. Я взял кружку, миску, ложку Андрея, и мы вдвоем с Королевым подошли к нему, чтобы помочь ему выйти. Сам он не мог встать, мы подняли его и повели в коридор. Даже мы, истощенные и ослабевшие до того, что вдвоем с трудом выносили парашу, не чувствовали его веса. Это был живой скелет, одетый в форменную одежду зэка. Впереди нас по коридору шел надзиратель. Он вошел в пустую камеру, мы за ним. Он велел нам посадить Андрея на голую койку. Андрей стал заваливаться на сторону, пока не привалился плечом к стене. Я задержался возле него, мне было страшно оставлять его, полуживого, в пустой камере. Но надзиратель отогнал меня:
— Пошел, пошел! Ничего с ним не сделается. Никто его голодом не морил, сам есть не захотел.
Я не выдержал и огрызнулся: «Ну, конечно, разве мы здесь не досыта едим?»
— У тебя-то, наверное, пайка слишком велика, грамм на сто больше, чем нужно, — ответил он. Я понял угрозу и замолчал.
Надзиратель запер Андрея и повел нас в нашу камеру. В ней тем временем надзиратели обыскали вещи Андрея и вели политбеседу с Шороховым: мол, все равно голодовка ни к чему не приведет, пусть снимает ее, а не то сам себя гробит… Нам велели отнести вещи Андрея в его камеру. Мы с Королевым потащили постель Андрея, и, право же, матрац был в несколько раз тяжелее, чем он сам. Андрея мы застали в той же позе, в какой оставили: он полулежал, привалясь лицом к стене. Надзиратель велел Королеву разложить постель на пустой койке. А мне приказал поднять Андрея и держать под мышки, чтобы он не упал. И вот — обвисшее на моих руках тело он стал обыскивать.
Потом мы положили Андрея на постель, укрыли его одеялом, а поверх бушлатом и вышли. Надзиратель запер камеру.
Хотя мы слышали раньше от других заключенных, что голодающих держат в общей камере суток десять-одиннадцать, но все-таки не могли поверить, что такое издевательство обычно, что это — норма. Теперь мы сами в этом убедились. И Шорохов, голодавший седьмые или восьмые сутки, теперь знал, какая пытка ждет его в ближайшие четыре-пять дней. Он все-таки не снял голодовку, и на двенадцатые сутки его от нас забрали. Собирали и уводили его Королев и Иван-мордвин. Николай выглядел немного бодрее, чем Андрей, хотя продержался дольше на сутки и к тому же в последнее время перед голодовкой был на строгой норме питания из-за драки с Иваном.
Шорохова я больше никогда не встречал и ничего не слышал о нем. А Новожицкого через неделю снова привели в нашу камеру. Описать, как он выглядел, просто невозможно. Он снял голодовку: голодай, не голодай, а все равно не добьешься того, чтобы кто-нибудь из властей хотя бы обратил внимание на твою жалобу, хотя бы занялся проверкой… Умереть не дадут: в тот день, когда Андрея забрали от нас, его начали кормить искусственно — я уже рассказывал, что это за процедура. До этого и мы, и наши голодающие Шорохов и Новожицкий все время требовали, чтобы их перевели из общей камеры, как это предусмотрено инструкцией; мы все думали, что это избавит голодающих от лишних мучений. Оказалось, что помещение в отдельную камеру служит только для продолжения издевательств. Искусственное питание превращено в пытку, ежедневную, вернее, ежевечернюю. При этом я по своему опыту могу сказать: чувство голода не исчезает, даже не уменьшается; появляется только тяжесть в желудке, как будто тебе внутрь положили какой-то посторонний предмет. Зато изобретено дополнительное истязание — Новожицкий рассказал о нем.
Каждое утро надзиратели вносят в камеру пайку хлеба и миску баланды и ставят на табурет около самого изголовья. Поставят и уходят, а завтрак полдня стоит перед глазами голодающего. В обед переменят миску — и до вечера. Утром меняют пайку, спрашивают: «Сегодня пайку берешь?» — «Завтрак брать будешь?» — «Ужин брать будешь?» И так три раза в день; мы-то хоть от этого ритуала избавляли своих товарищей.
Однажды к Новожицкому в камеру вошел начальник корпуса:
— Голодаешь? Напрасно! Жалобы писать можно и без голодовки. Жалуйтесь, пишите, мы вас этого права не лишаем…
— Куда, кому на вас, зверей, жаловаться?!
— Мы не звери, мы действуем строго по инструкции; если вам кажется, что мы нарушаем инструкцию, — жалуйтесь, ваше право…
Новожицкий, конечно, получил стандартные ответы на свои протесты — несмотря на то что его протесты были подкреплены голодовкой: «Осужден правильно… Относительно условий содержания в тюрьме — жалоба направлена для рассмотрения на месте». Действительно задумаешься: стоит ли ради таких ответов голодать?! И все-таки самый факт, что хоть что-то ответили, вселяет в некоторых жалобщиков-новичков надежду; они снимают голодовку и ждут от местного начальства разбора «по справедливости». Тем сильнее отчаяние, когда какой-нибудь тюремный офицер сообщает им, что то, что они считали бесчеловечностью, жестокостью, оказывается, «соответствует инструкции»; и это обычно говорится в издевательской форме, с язвительными комментариями. Часто после такого окончательного ответа заключенный, еще не успевший прийти в себя после первой голодовки, объявляет вторую или делает с собой что-нибудь, продиктованное отчаянием.
«Членовредители»
Вот одна из многих историй — от других она отличается разве что изобретательностью. Она произошла на моих глазах весной 1963 года. Один из моих сокамерников, Сергей К., доведенный до совершенного отчаяния безнадежностью любых протестов против голода, произвола, несправедливости, решил во что бы то ни стало изувечить себя. Он подобрал где-то кусочек проволоки, сделал из нее крючок и привязал к нему леску (сплел ее из ниток, распустив свои носки). Еще раньше он принес два гвоздя и прятал их в кармане от обысков. Один гвоздь, поменьше, он вдавил миской в кормушку — вдавил тихо-тихо, стараясь не звякнуть, чтобы не услышали надзиратели. К этому гвоздю он привязал леску с крючком. Мы, остальные заключенные в камере, молча наблюдали за ним — не знаю, кто и какие чувства при этом испытывал, но вмешиваться, я уже говорил, не полагается, каждый вправе распорядиться собой и своей жизнью, как он хочет.
Сергей подошел к столу, разделся догола, сел на одну из скамеек у стола — и проглотил свой крючок. Теперь, если надзиратели начнут открывать дверь или кормушку, они потянут Сергея, как пескаря из пруда. Но этого ему было мало: дернут, он поневоле подастся к двери, и можно будет перерезать леску через щель у кормушки. Для верности Сергей взял второй гвоздь и стал приколачивать свою мошонку к скамье, на которой сидел. Теперь он бил по гвоздю громко, не заботясь о тишине. Видно было, что весь свой план он обдумал заранее, все рассчитал и высчитал, что успеет забить этот гвоздь раньше, чем прибежит надзиратель. И он, действительно, успел вбить его по самую шляпку.
На стук и звяк явился надзиратель, отодвинул заслонку у глазка, заглянул в камеру. Он, наверное, сначала понял только одно: у зэка гвоздь, зэк забивает гвоздь! И первое его побуждение, видимо, было — отнять! Он начал отпирать дверь камеры. Тогда Сергей громко объяснил ему, как обстоит дело. Надзиратель растерялся. Скоро у нашей двери собралась кучка надзирателей. Они то и дело заглядывали в глазок, кричали, чтобы Сергей оборвал леску. Потом, убедившись, что он не собирается этого делать, надзиратели потребовали, чтобы леску оборвал кто-нибудь из нас. Мы сидели на своих койках, не поднимаясь; иногда только кто-нибудь отругивался в ответ на требования и угрозы. Но вот подошло время обеда, по коридору — было слышно — забегали раздатчики, в соседних камерах открывались кормушки, звякали миски. Один парень из нашей камеры не выдержал — того и гляди, останешься без обеда — оборвал веревочку у кормушки. Надзиратели ворвались в камеру. Они засуетились вокруг Сергея, но ничего не могли поделать: гвоздь глубоко засел в скамейке, а Сергей так и сидел в чем мать родила, пригвожденный за мошонку. Кто-то из надзирателей побежал выяснять у начальства, что с ним делать. Он вернулся, и нам всем приказали собираться с вещами — перевели в другую камеру.
Я не знаю, что потом было с Сергеем К. Наверное, попал в тюремную больницу — там полно заключенных «членовредителей»: и со вспоротыми животами, и засыпавших себе глаза стеклянным порошком, и наглотавшихся разных предметов — ложек, зубных щеток, проволоки. Некоторые толкут сахар в пыль и вдыхают, пока не образуется абсцесс легких… Зашитые ниткой раны, пуговицы в два ряда, пришитые к голому телу, — это уж такие мелочи, на которые и внимания никто не обращает.
В тюремной больнице у хирурга богатая практика; чаще всего ему приходится вскрывать желудок, и если бы существовал музей добытых из желудка вещей — это была бы, наверное, самая удивительная коллекция на свете.
Так же часты операции по уничтожению татуировок. Не знаю, как сейчас, а тогда — в 1961–1963 годах — эти операции производились примитивно: просто вырезался лоскут кожи, а края стягивались и сшивались. Я помню одного зэка, которого трижды оперировали таким образом. В первый раз вырезали со лба полоску с обычной для таких случаев надписью «Раб Хрущева». Кожу на лбу стянули грубым швом. Когда зажило, он снова наколол на лбу «Раб СССР». Снова положили в больницу, снова сделали операцию. Кожа у него на лбу была так стянута, что он не мог закрывать глаза, мы его называли «всегдасмотрящим»…
Здесь же, во Владимирке, мне довелось несколько дней просидеть в камере с Субботиным. Это был парень моих лет, педераст. Педерастов во Владимирке было мало, их все знали, они здесь не имели заработка. «Политическую» Субботин получил, находясь в бытовом лагере, за жалобу — не выдержал «хорошего тона». Однажды, после сорока или пятидесяти жалоб, поданных им в Президиум Верховного Совета Брежневу и в ЦК КПСС Хрущеву, он проглотил всю партию домино — двадцать восемь костяшек. Когда мы проходили всей камерой на прогулку по коридору (домино было проглочено перед прогулкой), он похлопал себя по животу и сказал встретившемуся парню из обслуги:
— Валерка, послушай! — Я не знаю, в самом ли деле Валерий услышал стук костяшек домино у Субботина в желудке, но он спросил:
— Что это у тебя там?
— Доми-но, — протянул Субботин.
Врачи Субботина не оперировали. Ему просто велели считать костяшки во время оправки, сказав, что они должны выйти сами. Субботин добросовестно считал их каждый раз и, придя в камеру, на специальном листке отмечал карандашом, сколько вышло. Как старательно он ни считал, но четырех штук недосчитался. После нескольких дней томительного ожидания он махнул на них рукой: если остались в животе, то лишь бы не мешали, а если вышли, то и черт с ними!
«Террорист»
Николаю Королеву было немного за тридцать, а он досиживал уже пятнадцатый год. До своего преступления он жил вместе с матерью в деревне под Тверью. Отец его погиб на фронте. И он, и мать работали в колхозе от зари до зари, жили трудно. Шел 1947 год. Мужчин тогда в деревнях почти что не было, всю работу ворочали женщины да подростки вроде Николая. А те несколько мужиков, которые оставались в деревне, занимали руководящие должности — председатель, бригадиры, учетчики. Они обычно страшно пили, над колхозниками издевались как хотели.
Николай стал замечать, что мать приходит домой заплаканная, плачет дома по ночам. Он спрашивал, что с ней, но она отвечала:
— Да нет, Коля, ничего, просто жизнь собачья…
Но соседка рассказала ему, что бригадир взъелся на его мать, кричит на нее матерно, оскорбляет при всех.
Однажды ехал Николай на быках мимо склада с семенами. Слышит оттуда голос бригадира — крик, ругань, матюки. Он остановил быков — и во двор. Видит, мать, вся в слезах, несчастная, испуганная, стоит, опустив руки, а перед ней верхом на лошади, с хлыстом в руке — бригадир. Орет на нее на чем свет стоит. Николай заступился:
— Не смей оскорблять, пьяная харя!
Бригадир на него:
— Молокосос, заступник нашелся! — и тоже матерно. Наклонился с лошади, схватил за козырек фуражки, хотел, видно, надвинуть ее парню на глаза. Николай увернулся. Бригадир стал теснить его лошадью и, перекинув хлыст из руки в руку, ударил им Николая. Мать кинулась заслонить сына, обхватила его, кричит:
— Изверг! Изверг! Мало, что над бабами измываешься, за наших детей принялся!
Николай вырвался от матери, кинулся к дому, не помня себя, а в ушах его стоял материнский крик. Дома он схватил со стены охотничье ружье, зарядил его и выбежал на улицу. Бригадир ехал по улице — видно, возвращаясь со складов. Николай поднял ружье. Целиться он почти не мог: глаза застлал туман. Он видел только морду лошади, казалось, прямо перед собой, и метил повыше, над нею. Выстрелил, опустил ружье и пошел домой, не глянув даже в ту сторону.
Прибежала мать:
— Коля, Коля, что ж ты наделал?! — Только тут он понял, что убил бригадира.
Он сидел дома и ждал, когда его заберут. Пришли, взяли, посадили в машину, повезли в райцентр, а оттуда в Тверь, в тюрьму. Судили Николая закрытым судом: в зале не было ни души, не вызывали ни одного свидетеля. Убийство колхозного бригадира было расценено как террористический акт. Итак, террор, политическое преступление; приговор — двадцать пять лет. Николаю тогда только-только исполнилось восемнадцать.
Во Владимир Николай, как и я, попал за попытку бежать. Он был на спецу в десятом, подружился там с украинцем «самостийником» Василием Пугачом (у Василия было тоже двадцать пять лет; с двадцатипятилетним сроком сидела где-то в Мордовии и его мать), и они оба приняли участие в групповом подкопе из рабочей зоны. Я знал Василия. Мы с ним вместе ехали этапом во Владимир, нас вместе насильно стригли — тогда и Пугачу остригли его пышные украинские усы. Василий Пугач мне очень понравился, поэтому к его подельнику и другу Королеву я тоже сразу отнесся с симпатией. Николай, действительно, оказался очень хорошим и спокойным парнем, а это так ценно в камере, где все взвинчены, возбуждены до предела. Он получал от матери письма и посылки; я уже рассказал, как он поделился посылкой, — на это способны далеко не все.
Николай попросил меня написать для него жалобу — он сам был полуграмотным. Я-то знал, что это бесполезно, но как будешь отговаривать человека, который сидит уже около пятнадцати лет, а впереди еще десять?.. К тому времени уголовникам двадцатипятилетние сроки заменили на пятнадцать лет — по новому кодексу это максимальный срок. Но изменение сроков заключения не коснулось политических, они еще и сейчас досиживают свои двадцать — двадцать пять лет.
Я написал жалобу, как сумел: что Николай совершил убийство в состоянии крайнего раздражения; что это убийство не может быть расценено как террористический акт, потому что у Николая не было никаких политических целей; что его незаконно судили закрытым судом, незаконно не дают на руки копию приговора. В конце была просьба пересмотреть приговор, переквалифицировать совершенное преступление, рассматривая его как убийство, а не как террор.
Я прочел жалобу вслух. Николай слушал ее вместе со всей камерой. Решили ее адресовать в Президиум Верховного Совета, кажется, Брежневу. Потом Николай поставил свою подпись, а утром отдал жалобу через кормушку надзирателю. Дня через три ему принесли печатный бланк, в котором сообщалось, что жалоба послана в Москву. Он расписался и стал ждать. Ждал все время, пока сидел в нашей камере, а потом, когда его перевели в другую, писал еще и еще. Отправил множество жалоб, просьб о пересмотре. Ответ был один: «Осужден правильно, оснований для пересмотра дела нет».
В 1963 году мне говорили, что он на спецу, добивает девятнадцатый год.
Трудно остаться человеком
Вскоре нашу камеру 54 стали почему-то расселять. Первым вывели Новожицкого. Он был так слаб, что не мог сам нести свои вещи. Мы помогли ему собраться, вынесли его барахло в коридор и простились с ним. (Встретились мы снова только в 1966 году в Мордовии, на одиннадцатом.) Потом увели Королева.
Два дня мы оставались в камере вдвоем — Иван-мордвин и я. Мне это было очень неприятно, я никак не мог забыть кражу сахара. А тут еще Иван вздумал оправдываться передо мной. Я слушал молча, а потом довольно резко оборвал его. Он замолчал, но ненадолго. На другой день с утра он начал новую тему — как ему пришлют посылку. Как сейчас вижу: длинный, худой-худой, в зэковской одежде, руки в карманах, он расхаживает по камере — три шага в одну сторону, три шага в другую — и говорит без умолку. Вот пришлют посылку, а в ней мед, сливочное масло, сахар. Он и мне даст немного. И будет есть… Я понимал, что это голод говорит за него, но не мог подавить свое раздражение: черт возьми, мы оба хлебаем одинаковую баланду, но я сдерживаю себя, а он просто не хочет ни с кем считаться!..
К счастью, в камеру привели новеньких. Сначала старичка-религиозника лет шестидесяти пяти — семидесяти, Павла Ивановича (фамилию я позабыл). Потом азербайджанца Илал-оглы. Это был неразговорчивый человек лет тридцати пяти, маленького роста, черноволосый, смуглый, худой, как и все мы. Я не знаю, за что он сидел: он плохо говорил по-русски. Дня через три привели Бориса Власова, его появление в камере мне особо запомнилось. Загремели ключи, открылась дверь, в камеру вошел в сопровождении надзирателей парень на костылях. Он подошел к койке, постелил, лег, и надзиратели сразу же забрали и унесли его костыли.
Борис Власов был переведен к нам прямо из больницы. Он давно в тюрьме, мучился, мучился, а потом однажды взял и проглотил две ложки — свою и соседа. Того мало — он проглотил, косточку за косточкой, целую партию домино. Его потащили сначала на рентген, а потом на операционный стол. Вскрыли желудок, извлекли все казенное имущество и опять зашили. Еще лежа в больнице, Власов объявил голодовку. Голодал он с месяц, больше не выдержал. Снял голодовку — сразу после этого перерезал себе вену на ноге. Заметили вовремя, перебинтовали и вот перевели из больницы в нашу камеру. Он еще не мог сам ходить, и первое время сестра делала ему перевязки прямо в камере. Через неделю он начал ковылять сам, и его стали водить на перевязки в санчасть — благо она была на нашем этаже, не надо ходить по лестницам.
Власов подружился с Иваном-мордвином. У обоих по пятнадцать, оба давнишние арестанты, у них и идут целыми днями разговоры о лагере да о тюрьмах: вольную-то жизнь уже позабыли, даже во сне не видят. Рассказывал-рассказывал Иван Борису о том о сем, дошел как-то до истории, приключившейся в нашей камере. И вот, слышу — они вслух говорили, не стесняясь, — Иван начинает всякие гадости говорить об Озерове, о Королеве и Шорохове. Наверное, не будь меня здесь, и обо мне говорил бы так же. Другие-то наших прежних сокамерников не знают, слушают Ивана, развесив уши. И на меня поглядывают, что я скажу. Тут у меня вдруг всплыло все раздражение против Ивана, которое накопилось с самого его появления и которому до сих пор мне удавалось не дать выхода. Я резко оборвал Ивана: нечего врать о людях, когда их нет, при них побоялся бы. А он тоже разозлился и в ответ как-то гадко меня обозвал. Я как будто даже обрадовался, размахнулся и съездил его по физиономии — нашел выход злости. Я был так зол, что готов был разорвать его на части. Иван схватил чайник с остатками остывшего кипятка и замахнулся на меня. Я выбил чайник у него из рук, и он брякнулся на цементный пол и покатился. Вода разлилась по всей камере. Мы с Иваном сцепились. Я успел ударить его несколько раз по лицу, и все оно уже было в крови: кровь шла из носа, сочилась из зубов и разбитых губ. Каков был я — не знаю, в ярости я не чувствовал боли. Ударил еще раз — он упал на мою койку. Я отвернулся и отошел, все еще дрожа от злости; сел на койку Павла Ивановича, попытался взять себя в руки. Но тут Иван вскочил и кинулся на меня. Я оттолкнул его, повалил на стол, прижал, сам не помню как. Под руку попалась мне его нога, я схватил ее и крутнул, выворачивая. Иван взвыл. Я нажал еще сильнее. Но тут мне послышался хруст. Это меня моментально отрезвило. Ярости, бешенства как не бывало, стало невыносимо стыдно и жалко Ивана. Я отпустил его, отошел от стола. Неужели это я только что ломал кости человека, чувствуя, как сердце заходится и горло сжимается от злости? Мне стыдно было смотреть на Ивана, на остальных.
В это время открылась дверь и в камеру вбежали надзиратели. Растаскивать было уже некого, они остановились и стали разглядывать камеру и нас всех. Дежурная надзирательница, злобная, маленькая, старая, показывая пальцем на меня и на Ивана, начала объяснять:
— Гляжу в глазок (а она была такая карлица, что и до глазка не доставала, всегда таскала с собой легкую скамеечку; ходит от камеры к камере, ставит скамеечку, взбирается на нее и смотрит в глазок; вредная — в ее дежурство, в особенности если кто приболеет или так задремлет, лечь не смей: углядит непременно и сразу рапорт, а затем в карцер), — гляжу в глазок, а этот на этого чайником… — Почему-то по ее получалось, что это я чайником замахивался; ну да не все ли равно!
Часа через два нас обоих повели к начальнику корпуса.
— Как вас вести, вместе или по одному? — ехидно спросил надзиратель. Дело в том, что, когда начальник распределяет наказания за драку или еще что — лишить ли ларька, перевести ли на строгую норму питания, на строгий режим, — нередко провинившиеся начинают просить, даже плакать, оговаривая друг друга, выгораживая каждый себя. Такие сцены доставляют надзирателям огромное удовольствие. Видимо, и сейчас наш провожатый предвкушал подобный спектакль — если мы попросим вести нас врозь.
— Мне все равно, хоть и вовсе не ходить, — ответил я. — Объявили бы в камере, что мне причитается, так всего лучше.
— И мне все равно, — сказал Иван, немного поколебавшись.
Корпусной майор Цупляк разговаривал у себя в кабинете с надзирателями. Когда нас ввели, он прервал беседу, глянул на нас, на Ивана подольше — видно, вспомнил:
— 54-я? Подходяще разукрасили. Опять чужое съел? Обоих на месяц на строгое питание! Уведите их, давайте из 79-й.
Иван заикнулся было:
— Гражданин начальник…
Но нас обоих вытолкали, повели по коридору — и снова в камеру. На следующее утро мы уже получили по 400 граммов хлеба и завтракали одной килькой, без супа. Меня больше всего мучило, что на штрафном пайке Иван оказался из-за меня. Он к тому же тяжелее других переживал голод. Ему казалось, что он не выдержит месяц на строгом питании. Он решил покончить с собой. Через два дня после нашей драки он достал где-то лезвие и вскрыл себе вены на обеих руках. Это произошло после раздачи хлеба. Иван получил свою штрафную пайку, съел ее, чтобы не пропадала, — а вдруг он умрет или окажется в больнице, так и не съевши свой хлеб? — и чиркнул лезвием по венам. В это время шла раздача завтрака, и надзиратели дольше обычного не заглядывали в глазок. Дали завтрак и в нашу камеру. Иван, у которого из обеих рук било по фонтанчику крови, попросил, чтобы его кильку никто не трогал. Его вырвало только что съеденным хлебом, блевотина перемешалась на полу с кровью. Однако мы, остальные, съели свой завтрак, как обычно, ничего не ощущая, кроме голода. Павел Иванович, обтерев корочкой свою миску, положил остатки хлеба в ящик и начал молиться. Вот разве молился он дольше обычного.
Наконец надзиратель заглянул в глазок и обнаружил случившееся. Он вызвал сестру. Она перетянула руки Ивана жгутом и стала делать перевязку, приговаривая:
— Ну, порезал себя, а зачем? Умер бы — кто бы о тебе доброе слово сказал? Разве вот они, — она кивнула на нас, — и то, если ты человек хороший…
Надзиратели стояли над Иваном, курили, переговаривались. Старший грозился перетрясти всю камеру, если Иван не скажет, чем резался. Тогда Иван сам отдал лезвие, чтобы нас из-за него не мучили лишним обыском.
Перевязка закончилась, сестра и надзиратели ушли. Мы кое-как убрали камеру, вытерли с пола кровь и блевотину. Иван лежал на койке, длинный, худой, еще бледнее, чем всегда, весь в крови. Рукава рубашки закатаны по самые плечи, руки перебинтованы. Наступило время обеда, принесли баланду; Ивану, как и мне, — штрафную норму. Встать он не мог, его миску мы подали ему на койку. Он взял ее своими перебинтованными окровавленными руками, выпил через край, вылизал, потом попросил дать ему его кильку от завтрака. Жадно съел ее без хлеба — хлеб-то он весь, до крошки, съел еще утром.
Глядя на Ивана, я думал: вот лежит человек, который из-за тебя голодал больше, чем обычно; из-за тебя хотел умереть. Если он донимал тебя своей жадностью, разговором о жратве, если дошел до подлости — так разве он виноват в этом? А ты-то сам лучше, что ли? Кинулся на такого же беззащитного и обездоленного, как ты сам! Да если уж ты такой слабый, что не можешь совладать с собой, со своими нервами, — отчего ж ты тогда не съездил по физиономии надзирателю, который издевается над тобой каждый день? Только потому, что за несчастного зэка тебе грозит штрафной паек, самое большое — карцер, а за надзирателя — могут и расстрелять по Указу? Значит, ты уже отравлен страхом, страх руководит твоими действиями…
Я думал о себе самом. Во что меня превратила тюрьма за несколько месяцев! Когда я впервые очутился в камере, мне казалось, что здесь и дня нельзя прожить. Я даже не мог сходить по-легкому в парашу, меня мутило от одной мысли о том, что здесь же придется есть и спать, что здесь едят, и спят, и оправляются другие заключенные… А сегодня я жадно съедаю свою кильку среди крови и блевотины, и мне кажется, что нет ничего вкуснее этой кильки. Человек истекает кровью на моих глазах, а я досуха вылизываю свою миску и думаю только о том, чтобы поскорее опять принесли поесть.
Осталось ли во мне, во всех нас здесь еще хоть что-то человеческое?
Иван лежал, не поднимаясь, дня два-три. Потом начал вставать. Через несколько дней его уже выгоняли на прогулку и не разрешали прилечь днем, грозя карцером. Ему объявили постановление, что за членовредительство и за принесение лезвия лишают посылок на четыре месяца. На Ивана было больно смотреть — он ведь так мечтал о посылке. А тут еще строгое питание! Каждый день при раздаче пищи Иван-мордвин стоял у кормушки и канючил:
— Ну добавь хоть крошечку! Хоть пол-ложки плесни еще!
Ни разу ему не добавили ни грамма — и все-таки трижды в день он ныл и плакал у кормушки. Сначала всем нам, и мне в особенности, было жаль его. Потом это стало всех раздражать и злить. Но как его ни ругали сокамерники, Иван продолжал каждый день умолять о добавке. Ему уже не было стыдно, он чувствовал только голод, голод, голод.
Наш сосед Пауэрс
Однажды по тюремному радио прочитали Указ о помиловании американского летчика Пауэрса. Мол, учитывая чистосердечное раскаяние, хорошее поведение, идя навстречу многочисленным пожеланиям родственников… помиловать.
Сразу же в камере начались обсуждения, споры, разговоры. Пауэрс не просидел и четверти срока, и вот его помиловали; а мы сидим от звонка до звонка. Значит, «террорист» Коля Королев, или религиозник Павел Иванович, или возвратившийся беглец Андрей Новожицкий — словом, любой из нас считается страшнее и опаснее, чем капиталистический шпион… Впрочем, тут же возникли более реалистические соображения: наверное, в Америке попался какой-нибудь наш шпион, вот правительство и договорилось обменять их (потом я узнал, что так оно и было: Пауэрса обменяли на нашего Абеля).
Помилование Пауэрса вызвало особенное оживление у нас во Владимирке: все мы знали, что он сидит здесь, в этой тюрьме. Слухами и сведениями тюрьма полнится: их передают разведчики-зэки из хозобслуги, пересказывают друг другу при перетасовке камер. Мы знали, что Пауэрс сидит в камере-двойнике на втором этаже больничного корпуса. Некоторым даже удалось видеть их — его и его сокамерника — на прогулке в прогулочном дворике (с риском заработать карцер за взгляд на заморскую птичку). Рассказывали, что Пауэрс и его сосед ходят во всем своем, а не в тюремном; что лица их чисто выбриты, не то что у нас — раз в десять дней под машинку; что головы, наоборот, не обриты, а с прической. Сосед Пауэрса — то ли эстонец, то ли латыш, словом, прибалт, образованный человек, хорошо говорит по-английски. Еще во время суда над Пауэрсом этого эстонца стали готовить ему в напарники. У него был срок двадцать пять лет, и вот ему пообещали, что если он выполнит определенные требования, то его помилуют и освободят сразу после Пауэрса — Пауэрсу, мол, долго сидеть не придется. Ну, конечно, соблазняли. Зато, если он эти требования не выполнит, — сидеть ему во Владимирке всю жизнь до самой смерти. (А между прочим, такие пожизненные заключенные во Владимире есть. Например, уже больше двадцати лет сидит лесник, который случайно оказался свидетелем расстрела польских офицеров в Катынском лесу.) Что же это были за требования? Во-первых, чтобы эстонец не рассказывал Пауэрсу о действительном положении заключенных в советской тюрьме, а, наоборот, всячески поддерживал его в уверенности, что все политические находятся в таких же условиях, как он и Пауэрс; мало ли что может случайно произойти: мелькнет во время прогулки чья-нибудь изможденная фигура в тюремной робе, завопит кто-нибудь в больнице (вот как мы слышали) — так чтобы этот эстонец придумывал для американца правдоподобные и убедительные объяснения. Во-вторых, требовалось, чтобы эстонец поменьше рассказывал о жизни, о быте у нас на воле, пусть занимает Пауэрса разговорами о кино, о литературе, о спорте…
Пауэрса и везли-то во Владимир не так, как нас. Ни «воронков», ни вагонзаков он не видал, а прибыл во Владимирскую тюрьму в специальной машине прямо из Москвы.
Так что напрасно, конечно, надеялись наши заключенные, что американский летчик, оказавшись на родине, сможет рассказать там об этом круге ада — настоящей тюремной жизни Пауэрс и не нюхнул.
Между прочим, не все у нас верили, что Пауэрса держат в особых условиях. Я знаю об одном таком «неверующем», Геннадии Р., который до остервенения спорил с сокамерниками, что этого не может быть, что раз есть тюремные правила, так они одни для всех. Над ним, конечно, смеялись. Тогда он дал слово, что сам увидит Пауэрса и докажет всем свою правоту. И вот через несколько дней один из его соседей сообщает надзирателям, что Геннадий проглотил две ложки, свою и его. Дело обычное. В камере обыск, и, ясное дело, двух ложек недосчитались. Геннадия тащат в больничный корпус на рентген — как раз через тот коридор, где камера Пауэрса. Геннадий, проходя мимо, кинулся к двери (он заранее разузнал номер камеры), откинул заслонку и прилип к глазку. Пока оторопевший надзиратель опомнился и оттащил его, он успел увидеть, что хотел.
Ну, дальше с Геннадием было все, как положено: его вернули в камеру, а потом упекли в карцер на десять суток — и за то, что заглянул в глазок, и за то, что подстроил путешествие в больницу (на рентгене-то у него ничего не обнаружили). Но пока Геннадий в своей камере ожидал постановления о карцере, он рассказал соседям, что видел в камере Пауэрса. Все так, как говорили: и прическа, и свой вольный костюм, и вид такой, что ясно — не голодает.
Из зэков нашей камеры Пауэрса видел Борис Власов — на прогулке в прогулочном дворике — и тоже подтверждал, что и он, и эстонец содержатся по-особому.
Многие завидовали эстонцу — и особым условиям, и тому, что он теперь освободится; если бы не Пауэрс, сидеть бы ему от звонка до звонка, как нам. Но еще больше зэков осуждали его: неужели он, сидя вдвоем с американцем, не мог рассказать ему, как мучаются здесь остальные заключенные?
Завидовали зря. Говорили потом, что эстонца не выпустили, обманули, после освобождения Пауэрса перевели в общую камеру на общие условия, и он на другой же день покончил с собой. Был и другой слух — что все-таки освободили. И что перевели в другую тюрьму. Не знаю, какой из них — правда. Верно только одно: этот эстонец исчез, и никто его больше не видел.
Камера бериевцев
Одно время в прогулочном дворике по соседству с нашим гуляла камера бериевцев. Тогда еще дворики были отделены друг от друга старым щелястым забором, и мы хорошо видели бериевцев. Они тоже были на особом положении, не так, как мы: на прогулку ходили в своих добротных пальто, я никогда не видел на них зэковской формы. Помню одного из них — маленького роста, плотный, он важно прохаживался по дворику в теплом пальто и черной папахе. Другой был тоже в папахе и сером гражданском пальто, которое сидело на нем, как шинель. У нас говорили, что это не бериевец, а армейский генерал, по фамилии, кажется, Шренберг.
Камера бериевцев была рядом с нашей, и, идя на прогулку или с прогулки, мы видели ее (пока камера гуляет, двери остаются настежь, чтобы проветрить помещение; а выводили нас или чуть позже, или раньше, чем соседей). Трудно было глазам поверить. Все камеры во Владимирке так похожи друг на друга, что введи зэка в чужую камеру с завязанными глазами, а потом развяжи — и он направится к своему привычному месту, даже не заметив, что попал не туда. Но камера бериевцев казалась нам роскошной жилой комнатой. Постели у них были покрыты теплыми домашними одеялами, на столе лежала красивая скатерть. Им разрешали лежать днем на койках сколько угодно, они получали в неограниченном количестве посылки от родных. Уж не знаю, как их там кормили, ели ли они тюремную баланду; да ведь если были посылки, то они могли жить на одних домашних харчах.
Как их ненавидели, этих наших пятерых соседей!
— Сволочи, педерасты, кровопийцы, на воле жили нашей кровью и здесь живут неплохо, — говорили зэки. Даже был такой слух, что у них с правительством договор, обязательства с каждой стороны: эти чтоб молчали о других, более важных нарушителях «социалистической законности», а за это им создали особые условия в заключении. Говорили, что бериевцы то ли между собой, то ли с кем-то из обслуги судачили:
— Ну что Лаврентий Павлович? Будто он один, а другие, нынешние, ни при чем? Все решения были общие. Просто нужен был козел отпущения!
Подобные слухи и разговоры в тюрьме, да и на воле, подогревались тем, что всех их, и самого Берию, судили закрытым судом. Чистые и честные дела тайком не делаются. Может, если бы их судили открыто, так потом не одну камеру во Владимирке пришлось бы занять подлинными государственными преступниками.
И все-таки через некоторое время, уже в 1963 году, в обращении с бериевцами произошла загадочная перемена. У них отобрали одеяла, сняли со стола скатерть, их камера стала больше похожа на все остальные. Посылки тоже сократили, оставили общий порядок: две в год, не более пяти килограммов каждая. Сразу же произошла и перемена в них самих, в их отношениях между собой. Дружественного, спокойного тона как не бывало. Камера бериевцев стала одной из самых скандальных камер в корпусе. Не успели еще эти недавние герои доесть продукты из последней посылки, как передрались друг с другом из-за гнилой тюремной кильки. Кильку обычно давали на всю камеру вместе, в одной миске. Каждый по очереди брал по одной, вот и получалось всем поровну. Бериевцы никак не могли договориться: кто за кем берет, хватали не в очередь, скандалили. Раздатчики стали выдавать кильку в эту камеру каждому отдельно.
В нашей камере в это время сидел один парень, Володя Е. Он как услышит, что раздатчики дают соседям-бериевцам кильку, так начинает громко язвить что-нибудь насчет дружбы и солидарности этих лучших сынов народа. Раза два он попадал за это в карцер, а все-таки не мог удержаться: мол, волки и те не грызут друг друга, а эти из-за гнилой кильки грызутся. Хуже волков.
Прогулка
Заключенных водят на прогулку раз в день. На общем режиме — на час, на строгом — на полчаса. Казалось бы, каждый должен стремиться вырваться из вонючей камеры на воздух, да и пройтись по прогулочному дворику веселее, чем по очереди мерить шагами тесную камеру. И все-таки зимой надзиратели гонят на прогулку насильно, никто не хочет выходить, да приходится поневоле, таков режим. Зимой прогулка — еще один способ мучительства, пытка, особенно для стариков и больных. Врач освобождает только тех, кто уже совсем дошел.
Мороз градусов двадцать-тридцать. На нас поверх бумажных тюремных роб только бушлаты или телогрейки — рваные, чиненые-перечиненые, стираные-перестираные. Про них зэки говорят: «старше советской власти» или «в этом бушлате уже семерых четвертаков похоронили» («четвертак» — зэк с двадцатипятилетним сроком). Остатки ваты сбились комками, продувает тебя со всех сторон. На голове ватная ушанка, такая же древняя. Шею закутать нечем, шарфы, у кого были, так же как свитеры, теплое белье, теплые носки, — все отобрали в первый же день. На ногах ботинки на тоненькой, худенькой, прозрачной уже портянке. Рукавицы запрещены. Все мы истощенные, приморенные, своего тепла нет и в помине, уже в камере намерзлись. Топчемся по дворику, руки в рукава, головы опущены — стараешься нос прикрыть хоть плечом от мороза и ветра. Некоторые, кто совсем без сил, как выйдут во дворик, сядут в углу под забором и сидят, скорчившись, весь час замерзают.
Громко разговаривать, петь на прогулке запрещено.
Вернемся с прогулки в камеру — весь день не можем согреться. Да и чем? Кипяток только два раза в день — утром и вечером. В камере такой холод, что, когда чайник приносят, мы его укрываем чьим-нибудь бушлатом и одеялом, чтоб не остыл за двадцать минут, пока принесут завтрак. На ночь, чтобы не совсем замерзнуть, наваливаешь на себя все тряпье, какое есть. Те чехлы, которые выдаются на матрац вместо простынь, никто не использует, как положено. Вместо того чтобы надеть на матрац, чехол кладут на него, а сверху одеяла, бушлат, куртку, брюки и залезают внутрь чехла. А мне даже этого было мало, я им просто накрывался подо всем остальным; все-таки два слоя, а снизу не продует, там тюфяк. И все равно мерз — а ведь мне было двадцать четыре — двадцать пять лет; каково же старикам?
Когда меня только привезли во Владимир, гулять было все-таки веселее. Выводили в старые прогулочные дворики, довольно большие, сразу по три-четыре камеры в один дворик. А за деревянным ветхим забором — другой дворик, там тоже гуляет человек пятнадцать-двадцать. Я тогда познакомился со многими заключенными из других камер. Можно было даже сунуть в соседний дворик сквозь щель в заборе записку кому-нибудь из знакомых зэков — конечно, чтобы надзиратель не увидел. Надзиратель во время прогулки ходит по настилу над двориком, да еще другие следят за нами через глазок. И все-таки, когда нас много, за всеми не уследишь.
Но потом во Владимирке построили новые прогулочные дворики. Каждый величиной с камеру на пятерых, каждый закрывается дверью с глазком, пол бетонный, стены бетонные, заштукатуренные известковой крошкой, чтоб на них нельзя было ничего нацарапать. Словом, та же камера, только без крыши. Выводить стали по одной камере. Зимой в этом каменном мешке просто невыносимо холодно. А летом хоть и уныло, ни листочка не видно, ни травинки, а все-таки солнце сверху светит, и даже надзиратель на настиле не может заслонить его свет, не может преградить дорогу свежим, вольным запахам.
Летом за малейшую провинность лишают прогулки. Зато зимой никогда не лишают!
Ткач
Я уже не помню, в какой камере произошел этот случай: меня несколько раз переводили из камеры в камеру, как и других зэков. Нас было, как обычно, пятеро: Ричардас Кекитас, Петр Семенович Глыня, Костя Пынтя из Молдавии, старик по фамилии Ткач и я. Ткач был украинец, сидел, как он говорил, лет семнадцать — за участие в национально-освободительном движении. Сначала он, как и все, сидел в Мордовии, потом его перевели во Владимир за невыполнение нормы, за религиозность и еще какие-то подобные грехи. Старик был странный, уже не вполне нормальный — про таких зэки говорят «поехал» и выразительно крутят пальцем у виска. Маленький, с большой лысиной, с продолговатым, изможденным лицом и неправдоподобно громадными ушами, он сидел на своей койке, все время пугливо и настороженно переводя глаза с одного сокамерника на другого. Он всех и всего боялся. Когда кто-нибудь из нас шутил, что уши у Ткача чужие, краденые, старик не вполне понимал шутку и робко, заискивающе улыбался.
Однажды он по секрету от меня спросил Кекитаса, что я за человек, отчего все время молчу (я действительно почти не разговаривал). Кекитас хорошо знал меня — мы с ним больше года просидели вместе, кочуя из камеры в камеру, — знал и мой замкнутый характер, и то, что моя неразговорчивость отчасти объясняется все усиливающейся глухотой. Ткачу он сказал:
— Ты разве не знаешь, он же людоед! Сидит за то, что съел одного деда, вроде тебя. Тут на твоей койке спал один, так он ему отгрыз обе пятки.
Старик сначала не хотел верить.
— А ты обрати внимание, как он смотрит на твои уши, — сказал Кекитас. — Ты бы их поберег, а то ведь съест!
Ткач испугался. Стоило мне сесть на одну с ним скамейку, как он вскакивал и пересаживался. Даже есть стал на койке, а не за столом. Спать он и раньше ложился в шапке — из-за холода, а теперь стал на ночь завязывать уши. Кекитас рассказал мне на прогулке о своей шутке, и я подыграл ему. Как только Ткач пугливо взглядывал на меня, я начинал пристально смотреть на которое-нибудь из его ушей. А однажды, когда он сидел на скамейке, я подошел сзади и ощупал его ухо. Бедняга оглянулся, увидел меня и обомлел. Он закрыл уши ладонями, перебежал к своей койке и долго сидел на ней, не решаясь отнять руки от головы. Вся камера покатывалась со смеху. Кекитас, отсмеявшись, спросил меня:
— Ну, как, Толик, что вкуснее, уши Ткача или пятки Володьки?
Я серьезно ответил:
— Пожалуй, Ткачовы уши вкуснее; если их обжарить, то будут хрустеть на зубах не хуже поросячьих.
Ткач смотрел на меня с ужасом: теперь он вполне уверился, что перед ним людоед.
Надо сказать, что Ткач поверил в выдумку Кекитаса не только оттого, что был «чокнутый», — каждый, кто сидел во Владимирке, знал о случаях пострашнее даже людоедства. В одной камере, например, зэки проделали вот что: они раздобыли лезвие, несколько дней копили бумагу. Подготовив все, что надо, они вырезали каждый у себя по куску мяса — кто от живота, кто от ноги. Кровь собрали в одну миску, покидали туда мясо, развели небольшой костер из бумаги и книги и стали все это то ли жарить, то ли варить. Когда надзиратели заметили непорядок и вбежали в камеру, варево еще не было готово и зэки, торопясь и обжигаясь, хватали куски из миски и спешили засунуть их в рот. Даже надзиратели говорили после, что это было страшное зрелище.
Я представляю себе, что в эту историю трудно поверить. Но я сам видел потом некоторых участников страшного пира, разговаривал с ними. Больше всего меня поразило, что это были вполне нормальные люди. Я не Ткач, и эта история не розыгрыш; я сам видел Юрия Панова из этой камеры — на его теле не было живого места. Кроме этого случая, когда Панов вместе с другими решил полакомиться собственным мясом, он не раз вырезывал куски своего тела и выбрасывал их надзирателям в кормушку; несколько раз вспарывал себе живот и выпускал внутренности; вскрывал вены; объявлял многодневные голодовки; глотал всякую всячину, и ему разрезали живот и желудок в больнице. И все-таки он живым выбрался из Владимирки, был на седьмом, а потом на одиннадцатом. Мы рассказали о нем писателю Юлию Даниэлю, когда он оказался на одиннадцатом и подружился с нашей компанией. Юлий сначала не хотел верить, потом стал просить нас, чтобы мы познакомили его с Пановым. Но случилось так, что Юлия свели с Пановым не мы, а начальство — Юлий угодил в карцер. Панов был там тоже, и вот карцер повели в баню… Юлий нам после рассказывал, что чуть в обморок не упал, когда увидел Панова нагишом.
И вместе с тем Юрий Панов — вполне нормальный человек, ничуть не псих; правда, никакой он не политический, хотя и сидит по политической статье.
Мы в нашей компании на одиннадцатом часто обсуждали вопрос, как людям на свободе объяснить все эти истории, в которые и поверить-то трудно. Ну, хорошо, пусть все эти люди ненормальные; тогда как же можно держать их в тюрьме, в трудовом лагере?
Даже по закону их следует перевести в психиатрическую лечебницу или отдать под наблюдение родственникам. А если их держат в тюрьме, если все врачи и комиссии признают их нормальными, — каковы же должны быть условия, толкающие на такие дикие поступки? Ведь на воле тот же Панов и не подумал бы резать себя и жарить свое мясо. Вот над чем стоило бы задуматься нашему обществу — да ведь никто об этом ничего не знает…
Но продолжу о Ткаче. Некоторое время он верил, что я людоед, и берег свои уши. Но вот принесли ларек. Всем нам выдали продукты на рубль двадцать пять; всем, кроме Ткача. У него не осталось никого из родных, кто мог бы прислать деньги на ларек: одних угнали или расстреляли немцы, других вывезли куда-то в Сибирь, и они затерялись. Мы впоследствии пытались написать нашим родным, чтобы прислали денег Ткачу, но наши просьбы вычеркивала цензура. Приходилось делиться с несчастным стариком. Пынтя, Кекитас и я брали по две буханки хлеба, немного маргарина, сыра или колбасы. Каждый из нас отрезал по полбуханки Ткачу, так что всем доставалось по полторы буханки. Делились и маргарином, и всем остальным. После первого же ларька Ткач, попив чаю с хлебом и маргарином, сказал:
— Нет, Толик не людоед.
Кекитас попытался продолжить розыгрыш:
— Ты думаешь, если он тебя угощает, так уж и не людоед? Он хитрый. Я его давно знаю. Просто он хочет сначала откормить тебя. Стал бы он зря хлеб скармливать!
Ткач готов был снова поверить, со страхом глянул на меня, но я не выдержал и рассмеялся. Тогда засмеялся и Ткач, а за ним вся камера. С тех пор Ткач хотя и спал в шапке, но уши завязывать перестал.
Наш дед был не только немного «чокнутый», но и физически очень нездоров. Он все жаловался, что у него болит голова, болит позвоночник, болит сердце. Однажды мы с ним записались на прием к врачу. Во время обхода сестра спрашивает через кормушку: «Больные есть?» Почти все зэки жалуются на какое-нибудь недомогание, особенно зимой. Сестра, не осматривая больного, дает какой-то порошок. А если жалоба превышает ее компетенцию, то она записывает на прием к корпусному врачу. Список обычно получается внушительный: больны почти все. Тогда сестра сама, по своему усмотрению, начинает вычеркивать «лишних». Прием происходит в присутствии надзирателя, принимают всех больных из одной камеры одновременно.
Ну вот, привел нас с Ткачом надзиратель к корпусному врачу. Жаль, не знаю ее фамилии, звали ее Галина. Она обращается к деду с обычным вопросом:
— На что жалуетесь?
— Ох, доктор, все болит, помогите.
— Все не может болеть.
— Весь я болею, дочка…
— Венерическими тоже болеете? — насмешливо спрашивает Галина, переглянувшись с надзирателем.
— А что это такое?
— В штанах, спрашиваю, ничего не болит?
— Ох, болит, болит и в штанах.
— Что ж ты, дед, с педерастами путаешься в твоих-то годах?
Тут только Ткач понял, о чем толковала молодая врачиха. Он сказал ей, что на тюремных харчах и молодой парень не захочет не только педераста, а и бабу. А он жалуется на то, что ходит одной кровью и боли сильные (в нашей камере только у Пынти еще не было геморроя, да и то потому, наверное, что он еще «свежий», недавно с воли). Галина приказывает Ткачу снять штаны, повернуться задом и наклониться.
— Ну, у вас геморрой. Сколько раз в день оправляетесь?
— В два дня раз, а то и в три.
— Что же вы хотите? Надо оправляться два раза в день.
— А с чего, дочка? С баланды? Так это же одна вода.
— Я тут ничем помочь не могу, я к питанию не имею отношения. Объясняю вам: при геморрое надо оправляться два раза в день. Еще надо парить это место теплой водой.
Ткач пожаловался на головные боли, на боли в позвоночнике. Ему измерили давление — оказалось повышенное.
— Ничего, в вашем возрасте у всех людей повышенное давление и позвоночник у всех болит.
— Дочка, дай хоть разрешение днем лежать на койке.
Галина и слушать не стала: если таким, как Ткач, разрешить лежать, тогда весь корпус надо перевести на больничный режим.
Со мной повторилась та же процедура:
— Повернитесь задом… Геморрой… Надо чаще оправляться… Припарки теплой водой.
У меня очень болели уши, но смотреть их Галина не стала, она не специалист-ушник, ушника в тюрьме нет, надо ждать, когда вызовут из города. За два года ушник посетил Владимирку один раз; я попал к нему на прием — он выписал мне перекись водорода на две недели, легче от этих капель мне не стало, но проверить состояние было уже некому — когда там еще пригласят в тюрьму ушника? Впрочем, перекись водорода могла бы мне назначить не только Галина, а даже я сам, для этого не надо быть специалистом. Галина, однако, этого не делала: ведь она не столько лечила больных заключенных, сколько выполняла установленную формальность. Не знаю, есть ли где сейчас в тюрьмах и лагерях врачи, которые старались бы облегчить страдания и без того обездоленных людей. Когда-то такие были, но в 1961–1966 годах они мне ни разу не встретились.
Итак, мы с Ткачом вернулись в камеру, обладая ценным советом чаще оправляться и делать припарки. А как? Кипяток дают в камеру перед завтраком и перед ужином; остывает он за пятнадцать-двадцать минут. Значит, мы должны парить свои задницы, как раз когда сокамерники располагаются пожевать, у них на глазах. Пришлось отказаться от этой лечебной процедуры.
Ткачу становилось все хуже, он стонал от болей, мерз, никак не мог согреться. Хоть бы разрешили деду лежать, хоть бы освободили от прогулки — зима же! Мы, его соседи, обращались к администрации тюрьмы, жаловались и надзирателям, и офицерам, что старик слабеет, пусть бы ему разрешили хоть прилечь днем. Нам отвечали, что врач лучше знает, кто здоров, а кто болен. Ткач так мерз, что у него не гнулись пальцы, он не мог свернуть себе самокрутку. Кекитас делал ему самокрутки с утра на целый день. Я тоже пытался закручивать, да у меня не получалось, я никогда в жизни не курил, зато всю свою махорку я отдавал старику, так что у него хоть курева хватало. Он к нам очень привязался и все боялся, не перевели бы его из нашей камеры.
Раз вечером принесли нам ужин — обычное жиденькое картофельное пюре. Мы с ним, как всегда, справились за полминуты, вылизали миски, уже хотели споласкивать их, а Ткач все со своим ужином возится. Пынтя говорит:
— Что, дед, видно, тебе по ошибке кусок мяса в миску попал? Так ты же беззубый, отдай мне…
Мы все посмеялись, Ткач съел свое пюре, налил в миску воды из чайника, сидя ополоснул ее и пошел к параше выливать воду. Около параши миска выпала у него из рук и покатилась по бетонному полу. А сам он стал шарить, ловить руками стены — и упал на пол. Мы кинулись к нему, подняли, положили на койку. Он еще, кажется, был жив. Мы стали стучать в дверь, звать надзирателя. Из дальнего конца коридора послышался его голос:
— Чего стучишь, чего стучишь, в карцер захотелось? — Подошел, заглянул в глазок. Узнав, в чем дело, пошел звать старшего. Прошло минут пятнадцать, никто не приходил, и мы снова застучали в дверь. Дежурный заорал:
— Прекратите стук! Освободится старший — придет, ваше дело маленькое.
Еще минут через десять пришел старший, открыл дверь, вошел в камеру:
— Ну, что тут у вас? — Мы ему снова объяснили, что произошло. Он взял руку Ткача, поискал пульс. Старик лежал без движения, без дыхания. Но старший надзиратель не торопился позвать сестру или врача, он занялся допросом: как это случилось, кто что делал в эту минуту, кто что видел? Потом он ушел, пообещав прислать сестру. Прошло еще минут десять, пока пришла сестра в непременном сопровождении надзирателей. Она тоже поискала пульс — пульса не было. Сестра смочила ватку нашатырем и поднесла к носу старика. Это не подействовало, Ткач не пошевелился. Она оставила ватку на его верхней губе и сделала какой-то укол. Ткач не приходил в себя. Тогда сестра попросила старшего вызвать дежурного врача из больничного корпуса. Врач пришла, посмотрела на Ткача, пощупала пульс и тихо положила неподвижную руку ему на грудь. Потом, расспросив нас, как и что было, она вызвала старшего из камеры. Больше она к нам не входила, а старший, вернувшись, велел мне и Кекитасу вынести старика. Я взял его под мышки, Кекитас под колени, и мы потащили тело куда нам велели — в пустую камеру. Там надзиратель приказал нам положить мертвого на голую койку и заторопил выходить. Камеру заперли на ключ. Я спросил надзирателя:
— Что, теперь Ткачу можно лежать на койке до отбоя?
— В карцер захотел?! — привычно заорал на меня надзиратель.
Умер Ткач. Он был одинок, никто не помогал ему, даже писем он ни от кого не получал. Но может, есть у него родственники, которые потеряли его и не знают его судьбы. Так вот: старик Ткач много лет голодал, мучился, болел, мерз и умер во Владимирской тюрьме зимой 1962/63 года.
Петр Глыня
Глыня тоже сидел давно, и все по тюрьмам, в лагере не побывал ни разу. Значит, у него был такой приговор — тюрьма. Однако никто не знал, за что он сидит, и понять его было совершенно невозможно. Глыня был форменный сумасшедший, вполне «чокнутый». Он все время что-то бормотал, иногда у него срывалась фраза: «Я советский разведчик!» Он вполне серьезно рассказывал нам, что его вызывал к себе в кабинет сам Сталин, у них был секретный разговор, при котором присутствовал Берия. О чем был разговор, Глыня не говорил: видно, не хотел разглашать этот важный секрет. Получал от Сталина и Берии какие-то задания, вот и все. Иногда он вспоминал, будто бы у него в Париже жена и дочь, принимался нам рассказывать о Франции, о Германии. Никто из нас там не бывал, поэтому мы не могли проверить, что в его болтовне правда, да и много ли поймешь из бреда сумасшедшего. Но немецкий язык он действительно знал, и, похоже, хорошо.
Однажды Глыня попросил меня написать ему жалобу в Военную прокуратуру. Сокамерники тоже стали уговаривать:
— Напиши, Толик, напиши! — Я понял: всем хотелось узнать, за что же посадили этого человека. Мне тоже было интересно, я согласился.
— Давай, рассказывай! — Тут Глыня понес такую чушь, в которой нечего было и думать разобраться: какое-то болото, на котором он собирал утиные яйца, гонял змей, задания от Сталина и Берии, советский разведчик, Франция, Германия, опять болото с утиными яйцами.
Так мы и не узнали, за что Глыне дали двадцать пять лет.
Витя Кедров
Одно время я сидел в камере с бывшим уголовником Виктором Кедровым. Теперь у него была политическая статья (кажется, «антисоветская агитация»), заработанная в уголовном лагере. Сидел он раньше не раз, был в тех страшных лагерях, о которых уже теперь понемногу появляются рассказы и воспоминания, так что, пожалуй, не стоит здесь пересказывать воспоминания Виктора и других заключенных, побывавших на лесосплаве, на рудниках и шахтах, на Колыме, в Норильске, на Воркуте, в Тайшете, Магадане, Джезказгане… У Виктора не было кисти на одной руке: он подставил ее под пилу-циркулярку. В этом тоже нет ничего нового.
Витя мучил нас так же, как в прежней камере Иван-мордвин: он часами простаивал у кормушки, умолял, чтобы ему дали что-нибудь поесть.
— Держать — держите, а голодом не морите! — ныл он. Конечно, ни разу ему ничего не дали, но он каждый день заводил свое:
— Держать — держите, а голодом не морите!
Мы пытались пристыдить его, даже били. И все-таки он снова прилипал к кормушке:
— Ну дайте чего-нибудь! Держать — держите, а голодом не морите!
Баня
В баню во Владимирке водили раз в десять дней. Там меняют белье, так называемое полотенце, — взамен выдают такую же ветошь, — а через баню, то есть раз в двадцать дней, и «постельное белье» — чехол на матрац и на подушку. Там же стригут под машинку, что волосы на голове, что волосы на лице, одинаково. За десять дней мы, конечно, успевали зарасти так, что смотреть друг на друга страшно. Вид у каждого такой дикий, что, наверное, со стороны можно подумать: «Действительно, настоящие бандиты, зверюги».
Летом ждем бани с нетерпением, дни отсчитываем: так охота поплескаться в воде! Да и лишний раз пройтись под солнцем, по свежему воздуху. Ведут нас через тюремный двор, ни деревца вокруг, ни кустика, одни только серые стены корпусов с решетками на окнах, голый асфальт под ногами. И все-таки иногда увидишь жалкую травинку, пробившуюся сквозь асфальт. Правда, подойти к этой травинке нельзя, наклониться — тем более.
— Ни шагу в сторону. Руки держать в положении назад. Не разговаривать, не курить! — Нас предупреждают так каждый раз перед тем, как вести в баню.
Хотя в тюрьме каждый шаг, каждое действие предусмотрены и расписаны по пунктам и параграфам, иногда случаются непредусмотренные события. Однажды вели нас в баню. Идем мимо больничного корпуса, навстречу нам — начальница больницы. Видно, идет на работу — это было утро, часов в девять. Вдруг слышим — с верхнего этажа больничного корпуса крик, и что-то падает сверху прямо ей под ноги. Начальница наклонилась, посмотрела и сплюнула. Мы как раз проходили мимо нее и увидели, что на асфальте лежит отрезанный мужской член — весь в крови. Видно, какой-то бедняга в больнице решился покалечить себя таким образом, выглядывал потихоньку из форточки и вот выкинул ей из форточки свой «подарок». Что же она сделала с ним, чтобы пробудить жажду такого мщения?
В бане два помещения для мытья: одно с лавками и тазиками, другое — душевая, в ней отдельные кабины на одного человека. Приводят сразу по две камеры, одну в общее помещение, одну в душевую. Попасть в душ — это большое везение, просто счастье: здесь успеешь помыться, не надо стоять в очереди за тазиками, за водой, стоишь и все время моешься, все время на тебя льется вода — хотя в одиночную кабину и загоняют сразу двоих-троих. Жаль только, что это счастье слишком быстро кончается: не успеешь второй раз намылиться, как надзиратели перекрывают воду и гонят вон из моечной. Поэтому каждый спешит хоть раз как следует намылиться, да набрать во второй раз в шайку воды, чтобы окатиться чистой. Успел — повезло, а то другой раз и мыло смыть не успеешь, приходится просто стирать его с тела полотенцем. От бани до бани вся камера гадает: куда повернут в следующий раз, в общую или в душевую?
Зато зимой в бане прямо пытка. Новичок, который этого еще не знает, надеется и помыться, и погреться горячей водой — баня все-таки. Как бы не так! Зимой в предбаннике такой холод, что пар идет изо рта, а стены иногда покрыты инеем. Разденемся, стоим голые, синие, кожа у всех в пупырышках. Ждешь, злой как черт, когда же пустят в моечную, и чувствуешь, как холод пронизывает тебя до самых печенок. А потом одеваться здесь же, в этом холоде, и брести по морозу до своего корпуса… Особенно боялись бани зимой старики; покойного Ткача, например, в баню выгоняли зимой насильно, как и на прогулку.
Вообще мыться зимой в тюрьме — настоящее мучение. Даже умыться на оправке. Вода из крана течет такая холодная, что даже у меня, сибиряка, молодого парня, пока умоюсь, руки коченеют и теряют чувствительность. Возможно, конечно, что это не из-за ледяной воды, а из-за постоянного общего истощения.
В баню нас водили обычно два надзирателя, Ваня и Саня. Ваня маленький, черный, злой; у него была кличка «Цыган». Чуть что — орет, кроет матом, грозит, дерется. Саня, его дружок, — полная противоположность Цыгану: большой, белый, медлительный, спокойный. Спокойно посадит в карцер, спокойно изобьет заключенного в компании с другими надзирателями. У Сани была кличка «Нос» (нос у него был, действительно, огромный). Вот эти Ваня Цыган и Саня Нос водили нас в баню — если не оба вместе, так уж один из них непременно. Им доставляло особое удовольствие перекрыть воду так, чтоб кто-нибудь из нас остался намыленным. Они же и насильно стригли новеньких — вот как раз тот украинец с усами, о котором я рассказывал, попал в их руки; меня тоже скрутили они вдвоем.
Равноправие
В бане находится склад казенного белья — им тогда заведовала женщина лет тридцати пяти, вольная, звали ее Шура. Саня Нос ухаживал за ней. По-своему, конечно: лапал ее, щипал. На нас, зэков, присутствовавших поневоле при их играх, они не обращали никакого внимания. Да что там присутствие! Нас, голых, в чем мать родила, перед мытьем стригли в коридоре. Шура ни разу не пропустила этой процедуры, сидела здесь же и баловалась с Саней. Может быть, голые мужики здесь же, наши взгляды придавали даже особую остроту их любовным щипкам. А может, они нас просто не замечали — разве ж мы люди?
Кроме надзирателей, в нашем корпусе были и надзирательницы. Они тоже следили за нами через глазок, тоже могли войти в камеру в любую минуту. Стоишь в камере у параши по своей нужде — вполне возможно, что в эту минуту за тобой надзирательница наблюдает. И от этого, хоть мы и привыкли, все равно постоянно чувствуешь еще большее унижение и еще больше озлобляешься. Раз в нашей камере была такая история. Один из заключенных, Юрий, подошел по нужде к параше. А параша-то у двери, как раз перед глазком. Надзирательница заглянула, видит, стоит перед глазами зэк, камеру загородил (а в камере, если кто делает наколку или занимается чем-нибудь недозволенным, один из заключенных стоит «на атасе», загораживает глазок; пока надзиратель будет с ним ругаться, пока откроет дверь — «работавшие» зэки успеют все убрать, спрятать и принять вполне невинный вид). Надзирательница стала кричать Юрию, чтобы он немедленно отошел от двери. На крики прибежал старший, открыли дверь, вошли, подозрительно осмотрели всех нас, камеру. Надзирательница показала на Юрия: «Вот этот загораживал». Старший пригрозил ему карцером за нарушение режима. Тогда Юрий предложил переставить парашу от двери или сделать еще один глазок, пониже: «А то вот ей не видно было, какую штуку я держал, а теперь никак не могу оправдаться…» Как обычно, надзиратели обругали нас, пригрозили карцером и ушли. Легко отделался, а то мог и на самом деле угодить в карцер за дерзость.
Когда дежурят надзирательницы, они же водят нас и на оправку. И следят через глазок в уборной, что там делает зэк, не нарушает ли чего-нибудь? А за женщинами-заключенными следят и надзиратели-мужчины. Тоже водят их на оправку, тоже заглядывают через глазок в женские камеры в любое время дня и ночи.
Женщины-политические сидели сначала в нашем корпусе на втором этаже. Среди них было много с Украины и из Прибалтики за национальное движение, были и «религиозницы». Некоторые сидели во Владимирке по десять-пятнадцать лет и больше. Однажды нас вели из бани, а женщин с прогулки, и мы издали видели их. Видели, как старух вели под руки более молодые сокамерницы. У женщин, как и у нас, отбирают теплое, их тоже выгоняют зимой на прогулку в ветхих бушлатах и холодных ботинках, тоже водят в холодную баню, тоже морят голодом. Режим в тюрьме для всех одинаков, что для мужчин, что для женщин. Полное равноправие.
Хозобслуга
В тюрьме вне камер есть всякая «черная» работа: уборка, раздача пищи, топка кипятильника. На эту работу назначают каких-нибудь заключенных из этого же корпуса, так что раздатчики, уборщики, кипятильщики — такие же зэки, как все остальные. В каптерке помощником заведующей Шуры был заключенный, эстонец Ян; он делал за нее всю работу — перетаскивал вещи, менял белье, выдавал постельные принадлежности. Только когда кто-нибудь, получив уже совсем рванье, которое и надеть было невозможно, начинал скандалить с Яном, вмешивалась сама Шура.
Зэки из хозобслуги живут в двух камерах, тоже все время под замком, как и остальные; их выводят из камер только на время работ. Паек у них тоже такой же, как у всех; правда, хлеба на сто граммов больше — не 500, а боо г. Так что жизнь у них чуть-чуть получше — на 100 г сытнее, на столько же вольнее. И все-таки быть в хозобслуге нелегко, особенно раздатчиком. Ведь приходится кормить постоянно голодных людей — а чем? Привезут из кухни в больших термосах баланду, раздатчик начинает наливать ее в миски, а там одна вода. А в каждой камере около кормушки толпятся зэки, просят налить погуще. Каждому кажется, что соседу досталась лучшая порция. Если кому-нибудь два дня подряд попадет в миску картофелина — уже подозревают, что раздатчик подкармливает «своего». А уж где там гуща, когда во всем термосе одна вода, «крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой»!
Некоторых зэков из хозобслуги уважали, видели, что это люди в высшей степени порядочные и справедливые. К другим относились с подозрением, с недоверием, а к третьим — с ненавистью. Грозили:
— Вот попадем в один лагерь, так мы с тобой рассчитаемся.
Помню, на седьмой попал из Владимирки раздатчик Роман. В первый же день Коля Григорьев, тоже «владимирец», вылил ему на голову миску горячих щей; потом этого Романа втихую отколотили — наверное, было за что.
Религиозники
Так одним словом называют тех заключенных, которые сидят за веру в Бога. Верят в Бога не только они, среди других зэков есть тоже верующие; религиозники же именно за религию арестованы и осуждены. Кого только нет среди них! И мусульмане с Кавказа, из Средней Азии, и православные, и баптисты, и свидетели Иеговы, и евангелисты, и субботники, и много других.
В газетах иногда описываются преступления фанатиков-сектантов, религиозные убийства, истязание детей и тому подобное. Мне трудно в это поверить; сколько я видел разных сектантов в лагерях и во Владимирке — и среди них никто никогда никого не убивал. Они все против убийства и насилия. Да в политических лагерях среди религиозников и нет ни одного, осужденного за какое-нибудь убийство. Тех, кого обвиняют в убийствах, судят по другой статье, они попадают в другие лагеря. А этих судят за «антисоветскую пропаганду»: если они, например, говорят, что всякая политическая власть, в том числе и советская, не от Бога, а от дьявола; за хранение и распространение «антисоветской» литературы. Судят, как и всех нас, закрытым судом, а тех, кого за убийство, — открытым. А потом про всех религиозников, про всех сектантов, говорят: «Вот они, те самые… фанатики!»
Фанатизм религиозников проявляется только в том, что они отстаивают свои собственные религиозные убеждения и правила. Это очень смирные и спокойные люди, большей частью старики лет по шестьдесят и старше, но есть и молодые. К заключению они относятся не так, как другие зэки: их утешает то, что они страдают за своего Бога и за свою веру, и они терпеливо переносят страдания и мучения. Я слышал от сектантов такую песню:
Нес Спаситель свой крест, лишь молился, Не пеняя Отцу на врагов. Был он чудным примером страданья, В нем горела святая любовь.И все-таки их, смирных и покорных во всем, кроме вопросов своей веры, пачками отправляли во Владимирку — за невыполнение нормы, за отказ от работы в дни своих религиозных праздников. Здесь, в камерах, я близко столкнулся со многими из них. Чуть не в каждой камере — то евангелист, то субботник, то свидетель Иеговы, а то сразу несколько из разных сект. Начальство над ними издевалось, как хотело. Я видел это в первый же день. Многие верующие по своим правилам носят бороды, и вот их стригли насильно, в наручниках.
А посты? Казалось бы, о каких там постах может идти речь, когда вообще есть нечего, изо дня в день годами длится сплошной пост, а люди истощены до полусмерти? Но большинство верующих хотели и здесь соблюдать свои правила — «а то грех перед Богом». Они хотели бы есть свою постную пищу, когда это полагается, но ведь в тюрьме ешь, что дают!
— Да в тюремной баланде в любой день хоть под микроскопом ищи, жиринки не увидишь! — уговаривали мы их.
— А все-таки по норме немного жиру полагается, может быть, сколько-нибудь и кладут в котел, — отвечали они.
Надзиратели это знали. И вот в пост нарочно начинают разливать баланду с тех камер, где сидят верующие. В полном термосе сверху, может, и плавает какое-нибудь пятнышко жира — пусть оно попадет в миску того, кто постится, тогда и он есть не станет, и другим не достанется. И вообще, верующие, зная, что им наливают сверху, из полного термоса, опасаются есть, боятся согрешить. А надзиратели еще приказывают раздатчикам зачерпнуть и сверху, и немного со дна, где погуще: эта миска все равно пропадает, а остальным достанется одна вода.
Когда наши верующие разгадали эту хитрость, они в свои постные дни стали вообще отказываться от вареного, сидели на одном хлебе и воде.
При таком голоде, как во Владимирке, не у всех хватает сил соблюдать посты и отказываться от пищи. Тогда надзиратели и начальство начинают их высмеивать:
— Все вы врете, что верующие, какой там у вас Бог, одно притворство!
А когда религиозник в тюрьме обращается к врачу, ему говорят:
— Вы зачем записываетесь? Вы запишитесь к своему Богу на прием, пусть он вас лечит…
Душевнобольные
Я часто слышал от разных зэков, что среди нас, если как следует подумать, нет ни одного нормального человека. В этих нечеловеческих условиях, да еще видя все то, что нам приходится видеть, невозможно сохранить здоровую психику. Особенно во Владимирке.
Но, помимо всеобщего отклонения от нормы, почти в каждой камере Владимирской тюрьмы находится зэк, «чокнутый» по-настоящему. Один заговаривается, другие сочиняют о себе всякие небылицы. Есть и буйные. Не знаю, помешались ли они из-за долголетнего заключения или такими уже попали в тюрьму, только сидеть с ними в камере одно мучение. А начальство нарочно не отделяет их. Даже так: если в одной камере двое сумасшедших, то их разведут по разным, чтобы отравить существование сразу двум камерам. Жаловаться бесполезно.
В одной камере сидел такой Саня-чокнутый. Днем тихий, смирный, сидит на своей койке, ни с кем не разговаривает, все о чем-то думает. Отбой — Саня ложится и ждет, когда все уснут. Тогда он поднимается, подходит к чьей-нибудь койке и справляет нужду прямо на спящего сокамерника, да еще старается попасть на лицо. И так каждую ночь. Пробовали его караулить, не спать по очереди. Но это невозможно: после отбоя все зэки должны быть в постели, нельзя ни ходить, ни сидеть, ни читать лежа. Попробуй не усни, тем более что днем отоспаться нельзя. Вот и получалось, что сам «сторож» просыпался часто весь мокрый. Уж Саню и били, хоть понимали, что это больной человек… Узнают об избиении надзиратели, тянут виноватого в карцер, а Саня по-прежнему каждую ночь делает свое дело.
В другой камере был совсем тихий сумасшедший, никого не трогал. Он держался даже с каким-то особым достоинством, на всех смотрел свысока. А его причуда состояла в том, что всю еду в своей миске он разбавлял содержимым параши. Принесут обед или ужин, каждый берет свою миску, садится есть. А он в это время подходит к параше, открывает ее, зачерпывает себе в миску и начинает тщательно размешивать. Мало того, обойдет всех в камере и настойчиво уговаривает:
— Ты попробуй, мне мама в детстве такую кашу варила, вкусно очень!
Сует под нос свою миску — а люди в это время едят. Потом он садится за общий стол и начинает есть, позабыв о «достоинстве», чавкает, причмокивает, весь вывозится в своей «маминой каше». После обеда наливает в миску воды, ополаскивает и воду выпивает.
А были и такие чокнутые, которые срывали с себя всю одежду и ходили по камере голые. Что им дадут из одежды — они все раздирают в клочья — и в парашу. Их хоть на прогулку не водили. Но такие долго не живут. Простуживаются и умирают.
Удавленник
Одно время я сидел с парнем по имени Сергей, и он рассказал мне про этот случай.
Однажды он отсидел в карцере пятнадцать суток. Вышел чуть живой, шел «по стенке». Думал-думал: как хоть немного, хоть ненадолго облегчить свое положение? Хорошо бы попасть в больницу. Но как?
Вот он решил «повеситься» — не совсем, не насмерть, а только чтобы взяли в больницу. Как раз тогда он сидел один в камере. Разодрал чехол от матраца на полосы, сплел из них веревочку, сделал петлю и стал вешаться. В нише над дверью камеры горит лампочка, ниша забрана решеткой. Сергей рассчитал время, когда надзиратель отошел от камеры, влез на парашу, привязал веревку к решетке, накинул петлю на шею и ждет. Все получилось так, как он и рассчитал. Надзиратель подошел к глазку, взглянул и увидел прямо перед собой живот зэка. Он догадался: «Зэк повесился!» Когда он, гремя ключами, стал открывать замок, Сергей медленно сполз с параши. Веревка натянулась, и он повис, но сознания не потерял, потому что петля еще не затянулась. Сергей заранее знал, что не успеет удавиться: надзиратель уже открывал дверь, входил, сейчас будет его снимать. Но нет: уже задыхаясь, он почувствовал, как надзиратель взял его за руку, нащупал пульс и понял, что зэк еще жив. Тогда он стал тянуть Сергея за ноги, чтобы петля затянулась потуже. Сергей потерял сознание.
Он очнулся в санчасти корпуса. Когда он пришел в себя, то расспросил сестру, как его вытащили. Сестра не знала ни того, что Сергей вешался «не совсем», ни того, что надзиратель помогал ему удавиться. Сергея спасла от смерти случайность. Как раз тогда, когда надзиратель был в его камере, с лестницы в коридор вошел другой надзиратель. Он пришел по какому-то делу. Тогда тот, что был в камере, бросил Сергея и позвал второго снимать удавленника. При свидетеле он уже не решился на убийство — они все друг друга боятся и друг на друга доносят.
Сергей показал мне «своего» надзирателя. Это был наш старший, по кличке «Рыжий» — ну просто ангел без крылышек. Вежливый, никогда не кричит, не ругается, с елейным приторным голосом.
Когда Рыжий входил в камеру, Сергея всего передергивало.
Камера № 79
Я сидел одно время в девяносто второй камере, а напротив нашей была камера семьдесят девятая. На прогулку нас выводили вместе, десять человек, и мы познакомились.
Мне очень нравился в их камере заключенный Степан. Он был учителем географии у себя на родине, на Украине. Сидел уже лет тринадцать, все годы в тюрьме, а всего сроку у него двадцать пять. Это был такой спокойный и выдержанный человек, что я ему завидовал. Однажды в нашу камеру вошел прокурор по надзору, задал обычный вопрос: «У кого есть жалобы, вопросы?» и, так как мы все молчали, вышел. Он делал обход всех камер. Первое время некоторые зэки обращались к нему с жалобами и протестами, но от этого было столько же толку, сколько от писем в ЦК, в Прокуратуру СССР, в Президиум Верховного Совета. Вот и перестали.
На прогулке мы спросили зэков из семьдесят девятой:
— У вас вчера был прокурор?
— Был, как же. Они с нашим Степаном старые знакомые.
Прокурор вошел в семьдесят девятую камеру, увидел Степана и смутился. Потом обратился к нему по имени и отчеству:
— А вы все еще сидите?
— Как видите.
Прокурор помялся-помялся, попрощался и вышел. А Степан рассказал, что они года два сидели вместе в одной камере в этой самой тюрьме. В 1956 году того реабилитировали. И вот они снова встретились в тюремной камере, только уже не как два зэка, а как зэк и власть.
Так что ему рассказывать этому прокурору, на что жаловаться — он и сам все прекрасно знает и видит, не слепой же.
Вместе со Степаном в той же камере сидели два бывших уголовника— Сергей Оранский и Николай Ковалев по кличке «Воркута». «Бывшими» уголовниками они стали только по статье: им дали политическую статью и добавили срок, как это делается и с другими. А вообще-то это настоящие уголовники, развращенные, скандальные, бессмысленные людишки. У обоих, как водится, наколки. У Сергея Оранского мелкими буквами, почти незаметно на лбу «Раб КПСС». А Воркута весь разрисован, живого места нет ни на лице, ни на теле. Его потом ненадолго сунули в нашу камеру, и он при мне сводил одну наколку на лбу. Делал он это так. Берет лезвие и чиркает по тому месту, где надпись, — раз, другой, третий, пока не исчиркает все это место. Потом начинает раздирать порезы пальцами, трет долго, весь в крови, уже на лбу не кожа, а какие-то кровавые клочья. Тогда он густо засыпает лоб марганцовкой — специально для этого выдается в санчасти. Марганцовка разъедает раны, и Воркута корчится и вопит от боли. На другой день лоб у него припухший, черный, обожженный марганцовкой, начинает нарывать. Зато через некоторое время кожа на месте нарыва облезает, рана зарастает новой. Наколки уже нет, остается только большой безобразный шрам.
И многие татуированные предпочитают сводить свою «антисоветскую агитацию» вот таким способом, чем оперироваться в больнице: там кожу вырезают без всякого обезболивания, чтобы в другой раз неповадно было колоться. Сергей Оранский тоже сам свел себе надпись.
Воркута после «операции» говорил, что это только сейчас шрам большой, а в лагере загорит, обветрится и станет совсем незаметным. Мы смеялись:
— Тебе, чтобы незаметно было, надо наново родиться.
Он все-таки свел с лица и другие надписи. Шрамы изуродовали его так, что смотреть страшно. Ни время, ни солнце не помогло: даже через три года его лицо трудно было назвать лицом человека.
И Воркута, и Сергей не раз вскрывали себе вены. Сергей вспарывал живот и выпускал кишки, глотал всякую дрянь.
У них в камере произошла такая история. С ними сидел венгр Антон. Я не помню его фамилии, все звали его Мадьяром. Мадьяр попросил Воркуту, чтобы тот, когда решит вскрывать себе вены, не давал бы крови литься на пол, а собрал бы ее в миску. Воркута сначала опешил, а потом согласился:
— А мне что, жалко, что ли? Все равно пропадет.
И вот Воркута по очередному поводу режет себе бритвочкой вены на руке, а Мадьяр подставляет миску и собирает кровь. Остальные в камере этого не видят. Они, как узнали, что Воркута задумал резаться, отвернулись и уткнулись в книжки. Они не могли видеть, как кто-то что-нибудь делает над собой, а ведь вмешиваться не полагается. О договоре Мадьяра с Воркутой никто не знал и не догадывался, что он в этом деле заинтересованное лицо.
Мадьяр собрал полмиски крови, накрошил туда свой хлеб и стал хлебать эту тюрю. Степан и еще их сокамерник, тоже украинец, Михаил, обернулись на звяканье ложки и видят: Мадьяр сидит у себя на койке с миской на коленях, черпает ложкой кровавый суп и с жадностью ест. Губы и подбородок у него в крови, кровь капает с ложки, а он ее подбирает, подлизывает языком. Михаил, поняв, в чем дело, даже до параши не успел добежать, его тут же вырвало.
Они рассказали нам про этот случай. Мадьяр, ничуть не смущаясь, объяснил:
— Все равно кровь льется, не пропадать же ей.
Этот самый Мадьяр решился на тайную голодовку. Тайная голодовка еще страшнее обычной, объявленной. Ему, видно, все на свете надоело, и он действительно хотел умереть. Он не делал никаких заявлений, не отказывался от пищи, каждый раз брал свою пайку, баланду на обед. Но есть он ничего не ел, все потихоньку отдавал сокамерникам. Так продолжалось более недели. И все это время он, как и все, должен был ходить на оправку, на прогулку, не имел права прилечь днем. Все это время я каждый день видел его на прогулке, видел, как он буквально превращается в тень. Как он поднимался по лестнице, я не пойму! Мы все и то шли, держась за стенку.
Однажды нас, как обычно, вели на прогулку. Мадьяр шел позади меня. Вдруг я почувствовал толчок в спину — и он повалился вперед на бетонные ступеньки лестницы, перевернулся через голову, докатился по ступенькам до площадки и там остался лежать. Надзиратели заторопили нас, прогнали мимо него. Он лежал, как мертвый, с широко открытыми остекленевшими глазами.
На другой день мы узнали от семьдесят девятой, что Мадьяр жив, его притащили снова к ним в камеру и он продолжает голодовку, но уже не тайную, а объявленную.
Обратный путь
Неожиданно для меня за год до конца владимирского срока меня отправили в лагерь. В то время, в начале лета 1963 года, из Владимирки стали отправлять многих зэков, тех, у которых оставалось еще немного тюремного срока. Место, что ли, в тюрьме понадобилось для новых?
В транзитной камере я встретился с Толей Озеровым, его тоже отправляли в Мордовию. За время тюрьмы он почти совсем ослеп, и я с болью представлял, как он будет ходить по лагерю с палочкой, вроде Сани-слепого. Но ведь и я здесь почти оглох, и Озеров, наверное, в это же самое время с той же болью думает обо мне.
— Да, Толик, не такими мы сюда приехали, — сказал он.
Бурова с нами не было. Неужели оставили досиживать?
Знакомые «воронки», ничуть не переменившиеся вагонзаки, те же пересылки, только в обратном порядке: Горький, Рузаевка, Потьма.
На горьковской пересылке нас повели в баню. В бане, еще в раздевалке, перед моечной, сидел дежурный офицер и каждого осматривал: не накололся ли дорогой? С разрисованных он снимал копию — переписывал, что написано и где, на каком месте. Дошла очередь до Воркуты (он тоже ехал в лагерь). Ну, офицеру хватило работы на час! Воркута стоял перед офицером в синих трусах, поворачивался перед ним то грудью, то спиной. Когда опись была закончена, офицер спросил:
— Все, что ли? Ничего не пропустил?
— Хрущева пропустил, — ответил Воркута.
— Хрущева? Где?
— Хрущева на х…
— Что ты сказал?! В карцер захотел?
— Вы спросили, где у меня наколот Хрущев, я вам правду ответил, что на х…
— Покажи!
Под хохот всех зэков Воркута спустил трусы и показал: на члене во всю длину крупными буквами «Хрущев».
— Правда симпатично? — с невинным видом спрашивал Воркута, поглаживая своего Хрущева. — Только скучает один, бедняга. Фурцеву бы ему сюда для коллективного руководства.
Офицер, опустив голову, дополнял опись.
Баня в горьковской пересылке хорошая, самая лучшая из всех, какие мне приходилось видеть. Все зэки ее хвалят, и слава горьковской бани идет по всем лагерям и тюрьмам.
Как всегда, едем всю дорогу с плотно задернутыми занавесками. Они между стеклом и решеткой. С воли и не догадаться, что за этой обычной занавеской толстые железные прутья, а за ними бледные люди, страшные, заросшие грубой щетиной. А нам, с нашей стороны, не видно воли.
В Саранске солдат в коридоре отдернул занавеску прямо против нашей зарешеченной двери. Мы кинулись смотреть. На перроне стояла старуха с мешком, убого одетая, в лаптях — землячка космонавта Николаева.
Снова лагерь
В Потьму нас привезли в начале лета. Несколько дней просидели на пересылке, прошли медкомиссию — кому какая категория труда. Все, кроме одного Степана, получили первую, а Степан, без ноги выше колена, то ли вторую, то ли даже третью. Остальные наши недуги — геморрои, грыжи и прочее — в счет не шли.
Уже здесь, на потьминской пересылке, мне бросились в глаза некоторые перемены и новшества. Один барак был весь набит особорежимниками, и все они были в полосатой форме. Такую форму они носят и сейчас, и зовут их зэки «полосатиками» или «тиграми». Тогда на Потьме это были в основном религиозники — их почему-то стали отделять от всех и переводить на спец.
Через три-четыре дня нас всех погрузили в «Столыпины» и повезли по лагерям, кого куда. Я попал на семерку, Озеров тоже. Это недалеко от Потьмы, на станции Сосновка.
От станции нас повели под конвоем — впереди, по сторонам, сзади автоматчики с собаками. Но я так наслаждался этой дорогой, что позабыл и про конвой. Как хорошо идти по простой утоптанной дороге через поселок, за которым совсем рядом виден лес! По обочинам дороги растет трава — я ее не видел два года. Вот стоят деревянные домики, и хоть я знаю, что в них живут сторожа и надзиратели, но самый вид этих мирных домиков в два-три оконца радует и успокаивает. Идешь, вдыхаешь полной грудью свежий, лесной воздух и знаешь, что ты и завтра, и послезавтра будешь дышать им, а не спертым воздухом камеры, не испарениями параши.
Вот и зона, такая же, как все другие зоны: вышки, колючка, забор, прожекторы… А черт с ним! Все-таки не тюрьма с ее серыми стенами и окнами в намордниках! Ждем у вахты минут сорок. Перекличка, счет-пересчет, вызывают группами, обыскивают. Впускают в зону.
Внутри около вахты толпа зэков — те, кто работает во вторую смену и в ночь, — пришли встречать очередной этап. Только я сошел с крыльца, как меня взяли в кольцо, засыпали вопросами, кто, какой срок, за что. Первый вопрос:
— Тоже из Владимирки? Оно и видно! Краше в гроб кладут.
Первым делом повели в столовую, по дороге продолжали расспрашивать: не знаешь ли такого-то? А такого-то? А днем и сейчас лежать не дают? Пауэрса видели? Кто сейчас начальником — Гришин или Цупляк?
Столовая на седьмой такая же, как всюду: голые крашеные столы, длинные лавки, в одном конце раздаточные окна, в другом сцена, а на ней трибуна и белое полотнище — экран. Над сценой, на сцене, по всем стенкам столовой висят лозунги, плакаты, фотомонтажи.
Но обстановка меня сейчас мало интересовала.
Меня усадили за стол, где уже работали ложками несколько зэков с нашего этапа. Вокруг новеньких толпились местные старожилы, рабочие кухни, повара в своих бело-серых халатах. Мне тут же налили супа-лапши, подвинули поближе целую стопку нарезанного хлеба, сунули ложку в руки:
— Ешь, нажимай!
Я помешал ложкой суп. Он был жидкий и постный, хоть повара наливали нам со дна погуще. Но мне в этот раз показалось, что такой лапши я и дома не ел.
— Что, земляк, похожа на владимирскую?
Я ответил, что из одной здешней порции владимирских выйдет пять.
Я и сам не заметил, как в одну минуту опорожнил свою миску. Тут же у меня ее забрали из рук и снова принесли полную:
— Ты ешь, ешь! — Я понял, что съем эту и мне нальют еще. Мне стало стыдно, что я ем с такой жадностью, и я решил отказаться от третьей порции. А чтобы легче было отказаться, решил возместить это за счет хлеба. Хлеб был нарезан кусками поперек целой буханки; одного такого куска мне хватало как раз на четыре укуса… Я старался на каждую ложку лапши набить полный рот хлеба, и мне приходилось то и дело тянуться за новым куском. Мне стало стыдно и этого. Я мог уже есть медленно, реже брать хлеб и, когда мне предложили третью миску лапши, отказался, сказав, что уже сыт. На самом деле я чувствовал, что хотя и набил полное брюхо, но могу есть еще и еще.
Мы поднялись, чтобы выйти из столовой, и тут здешние зэки предложили нам взять еще хлеба с собой: ужин в пять, а в четыре дадут кипяток, так чтобы было с чем чай пить. Мы обрадовались чуть не до слез.
Такая благодать с хлебом продолжалась на семерке при мне еще месяца два — ешь, сколько съешь. А потом и здесь стали выдавать пайки. Но в зоне это не страшно, я потом объясню почему.
После обеда я пошел бродить по зоне. Накормив, меня оставили одного, чтобы я мог осмотреться. Первое, что здесь бросилось мне в глаза, — это обилие зелени: много деревьев, кустов, около бараков разбиты цветники — правда, цветы еще не распустились. Так же много, если не больше, всяких лозунгов и плакатов, но я на них не смотрел, не замечал их, любуясь травой и деревьями. В зоне было очень много зэков, всего в этом лагере народу свыше трех с половиной тысяч, и поэтому здесь всегда многолюдно, даже и днем, когда первая смена на работе.
Еще я заметил, что теперь все зэки одеты одинаково в черные бумажные куртки, такие же брюки, на бритых головах форменные черные шапочки. Два года назад этого не было, тогда в жилой зоне можно было носить вольное, свое. Правда, в этот жаркий день многие были без шапочек, в распахнутых куртках, а некоторые и вовсе, раздевшись до пояса, загорали где-нибудь на солнышке. (Позже, в последний мой лагерный год, нас уже основательно гоняли за такую вольность, заставляли носить куртки в любую жару не снимая: «Не на курорте!»)
Я ходил, надеясь встретить знакомых, но знакомых не было. Некоторых я узнавал в лицо, вспоминал, что, кажется, видел на десятом, но знать их не знал, я ведь пробыл там до Владимирки всего несколько месяцев. Меня не узнавал никто. Правда, многие оглядывались, спрашивали: «Из Владимирки?» — и, услышав утвердительный ответ, замечали: «Оно и видно».
Я пошел в парикмахерскую. Здесь работали пять мастеров-заключенных, к каждому была длинная очередь. И здесь тоже я почувствовал исключительно дружеское, заботливое к себе отношение: догадавшись, что я из тюрьмы, меня сразу пропустили без очереди. Я сел на стул к хромому литовцу-парикмахеру, и, пока он меня брил, со всех сторон на меня сыпались все те же вопросы. Спрашивали и мастера, и клиенты, а литовец повторял мне все в ухо, чтобы я слышал.
Как было приятно сидеть с чистой салфеткой на шее, впервые за два года почувствовать прикосновение помазка с мылом! От удовольствия я закрыл глаза и старался ни о чем не думать.
После бритья я вышел из парикмахерской, проводя рукой по выбритому подбородку и не ощущая привычной щетины! И тут я увидел знакомого. Мимо парикмахерской, все так же ощупывая палочкой дорогу перед собой, шел Саня-слепой, тот самый, который встретился мне в первый день на десятом два с лишним года назад. Все приподнятое настроение как рукой сняло. Чему я, дурак, радуюсь?! Ведь это все та же Мордовия, лагерь, та же тюрьма, только стены раздвинуты пошире да видно небо над головой.
До четырех часов я еще успел заглянуть в библиотеку. Здесь было полно народу, сесть негде, так что я только походил по комнате. Как и в столовой, и на территории, везде были развешаны плакаты, вырезки из газет и журналов, изречения классиков, лозунги, лозунги, лозунги: «Кто не работает, тот не ест», «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», «Ленин всегда с нами». Больше всего высказываний и цитат из речей и докладов Хрущева: куда ни глянешь, всюду «Н.С. Хрущев» и его лицо на разных снимках и вырезках.
Но пора уже было идти в штаб на первую беседу. Около штаба ожидала группа новеньких, подходили еще, обсуждали предстоящую нам работу, кому какая достанется. Выбор от нас не зависел: куда пошлют, там и будешь работать. Вызывали по одному, и каждый, выходя, сообщал: «В восьмой отряд», «В двадцать седьмой», «В литейку». Дошла очередь и до меня.
В просторном кабинете собралось почти все начальство: сам начальник семерки подполковник Коломийцев, его замы и помы, офицеры — майоры, капитаны, лейтенанты, старые и молодые. Разговаривал со мной какой-то майор с татуировкой на руках, со шрамом через всю щеку и губу — потом мне объяснили зэки, что это заместитель начальника лагеря Агеев по прозвищу Губа, страшный матерщинник и скандалист. Про него говорили, что он брат того Агеева, который избивал нас на десятом, что его покалечил за что-то зэк-уголовник и что он сам бывший уголовник. Не знаю, что тут правда, но держался он действительно как блатной: крыл матом всех почем зря, орал на всю зону, зато не обижался и не наказывал, если его самого зэк посылал к такой-то матери — похоже, что ему это даже нравилось. Вот этот Агеев задал мне все положенные вопросы, спросил, не собираюсь ли я снова бежать (я, конечно, сказал, что нет, уж досижу, сколько осталось), и сообщил, что я буду работать в аварийной бригаде грузчиком.
— А что это за бригада, какая работа?
Молодой лейтенант объяснил мне: бригада разгружает вагоны с углем, лесом, пиломатериалами, грузит в вагоны готовую продукцию. Я сказал:
— Я же глухой, как мне работать на грузах? Не услышу команды — и меня запросто придавит.
— Ничего, постараетесь, так услышите, — ответил лейтенант, — у нас и не такие работают.
Это был мой отрядный Алешин. Вечером он беседовал со мной в своем кабинете. Снова те же надоевшие вопросы, на которые приходится отвечать каждый день, — фамилия, статья, срок — и потом новый вопрос:
— Раскаиваетесь ли, сожалеете о содеянном?
— Здесь мне приходится сожалеть не о том, что бежал, а лишь о том, что неудачно.
Алешин на это промолчал, а потом коротко объяснил мне мои обязанности и лагерные правила и порядки.
Вскоре я с ними познакомился на практике.
Пока что я отправился в барак, в свою секцию, устраиваться.
Наша секция была самая лучшая во всей зоне: койки стояли не в два яруса, как у всех остальных, а в один. Мне показали, где поставить койку (это, сказали, счастливое место: здесь спал один двадцатипятилетник, который как раз вчера освободился, отсидев всего двадцать один год), где взять мешок для матраца и все остальное зэковское лагерное имущество и одежду, в том числе и шапочку, какие я приметил еще раньше в зоне. Эта шапочка из черной материи напоминает пилотку с козырьком и называется у нас «кубинкой», а на десятом мы еще носили фуражки-сталинки. Зэки шутили, что Хрущев и в лагерях искореняет культ Сталина и заигрывает с Фиделем.
Придется завтра и мне надеть черную зэковскую форму и носить ее не снимая оставшиеся три года.
Потом наш дневальный Андрей Трофимчук (тоже двадцатипятилетник, украинец из Киева, отсидевший уже шестнадцать-семнадцать лет; вообще тогда на семерке было очень много двад-цатипятилетников) повел меня в рабочую зону набивать матрац. Сначала меня не хотели пропускать через вахту в своей одежде, но Андрей уговорил надзирателя, и мы прошли. Только вошли в рабочую зону, навстречу нам поток женщин — вольных, чисто одетых. Это кончился рабочий день в конторе и у прочих служащих, а почти все служащие — жены или дочери офицеров и надзирателей. Женщины проходили мимо Андрея, не замечая его, глядя сквозь него, как сквозь стекло; зато со мной многие из них здоровались. Я удивился, но Андрей, смеясь, объяснил, что они, наверно, приняли меня за «своего», вольного, потому что я одет не по-зэковски, а что доходной — на расстоянии незаметно.
Мы пришли в сарай, где на строгальном станке зэки превращали обрезки досок и чурок в стружку — заготавливали «пух» для матрацев и подушек для лагеря. Выбрали тюк стружки посуше, набили чехол и наволочку и пошли обратно в жилую зону. На вахте, конечно, обыскали и нас, и наши чехлы со стружкой — уж как водится.
В бараке была уже вся наша бригада. Люди вернулись с работы, поужинали, получили продукты в ларьке и сейчас пили чай. Ко мне подошел бригадир Антон Гайда и сказал, чтоб я взял себе свертки со стола. Оказалось, что каждый зэк из бригады отложил мне из своих купленных продуктов ложку маргарина и отсыпал несколько штук конфет-карамелек, так что теперь и у меня будут свои продукты — столько же, сколько у всех наших. Все уговаривали меня взять, не стесняться: известно же, что такое Владимирка, — кое-кто из бригадников и сам там побывал! А ларек я получу не скоро, месяца через полтора, когда еще свою пятерку на ларек заработаю. Нечего и надеяться продержаться на одном лагерном пайке, это только поначалу кажется, что здесь в столовой наешься, а как поживешь и поработаешь, так увидишь, что без своего, без ларька, ноги протянешь.
Так они убеждали меня взять продукты, заодно объясняя, какая мне предстоит жизнь. Растроганный их заботами и сочувствием, я взял свертки и отнес к себе в тумбочку.
Присматриваясь к бригадникам, я вдруг увидел знакомое лицо и вспомнил, узнал этого зэка. Это был Иван Третьяков, с которым мы вместе ехали от Тайшета по всем пересылкам до Мордовии. Только меня тогда отправили на десятый, а его сразу сюда, на семерку. Он тоже обрадовался мне, тому, что мы будем в одной бригаде. Внимательно разглядывая меня, он сказал, что меня не узнать, что сам он ни за что не узнал бы, что я здорово переменился с 1961 года, дошел так, что смотреть страшно. Да еще и без усов — «куда усы подевал, съел с голодухи, что ли?» Мы болтали, обменивались известиями о наших знакомых-попутчиках. Потом Иван вдруг спохватился, заизвинялся и потащил меня в угол, на свою койку, пить чай. Мне снова стало стыдно за мой голодный вид. Я уже много съел сегодня, но глазами готов был есть и есть; наверное, это было заметно со стороны.
Иван принес две кружки кипятку, достал хлеб, маргарин и ларьковые конфеты из своей тумбочки, стал меня угощать. Мы сидели на его койке, пили кипяток и разговаривали, вспоминали все наши этапные мытарства. Иван показал мне фотокарточки своей семьи — жену и двух дочек. Они живут в Балхаше, старшая дочь уже замужем. Я вспомнил историю Ивана: он и его семья жили в Западной Белоруссии, и, когда пришли немцы, Иван пошел служить в полицию. Здесь, на семерке, был один из их села; он рассказывал потом, что Иван, когда был полицаем, не зверствовал, никого не притеснял, просто служил. Сам Иван не бил себя в грудь, но и не оправдывался, а просто объяснял свой поступок тем, что надо же было кормить жену и детей. Ну, что там было в те времена, в войну, не знаю, не берусь судить, а только и в этапе, и в лагере Иван вел себя как порядочный человек и хороший товарищ. Таким его считали все в нашей бригаде, а зная его, и ко мне стали относиться не только сочувственно, но и с доверием: Третьяков со стукачом дружить не станет! А то ведь бывает так, что администрация под видом новеньких перебрасывает стукачей из лагеря в лагерь.
Так вот, после немцев Ивана взяли в советскую армию, он воевал до последнего дня, а когда вернулся, его посадили на двадцать пять лет. Одно время в Балхаше его перевели на вольное поселение, и к нему туда приехала семья, да там и осталась. А его самого, как большинство поселенцев, снова закрыли в лагерь, отправили в Тайшет. Тогда-то мы с ним и встретились.
Иван, что-то вспомнив, сказал мне:
— Да, Толик, плохой из тебя пророк.
— А что?
— Помнишь, с нами из Тайшета ехали два деда — Иванов и другой, седой такой, с большой бородой, поволжский немец? Ты им еще пророчил, что они скоро выйдут и ты будешь их провожать на свободу. Помнишь? Так вот, с Ивановым можешь завтра поздороваться, он здесь.
— А немец?
— А немец вышел — ногами вперед. Он ведь тогда тебе говорил: «Толик, воли мне не видать до конца жизни. Я не освобожусь, умру за забором». Здесь он и умер.
Проболтали мы с Иваном до самого отбоя. Он посоветовал мне идти в его звено, на разгрузку леса и угля. В другом звене работа немного полегче — погрузка продукции, выгрузка бочек, деталей контейнеров с бумагой, зато там и на ларек не заработаешь, а в «большом» звене все-таки рублей двадцать в месяц начисляют, а то и больше. И по ночам не так часто поднимают, редко дважды за ночь. Я согласился, а с бригадиром мы легко договорились.
Первые три дня бригадир не вызывал меня на работу, дал отдохнуть, отдышаться. Его об этом просила вся бригада. Делалось это, конечно, втайне от начальства. Меня в табеле отмечали как работающего. Не то быть бы мне в карцере как отказчику. Только в аварийной бригаде возможны такие хитрости. В большом звене у нас шестнадцать человек, а на вагон требуется всего двенадцать. Четверо остаются в зоне. На следующий вызов надо снова отправлять двенадцать зэков — тех четверых, что не ходили, и еще восемь. И так, по очереди, четверо из звена всегда в зоне. Вот меня и не вызывали три дня, только велели не попадаться на глаза отрядному. Ну а на четвертый день — хватит прохлаждаться за чужими спинами, пора свою гнуть.
Первый раз меня вызвали на работу перед вечером — подали под разгрузку вагон леса. Работа сама по себе каторжная, а тут еще с отвычки, да после двух лет Владимирки. Но ребята меня подбадривали: «Ничего, привыкнешь». Вернулся, свалился на койку и сразу уснул, даже не евши. Проснулся я, как мне казалось, через минуту. Когда я лег, все раздевались после работы. Открыл глаза — все еще раздеваются, шумят, обсуждают разгрузку, лес, шмон на вахте. У меня во всем теле такая разбитость, будто и не ложился, — а оказывается, уже ночь прошла и бригада третий раз с разгрузки вернулась — ночью еще два раза поднимали. Меня будить не стали, пожалели. Я с трудом встал, еле разогнулся, поясница болит, руки, ноги, шея. Пошел умываться — не могу ровно идти, ноги не гнутся, всего так и качает. Иду, переваливаюсь, как утка. Надо мной долго еще посмеивались за эту мою утиную походку. Пришел в умывальник, а там говорят: в умывальнике в одной секции зэк повесился, утром сняли уже холодного. Латыш или литовец с двадцатью пятью годами. Он просидел уже шестнадцать, представили на суд, на снятие срока до пятнадцати, а суд отказал. Значит, еще девять лет сидеть. Он и повесился.
Новые порядки
Новый год, порядки новые. Колючей проволокой наш лагерь окружен. Со всех сторон глядят глаза суровые, И смерть голодная повсюду стережет.[9]Постепенно я действительно привык к работе и обжился в седьмом лагере. Я узнал о переменах не только внешних, сразу бросившихся мне в глаза. С осени 1961 года положение в лагерях сильно ухудшилось и с тех пор продолжает ухудшаться с каждым годом. Что же представлял собой режим для политических в 1963–1965 годах и до 1967 года?
Заключенным бреют голову, не разрешают носить свою одежду и обувь. Зэк все время должен ходить только в черной лагерной форме, в тяжелых ботинках или сапогах (и женщины тоже). Зимой — телогрейка или бушлат поверх той же бумажной куртки. Если надзиратель увидит на зэке вольную рубашку или кепку, то за ним будут гоняться по всей зоне, поймают, отберут, а самого — в карцер. То же самое, если найдут вольную одежду на койке при обыске. Обыски в бараках часты и бывают обычно, когда все на работе. А тех, кто в другой смене, выгоняют на это время из секции. Перероют все, перекопают постель и тумбочки, пересмотрят все твои бумаги, и письма, и записи; что захотят, то и отберут. Переписка ограничена, два письма в месяц. Правда, в лагерь могут писать сколько угодно. Это лишний раз показывает, чего боится начальство. Оно всячески старается ограничить сведения из лагеря, чтобы на воле меньше знали, что там творится. При этом заключенных предупреждают, что они не должны писать своим родным о лагерных порядках и о режиме. Все письма просматриваются цензором. Сдают письма в открытом конверте. Если цензору что-либо покажется лишним, он вернет письмо. И письма с воли получаешь во вскрытых конвертах. Иногда в письме одно-два предложения густо замазаны. Некоторые письма вообще пропадают: цензор конфискует их и приобщает к делу заключенного или просто так не отдает. А с кого спрашивать? С министерства связи?
Можно получать бандероли: книги, журналы, газеты. Только советские. А даже польские или чешские читать нельзя — даже юмористические. Многие наши заключенные знали иностранные языки. В зоне можно найти знатока почти любого языка мира, от английского до какого-нибудь африканского или индийского наречия. Некоторые знают шесть-десять языков. Так что учиться есть у кого. А вот книги и газеты на этих языках можно получать только изданные в Советском Союзе. Учебники тоже.
Еще в бандеролях разрешается получать мыло, зубную щетку, тетради. И носовые платки. Все бандероли насквозь прощупываются, просматриваются, изучаются.
Конечно, бывает, что в больничной зоне зэк ходит в свитере под форменной курткой, наденет кепку или берет вместо осточертевшей кубинки. Бывает, что в бандероли пройдет пара носков, теплый шарф. Но это уже недосмотр цензора или надзирателя, за всем и всеми ведь не углядишь, когда тут мельтешат три с лишком тысячи разных людей. А уж зэк, который вот таким образом «нарушает», старается не попадаться на глаза, офицера обойдет за три версты. Получать продукты и даже курево с воли на строгом режиме вообще запрещено. Ни передач, ни посылок. Зэк на это не имеет права. Администрация лагеря имеет право разрешить посылку или передачу в порядке поощрения за примерное поведение, за то, что зэк «стал на путь исправления». Но и то только тому, который отсидел половину своего срока. Значит, полсрока вообще без передач, а через полсрока тебе могут разрешить «льготу» — одну посылку в пять килограммов раз в четыре месяца. Двадцать килограммов продуктов в год — по полтора кило в месяц. И ради этого надо на работе из сил выбиваться, выжимая норму, ни разу ни в чем не нарушить лагерных правил. Но этого, конечно, мало. Бывает, зэк обижается на начальство:
— Я полсрока отсидел, норму даю, нарушений не имею — почему посылку не разрешаете?
Отрядный разъясняет:
— Подумаешь, не нарушаете! За нарушение мы наказываем, а льготы надо добиться, надо заслужить.
Заслужить — это известно, что значит: выслуживаться перед любым начальством начиная от надзирателя, сотрудничать с администрацией, быть лагерным «активистом», притеснять своих же товарищей, «стучать». А в общем, это значит, что ты отдан на произвол лагерного начальства. Ведь продуктовая посылка в лагере — это очень много. Даже эти несчастные полтора килограмма в месяц. И каждый раз, каждые четыре месяца, об этом «поощрении» надо просить: идти к отрядному, подавать заявление, выслушивать мораль. И чаще всего — отказ. С лета 1965 года заявления стало мало: надо явиться на комиссию, в которую входят отрядный, начальник лагеря, представители КГБ, ПВЧ, опер. Эта высокая коллегия решает, разрешить ли зэку эти пять килограммов или он не заслужил такой милости. Большинство заключенных, отсидев весь срок, ни разу не получили посылки. Я за все шесть лет получил только одну передачу от матери — пять килограммов продуктов, да и то когда лежал в лагерной больнице. Мне моя знакомая прислала яблоки. Это был подарок ко дню рождения. Я узнал об этом только месяц спустя из ее письма. Я ей ответил, что она наивный человек, если предполагает, что зэку у нас можно есть яблоки. Может, она вычитала о тюремных передачах в газете, в статье о каких-нибудь «трудных страницах»?.. Мое письмо конфисковали, приобщили к делу, меня вызвали в КГБ и предупредили, что за такие письма недолго и срок добавить. Яблоки сгнили, наверное, пока шли обратно.
Если в посылке весу на сто граммов больше позволенных пяти килограммов, вместе с тарой, — отправят обратно. Если пришла посылка от друга, а ты не знаешь обратного адреса на ящике, отправят обратно.
Ну а какие же права у заключенных? Вот право на переписку — с ограничениями и цензурой. Право на свидание с родными — о нем я расскажу отдельно. Право покупать продукты в лагерном ларьке на пять рублей в месяц и только из заработанных здесь, в лагере, денег. Не осталось после всех вычетов на ларек — сиди без ларька, хоть бы родные и прислали деньги. В лагерном ларьке запрещены по режиму и не продаются сахар, сливочное масло, мясные и рыбные консервы, хлеб. Там только овощные консервы, компоты (их редко кто берет — дорого, всего ведь на пятерку), дешевые конфеты, маргарин. Есть мыло, папиросы, махорка, зубные щетки, конверты, тетради. Можно купить лагерную одежду, да кто же станет ее покупать из тех же пяти рублей?
Но и все эти права — как сон, как мираж. Администрация имеет право лишить зэка всего этого. Считается, что за нарушение, — а за кем не найдется нарушения, если захотят найти? Вот и лишают — кого хотят — ларька на месяц, на два, на три. И тогда сиди на гарантийке — на лагерном пайке, разработанном согласно научным нормам так, чтобы не помереть. Дневная норма — 2400 калорий: 700 г хлеба, 80 г трески, 50 г мяса (собака овчарка, охраняющая зэка, получает 450 г мяса), 450 г овощей (картошка и капуста), граммов 30 крупы или лапши, 20 г жиров, 15 г сахара — это все. Это в полтора раза меньше того, что нужно человеку даже при не очень тяжелой работе. Говорят: а ларек? Так ведь ларька лишают! По правилам, по инструкции обрекают на недоедание!
Да и из этого не все попадает к зэку в миску. Вот въезжает в зону подвода с мясом на всю зону. На три тысячи человек —150 кг. Смотришь на это мясо и не знаешь, что о нем думать: то ли дохлятина, то ли еще что похуже. Синее, одни кости да жилы. Сварить-то еще сварят, а на зуб попадет, хорошо, если граммов 15. Капусту везешь — не сразу и разберешь, что это такое: какие-то черные, склизкие, зловонные шары. Сколько из положенной нормы выбрасывают на свалку! А весной и летом кухонные рабочие уже и не решаются выбрасывать порченую картошку, а то и в суп нечего будет класть. Вот и кидают в котел черную, гнилую. Летом подойдешь к кухне — замутит от вони: тухлая треска, гнилая капуста. Хлеб такой, какой в войну ели. У нас на семерке была пекарня, так хлеб выпекали двух сортов: черный для зоны, белый для воли. Уж, кажется, с сахаром — что можно сделать? Не сгноишь, не намешаешь ничего. Зато его дают нам влажным, чтобы был потяжелее: дадут сразу на десять дней 150 г, потому что если выдавать 15 г каждый день, так там не то что есть — смотреть будет не на что.
За шесть лет тюрьмы и лагеря я дважды ел хлеб с маслом — привозили на свидание. Съел два огурца: в 1964 году один огурец, а еще один — в 1966-м. Ни разу не ел красного помидора, ни разу яблока. Это все запрещено.
За питание удерживают каждый месяц 13–14 рублей из заработка. Вот я на воле теперь хожу в столовую, где обеды дешевые. Щи — 23 копейки порция, второе — копеек 25–27, если не мясное, стакан компота 7 копеек, да хлеба беру на 4–5 копеек; на один обед бо копеек в день, в месяц 18 рублей. Да на завтраки и ужины почти по столько же. На еду у меня уходит в месяц рублей 50, почти весь мой заработок, и то не скажешь, что я прилично питаюсь. А на зэка — 13 рублей! Это если бы он ел одни щи из столовки раз в день и свои 700 граммов хлеба, вот почти и вся сумма, на все остальное пришлась бы трешка в месяц. Никакой дотации зэкам не полагается, кормят только на эти вот наши же деньги. Каждый может прикинуть и понять, что это за кормежка. И то на гарантийке еще ничего по сравнению с карцером, с пониженной нормой питания. Пониженная — это 1300 калорий, треть того, что нужно человеку. 400 или 450 г хлеба, совершенно пустая баланда, раз в день треска — те же 80 г или меньше. И ни грамма сахара, ни волоконца мяса, ни грамма жиров. При этом ты должен работать, а если не сможешь и откажешься, засудят — и в крытку.
Голодные зэки, истосковавшиеся за годы по зелени, по свежим овощам, бывает, добудут семена и посеют где-нибудь в зоне, в дальнем углу, морковку или лук. Надзиратели все равно рано или поздно увидят и вытопчут. Нельзя! Кавказцам удается сеять свою съедобную пряную травку. Эта растет на пользу зэку: надзиратели ее не знают, не отличают.
Такой вот и есть сейчас строгий режим. Это главным образом режим для политических, потому что уголовникам строгий режим дают за рецидив, за преступление и нарушения в лагере, да и то не на весь срок — подержат на строгом часть срока и снова переводят на общий. Для уголовников, бытовиков строгий режим — это самая суровая мера наказания. А для нас, политических, — самая мягкая, с нее начинают, слабее суд не дает. Политические со строгого могут попасть только на спец или в крытку. А там еще хуже.
Работа
На семерке я почти все работы перепробовал. У нас там было большое мебельное производство — три с половиной тысячи заключенных, все, кроме части инвалидов, работали на заводе. Пилорама, раскройный цех, машинный цех, сборочные, отделочный, своя литейка, кузница, своя лесная биржа, свои строители. Вольные только мастера и начальники. Все рабочие — зэки.
Мне пришлось месяца два поработать в отделочном цехе. Там вредные испарения, запах лака и ацетона, у рабочих головокружение, рвота. Отделочники, правда, получают дополнительное питание — 400 г молока в день, литейщики тоже. Но, как водится, молоко привозят не каждый день. А еще многие стараются поделиться с друзьями, которые иначе за пять-десять лет даже вкус молока позабудут. Ну как же тут одному пить?
Литейка в то время, когда меня туда перевели, была адом. Плавили и отливали детали из ЦАМ — сплав цинка, алюминия и меди. Печь была старая, вытяжка плохая, надышишься цинковых паров, газа, дыма — и бежишь, распаренный, наружу, глотнуть свежего воздуха.
На зэков не распространяется закон о том, что на вредных работах рабочий день меньше восьми часов. После смены тебя трясет, как в лихорадке, а тут еще жди час у вахты на разводе. Уже после меня выстроили новую литейку, не знаю, как там сейчас. Нормы у нас невыполнимые. И все время их повышают, расценки снижают. Некоторые, чтобы заработать побольше, вкалывают вдвоем, а пишут на одного. У одного получается процентов 150 или больше, а другому запишут Ю-30 процентов и ладно — лишь бы не перевели на пониженную норму питания. Зато первый делится с другом. А может, еще и останется на личном счету и себе на ларек заработает. Несколько месяцев, полгода, год такой работы — и хоть одному есть с чем выйти на волю, хоть на первое время хватит. А с воли он постарается помочь оставшемуся другу. Однако это опасно: могут, равняясь на такого «передовика», повысить норму для всех.
Некоторые остаются без обеда, остаются на вторую смену, но за четырнадцать-шестнадцать часов такой рабочий даст процентов 150–170. И заработок больше, и на хорошем счету у начальства. Начальство, в общем, знает об этих фокусах. А насчет сверхурочной оно прямо договаривается со «своими» зэками; их потом числят в передовиках, по ним поднимают норму для всех остальных: «Вот он может, и вы должны!» Считается, наверное, что выработка повышается за счет механизации, а на самом деле это повышение за счет крови и пота зэка. В отделочном цеху на полировке сначала норма была отполировать шесть корпусов радиолы «Югдона», а при мне догнали до тринадцати штук. Корпусов телевизора «Радий-В» в 1964 году надо было сделать четыре штуки, а в 1965-м — шесть штук. А «техника» остается та же: трешь вручную ватным тампоном с ацетоном, пока не доведешь поверхность до полного блеска.
Но главным образом я работал грузчиком в аварийной бригаде. Про первый выход на разгрузку леса я уже рассказал — вот так и было изо дня в день, по пять-семь вагонов в сутки. Осенью и зимой, не успеет просохнуть в сушилке одежда, как новый вызов, натягиваем все мокрое и идем. Работы так много потому, что на все производство нас шестнадцать грузчиков. С углем еще труднее, чем с лесом. Его везут и везут, по обе стороны уже горы угля навалены, и новый выгружать некуда. Подходят два-три вагона — и их почти не видно за этими горами. Значит, люки открывать нельзя: углю сыпаться некуда, и он весь уйдет под вагон. Кидаем его через борт лопатами, да еще надо отбрасывать подальше. Зимой он смерзается, и, до того как разгружать, надо его разбить ломиком. А еще перед всем этим — откатить вагоны на разгрузку, потому что путь плохой, и ни паровоз, ни мотовоз на него не пускают. Толкаем вагон в шестьдесят две тонны метров двести на подъем — не меньше часа на это уходит. Но ни это время, ни эта работа не учитываются и не оплачиваются, так как считается, что наша бригада работает «с применением малой механизации»; и то, что мы, бригада мощностью в двенадцать-шестнадцать зэковских сил, впрягаемся вместо паровоза — нипочем не впишут в ведомость. А вся наша «малая механизация» на разгрузке — это ломики, крючки, дрынки да поката.
Весной 1965 года у нас на лесной бирже поставили кран для разгрузки леса. Сразу же часть грузчиков перевели работать в цеха, а то как бы не пришлось тут меньше работы на каждого. Оставшимся теперь пришлось ходить на каждый вызов, а не в очередь. А работы, считай, что столько же: уголек все равно надо кидать лопатой, а кран то и дело останавливался из-за поломок. Его ведь в БУР не посадишь как отказчика.
А вообще-то зэковская работа сама по себе мало чем отличается от вольной. Я на воле с апреля 1967 года работаю грузчиком — у нас тоже нигде не отмечаемые сверхурочные, и так же вручную переталкиваем вагоны от склада к складу, и такой же заработок — рублей семьдесят — семьдесят пять (если не перерабатывать). На воле ешь посытнее, да из твоего заработка вычеты только подоходный и за бездетность. А в лагере сперва такие же налоги (и за бездетность с зэков тоже берут!), а потом 50 процентов от оставшегося отчисляют на содержание лагеря и его штаба: от надзирателей до управления и врачей, на ремонт наших бараков, на больных и инвалидов, из оставшихся 50 процентов — около тринадцати рублей берут за питание, несколько рублей выплачиваешь за свою проклятую лагерную форму, выданную в рассрочку. Из того, что остается, — пятерка на ларек (если разрешат)… Так что не разбогатеешь, как это пишут на рекламных плакатах: «Накопил — машину купил!» Дай бог скопить за весь срок на костюм и ботинки.
Впрочем, и на воле то же.
В свое время у нас в лагерях, как и на воле, прокатилась волна «работы на общественных началах». Собирает отрядный зэков-активистов и подсказывает им новое ценное начинание. Был у нас в библиотеке библиотекарь, и ему за его работу шла хоть и ничтожная, но зарплата, — так под нажимом начальства организовали дежурство заключенных в нерабочее время, даром. Библиотекаря уволили: хочешь — голодным сиди (инвалид работать не обязан), хочешь — иди через силу вкалывать на производство. Но это что еще — библиотека! Нас заставляли вот так, «на общественных началах», ремонтировать свой барак. Строят ведь вольные жилые дома за бесплатно, в нерабочее время. Конечно, рабочий ходит на такие общественные стройки (я не знаю — все ли добровольно идут?) — так, может, он в этом доме квартиру получит? А мы, выходит, должны на общественных началах ремонтировать свою тюрьму! И ремонтировали: откажешься — не получишь посылки от родных, плохая характеристика…
Так же, бесплатно и в нерабочее время, строили у нас зэки дом свиданий. На эту стройку некоторые пошли на самом деле добровольно, потому что уж очень плох и мал был прежний дом свиданий. Да еще у кого дорога дальняя, так и в отпуск не укладывались, приходилось отпрашиваться с работы за свой счет и все считанные дни отдыха проводить в Мордовии, простаивая у вахты. Многие женщины из-за этого совсем не могли приехать, и вот начальство расщедрилось: нате вам материал и стройте сами. Зэки строили новый дом на двадцать комнат и радовались: вот теперь и моя жена сможет приехать! Хоть для лагеря строю, но в то же время как бы и для себя.
Когда дом закончили, двенадцать комнат из двадцати начальство забрало под штаб. Расставили там свои столы, развешали портьеры. Выстроили зэки «на общественных началах» помещение для своих тюремщиков! Правда, восемь комнат отдали все-таки для свиданий. Очереди стали поменьше, не две недели, а дней восемь-десять.
Администрации, управлению от такой даровой работы выгода двойная. Одно — похвалят за успешное «перевоспитание» заключенных, а главное — получается большая экономия. Ведь на всякие ремонты, на строительство в лагере все равно у нас же, зэков, вычитают 50 процентов нашего заработка. А так и деньги вычли, и строительство провели даром. За экономию начальству идут большие премии. Зэку, конечно, шиш без масла.
Но главное зло лагерной работы не то, что она каторжно тяжелая, и не то, что работаешь почти даром, в общем за пайку хлеба, а когда и за так. Главное, за что ненавидишь этот труд, — за то, что он рабский, подневольный, унизительный, за то, что над тобой стоят дармоеды-надзиратели, за то, что тебя попрекают куском хлеба, который ты заработал своим горбом.
Когда я освободился и оказался в Москве, то, проходя мимо мебельных и радиомагазинов, все время останавливался возле витрин. Вот полированный стол, вот светлый, нарядный гардероб, вот знакомые коробки «Радий-В», «Югдона», «Мелодия».
Вы покупаете себе новый шкаф и сидите вечером в уютной комнате перед телевизором. Вы заплатили за свой телевизор 360 рубликов и теперь наслаждаетесь законным уютом и благополучием. Мне и моим друзьям-зэкам этот телевизор стоил пота, здоровья, карцера, долгих часов на разводе под дождем и снегом. Вглядитесь в полированную поверхность: не отразятся ли в ней бритая наголо голова, желтое, истощенное лицо, черная лагерная куртка? Может, это ваш прежний знакомый?
Зэковская экономия — двойная бухгалтерия
«Да как же так, — скажет, наверное, читатель, — как в таких условиях там у вас в Дубравлаге все не перемерли? Мы знаем, — скажет, — были страшные лагеря: Колыма, Воркута, Тайшет. Так ведь там от истощения подыхали пачками, доходяг буквально ветром шатало, косил голодный понос, цинга чуть не поголовная. Все-таки сейчас такого нет, тут что-то не так, неувязка».
Старые колымчане и воркутяне, оставшиеся зэками по сей день, объясняют: пайка сейчас та же и даже хуже, и посылок мало, и ларек ограничен да и тот отбирают; на тогдашних лесоповале, на шахтах, на приисках при нынешних условиях ни один зэк и сезона не выдержал бы, дошел. Все-таки теперь у нас работа более человеческая. Это одно. Другое — тогда в лагерях сидели миллионы, с воли помогать было почти что некому, да и чем тогда, в голодные военные и послевоенные годы, могли помочь?
Есть и третья причина.
Если в мордовских лагерях люди не подыхают с голоду, так это потому, что существуют всякие нелегальные, запрещенные способы доставать продукты. Ведь зэк здесь не замкнут в четырех стенах, как во Владимирке. Спасает зону от голода производство. Спасает тем, что на производстве работает много вольных — мелкие начальники, мастера, в рабочую зону приезжают с грузом, на этих машинах — вольные шоферы. Вся эта братия тоже еле-еле сводит концы с концами на свою зарплату. Их, конечно, пытаются запугать разными способами. Мол, здесь сидят бандиты, опасные преступники. Но такая пропаганда мало действует. Вольные, общаясь с зэками, видят, что это такие же люди, как они сами, и думают, в общем, так же… Каждый вольный понимает, что, выскажись он откровенно, сам очутился бы здесь, таким же зэком. Больше действуют угрозы: за неслужебные контакты с заключенными самое меньшее вылетишь с работы. Работой в зоне вольные дорожат прежде всего из-за надбавки к зарплате. Им доплачивают 15–20 процентов «за опасность», а на самом деле в политическом лагере какая опасность? Ее здесь меньше, чем на воле, где рабочие могут по пьяной лавочке избить и убить мастера. Вот этой надбавкой дорожат. Но и с ней зарплаты не хватает. А тут есть возможность заработать на коммерции с зэками, спекульнуть, и притом так выгодно, как нигде. Это, правда, грозит не только увольнением, но и судом. Но ведь трудно удержаться от соблазна!
Выгоднее всего торговать чаем. Его легко пронести, легче, чем масло, сахар, а барыш большой. За пачку чая, которая в магазине стоит 38–40 копеек, зэки платят вольному полтора-два рубля. Десять пачек — пятнадцать, двадцать рублей чистого дохода, столько, сколько мастер получает за пять дней работы на производстве. Чай попал в зону — и здесь оборачивается несколько раз, всякий раз принося выгоду очередному владельцу. У вольного чай закупил оптом зэк-коммерсант, а он уж продаст его своим в розницу, пачку за два с половиной — три рубля. А еще чай — это валюта. Один зэк стакнулся с надзирателем — и жена передает этому зэку по пуду продуктов в свидание (надзирателю, конечно, взятка). Он и сам не голодает и еще подторговывает овощными запасами, получает взамен чай; чай продает чифиристу. Другой — сам чифирист, он за чай ларек свой продаст. Ну и тому подобное.
Если начальство узнает, что у кого-то из зэков есть чай, — всю зону перевернут. И если найдут, то посадят владельца в карцер. Но это, конечно, никого не останавливает.
Был у нас в бригаде зэк Кончаковский. Весь лагерь знал, что он торгует чаем. Он сговорился с вольным шофером, и тот привозил ему пачек по пятьдесят за раз. Кончаковский прятал чай в рабочей зоне. Продавал он его не сам, а через посредника, тоже нашего бригадника Саньку Носа (полный тезка владимирского надзирателя). Санька находил покупателя среди зэков и продавал ему пачку-две обычно здесь же, в рабочей зоне. Так и риска нет, что попадешься при обыске на разводе, и убытка нет, если чай отберут. А уж это дело покупателя — пронести так, чтобы не нашли. Чаще всего прячут чай в сапог, распластав его по всей подошве. Ведь на разводе всех не разуешь, это надо целый день с утра до вечера обыскивать зэков — а работать они когда будут? Да и надоедает надзирателям, тоже халтурят на службе. Санька Нос иногда и сам проносил чай в жилую зону. Продавали они его за два-три рубля (цена зависит от спроса, но меньше двух рублей не бывает), а шоферу Кончаковский платил по полтора. Спекулировала эта компания несколько лет и все-таки провалилась. Это случилось в году 1963–1964. Скорей всего, их выдал какой-нибудь надзиратель или офицер, которого мало подмазали. Ведь такое крупное предприятие никак не обходится без взяток: шофер дает надзирателю на вахте, угощает его водочкой или дарит подарки. Надзирателю тоже трудно устоять, они иногда сами зэкам жалуются, что, мол, работа не пыльная, грыжу не наживешь, но ведь есть-пить и детей кормить тоже надо, а платят мало. Да и офицер, хоть и больше опасается, но тоже другой раз не выдержит искушения. Так постепенно многие узнают о торговой фирме, но помалкивают за кое-какую плату. Зэка-одиночку с чаем поймают — и в карцер, а спекулянтов не тревожат. И так до тех пор, пока им платят или пока между собой не переругаются. А тогда донос, обыск, поимка с поличным. И суд, срок за спекуляцию. Видимо, так и погорела компания Кончаковского.
Судили четырех: Кончаковского, Саньку Носа, шофера и продавщицу, которая продавала этому шоферу чай и делила с ним выручку (на всей территории Дубравлага продавцам на воле запрещено продавать больше одной-двух пачек в одни руки). Всем дали по три-пять лет лагерей, причем Кончаковского и Носа отправили на спец.
Хуже всех пришлось Кончаковскому: он отсидел четырнадцать лет из двадцати пяти и надеялся выйти через год по снижению срока. А теперь об этом не могло быть и речи, к оставшимся одиннадцати ему добавили еще четыре до полных пятнадцати. Четырнадцать отсидел, да впереди пятнадцать — всего вместе двадцать девять лет, да еще спец! Дорого ему обошлись чаек и те блага, которые он приносит, — деньги, масло, сахар, водка, недолгая милость начальства.
В 1965 году на торговле чаем погорел надзиратель Вася, Васек. Он был зверь лютый, свирепствовал при обысках, а сам спекулировал. Наверное, за лютость его и продал кто-нибудь из зэков. Васек поплатился только тем, что его сняли с работы. Вообще, когда попадается кто-нибудь из надзирателей, то дела стараются не заводить, чтобы не было огласки.
Водка — тоже выгодный товар, на пол-литре чистого дохода получается рублей пять. Ее проносить труднее, как и продукты. Но и то и другое все-таки попадает в зону через вольных.
Выручают и пекарни в зоне, и лагерные ларьки. Где есть пекарня, там хлеба хватает, были бы деньги. В пекарне пекари-зэки «устраивают» излишки и ими торгуют: на седьмом пять килограммовых буханок черного хлеба стоили рубль, столько же надо было платить за три кило белого хлеба (его выпекали для воли). Зэки либо рассчитывались с пекарями при покупке, либо вносили деньги вперед. Я платил сразу рублей десять наличными, а потом брал хлеб, пока не заберу на всю сумму. Пекари делились доходом со своим начальником-вольным.
В ларьке тоже вовсю идет торговля. Продавец-вольный завозит в ларек больше продуктов, чем полагается на лагерь. Делает он это будто бы тайком: кладовщику, который отпускает ему товар за зоной, он платит его долю. Да еще подмазывает начальство, которое якобы ничего не знает. Ну а дальше просто. На седьмом у нас были две торговые точки: так называемые магазин и буфет. Это, в общем, одно и то же. И там и там зэки расплачиваются не наличными, а чеками (денег на руки ни в коем случае не полагается). Продавец у нас был вольный, а буфетчик — зэк, вот через него и шла торговля не по чекам, а за наличные. Конечно, все продукты втридорога. Но зэку деваться некуда — заплатит и впятеро, если есть чем.
Откуда берутся у заключенных деньги? Конечно, с воли: со свидания с родными пронесешь или еще каким-нибудь способом.
Всяких хитростей на этот счет придумано немало, но я не стану о них рассказывать, пусть еще послужат зэкам. Одно можно сказать: они умеют искать, а мы умеем прятать. К тому же мы в этом кровно заинтересованы, для нас это вопрос жизни, а для них всего-навсего служебная обязанность.
Да начальство по-настоящему и не очень заинтересовано в том, чтобы перекрыть ручейки продуктов и денег с воли в зону. Голодный зэк, доходяга не работник, а кто тогда производство будет тянуть? За план все начальство получает премии, не лишаться же их в самом-то деле! Поэтому ловят, в общем, лениво, больше для того, чтобы держать зэка в страхе, а также чтобы перед высшим начальством проявить должное усердие. Есть, конечно, и любители своего дела, эти служат на совесть, работают усердно.
В общем, лагерная торговлишка кормит всех. Зэкам не дает подохнуть с голоду, вольным работягам помогает кормить семьи, более высокому начальству обеспечивает соответствующий жизненный уровень.
И даже самые неимущие зэки, которые ничего не получают с воли, никак не участвуют в торговых сделках, и те живут за их счет. Ведь таким, как Кончаковский, незачем каждый день хлебать баланду, они не гонятся за тухлой треской, у них и хлебная пайка иногда остается. А таких в лагере немало. Пусть не таких богатых, как Кончаковский, но более или менее состоятельных, у которых есть кое-что в тумбочке. Вот нищему зэку и достается лишняя миска баланды, а другой раз и лишний кусок хлеба. Один мой знакомый часто говорил: «Нет, так еще жить можно».
Без этой «левой» базы снабжения на строгом режиме было бы то же, что во Владимире и на спецу.
Раз как-то, помню, на ужин был винегрет. От этого блюда никто не отказывается, даже и лагерный богач: хоть и гнилье, а все-таки овощи. Мы пришли с разгрузки усталые, промокшие, голодные как черти, сразу кинулись в столовую. А винегрет повара выдают строго по норме, потому что его едят все и лишнего не остается. Ложки две, не больше. Коля Юсупов поглядел в свою миску и разозлился:
— Работаешь даже не как ишак, а как слон, а кормят как кролика!
Что ему, двухметровому гиганту-грузчику, эти две ложки силоса и кусочек осточертевшей трески?! А повар говорит:
— Скажи спасибо, что не каждый день так. Если бы все каждый день ходили в столовую, как сегодня, ты бы через два месяца ноги протянул.
Вот и весь секрет нынешнего зэковского существования.
И у нас все, как на воле
В бараке полно народу, согнали всех, кого смогли. За столом президиум, председатель ведет общее собрание отряда. В президиуме заключенные, рядом с ними начальники отряда. Демократия! На повестке дня выборы в Совет коллектива. У кого есть предложения?
Поднимается какой-нибудь зэк и зачитывает список — собравшиеся берут еще один хомут на свою шею, начальству в помощь, и расходятся по своим делам. Зато быстро.
Другой раз — новое поветрие: выдвигают и выбирают по одному с «обсуждением» кандидатур. Тот же «свой» зэк поднимается:
— Я предлагаю Иванова. Все мы знаем его как примерного производственника примерного поведения. Он активно участвует в жизни коллектива (не лагеря! — на собрании такие слова не произносятся, у нас просто дружный коллектив — вот и все), он участник художественной самодеятельности.
О Сидорове, Петрове говорится буквально то же самое, теми же словами, разве что вместо художественной самодеятельности поминается стенгазета, СВП — секция внутреннего порядка — и тому подобное. И хоть «все мы знаем», что он был полицаем, осужден за кровавые преступления, все равно голосуем «за», лишь бы поскорее отделаться.
Почему так? Очень просто. Ведь на самом деле кандидатуры предлагают не зэки, а администрация через «своих», заранее подготовленных людей. Хочешь не хочешь, начальство все равно настоит на своем и в Совете будут те, кто нужен начальству. Несколько раз бывало так, что машину голосования «заедало», зэки отказывались голосовать за последнего подонка. Тогда поднимается отрядный.
— Вот вы, почему вы отказываетесь голосовать за нашего активиста? — обращается он к кому-нибудь из «строптивых».
— Да он стукач, подонок, пробы негде ставить!
— Все равно не будет по-вашему, а будет по-моему! — отвечает откровенный отрядный.
И он затягивает собрание до бесконечности, пока не выберут того, кого он наметил.
Да и не все ли равно, кого выбирать в этот Совет? Никогда он не сможет действовать по своей воле, пойти против решения администрации, не выполнить ее требований: он действует под ее контролем, и администрация всегда вправе распустить неугодный ей Совет или вывести любого зэка из его состава. Так что эта организация — даже не видимость самоуправления, тут даже и видимости никакой нет. Все знают, что Совет коллектива отряда или лагеря — это просто послушное орудие, дубинка в руках начальства и с помощью этой дубинки начальство расправляется с любым заключенным — будто бы по воле других заключенных. Может, на кого-нибудь вне лагеря это и производит впечатление: мол, сами заключенные могут потребовать наказания своего товарища. В зоне же все знают, что это значит.
Находятся среди нас идеалисты, которые говорят: «Вот, сами выбираем подонков, а потом жалуемся. Надо, чтобы в Совете были порядочные люди», — и соглашаются войти в Совет. Иногда администрация не возражает против таких кандидатур: все равно Совет будет выполнять ее волю, зато зэки не смогут колоть глаза тем, что «в нашем Совете одни стукачи и полицаи». Чем это кончается? Как всегда, крахом идеалистов: либо они сами под любым предлогом выходят из Совета, либо их выводят из него.
Уж очень незавидная функция у этого органа. Любое его решение бьет по заключенным — по всем вместе или по кому-нибудь отдельно. То принимается решение в нерабочее время отремонтировать бараки — значит, отработал свои восемь часов принудиловки, а в «свободное» время строй тюрьму для себя и для других, таких же, как ты сам. То обсуждают и осуждают чье-то поведение, заставляют человека работать сверх сил, зная, что он болен, не в состоянии выполнить норму. И ведь чем кончается такое обсуждение?! — «Просить администрацию лишить такого-то заключенного ларька, посылки, перевести на пониженную норму питания, водворить в штрафной изолятор». Когда это делают тюремщики, еще понятно; но кто из заключенных согласится обречь товарища на голод? — конечно, только последняя сволочь!
Вот и получается положение, единственно приемлемое для начальства и все-таки некрасивое: в Совете коллектива на самом деле почти только одни бывшие полицаи. Раньше сотрудничали с фашистами, теперь — с администрацией нашего лагеря для политзаключенных, ведь им-то все равно, лишь бы сносно прожить да поскорее освободиться. Они и на воле устроятся лучше прочих — выйдут с хорошей характеристикой, им все организации помогут, они оглядятся, приспособятся — и заживут. Еще, может, и в мелкие начальники успеют выбиться.
Когда отрядному говоришь: «Смотрите, кто с вами сотрудничает!», он начинает вертеться, как угорь на сковородке, — действительно неудобно ведь. Мы, правда, не обо всех членах Совета знаем, за что они осуждены (да и не стали бы интересоваться этим, если бы они вели себя порядочно!). Но вот приезжает суд пересматривать дела двадцатипятилетников, снижают им срок, если «заслужили». Эти заседания суда происходят открыто. Тут-то и выясняется, что один «активист» сотрудничал с фашистами, другой был карателем, третий тоже в этом роде. Вот так случайно я узнал на десятом, что наш председатель Совета коллектива отряда был таким же «активистом» в одном из фашистских лагерей смерти. На суде он расплакался: «Я ничего плохого не делал, я только открывал и закрывал двери крематория». Бог его знает, может, там он действительно не был предателем, служил, чтобы самому не попасть в газовую камеру…
Что Совет коллектива, что СВП — одна честь, и контингент один, и задачи те же: помогать тюремщикам расправляться со своим братом-заключенным. И цена за это та же: посылка, характеристика — «…прочно встал на путь исправления». СВП — секция внутреннего порядка, лагерные дружинники. То же самое, что «капо». Может, кто не знает, подумает: что тут плохого, если заключенные сами поддерживают порядок, ведь в лагере нередки и драки, и скандалы, и пьянки, есть и уголовники. Но главная функция членов СВП — не порядок поддерживать, а следить, шпионить за зэками, доносить начальству, кто что говорит, у кого недозволенная связь с волей. И опять же — лишать зэков ларька, посылки, свидания, вернее, «просить администрацию лишить…». Члены СВП носят на дежурстве красную повязку с этими тремя буквами, а недавно введено правило: на куртке или на бушлате постоянно носить красный ромб; потому что повязки лишь на дежурных, а когда надзирателю в зоне надо срочно найти своих верных помощников, так и не найдешь — ведь служат за страх, а не за совесть.
Все начальство, особенно на верхах, очень гордится: вот у нас в лагере все, как на воле: самоуправление, заключенные перевоспитываются, сами следят за порядком — это ли не доверие к заключенным? Может, они забыли про «капо»? Может, не знают, как вербуют в СВП и Совет коллектива? Может, им там наверху неизвестно, кто идет в эти лагерные организации? Лагерное начальство хорошо знает — это те же самые «капо» и полицаи, процент «перевоспитавшихся» прямо зависит от количества подонков в зоне.
Заключенные их ненавидят: увидят ромбик с буквами СВП — «А, б… вышла погулять!» (еще и для этого значок — надел его, значит, продался, все от тебя отвернулись, и тебе обратного хода уже нет). Но сопротивление повязочникам карается так же, как сопротивление надзирателям, — угодишь под суд. Тоже как на воле.
Мордовская идиллия
Осенью нас гоняли под усиленным конвоем на уборку картошки. Ходили охотно: может, удастся поесть печеной картошки, если конвой попадется человечный и не затопчет костер. Посылают только тех зэков, у кого сроки кончаются, — меньше опасность побега. Один раз и я попал на уборку.
Выйдя впервые за два года из зоны, я разглядывал волю как совсем другой, позабытый мир. Дома на улицах, вольные люди, вольные лошади, не служебные собаки (не считая тех, что охраняют колонну), куры в пыли роются. Вот афиша клуба: «Танцы». Черт возьми, неужели здесь, в ста метрах от наших бараков, люди танцуют, слушают музыку, любят?
Нам навстречу попались ребятишки с портфелями, они пробегали мимо колонны, даже не глядя на нас, равнодушно проходили мимо людей, которых охраняли автоматчики и собаки. Видно, здешние давно привыкли к таким зрелищам.
Вот и клуб — ветхое приземистое строение на полуразвалив-шемся фундаменте. А рядом хоромы начальника лагеря, особенно роскошные по сравнению с другими домишками. Высокий забор, калитка с табличкой «Злая собака».
— И зачем табличка? — сострил кто-то из наших. — Написали бы фамилию хозяина, все бы и так боялись.
ПВЧ — песни, пляски и спорт
С давних времен, еще со сталинских лагерей, живет в лагерях самодеятельность. Не знаю, может, когда-то это действительно была самодеятельность, люди собирались, пели, читали стихи. Говорят, что даже сценки, спектакли разыгрывали, оперетты ставили. Говорят, что театр на Воркуте возник из такой вот лагерной самодеятельности. Она существовала сама по себе, потом под покровительством КВЧ — культурно-воспитательной части, работники которой больше доверяли зэкам, чем себе, в отношении искусства. Теперь это не КВЧ, а ПВЧ — политико-воспитательная часть; и она не столько покровительствует искусствам, сколько контролирует их, руководит ими. И вообще, это уже не самодеятельность, а принудиловка — еще одна, в добавление к работе и прочему. Ни одна программа концерта не пройдет без ПВЧ. Да что — не пройдет! Программу-то и составляет только ПВЧ, и хорошо еще, если среди гимнов и маршей удастся вставить одну-две лирические песни, или романс, или стихи Пушкина, Блока, Есенина. Концерт, во-первых, должен воспитывать слушателей, во-вторых, должен свидетельствовать о том, что выступающие уже вполне «перевоспитались», в-третьих, должен понравиться комиссии, наша зона должна с его помощью переплюнуть соседние в соревновании. А как переплюнешь? «Отговорила роща золотая» — это еще неизвестно, хорошо ли, нет ли, — дело вкуса; а «Стихи о советском паспорте» безусловно обязаны нравиться всем, тут и разговору никакого не может быть. В-четвертых, самого концерта могло бы и не быть, хрен с ним, да галочку надо поставить в отчете. Этим определяется все: и программа, и состав участников, и отношение зэков к «самодеятельности».
Вот начинает отрядный вербовать в хор или в кружок художественного слова. К одному подойдет, другого к себе вызовет. Тому обещает посылку — не какую-нибудь дополнительную, нет, законную, очередную, но ее ведь надо заслужить; тому — хорошую характеристику. Любитель стихов отвечает ему:
— И «кому на ум пойдет на желудок петь голодный!».
Мастер художественного слова скажет:
— На х… мне эта самодеятельность перед обедом?
Но находятся и такие, что соглашаются. Некоторые за посылку — но это контингент ненадежный, текучий: получил посылку — и только его на репетициях и видели, а на сцену и арканом не затянешь. Основной состав хора и прочих кружков — это двадцатипятилетники-полицаи, зарабатывают себе хорошую характеристику на суд, авось срок скостят.
И вот концерт объявлен. Теперь у надзирателей и воспитателей задача согнать на него слушателей. Тут уж их заедает амбиция.
— Ты почему не идешь? Болен? А справка от врача есть? Ах, не хочешь? Почему? Не нравится? Не отвечаешь?
Зэк обязан отвечать, зэк обязан быть вежливым с представителями охраны и администрации. Нарушение! Одно, два, три таких нарушения — и ты уже лишен ларька, не за то, что не ходишь на концерты, это дело добровольное, а за «невежливость по отношению…».
Новички ходят на концерты — любопытно ведь. Я тоже несколько раз пошел поглазеть. Ну и комедия! Если бы начальник ПВЧ майор Свешников специально старался вести разлагающую зэков агитацию, и то лучше бы не придумал. На сцене хор полицаев исполняет песни «Партия наш рулевой», «Ленин всегда с тобой». В зале хохот, улюлюканье, надзиратели орут: «В карцер за срыв мероприятия!» Хор поет хоть слаженно — это в большинстве украинцы, а они умеют петь. Один раз пели «Бухенвальдский набат», но это начальству почему-то не понравилось.
Та же история со спортивными мероприятиями. Силой — моральной, конечно, за те же посылки, за характеристики — загоняют зэков в спортивные секции, заставляют участвовать в спартакиадах. Смотреть на эти спортивные игры — и смех и слезы. Бегут старики, только что не безногие, прыгают по стадиону (под чутким руководством начальника лагеря Пивкина превратили в стадион плац для проверок, теперь на одиннадцатом свои «Пивники»), худые, кривые ноги в узлах из вен торчат из длинных трусов, задыхающиеся рты ловят воздух. Добежал, отметился у отрядного и скорее на койку — отдышаться.
…А между тем какие в лагерях певцы, какие гитаристы! Соберемся после работы вечером где-нибудь в углу зоны, да как заведем песни — блатные, под гитару, да старинные романсы. Эстонцы раз устроили свой концерт народных песен. И литературные вечера — памяти Шевченко, памяти Герцена. Кто-нибудь расскажет о писателе, другие читают стихи Шевченко на украинском языке, поэты — свои стихи, переводы на русский. Но это все, конечно, не только без ПВЧ, но и тайком от начальства, а то как раз в карцер угодили бы — ведь на таких вечерах каждый говорит, что думает, читает то, что хочет.
Подлинных самодеятельных спортсменов еще больше, и начальство обычно их не преследует, разрешает. Я гонял в футбол; есть любители настольного тенниса, конькобежцы. На баскетбол собирается множество болельщиков, играют классные команды литовцев, латышей, эстонцев — ребята как на подбор, молодые, рослые, ловкие. Вот только головы у всех обриты.
ПВЧ: политзанятия
В семь часов вечера закрывается столовая, и зэки, которые работают в первой смене, разбредаются по зоне. Это время — до самого отбоя — наше. Кто идет в библиотеку, кто на волейбольную площадку, кто, сидя в секции, пишет письмо родным, любители забивать козла устраиваются около какого-нибудь стола, друзья собираются поболтать, поспорить, некоторые просто так, в одиночку, расхаживают вдоль запретки — прошел шагов сто в один конец, повернулся и пошагал обратно, глядя перед собой, думая о своем.
Но сегодня четверг, день политзанятий. Ровно в семь каждый должен быть в своем бараке: посещение политзанятий — одна из главных обязанностей зэков. Однако каждый старается, как может, от этой обязанности увильнуть. Что уж тут хорошего, полезного — сиди дурак дураком и слушай, как твой отрядный, запинаясь и спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, почти по складам, читает по тетрадке-конспекту очередную «лекцию». Отрядные в большинстве безо всякого образования, особенно которые постарше, они даже эту беседу не в состоянии самостоятельно подготовить, да им это и не доверяют — мало ли что они наплетут по неграмотности. Каждую беседу готовит сам Свешников, перед политзанятиями диктует ее отрядным, те старательно записывают (воображаю, сколько там грамматических ошибок в конспекте!), а потом «толкают» нам. Что мы узнаем из такой беседы? Газету прочесть и разобраться в ней каждый и сам сумеет, общие слова и лозунги давно всем надоели и приелись еще с воли. У большинства политических десятилетка, многие с высшим образованием, с кандидатскими диссертациями, люди, думающие самостоятельно, специально изучавшие философию, работы Маркса и Ленина, Гегеля и Канта, современных философов и социологов.
Смех один, когда отрядный, повторяющий, как попугай, чужие слова, не умеющий разобраться даже в собственных записях, проводит с ними политбеседу на уровне четвертого класса школы. Да у нас в политическом лагере даже уголовники знают и понимают больше, чем отрядные, — прислушиваются к разговорам других заключенных, участвуют в спорах. Я попал в лагерь совсем «темным», у меня образование восемь классов, ну разве думать старался сам, без подсказки. Но вот захотел разобраться что к чему — зачем я буду слушать лепет отрядного? Прочел всего Ленина том за томом, начал читать Плеханова.
На политзанятия я не ходил (был всего несколько раз из любопытства), и меня за это постоянно лишали ларька, за весь срок ни разу не разрешили посылки. Помню мой первый разговор с отрядным на эту тему… Вызывает меня Алешин к себе в кабинет:
— Садитесь. Что же это вы, Марченко, только успели приехать из тюрьмы в лагерь, а уже нарушаете правила режима? Ведь вас перевели из тюрьмы раньше срока — опять захотели туда же, нюхать парашу?
Я ответил, что не вижу в этих занятиях ничего для себя интересного и занимательного. Тогда он, видя, что я не поддаюсь на запугивания, зашел с другого бока:
— Другие же ходят! Вы считаете, что вы умнее других? Что вы уже все знаете?
— Я не думаю, что все знаю, наоборот, я знаю слишком мало, поэтому дорожу своим временем. Я никогда не считал себя умнее всех, но уж и не дурнее тех, кто проводит занятия. А что другие ходят — это их дело. За себя я решал и буду решать сам.
Алешин стал говорить мне, что посещение политзанятий — моя обязанность; что я могу не слушать, лишь бы пришел и отсидел положенные два часа; что хочу я или не хочу, меня все равно заставят подчиниться.
— Не подчинитесь — я вас буду наказывать.
Конечно, можно иной раз пойти на политзанятия, чтобы самому поглядеть на эту комедию. Но каждую неделю? По обязанности, принудительно? Я к вам в лагерь не просился, не хочу, чтобы вы меня «воспитывали». К тому же я политический заключенный, у меня, может, свои взгляды, своя точка зрения на явления и события; может, я идеалист, религиозный человек. Вы же не на дискуссию меня приглашаете, и, начни я высказываться на этих ваших беседах, у вас против меня всегда найдется насильственный довод — карцер, лагерный суд, тюрьма!
Словом, на политзанятия заключенных сгоняют под угрозой наказания. Не пойдешь — лишат ларька, очередной посылки, сократят свидание, дадут плохую характеристику: «…упорствует в своих ошибках, не стал на путь исправления…». Так что те, кто дорожит посылкой или характеристикой, ходят «добровольно». Но ведь в лагере большинству терять нечего: ларька и так за что-нибудь лишили; свидание нескоро, через год; до полсрока далеко, так что посылки все равно не положено; у начальства ты и без того на плохом счету; на характеристику плевать, все равно сидеть от звонка до звонка, срок могут скостить только двадцатипятилетникам. Вот большинство на занятия и не идет. А надо, чтобы ходили все, от отрядных требуют стопроцентного охвата заключенных политико-воспитательной работой. Дутую цифру в отчетах не вставишь — сам Свешников может проверить в любой момент или другой отрядный донесет. Вот и приходится изворачиваться.
…Без десяти семь. Библиотеку в четверг в это время закрывают, всех выгоняют из читального зала. Но на волейбольной площадке еще летает мяч, доминошники стучат по столу костяшками, зэки бродят кто где. Открывается дверь штаба, и оттуда в зону входит толпа отрядных — человек тридцать. Все идут «ловить» своих зэков. Надзиратели бегают по зоне и выгоняют зэков из укромных уголков.
Несколько отрядных подходят к волейбольной площадке:
— Прекращай игру, на политзанятия!
Никто не отвечает. Игра продолжается.
Зэки как оглохли. Тогда кто-нибудь из отрядных или надзирателей подбегает к игроку, у которого мяч:
— Отдай!
Зэк молча перекидывает мяч другому. Отрядный — к тому, но мяч уже у третьего. И так до тех пор, пока мяч не окажется у наиболее робкого. Сам-то он не понесет мяч офицеру, допускает, чтобы тот отобрал, — что же делать? Надзиратели тут же волокут провинившихся в карцер — не за то, что отказываются от политзанятий, а вполне законно, за неподчинение начальству.
То же самое происходит у доминошников:
— Прекращайте игру! Отдайте домино!
Кончается тем же: офицер сгребает со стола костяшки, а несколько человек отправляются в карцер.
Наконец согнали всех, кого могли; некоторые пришли сами. Начинаются занятия. Офицер бубнит себе под нос по конспекту, зэки занимаются кто чем: дописывают письма, читают книжки. Офицер старается этого не замечать. Только уж если открыто читают или пишут в первом ряду, предлагает пересесть подальше, чтобы Свешников не увидел, если войдет. Иногда это ответственное дело — чтение конспекта или статьи из журнала «Коммунист» — поручают «активным» зэкам, чтобы была видимость участия зэков в политзанятиях. Чаще всего эти «активисты» — полуграмотные старики, читают еле-еле, так что коллективная работа не получается. И уж совсем редко отрядный решается задать кому-нибудь вопрос по теме предыдущего занятия. Кого спросить? Этого нельзя — неграмотный, двух слов не свяжет; того тем более нельзя — чересчур грамотный.
Зато нередко сами зэки, согнанные на занятия насильно, засыпают своего преподавателя вопросами — главным образом о материальном положении.
— Вот вы говорите, что надо жить честно, не обманывая государство, — а как можно прожить семье на 50–70 рублей? А у вас какая зарплата? Вы только что рассказывали о росте благосостояния трудящихся — как вы связываете понятие «рост благосостояния» с ростом цен на продукты, с повышением норм на производстве?
Этот последний вопрос задал при мне мой товарищ Коля Юсупов. Наш отрядный замялся, потом ответил:
— Вы, Юсупов, неправильно понимаете нашу политику. Вы нарочно заостряете внимание на отдельных недостатках, к тому же временных.
Все зэки засмеялись, а я спросил:
— Как долго длится, каким сроком исчисляется это «временно»? Мы же знаем, например, что декрет о цензуре был принят только «временно» и даже на «короткое время». Это было около пятидесяти лет назад, а цензура существует и сейчас…
— Вам, Марченко, мало дали, надо бы добавить. А остальным кое-кому, я вижу, в карцер захотелось?
— Убедил, убедил, — загалдели зэки.
Занятия кончились, слушатели расходятся, перемывая косточки «воспитателям», «пропагандистам». Смеются над ними все, даже стукачи.
Начальники большие и маленькие
Власть исходит от народа.
— Но куда она приходит?
До чего ж она доходит?
И откуда происходит?
Бертольт Брехт. Три параграфа веймарской конституции[10]Как только разносится слух, что в лагерь едет Громов, поднимается страшный переполох. Шутка ли, сам Громов! Начальник лагеря бегает сам, гоняет офицеров-отрядных, отрядные — надзирателей, а все вместе, конечно, зэков. Генеральная уборка, повальный обыск в бараках, даешь перевыполнение плана! Ты от работы отлыниваешь? Карцер! Одет не по форме, волосы отросли на два сантиметра? Остричь! Лишить ларька! Громова боятся как огня — и вольнонаемные, и офицеры, и сам начальник лагеря, и просто жители. По всем поселкам от Потьмы до Барашева, по всем зонам — мужским и женским, бытовым и политическим, на спецу, на общем, на строгом — все трепещут при одном имени Громова. Он все может, он здесь удельный князь.
Вот он выходит из штаба в зону на седьмом. Его почтительно сопровождает свита — из управления и местное начальство. Офицеры косятся то встревоженно-льстиво — на Громова, то грозно — на зэков: не было бы какого-нибудь нарушения или беспорядка. И все-таки недоглядели. Около самого штаба к Громову подошел, опираясь на палку, старик-зэк и стал что-то говорить. То ли жаловался, то ли о чем-то просил — я не слышал. Слышал только, как Громов рявкнул начальнику лагеря: «Куда это годится?!» — и не глядя двинулся дальше. В свите произошло замешательство, один из отрядных подошел к деду, стал его громко уговаривать:
— Что же вы раньше не сказали? Зайдите завтра ко мне в кабинет, мы все уладим.
Дед, благодаря начальство, заковылял к бараку. В это время Громов обернулся и загремел:
— Куда? Я сказал — в карцер его, в карцер! Куда же это годится! Распустили заключенных, пройти не дают! Почему не разъяснили, что должны записаться на прием ко мне и обращаться только в положенное время?
Пока он так отчитывал наше начальство, два надзирателя уже подбежали к старику, выхватили у него палку, отбросили прочь и потащили беднягу в карцер, — а он было обрадовался, что Громов за него заступился.
В другой раз Громов приехал к нам на семерку из-за того, что горел план. Начальству в штабе, наверное, был разнос, потому что Агеев выскочил за Громовым в зону красный как рак. Ему было велено отправить на завод всех инвалидов — нетрудоспособных, которые кое-как работали в жилой зоне: дневалили, убирали территорию и тому подобное. Для начала всеобщий инвалидный аврал — согнать их всех в один барак и провести собрание. Громов на ходу отдает распоряжения, а Агеев бежит рядом, ошалев от страха, и спрашивает:
— Товарищ полковник, а с лежачими как быть? Нести на собрание или оставить?
— Выполняйте приказание, майор!
И так было везде, где бы он ни появлялся. Начальство бегало с вытаращенными глазами, обалдев от страха, наказания сыпались на нас, бедных зэков, налево и направо. Когда Громов приезжал к нам в больницу на восьмой, сам майор Петрушевский, начальник САНО, пачками сажавший санитаров в карцер — за пыль на стекле, за паутину в углу, за то, что из печки угли нападали, — сам Петрушевский бежал за Громовым сбоку и заглядывал ему в глаза — доволен ли, не гневается ли? Нечего и говорить, что санитаров за день-два до появления Громова переводили из наших корпусов в общий барак — не дай бог, узнает, что санитары-зэки живут по двое-трое в отдельных комнатках: это что за роскошь, может, им еще отдельные квартиры предоставить, жен выписать?
Однажды Громов приехал в больницу с комиссией из Москвы — заместителем министра МООП. Комиссия проходила по палатам, врачи отвечали на вопросы, начальница больницы, как обычно при Громове, заискивающе улыбалась, кивала головой, поддакивала. На зэков — больных и санитаров — никто не смотрел, никто их ни о чем не спрашивал. Но в одной палате больные сами подняли голос, пожаловались, что холодно. Громов не удостоил их ответом. А приезжий полковник, посмотрев на градусник на стене — в палате было пятнадцать градусов, — подошел к одной койке:
— Вы кто такой, откуда, фамилия, за что осужден?
Больной ответил. Это был язвенник, его только недавно привезли из лагеря в тяжелом состоянии. Фамилия его Сикк, он из Прибалтики, осудили за национальное движение. Услышав это все, московский полковник раскричался на весь корпус:
— И вы еще жалуетесь, холодно вам! Да таких, как вы, на морозе надо держать, а не в больнице! Все вы там, в вашей Прибалтике, враги и бандиты! Воевали против нас с оружием в руках, а теперь требуете, чтобы с вами нянчились!
Он еще долго орал на больного. Громов все это время стоял совершенно спокойно, не вмешиваясь, не спеша поддерживать начальство. Он вообще держался независимо, ни перед кем не заискивал.
Зато в это же их посещение он нашел свой повод придраться к другому заключенному, фельдшеру Рыскову. Рысков — неплохой парень, московский журналист и поэт, физически не очень крепкий, и зэки-приятели помогли ему устроиться на легкую работу в больницу фельдшером (у него было медицинское образование). Громову показалось, что Рысков держится с неположенным зэку достоинством, на вопросы отвечает безо всякого подобострастия. Он вызвал фельдшера в кабинет, допросил, кто он и что, почему находится здесь, в больнице. Рысков отвечал, что он здесь работает.
— Почему так вызывающе разговариваете с начальством?
— Я разговариваю не вызывающе, а просто так же, как с каждым.
Придраться было не к чему, в карцер посадить не за что. И все-таки Рыскова со следующим этапом отправили в зону, на общие работы. Тут уже не спросишь, за что. Начальство распорядилось, ему виднее.
Громов служит в системе лагерей давно, еще со сталинских времен. Он был тогда начальником лагеря, строившего в Омске нефтеперерабатывающий завод. В Мордовии и сейчас еще встречаются зэки из этого лагеря. Я сидел вместе с одним зэком, который был там прорабом. Слушать его рассказы — страшно становится: известно, что были за лагеря в сталинское время в 1950-е годы! А теперь Громов командует не одним лагерем, а целым управлением, под его началом десятки лагерей.
Порядки несколько переменились, да сам-то он остался тем же, таким же самодуром, как был. Разве что пошел на повышение, дослужился до полковника. Пожалуй, на пенсию выйдет генералом.
Вообще-то после 1953 года, когда расстреляли Берию, многие работники лагерей со своих мест полетели. Кто помельче, тех поснимали с работы или понизили в чине, разжаловали. Кто покрупнее и в возрасте, тем предложили уйти на пенсию, и они со своими крупными пенсиями уехали куда-нибудь в Крым на заслуженный отдых, возделывать виноградники, отнятые у крымских татар. Но даже уволенные и разжалованные, бывшие эмвэдэшники пристроились около оставшихся лагерей на тепленьких местечках с солидным окладом. Стали начальниками производства, начальниками снабжения, комендантами, даже простыми мастерами, лишь бы в зоне, где деньги платят не за работу, а за то, чтобы ты жал соки из зэков. Они пристроились кто где и ждали своего часа. Верили, что они с их опытом еще пригодятся, что их еще позовут. И дождались. Они сами рассказывают, что «сверху» вышел то ли совет им, то ли указание писать жалобы, просьбы, чтобы их восстановили на службе, восстановили бы их доброе имя. Конечно, каждый писал, что служил верно и честно, что его оклеветали, поступили с ним несправедливо, что он никогда не превышал своей власти, а действовал только по распоряжению начальства и обещает так же поступать и впредь. Потихоньку их стали восстанавливать, возвращать на любимую работу. Они достали свои еще не успевшие выцвести мундиры — и снова сделались начальниками лагерей, отрядов, сотрудниками управлений.
Из сталинских кадров у нас были начальник семерки Коломийцев и его заместитель Агеев; после Алешина и Любаева нашим отрядным одно время был какой-то подполковник, разжалованный, а потом восстановленный. О заместителе начальника режима на семерке Шведе мне рассказывал один зэк, который сидел в Мордовии с 1949 года, что этот Швед принимал участие в массовых расстрелах зэков на разводе. В те годы, бывало, выводили заключенных бендеровцев и «самостийников» в лес, якобы заготавливать дрова, и там расстреливали всю колонну под предлогом «массового организованного побега». Так уж и знали — если ведут на заготовку дров, то оттуда не вернешься. И зэки на разводе отказывались идти на работу в лес. Швед, тогда майор, подходил к отказчикам и стрелял в упор. Зэк, рассказавший мне об этом, сам это видел. Шведа уволили и разжаловали, но потом вернули на работу в лагерь, правда, не восстановив в звании.
При мне он был всего только старшиной, хотя ему было уже под пятьдесят. Это очень крепкий мужичок-украинец, спокойный, медлительный, с певучим украинским выговором (мы всегда донимали наших украинцев: вот, мол, вы жалуетесь, что над вами здесь, в Мордовии, издевается «старший брат» — русский; а вот вам ваш родной земляк, гнет и ваших и наших в бараний рог). Швед был небольшого роста, коренастый, круглолицый, с бычьей шеей. И физиономия, и шея у него всегда красные — зэки говорят: нашей кровушки напился, как клоп. Поскольку он заместитель начальника по режиму, от него зависит очень многое. И он делает все, что от него зависит, чтобы отравить нашу жизнь.
Мы, аварийщики, выходили в рабочую зону по три-четыре раза в сутки, а то и чаще. Как подадут вагоны под выгрузку или погрузку, так и иди, день ли, ночь ли, в любое время, в любую погоду. И вот Швед придумал для себя удовольствие: вагоны еще не поданы, а нас уже вызывают на вахту. Придем, ждем надзирателя, а его нет — пошел в рабочую зону вылавливать «отлынивающих», кто спит по углам в рабочее время. Ждем, нервничаем, проходит час или больше, пока попадем на работу. Отработали свое, разгрузили вагоны, идем «домой» — и опять то же самое, ждем больше часа, пусть дождь, пусть снег, стоим у ворот вахты. А ведь нас через два-три часа могут снова вызвать! Швед выйдет с вахты, любуется. Мы к нему с жалобой, а он:
— А что Швед может сделать? Не разорву же я надзирателя на две части, чтобы одна половина лодырей ловила, а другая на вахте дежурила. У нас надзирателей не хватает, слишком дорого вы обходитесь государству.
Как-то вечером меня вызвали в дежурку к Шведу: во время обыска в бараке у меня нашли под подушкой гражданскую фуражку. Значит, предстоит объяснение и, скорее всего, наказание.
Постучавшись, вхожу в кабинет. Там сидит Швед, играет с надзирателем в шашки; еще двое надзирателей сидели просто так. Посмотрели на меня и продолжают играть. Я стою. Минуты через три Швед отрывается от доски: «Отряд?» Я ответил. Опять молчание, потом после очередного хода: «Бригада?» Опять пауза, ход, вопрос: «Фамилия?» Я ответил на вопросы, стою, жду. Наконец игра кончилась. Швед выиграл и сиял от удовольствия. Он аккуратно сложил шашки в коробку и, прежде чем заняться мною, сказал надзирателю: «Сходи в дом свиданий, пусть заканчивают, пора уже. Да скажи Тарасовой, чтоб продуктов не пропускала ни грамма, ни-ни. А зэка веди сюда, я его обыщу». Швед обычно сам обыскивал зэков после свидания — то ли не доверял надзирателю, то ли любил это дело. Потом он обернулся ко мне:
— Знаешь, зачем тебя вызвали? Догадываешься?
— Что мне гадать, сами скажите.
— Почему держишь фуражку вольного образца? Что задумал?
Я не успел ответить — ввели того зэка со свидания, старика лет шестидесяти. Швед поднялся, направился к нему, балагуря:
— Шо, дед, подержал старуху за титьки?
Старик сначала было замялся, потом все-таки вступил в разговор:
— Да уже все, старый стал.
— Позвал бы меня, раз сам не можешь, я бы сходил, уважил бы.
— Да у меня и старуха уже старая…
— Ничего, что старая, я не побрезговал бы. Тебе сколько лет?
— Осталось одиннадцать.
Швед захохотал.
— Ты что, надеешься еще одиннадцать лет прожить? Да я тебя, дурак, не о сроке — от роду сколько тебе лет, спрашиваю. Ладно, давай обыщу.
Швед снял с головы деда «кубинку», ощупал ее всю, каждый шов, и отложил в сторону. Дед тем временем снял куртку. Швед, прощупывая куртку, спросил по-приятельски:
— Скажи сразу, сколько грошей несешь со свидания?
— Да какие гроши, ни рубля нет, раз в год приедет старуха, так и куска сахара нельзя передать.
Швед так же добродушно ответил:
— А я тут при чем? Закон есть закон. Раз закон не позволяет, чтобы у зэка был сахар, сало и другие продукты, значит, не положено. Закон надо соблюдать. Завтра Шведу скажут, что зэкам положены передачи и посылки, — Швед пропустит хоть вагон.
Меня просто с души воротило от его тона, от его мерзких шуточек. «Закон есть закон… Шведу скажут не гонять зэков на работу — Швед не погонит» — я так живо представил себе, как он приговаривает эти свои словечки, прохаживаясь с пистолетом на разводе, что у меня сжались кулаки.
Швед уже ощупал старую нательную рубаху и велел деду разуться. Старик, кряхтя, снял кирзовые сапоги, подал один начальнику. Тот пошарил в сапоге, ничего там не нашел, вытащил стельку, осмотрел ее, прощупал голенище — в сапоге ничего не было. Так же спокойно он принялся за второй сапог; когда он вытащил из него стельку, лицо его озарилось счастливой улыбкой: к стельке с обратной стороны была подклеена красная бумажка — десятирублевка. Швед начал стыдить старика:
— А говорил, грошей не несешь! Старый человек, верующий, наверное, как же тебе не стыдно обманывать?
Старик молчал, его поймали с поличным, тут ничего не скажешь.
Швед аккуратно отклеил бумажку, разгладил ее, положил на стол и продолжал обыск — прощупал снятые дедом брюки, велел спустить подштанники, повернуться задом, потом передом, потом присесть (дед при этом чуть не упал), потом прощупал подштанники. Больше нигде ничего не было спрятано. Но Швед был доволен: он же знал, что зэк не уйдет пустым со свидания, все зэки такие, все жулики и обманщики! Он с удовольствием составил акт, подписал его, дал подписать надзирателям, потом приказал надзирателю отдать десятку жене старика под расписку. Старик в это время уже одевался, бурча под нос, что вот, не разрешают ни продуктов, ни денег, хоть с голоду подыхай. Швед уже потерял к нему всякий интерес и, бросив на ходу: «Мы с тобой еще поговорим», занялся мной. Видно, ему уже надоело «работать», и он коротко сказал мне, что составит на меня рапорт и передаст начальнику, пусть начальник сам со мной разбирается и наказывает.
— Можете идти.
Мы вышли из дежурки вместе — я и старик со свидания. Когда мы отошли подальше от вахты, я его пожурил: что ж это он десятку не сумел спрятать. Дед хитро ухмыльнулся:
— Не Швед меня, а я его обдурил.
И он объяснил мне, в чем хитрость. У него на свидании были старуха с зятем, а зять — тертый мужик, сам отсидел на Колыме десять лет, да и старуха всего пять лет, как из лагеря, и на свидании они не первый раз. Зять еще дома заделал в каблук своего сапога 25 рублей, здесь надел сапоги старика.
— А на мне зятевы!
Десятку же подложили под стельку нарочно, а то Швед заподозрил бы все равно, что деньги где-то припрятаны.
— Теперь и он доволен, и мне на полгода хватит добавлять к законной пятерке, — говорил дед. — За столько лет, да не научиться обманывать надзирателей?!
Начальником сбыта готовой продукции на семерке был Чекунов. Говорят, раньше он служил в МВД, а потом был разжалован. Мы-то знали его уже по производству. Нам, аварийщикам, именно с ним приходилось иметь дело: он командовал погрузкой, закрывал нам наряды. Он да еще начальник биржи при разгрузке — наше непосредственное начальство на производстве, от них зависели и работа, и заработок грузчиков.
Этот самый Чекунов не то что лишнего ничего в наряде не пропустит, а и за выполненную работу не заплатит. Мы, например, переталкивали и груженые и пустые вагоны вручную — работа тяжелая, а платить нам за нее никогда не платили. Чекунов нам еще и мораль читал:
— Государственные денежки даром получать хотите? Народное добро расхищать, государство разворовывать? Я как коммунист стою на страже народного достояния!
И вдруг пронесся слух, что Чекунова поймали на хищениях. Чекунова будут судить. Он, оказывается, хорошую мебель списывал как бракованную, сам обставился, всех начальников Дубравлага обеспечил мебелью по дешевке, а то и совсем даром, всех представителей местной власти. Он вообще проделывал какие-то махинации с браком: возвращают мебель, побившуюся в дороге, он ее списывает как брак, а потом зэки ее ремонтируют и снова отправляют как новую. Таким, а может, и еще каким другим способом он наживался, ну, словом, оказался натуральным жуликом. Что-то он там не поделил с парторгом, тот на него донес — и вот нашего Чекунова будут судить. Мы радовались, но рано. Поначалу до суда дело не дошло, а только объявили ему строгий выговор по партийной линии. А парторгу — благодарность за бдительность. И снова Чекунов ходит в начальниках, снова на нас покрикивает:
— На народные денежки рты разинули?
А парторга погодя куда-то убрали, перевели.
Но парторг, видно, не успокоился, написал в Москву, теперь уже не только на Чекунова, а и на других тоже: прикрывают, мол, преступление. Хочешь не хочешь, пришлось местным властям заняться этим всерьез. Хоть Чекунов и свой в доску, но с Москвой лучше не связываться. Его сняли с работы и отдали под суд. Но не упрятали в тюрьму до суда, как делали с нами всеми, а оставили на свободе, пока шло следствие. Он заметал следы, договаривался со свидетелями, распихивал имущество знакомым. И в лагерь заходил, в рабочую зону, с нами, аварийцами, разговаривал, но уже совсем другим тоном, вежливо, даже ласково, сам набивался на разговор: видно, чего-то боялся.
Потом состоялся суд. Все вольные с производства и из конторы бегали слушать, даже работу побросали. От них мы потом и узнали: Чекунову дали три года ослабленного режима, отбывать будет здесь же, в Мордовии. Значит, попадет к какому-нибудь начальнику, которого сам снабжал даровой мебелью, ходить будет без конвоя, посылки каждый месяц. Сыт, пьян и нос в табаке! И будет у него, Чекунова, в лагере не жизнь, а малина.
Но чаще до суда не доходит, дело стараются замять тихо-мирно, сор из избы не выносить. Один из начальников лагеря отгрохал себе домину — материал государственный, рабочая сила даровая: зэки. Обставился мебелью со своего завода, жил, как бог. Но ему все было мало, жадность обуяла, и он погорел на какой-то махинации. Его не судили, а предложили уйти на пенсию. Он продал дом, погрузил все добро в контейнеры и услал куда-то на юг — жаль же кидать на слом. Мы, зэки, узнали об этом от вольных, да и надзиратели только о том и говорили: вот, мол, гад, сам наживался не от трудов праведных, а нам так и дров с завода не давал.
Зэки долго после этого кололи офицерам глаза: что же это вы нас учите жить честным трудом, а ваш начальник сам ворюга, да еще безнаказанно вывернулся?!
Офицеры сначала убеждали нас, что это все неправда, а потом махнули рукой — все равно ведь не скроешь! — и только отбояривались тем, что «в семье не без урода».
Никто из офицеров и служащих не может удержаться от того, чтобы чем-нибудь задаром не поживиться. Вынести, вывезти какой-нибудь пустяк из зоны — это и за воровство-то не считается, ведь не чье-нибудь, а государственное, государство не обеднеет (тут они как-то забывают свои политзанятия и беседы о морали). Тем более никто не стесняется «попросить» зэка поработать на себя, хоть в рабочее время, хоть в нерабочее — каждому ясно, что зэк рад услужить начальству.
Наш отрядный лейтенант Алешин «попросил» своих зэков нагрузить ему машину дров. Правда, это значит, что надо не только нагрузить, а раньше еще напилить и наколоть. Но кто откажется? Ведь от этого самого Алешина зависит, получишь ли ты ларек, посылку, свидание, — словом, все твое лагерное существование. Напилили, накололи, погрузили при надзирателе (он следит, когда грузят машины, чтобы кого-нибудь под дрова не спрятали; да еще на вахте перетыкают всю машину железным штырем и осмотрят со всех сторон)… Машина подъехала к вахте. А тут нелегкая несет коменданта зоны:
— Откуда дровишки? Кому? Где квитанция?
Надзиратель, который сидит сверху, на дровах, подает ему квитанцию, что за дрова уплачено. Комендант смотрит то на бумажку, то на машину:
— Ах… вашу мать, выписал один куб, а нагрузил целых четыре! Разворачивай машину, выгружай дрова! Или пусть Алешин в бухгалтерии доплачивает.
Подошел Алешин, и началась перепалка. Как раз был развод. У вахты столпились зэки и, слушая, покатывались со смеху. Разговор шел такой:
— Ты… в рот, обнаглел на…! Выписал куб, а здесь четыре.
— А тебе-то не один…? Твое, что ли?
— Ни… не знаю, заворачивай к… матери или выписывай еще!
— Подожди, какого… ты кричишь?
— На… мне твое «подожди», заворачивай!
И такого разговора минут пятнадцать под общее веселье. Не знаю, сколько бы они еще переругивались, но тут к вахте вышел начальник лагеря — в это время уже Коломийцева, ушедшего на пенсию, сменил Дворецков. Оба кинулись к нему — комендант с жалобой, Алешин с просьбой, чтобы разрешил вывезти дрова. Начальник замялся: Алешина обижать не хочется, а разрешить на глазах у зэков неудобно. Он не сказал ни да, ни нет, отговорился, что занят, разбирайтесь, мол, сами, и ушел. Алешин плюнул, махнул рукой и велел отгрузить с машины три лишних куба. Он потом свое возьмет, не платить же зазря денежки из своего кармана.
А несколько дней спустя он как ни в чем не бывало читал нам очередную лекцию, как всегда сводя ее к поучениям о чести и совести советского человека.
С другим отрядным была стычка у меня лично — все из-за тех же дров. Дело было осенью 1965 года, незадолго до моей отправки в больницу на третий. Я тогда работал в литейке в ночную смену. Пришел утром с работы, выпил свою баланду и лег спать. Я тогда здорово выматывался на работе, болели уши, голова, от боли я иногда не мог уснуть. А тут только уснул — меня будит дневальный:
— Иди к отрядному, вызывает.
Как мне не хотелось, как трудно было вставать! Одеваюсь, а сам прикидываю: зачем бы это? За что? Вроде ничем не провинился, чтобы в карцер. Думал и решил, что, наверное, пришел ответ на одну из моих жалоб насчет болезни. Стучусь, вхожу в кабинет, начальник мне что-то говорит, я не слышу — в ушах сплошной гул. Дневальный отрядному подсказывает, чтобы погромче говорил. Тот повторяет громче:
— Пойдете с дневальным на завод. Можете идти.
Я, мало что соображая спросонья, поплелся к вахте. Там уже ждали несколько зэков из нашего отряда, тоже с ночной. Ну, повели нас, как обычно, через ворота: только в рабочей зоне и очухался, спрашиваю:
— А куда нас ведут, зачем?
— Зачем, зачем! Дрова грузить отрядному.
Ах, я дурак! Поплелся, как осел, холуйствовать на отрядного! Я до того разозлился и на себя, и на дневального, и на отрядного, и на весь свет, что повернулся и пошел обратно. Да не тут-то было! Кто же меня одного из рабочей зоны выпустит? Придется ждать на заводе, пока нагрузят дрова. Значит, ко всему еще и без обеда останусь: я же в ночной, и мой обед сегодня в жилой зоне. Ничего не поделаешь. Нашел я укромное местечко и завалился спать — не стану же я, в самом деле, ишачить на своего тюремщика. Задремал — опять будят, надзиратель грубо толкает под бок:
— A-а, отлыниваешь?! Пошли в карцер!
Я хотел было ему объяснить, что я не на работе, а отработал свое, отдыхаю. Но он и не слушает, тащит к вахте. Сопротивляться бесполезно. Ну, думаю, сейчас на вахте все выяснится. А там, как назло, нет того надзирателя, который обыскивал и выводил нас в рабочую зону. Я снова пытаюсь объяснить, что только с работы и мне в ночь опять на работу, — где там! Провели через вахту и прямо в карцер. Шуметь, требовать, добиваться отрядного — точно заработаешь десять-пятнадцать суток за дебош и сопротивление. Я плюнул и лег на голые нары. В обед выпил штрафную баланду без хлеба. А часа в четыре меня выпустили: сверились в нарядной и убедились, что я работаю в ночную смену. Выпуская, только сказали:
— За каким же хреном ты спал в рабочей зоне?
После ужина меня снова вызвал отрядный:
— Почему вы не работали, ушли от остальных?
Я был после всего зол, как черт, и не стал сдерживаться. Я сказал, что хоть я и зэк, а не человек, но обслуживать своих тюремщиков не хочу и не буду. И в приговоре у меня это не обозначено — батрачить на отрядного.
— Но ведь вас не заставляли силой, я вас только попросил помочь. Не хотели, так не шли бы. А вот другие не отказывались, пошли добровольно.
— Да, конечно, пойдешь добровольно — ведь вы иначе найдете за что лишить посылки. Посылку зэк должен заслужить — не тем ли, что напилит вам дров?
Отрядный сказал, что ему сейчас некогда спорить со мной, он договорит потом, а сейчас я могу идти и собираться на работу. Я вышел, убежденный, что в этом месяце ларька не получу.
Так оно и было.
Хруща скинули
Осенью 1964 года идем мы с работы на обед и видим такую сцену: трое надзирателей волокут зэка в карцер, он упирается и вопит на весь лагерь. Многие в зоне знали этого зэка, он был бывший уголовник, парень шумный, даже буйный. Тащат его через весь лагерь, а встречные спрашивают:
— За что тебя?
— Да, б…, за Хрущева!..
Очень скоро мы узнали, в чем дело. Теперь эта история известна всем зэкам в Мордовии, так же как история с ухом Коли Щербакова. Оказывается, Хрущева скинули, а мы-то в лагере этого еще не знали. Лагерная администрация спешно приступила к устранению культа Хрущева. Рано утром, задолго до подъема, подняли с койки лагерного художника-зэка и привели в штаб. Здесь уже собралось начальство, и не только из оперчасти, а из КГБ и из ПВЧ. Художнику приказали спешно стереть со всех плакатов имя Хрущева — пока еще все зэки в бараках. Но одному с этой работой не справиться, ведь по всему лагерю расклеены и развешены плакаты и лозунги, и на каждом «Н.С. Хрущев». Вызвали еще несколько «активистов» — стукачей, членов СВП и Совета коллектива. И эта зондеркоманда принялась за дело. До подъема все равно не поспеть, поэтому спешили убрать бывшего главу правительства хотя бы с самых видных мест: в штабе, на штабе, вокруг штаба. На летней сцене над экраном висело длиннющее красное полотнище: «В условиях социализма каждый выбившийся из трудовой колеи может вернуться к полезной деятельности». И крупнее всего подпись: «Н.С. ХРУЩЕВ». Это полотнище было высоко, без лестницы не добраться, а какая же лестница в зоне, разве можно! Пока добывали лестницу, устанавливали — уже подъем, около сцены столпились зэки, глазеют. А когда художник начал соскабливать имя Хрущева, все догадались, в чем дело.
Что тут началось! Свист, улюлюканье, матюги! Многие сидят за Хрущева, а уголовники так почти все. Никто из начальства не посмел показаться зэкам на глаза в это утро, отсиживались в штабе.
Но вот пришло время открывать библиотеку, и тут спохватились, что там все стены заляпаны вырезками из журналов и газет, фотографиями и плакатами. Срочно надо что-то предпринять. И вот в штаб вызывают нескольких подонков, хорошо известных начальству, таких, про которых все знали, что их можно если не заставить, так купить.
Приглашают первого в кабинет к Свешникову — начальнику ПВЧ. (Зэк этот сам потом обо всем рассказывал во всех подробностях.) Свешников достает из ящика стола несколько пачек индийского чая и выкладывает их перед зэком:
— Иди в читальный зал, ликвидируй любым способом все фотографии Хрущева — и этот чай твой.
Перед зэком-уголовником — чай. В лагере это целое состояние, за чай можно купить не одного. И Свешников, и присутствующие здесь офицеры из КГБ и оперчасти знают это, они уверены в успехе. Они смотрят на зэка, зэк смотрит на чай. Конечно, он прикидывает, сколько здесь чаю, — сейчас согласится. Или еще поторгуется, тогда можно и прибавить. Зэк переводит взгляд с чая на офицеров, снова на чай. Наконец говорит деловым тоном:
— За чай все можно. Но… знаешь, начальник, — это Свешникову, — у тебя такая задница, любая баба позавидует. Откормился за наш счет. Дай я тебя разок… и за это принесу вдвое больше чая и в придачу все фотографии со всей зоны этого вашего верного ленинца.
Конечно, его тут же поволокли в карцер. Тащат, а он орет на всю зону всем встречным:
— Вот, б…, сами целовали своего Хрущева в… и в задницу, а мы теперь чтоб его рожи сдирали! Сами, педерасты, сдирайте! Мне за вашего Хруща, педерасты, семь лет добавили, политическим сделали! Вы меня теперь освобождайте! Так нет, опять за него в карцер сажаете!
Мы, аварийщики, работали с ночи, утром в зоне не были и еще ничего не знали. Так мы и услышали известие о снятии Хрущева, вперемежку с матом, из уст зэка-уголовника. Он и в карцере кричал о том же, и его слышно было по всему лагерю.
Но, конечно, нашлись такие, которые продались за чай — «за чай все можно». Явились в читальный зал и давай сдирать плакаты и вырезки на глазах у всех, под общий хохот. Эта важная операция скоро превратилась в игру. Подходит зэк к фотографии, слюнит большой палец, нажим, поворот — и уже на снимке Хрущев без головы, а его голова на пальце у зэка. Потом он подкарауливает кого-нибудь из знакомых, раз в лоб — и у того на лбу красуется хрущевская физиономия. Под шумок стали сдирать фотографии и других членов ЦК и правительства, переставлять головы: на фигуру Брежнева физиономию Хрущева и наоборот. Фотографии Подгорного ликвидировали почти все, а потом объясняли с невинным видом:
— А я не знал! До чего же они похожи!
Через день-два читальный зал стали «оформлять» заново. Озорство приутихло само собой. Зато зэки, осужденные за Хрущева, начали требовать освобождения. На одиннадцатом, говорят, они собрали вещи и двинулись к вахте:
— Нас посадили за критику Хрущева, а мы оказались правы… Освобождайте!
Их, конечно, разогнали.
Чтобы как-то утихомирить заключенных, всех, кто сидел за Хрущева, стали по одному вызывать в КГБ. Им предлагали писать в Президиум Верховного Совета просьбы о помиловании: мол, теперь наверняка освободят по такой просьбе, надо только напомнить о себе. Расчет простой: пока напишут, отправят, пока придет какой-нибудь ответ, пройдет два-три месяца, а то и полгода. Тем временем волнение уляжется, да и ответ придет не всем сразу. Одни будут возмущаться отказом, другие еще ждать, надеясь на помилование.
Многие, кому предлагали писать, отказывались: «Какое помилование? Мы оказались правы — нас должны реабилитировать». Но большинство заключенных все-таки просили помилования — лишь бы освободиться, не все ли равно как. Кому охота сидеть в лагере?
Может, кого-нибудь и реабилитировали — я таких случаев не знаю и даже не слышал о них. Даже помилование пришло на седьмом всего нескольким заключенным из сотен; только тем, кому до конца срока оставалось не больше года и у кого были хорошие характеристики от администрации.
За несколько месяцев до конца срока помиловали Саньку Климова — моего соседа на свидании. После свидания я ближе с ним познакомился и знал, что он осужден был по 70-й статье «за критику Хрущева». Климов был на воле строительным рабочим. Как-то он и его товарищи взяли после получки пару бутылок, выпили, зашли в столовую. Это было как раз тогда, когда повысили цены на масло и мясо, — стало быть, вздорожали и обеды. Вели они себя шумно, громко ругали Хрущева: вот сначала водочка подорожала, а теперь масло и мясо; как Америку перегоним — и хлебушек станет дороже. Словом, обычный в рабочей компании разговор. Санька, наверное, высказывался резче и громче других. Им просто не повезло — поблизости оказался какой-то кагэбист или партийный работник. Саньку взяли здесь же, в столовой, остальных потянули как свидетелей.
Теперь он написал просьбу о помиловании и все-таки освободился раньше срока. А парень из нашей аварийной бригады, Потапов, сидит до сих пор, хотя тоже, как Саня, попал за Хрущева. Саня Потапов был активным комсомольцем, убежденным ленинцем. Он служил во флоте, был комсоргом части. После демобилизации стал секретарем горкома комсомола в Липецке. Женился на такой же убежденной активной комсомолке, она тоже была одним из секретарей горкома комсомола. Образовалась образцовая семья, настоящая комсомольская ячейка — два секретаря. Народился ребенок, тоже будущий комсомолец. Но беда была в том, что Александр был парень честный и думающий. Началось с того, что он, общаясь с рабочей молодежью, увидел: ребята вовсе не горят энтузиазмом, многие недовольны своей жизнью, заработками, над Хрущевым смеются чуть ли не в открытую. Он и сам задумался над положением в стране, над политикой в области хозяйствования — и решил, что эта политика неправильная, что методы руководства неправильные. (После 1964 года они были названы «волюнтаристскими».) Саня пытался говорить об этом у себя в горкоме — его одернули, как говорится, поставили на место. Но молчать о своих взглядах он уже не мог и не хотел. И вот он занялся подпольной деятельностью в духе героев лучших образцов художественной литературы: стал писать листовки и распространять их по городу. Днем он работал в своем горкоме, читал лекции и доклады для молодежи, и в его выступлениях все было «как надо», «как принято». А вечером, придя домой, садился за стол, брал бумагу и ручку и писал очередную листовку: что Хрущев и хрущевский ЦК ведут антинародную политику, которая грозит развалом хозяйства страны; что авантюристическая внешняя политика ставит нас на грань катастрофы; что повышение цен на продукты и повышение норм выработки с двух концов урезают реальную заработную плату рабочих. Эти написанные от руки листовки он расклеивал ночью на видных местах, опускал их в почтовые ящики.
Однажды один из работников горкома партии, хорошо знавший Саньку, застал его в момент, когда тот опускал листовку в почтовый ящик. Он понял, кто регулярно снабжает его листовками, но не побежал доносить в КГБ, а принялся убеждать Саньку, что его деятельность бесполезна: все равно, мол, наш народ не способен на активные действия, не способен вступиться сам за себя.
«Ты, — говорил он Саньке, — будешь только напрасной жертвой». Он предупредил Саньку, что если тот будет продолжать кидать свои листовки в его почтовый ящик, то он сообщит об этом в КГБ. Мол, он сам все понимает лучше Саньки, его нечего агитировать, но он не хочет садиться зря в тюрьму: «Мне моя жизнь и свобода дороже».
Санька продолжал писать и распространять свои листовки, но обходил квартиру этого знакомого. Так он работал года два. Все это время КГБ искал антихрущевскую организацию и не мог найти; они даже не предполагали, что все это делает один человек.
В 1963 году военнообязанных в Липецке стали вызывать в военкомат и предлагали либо написать автобиографию, либо заполнить анкету. Саня понял, что собирают образцы почерка, и попытался, как мог, изменить свой. То ли это не помогло, то ли кто-то его выдал, но только вскоре его арестовали. Судили его — как почти всех нас — закрытым судом; дали по 70-й статье четыре года и привезли в Мордовию.
Саня очень волновался за свою семью. К 1963 году у них родился второй ребенок. После его ареста жену, конечно, выгнали с работы в горкоме; она устроилась машинисткой, но разве машинистка на свой заработок может прокормить двоих детей? К тому же она стала часто болеть, подолгу лежала в больнице — у нее больное сердце. Так что если бы не ее и не его старики, неизвестно, как и жили бы.
Зная о тяжелом положении семьи Потапова, его еще до снятия Хрущева вызывали лагерные кагэбисты, предлагали написать статью, что, мол, он неправильно оценивал деятельность Хрущева, клеветал на него и раскаивается в этом. Тогда они сами будут ходатайствовать о его помиловании. Санька всякий раз отказывался это сделать. А когда Хрущева сняли, его снова начали вызывать, вместе с другими, — чтобы писал просьбу о помиловании. Он им говорит:
— Как же так, вот вы несколько месяцев назад предлагали мне писать, что я был не прав и раскаиваюсь, а теперь, оказывается, я был прав, правильно критиковал Хрущева, но все равно должен просить помилования — что же я должен писать в своей просьбе?
Ему отвечают:
— Да не все ли вам равно, лишь бы быть на свободе!
Он не стал ничего писать и теперь досиживает свой срок на одиннадцатом. Но даже те, кто просил помилования, освобождены далеко не все. Особенно такие, как Саня Потапов: им пришел отказ «ввиду того, что, выступая против Хрущева, они выступали против ЦК» или «ввиду особой опасности совершенного преступления».
Свидание
— Марченко, к тебе мать приехала, — сказал мне один парень из бригады, работавший за зоной. Возвращаясь с работы, они увидели у вахты пожилую женщину, жадно вглядывавшуюся в проходивших зэков. Как обычно, спросили — к кому. Она сказала, что к сыну, Марченко Анатолию, и еще успела сказать, что уже трое суток не может увидеть начальника отряда, чтобы он подписал разрешение на свидание.
Я не виделся с матерью много лет: уехал работать на стройки, потом сидел, потом побег, новый арест, Владимирская тюрьма… Лет шесть или семь прошло. Уехав из дома восемнадцатилетним мальчишкой, здоровым, сильным, я теперь стал зэком с солидным стажем, глухим, больным. А что стало с матерью за эти годы? Она писала мне письма — вернее, не сама писала, диктовала соседской девчонке, сама-то она неграмотная. Из ее писем я мало что мог узнать о ней, об отце. Знал только, что отец по-прежнему работает на железной дороге, что младший братишка вырос, скоро ему в армию. Знал, чувствовал, что мать меня любит и жалеет, горюет обо мне. У меня даже ноги ослабели, когда я понял, что вот-вот увижусь с ней.
Трудно передать, что чувствует зэк, зная, что мать здесь, а он не может ее увидеть, помочь ей. Ведь она приехала сюда за тысячи километров, из Сибири, готовилась, мучилась трое-четверо суток в дороге и вот уже три дня обивает пороги, ходит вокруг лагеря, надеясь увидеть меня, узнать обо мне хоть что-нибудь. Меня охватило бешенство, просто комом стало в горле. Я постарался подавить его, загнать внутрь, быть хотя бы внешне спокойным: ведь если дать себе волю, наговорить начальству всяких резкостей, то не видать свидания ни тебе, ни матери.
Пошел к заместителю начальника лагеря майору Агееву — впервые за все время решил обратиться с просьбой к начальству. Хоть я и старался быть спокойным, но у меня это плохо получалось. От волнения, от подавляемой злости, от необходимости о чем-то просить я несколько минут не мог ни слова выговорить (я и вообще-то заикаюсь, когда волнуюсь). Наконец я справился с собой. Попросил, чтобы матери либо дали разрешение на свидание, либо отказали — чтобы она хоть не нервничала, не томилась в неизвестности, не ждала напрасно.
Мне просто повезло: моего отрядного Любаева не было, он отдыхал двое суток после дежурства. Было на кого свалить вину, к тому же между офицерами всегда свои счеты. Любаев ни за что не подписал бы мне свидание на трое суток да еще заставил бы мать пятнадцать дней ждать (в то время очереди на свидание были огромные, ждали по две недели и больше, бывало, что так и уезжали ни с чем — не у всех же есть время ждать, да платить за квартиру хозяйке, да тратиться полмесяца на еду). Агеев, видимо, знал, что у меня с Любаевым плохие отношения, и в пику ему разрешил свидание. Более того, он позволил нам с матерью, не дожидаясь очереди, устроиться на кухне, если на это даст согласие начальник режима. Я кинулся к начальнику режима. Тот сначала отказал:
— Разреши, а потом будешь жаловаться, что свидание в неприспособленном помещении.
Я стал просить его и обещал, что жаловаться не буду, раз сам об этом прошу. Действительно, у меня ведь свидание не с женой — могу быть с матерью и в неотгороженном помещении, а что кровать одна, так я буду на ночь уходить в зону. После того как написал заявление, что прошу разрешить мне свидание на кухне и что не буду предъявлять претензий по этому поводу, начальник режима согласился. Я снова пошел к Агееву — его подпись решающая. Он взял мое заявление:
— На сколько суток тебе подписать? Любаев-то тебя лучше знает, да его… где-то черти носят, а я ни… не знаю. Ну ладно…. с тобой, на!
И он подал мне подписанное заявление. Трое суток! Вот так удача!
Через несколько часов меня вызвали на вахту, обыскали тщательнее, чем когда-либо (предстоит общение с волей!), и повели в конец коридора. Коридор перегорожен дверью с глазком, запирающейся со стороны вахты. А по ту сторону двери — комната для свиданий и при ней кухня. Меня впустили в эту дверь, и заперли ее за мной. Я сделал шаг по коридору к кухне и остановился — не мог идти. Мне казалось, что я никогда не смогу двинуться с места. Наконец я заставил себя подойти к двери и постучать. Ответа из-за глухоты я все равно не услышал бы; помедлив несколько секунд, я открыл дверь и вошел.
Мать стояла у окна, заваленного продуктами, и, видно, давно уже ожидая меня, перекладывала их без толку с места на место. Я остановился у двери, она тоже не могла шагнуть ко мне навстречу. Не помню, как мы очутились рядом, как обнялись. Мать гладила меня и все приговаривала:
— Ничего, сыночек, ничего, успокойся, сыночек, успокойся.
Она, наверное, не столько меня успокаивала, сколько сама пыталась успокоиться, чтобы не разрыдаться тут же, на моих глазах. Некоторое время мы стояли обнявшись, и мать все гладила меня и приговаривала, чтобы я успокоился.
Потом раздался стук в дверь — не в ту, которая вела в коридор, а в ту, что вела из комнаты в кухню. К нам вошла очень полная женщина, молодая, лет тридцати — тридцати трех. Она поздоровалась со мной, а матери сказала:
— Вот видите, вот и встретились с сыном, а вы все беспокоились!
Вслед за ней вошел в кухню ее муж. Мы с ним не были знакомы, знали друг друга в лицо, но, как это часто бывает в лагере, не знали ни имени, ни фамилии. Здесь я узнал, что его зовут Александр, Саня Климов. Впоследствии мы с ним сошлись ближе, и я узнал его историю. А пока мы немного поговорили, разговор с Климовым помог нам с мамой прийти в себя. Когда они ушли к себе в комнату, нам уже легче было разговаривать. Мать стала рассказывать мне все домашние новости — об отце, о Борисе (братишке), о соседях: кто уехал из Барабинска, кто женился, кто вышел замуж, у кого народились дети. Рассказывая, она все время старалась сунуть мне в рот что-нибудь из привезенной еды. Но я ничего не мог есть, так разволновала меня наша встреча. Мама говорила очень громко, чтобы я слышал, но ни разу не спросила, насколько же я оглох, — видно, не хотела лишний раз огорчить меня этими расспросами. Я успокаивал ее, что чувствую себя хорошо, здоров, все в порядке. Только несколько часов спустя я разглядел, что она очень постарела, измучена, в свои пятьдесят лет выглядит совсем старушкой. Это из-за меня, это горе ее так рано состарило. Да и вся-то жизнь была несладкая: тяжелая работа, нас трое (один братишка умер маленьким, остались я и Борис), вечная нужда, нехватки…
На ночь я ушел спать в зону. А в шесть утра снова пришел; у нас, аварийщиков, работа не по сменам, а по вызову, и бригадир эти три дня не вызывал меня, дал мне возможность побыть с матерью. А Саньку Климова выводили каждый день на работу, он приходил к жене вечером и оставался на ночь. Однажды он попытался вынести со свидания кусок сала — спрятал под пояс. Иногда это удается. Но ему не повезло: обыскивали тщательно, сало нашли и пригрозили лишить свидания.
Мы с Климовыми готовили сообща, вместе завтракали, обедали и ужинали. Жена Климова рассказывала о себе, о ребенке, о том, как живется в Саратове. Мать рассказывала о жизни в Барабинске. Оказывается, везде одно и то же: еле-еле сводят концы с концами, дотягивают от получки до получки. Моим-то старикам немного легче — свой огород, корова. А Санькиной жене совсем туго приходится, какая там зарплата в детском садике, а работает она на себя и на ребенка.
В последний день свидания открылась дверь, и к нам без стука вошел Любаев. Видно было, что он злится: не удалось помотать мне душу в связи со свиданием, без него подписали. Когда он вошел, я сидел за столом и ел варенье ложкой прямо из банки — мать знала, что я сластена, и навезла много всяких сладостей. Я и не подумал встать, когда явился Любаев, — еще чего, он три дня проманежил мать, явился к нам незваный. Он покосился на меня, поздоровался с матерью. Она предложила ему сесть. Отрядный стал на меня жаловаться, что я грубый, дерзкий, плохо себя веду, не хочу, видно, освободиться досрочно. Когда мать это услышала, у нее сделались круглые глаза: неужели я на самом деле не хочу выходить из лагеря?
— Да, — сказал Любаев, — это от него зависит, от его поведения.
— Да что же он, работать отказывается? — забеспокоилась мать. — Всегда он хорошо работал.
— Работать-то он работает… — начал Любаев, стал объяснять, какой я плохой, как поневоле приходится меня наказывать: лишать ларька, сажать в карцер на голодный паек. Тут я не выдержал — я ведь не хотел, чтобы мать беспокоилась, плакала, узнав, что мне голодно и трудно; я ей ни на что не жаловался. Я перебил Любаева и сказал, обращаясь к матери:
— А ты спроси у отрядного, что надо делать, чтобы быть на хорошем счету. Он тебе объяснит, что надо выслуживаться перед начальством, следить за своими товарищами, доносить на других заключенных.
— Ой, у нас и в роду-то никогда такого не было! — вырвалось у моей мамы.
А я обратился к Любаеву:
— Вот вы пришли к нам на свидание, хотя мы вас и не звали. Пришли для того, чтобы расстраивать старую женщину своими разговорами. Мы встретились всего на три дня, нам и без вас есть о чем поговорить; то время, что вы у нас отнимаете, вы же не добавите к сроку свидания. Если вам надо, вызывайте меня к себе из зоны и беседуйте сколько угодно. А мать не тревожьте.
Любаев, ничего не сказавши, вышел; это мне и было нужно — чтобы он не успел рассказать матери, как здесь плохо. Мать смотрела на меня с ужасом, что я так разговаривал с начальником: за всю свою жизнь она привыкла, что начальства надо бояться, что с ним лучше не связываться, себе же хуже сделаешь. Мне было очень жаль ее.
Свидание кончилось, мы простились. Я был рад встрече, просто счастлив, я как будто оттаял за эти три дня после всех лет одиночества. Но я не хотел, чтобы мама приезжала ко мне еще. До конца срока остается еще три года — лучше потерпим как-нибудь это время, чем ей мучиться в дороге, мучиться здесь, просить, унижаться, сидеть три дня за зарешеченным окном. Лучше не видеться эти три года совсем, чем видеть сына в этой обстановке.
Я еще раз порадовался, что мать послушалась меня и не приехала ко мне во Владимир, в тюрьму. Там встречаться еще мучительнее. Когда-то, лет десять назад, и в тюрьме тоже были личные свидания, но что это были за свидания! В комнате-камере, тоже за решеткой, с глазком в двери. Свет в камере горел всю ночь, надзирательница ходила по коридору и заглядывала в глазок — особенно усердно, конечно, если в камере были муж с женой. Теперь во Владимире и этого нет, никаких личных свиданий. Могут дать одно или два свидания в год, по тридцати минут каждое, да и этого лишают по любому поводу и без повода. К моему сокамернику Алексею Иванову однажды приехала мать. Это было недавно, весной 1963 года. Она жила во Владимирской области — хоть ехать недалеко, — вот и взяла с собой внучку лет пяти, дочь сестры Алексея. Он рассказывал нам потом, как все это происходило. В комнате все время сидит надзирательница, слушает, следит, чтобы не было никаких «нарушений». Нельзя не только обняться с родными, но даже близко подойти; разговаривать можно через стол. Мать Алексея долго ждала с девочкой около тюрьмы, девочка устала, закапризничала, и бабушка купила ей мороженое. Так они и вошли в камеру с мороженым. Девочка протянула его через стол Алексею, чтобы дядя попробовал. Надзирательница кинулась к ней, вырвала у нее из рук мороженое, как будто это была атомная бомба, и тут же прекратила свидание. Я вспомнил рассказ Алексея совсем недавно, слушая по радио отрывки из книги Светланы Аллилуевой — как раз в одном отрывке речь шла о свидании с братом во Владимирской тюрьме. Ведь это те же самые годы; а мы тогда и не знали, с кем имеем честь делить свое заключение! О Пауэрсе знали, «о бериевских генералах» знали, а о Василии Сталине, «наследном принце», и слыхом не слыхали. Уж не знаю, в каких он содержался условиях, какой суп ему подавали вместо баланды; но как не похожа его встреча с женой и сестрой на встречу Алексея с матерью и племянницей! Видно, не для всех граждан у нас одни законы и одни инструкции.
Самоубийца
…А если я на проволоку? Если Я на запретку? Если захочу; Чтоб вы пропали, сгинули, исчезли, Тебе услуга будет по плечу? Решайся, ну! Тебе ведь тоже тошно В мордовской, Богом проклятой дыре. Ведь ты получишь отпуск — это точно, Домой поедешь, к матери, сестре… И ты не вспомнишь, как я вверх ногами На проволоке нотою повис. Ю. Даниэль. Часовой. 1966 годЭто случилось в воскресенье, 4 октября 1964 года. Мы пришли с разгрузки-погрузки в пятом часу утра и легли спать. Часов в восемь я встал — здорово хотелось есть. Хотел было разбудить Валерку, но он спал так сладко, что я его пожалел: лучше недоесть, чем недоспать. Отрезал ложкой от своего пайка кусочек хлеба и пошел в столовую.
Утро было ясное, солнечное, все радовались, что к обеду будет тепло. Для зэка теплая погода — подарок судьбы. Я шел в столовую в очень хорошем настроении. Столовая по воскресеньям утром открыта до девяти, но почти все успевают позавтракать гораздо раньше. Очереди уже не было, только на скамейках сидели несколько десятков зэков, ожидавших конца завтрака, — может, у повара останется несколько мисок баланды и он даст прибавку.
По-видимому, сегодняшний завтрак фигурировал в меню как «суп-лапша» — в миске плавало несколько несчастных лапшинок. Ложке тут делать было нечего, я спрятал ее в карман и в несколько глотков опорожнил миску с «супом-лапшой» через край. Осталось только проверить, не пристала ли к стенке какая-нибудь лапшинка. Вдруг раздался одинокий выстрел.
Все подняли головы и замерли. Никто не смел звякнуть миской. Погодя минуту кто-то негромко сказал:
— С угловой, возле пекарни.
Слушаем, ждем. Должны последовать еще два выстрела. Минута долгая, а выстрелов нет. Что бы это могло значить? Стрелял автоматчик с вышки — стало быть, какой-то зэк полез на запретку, чтобы покончить с собой. В этом случае часовой должен дать два предупредительных выстрела вверх, а третий — в «беглеца». Но обычно бывает наоборот: первый выстрел дают по живой мишени, а потом два в воздух. Не один ли черт, зэку все равно погибать, чего тут долго чикаться? Пульнешь в небо, а он еще раздумает кончать с собой, и тогда прощай, благодарность, прощай, дополнительный отпуск и поездка домой! Короче, никто из нас не знал случая, чтобы часовой стрелял в порядке, указанном в инструкции; главное — израсходовать три патрона.
Так или иначе, должно было быть три выстрела, а мы слышали только один. Что бы это значило? Мы пошли из столовой, чтобы узнать. Только вышли на крыльцо — еще подряд несколько выстрелов. Стреляют там же, у пекарни, но звук выстрелов не такой, как у первого.
Зэки со всего лагеря шли к пекарне. Я тоже пошел. Меня обогнала группа зэков, среди которых был мой знакомый по Владимирке Сергей Оранский. Проходя мимо, он крикнул мне:
— Опять кого-то застрелили!
Ох уж эти «опять»! Сколько их было, таких «побегов», только при мне, здесь, на семерке? Последний раз это было несколько месяцев назад, летом, в июне или июле. Автоматчик пристрелил «беглеца» у деревянного забора, и тот лежал, уткнувшись лицом в нагретую, мягко вспаханную землю, подгребал ногой. Зэки побежали в санчасть, привели фельдшера. Но что тот мог сделать? Раненый лежал в запретке, за двумя рядами колючки, а часовой никого и близко не подпускал к проволоке: заключенным в запретку нельзя, да и убитого или раненого должны сначала сфотографировать на месте, составить акт в присутствии нескольких начальников и лишь после этого убирать и оказывать помощь.
Раненый лежал, время от времени подергиваясь. Заключенные шумели, кричали, не обращая внимания на орущих надзирателей и на автоматные очереди над головами. Так продолжалось долго, часа полтора. Наконец на той стороне появилось начальство: подполковник Коломийцев, его заместитель майор Агеев, еще офицеры. Коломийцев приказал ломать забор — раненого и убитого нельзя выносить через зону. В заборе проделали дыру, и два надзирателя, взяв тело за ноги, волоком потащили его за зону. Голова, подпрыгивая, билась о землю, и на земле оставался кровавый след. Зэки орали, вопили. Тогда в проломе забора показалась физиономия Агеева, и он крикнул:
— А за каким… вас несет на запретку?
Потом нашего фельдшера вызвали на вахту «для оказания скорой медицинской помощи». Позже туда же пришли вольная сестра и врач. Фельдшер рассказывал, что самоубийца был еще жив. Его отправили в больницу на третий, но не довезли, он умер по дороге.
Я вспомнил этот случай и другие такие же, идя вместе со всеми к пекарне. Что же произошло сегодня? Кто этот несчастный?
У пекарни уже собралась огромная толпа, почти вся зона. Я нашел здесь своих бригадников. Коля Юсупов показал на забор — там на проволоке, на козырьке, зацепившись за колючку одеждой, висел какой-то зэк. Со стороны зоны видны были только его ноги, он свесился на другую сторону, на волю.
Мы с Колей полезли на крышу ближнего домика — бывшей посылочной. Отсюда было хорошо видно и запретку, и забор, и волю. На той стороне тоже собралась толпа: офицеры, солдаты-автоматчики, вольные. Рядом с нами сидел на крыше какой-то зэк, который видел все с самого начала. Он был страшно взволнован, возбужден. Он и рассказал нам, как все было.
— Сижу я, — говорит, — у Кирюхи в кочегарке, пришел потрепаться и за хлебом. Слышим, часовой с вышки орет: «Не лезь, стрелять буду! Не лезь же… твою мать, убью! Куда ты среди бела дня на… лезешь?» Мы с Кирюхой выскочили из кочегарки, смотрим, а зэк уже один ряд колючки перелез, путается во втором. И доску с собой тянет. Я узнал его — мы вместе в карцере сидели, он тогда болел, не давал норму, потом на работу не вышел — Коломийцев сам и выписал ему пятнадцать суток. Я ему кричу: «Ромашев, с ума сошел, вернись, пристрелят же!» «Ну и… с ними, — отвечает, — один хрен умирать. Скорее отмучаюсь». Он все время хворал, а врачи ему освобождения не давали, мало того что на работу гоняют, еще и норму жмут. Я бегаю вдоль колючки, уговариваю его вернуться, а он махнул мне рукой, через второй ряд колючки перебрался — и к забору. Чуть не под самой вышкой. Часовой, видно, парень хороший, в первый раз такого вижу: орет матом на Ромашева, а не стреляет. Потом, слышим, звонит на вахту: мол, зэк лезет на запретку, пусть надзиратели придут и заберут его. Что ему там с вахты отвечают, не знаю, слышим только, как он кричит в трубку: «Пристрелить недолго, да его можно забрать, он еще во втором ряду путается». Потом уж грубо, зло орет: «А вы за каким хреном там сидите?! Мое дело увидеть и предупредить, ваше дело забрать, вот и забирайте к… матери! Я стрелять не буду, я вас предупредил».
Он и не стрелял, пока Ромашев на самый забор не залез. Тогда часовой дал один выстрел в воздух и все время орал, чтобы зэк слезал и мотал в зону. Но Ромашев как не слышал. Он стоял на заборе на четвереньках, ногами на козырьке, руками упираясь в зубцы доски. И, похоже, вообще не собирался оттуда слезать. Потом с той стороны затарахтел мотоцикл, слышно было, как он подъехал к забору около Ромашева и остановился. Кто-то крикнул часовому: «Какого хрена смотришь? У тебя зэк на заборе сидит!» Ответ часового не был слышен, потому что сразу же за окриком раздалось подряд несколько пистолетных выстрелов. Ромашев оторвал руки от забора, встал во весь рост и стал заваливаться, падать, туда, наружу. Но вот зацепился штанами, висит теперь…
Коля спросил очевидца, кто же это был, который стрелял из пистолета. Парень ответил:
— Да я точно не могу сказать, я сразу полез на крышу посмотреть, но мотоцикл уже отъезжал. По голосу и по красной роже — кажется, Швед.
Пока мы слушали этот рассказ, за забором появились офицеры, и среди них Агеев и Швед. Они походили, посмотрели, спросили что-то у часового, потом Агеев пошел в зону, а Швед остался снаружи. Скоро Агеев появился с этой стороны, прошел через толпу зэков в сопровождении офицеров и надзирателей. Он двигался не спеша и никакого внимания не обращал на возмущенные крики: «Убийцы!», «Людоеды!», «Да снимайте же скорей, может, он еще живой!» Офицеры подошли вплотную к проволоке, и Агеев крикнул на ту сторону: «Давай, приступай!»
Фотограф, примерившись, щелкнул несколько раз аппаратом с разных точек. Несколько минут спустя над забором появилась физиономия Шведа. Он смотрел сверху на зэков и улыбался. Зэки взбесились. Из толпы неслось:
— Паук!
— Вот по ком могила плачет!
— Когда ты только лопнешь от нашей крови!
Рядом со Шведом появился надзиратель, и они, не обращая внимания на крики, занялись своим делом. Они выпутывали Ромашева из колючки, разрывая на нем штаны. Толпа замолкла, и было так тихо, что даже я, казалось, слышал, как рвалась материя. Когда ничто больше не удерживало тело, Швед и надзиратель, подержав его секунду за ноги вниз головой, отпустили, и было слышно, как Ромашев шмякнулся о землю. По зоне пронесся тихий не то вздох, не то возглас. И сразу снова поднялся дикий шум, крики протеста, чуть не истерики. Я сам видел, как плакали некоторые зэки, старые воркутяне и колымчане. Из них не могли выжать слезы пытками и голодом, а сейчас они плакали от оскорбления и бессильной злости.
А Швед стоял на лестнице над забором, глядел в зону и улыбался.
Потом сестра сказала нам, что Ромашева сняли уже мертвым. Видно, он был убит выстрелом в упор.
О друзьях-товаршцах
За годы, проведенные во Владимирке и в лагерях, я познакомился с очень многими заключенными, с некоторыми близко подружился. Сколько разных историй услышал! Обо всех не расскажешь. Постараюсь, как могу, рассказать лишь о нескольких. Но сначала напомню, что уже говорил раньше: люди здесь разные, как и на воле. Есть и очень хорошие, и совсем дрянные, смелые и трусы, есть очень честные, принципиальные, есть беспринципные подонки, готовые на любое предательство. Есть люди, попавшие в лагерь за убеждения, а немало и таких, которых посадили случайно. Некоторые остаются верными себе, отбывая весь срок от звонка до звонка. Другие отрекаются, и даже публично, от самих себя, от своих взглядов, от своих друзей. Я могу сказать наверняка, и это подтвердят многие: большинство таких «отрекающихся» (если не все) делают это не по убеждению, а ради облегчения своей участи в лагере или потом на воле.
В Мордовии в политических лагерях содержатся и писатели, и научные работники, и студенты, и рабочие, и полуграмотные крестьяне. И настоящие «политики» со своей системой взглядов, и превращенные в «политиков» уголовники.
Я хочу рассказать о некоторых своих знакомых и друзьях, не делая между ними никакого различия, как это и было в жизни.
На семерке в аварийной бригаде вместе со мной работал Иосип Климкович — хороший, простой парень. Потом мы с ним вместе оказались на третьем в больнице и сошлись еще ближе. Он рассказал мне, за что сидит, за что получил свои двадцать пять лет.
В конце 1940-х годов Иосип был еще совсем мальчишкой, жил в Станиславской области с матерью и сестрой. По всей Западной Украине тогда шла вооруженная партизанская война, и многие из крестьян-украинцев ушли в леса. В лесу у партизан был и дядя Иосипа — так, во всяком случае, говорили. И вот однажды, когда Иосип сидел в хате своего товарища, в село въехали грузовики, крытые брезентом, из них высыпали солдаты-автоматчики и стали окружать некоторые хаты. В окно было видно, как один из грузовиков остановился около хаты Климковичей и солдаты окружили ее. Иосип кинулся к двери: дома лежала больная мать. Но дед товарища схватил мальчишку и не пустил. Дед держал его и приговаривал: «Ты что, дурной, что ли, не видишь — в Сибирь повезут. Придешь — и тебя туда же». Он оттащил Иосипа от двери к окну: «Смотри, хлопец, и запоминай». Иосип прилип к стеклу. Он видел, как по их двору бегали автоматчики, заглядывали за дрова, в сарай — может, это его искали. Потом он увидел, как из хаты выгнали сестру и, заломив ей руки, бросили в машину, в кузов. Больная мать не могла идти, ее выволокли за руки — и тоже в машину. У нескольких других хат происходило то же самое. Иосип навсегда запомнил эту сцену, но больше всего врезалось ему в память лицо офицера, командовавшего операцией.
Потом Иосип узнал, что всех забранных привезли в райцентр и загнали в один сарай. Иосип бродил вокруг сарая, но подойти близко не решался: сарай охраняли солдаты. Говорили, что людям в сарае не давали ни есть, ни пить. Через несколько дней Иосип узнал, что мать умерла, а сестру вместе со всеми остальными увезли в Сибирь. Тогда он ушел из дому, но не в лес, не к партизанам, а в город. Достал себе пистолет (тогда это было нетрудно) и стал караулить того самого офицера. Несколько дней не мог он его разыскать. Люди говорили, что офицер уехал в другие села на подобные же операции. А потом Иосип все-таки подкараулил его, когда он выходил из комендатуры в сопровождении автоматчика. Иосип пошел за ними, убедился, что это тот офицер, который увозил его мать и сестру, подошел к нему вплотную и выстрелил в упор. Офицер упал, даже не вскрикнув. Солдат повернулся, вскинул автомат, но выстрелить не успел — Иосип застрелил и его.
Климковича судили как оуновца, за бандитизм, дали двадцать пять лет. Суд был закрытый. Это было в конце 1940-х годов, и Иосип сидит до сих пор.
Очень похожая история с моим соседом по койке Владасом Матайтисом. Он литовец, тоже крестьянин. Его отец, брат и он сам были в лесу с партизанами, а третий брат учился в городе, был студентом. Вот третий брат приехал домой, а старик и двое других пришли повидаться с ним. Тут облава, их всех схватили, вывели за село и расстреляли, только Владасу, который был ранен, удалось бежать. Потом он узнал, что убитых сложили на телегу и привезли обратно в село. Когда мать Владаса увидела на телеге сразу три трупа — мужа и двух сыновей, она сошла с ума. Так ее, безумную, и увезли в Сибирь вместе с дочерью. А Владаса, тяжело раненного, все равно поймали, судили, тоже закрытым судом, и тоже дали двадцать пять лет.
Он еще сидел в Мордовии, когда его матери и сестре разрешили вернуться в Литву.
Матайтиса дважды представляли на суд на снижение срока до пятнадцати лет, но оба раза отказывали, так как лагерное начальство не давало ему хорошей характеристики: он никак не хотел быть «активистом». Не идти же в СВП! Но и сидеть тоже не хочется — и Владас записался в санитарно-бытовую секцию. Так многие делали, чтобы получить характеристику на суд: кто постарше — идут в санитарнобытовую, кто помоложе и поздоровее в спортивную секцию. Хоть и сотрудничаешь с администрацией, но не во вред своему брату-зэку, лишь форму соблюдаешь, а начальство и эта форма, на худой конец, устраивает.
Владаса представили на суд в третий раз и наконец-то снизили срок. Он освободился. Правда, въезд в Литву ему не разрешили.
Там же, на семерке, на складе готовой продукции, работал один зэк-старик, тоже из Прибалтики. Я не знаю ни его фамилии, ни настоящего имени. Мы звали его Федей, так же как и Матайтиса Володей, а Юсупова Колей. Федя тоже был двадцатипятилетник, как все так называемые националисты из Прибалтики и с Украины, осужденные в 1940-е годы.
Все свободное время Федя писал жалобы. Этим больны в лагерях многие — пишут и пишут: и в ЦК, и в Президиум Верховного Совета, и Хрущеву, и Брежневу, и в прокуратуру. Вот и Федя писал. Он был осужден не один: где-то здесь же в Мордовии сидели его жена и сын. То, что он писал в своих жалобах, сводилось к одному: он не был партизаном-националистом, он и его семья осуждены неправильно, по ошибке. Зэки смеялись над ним:
— Не надоело тебе восемнадцать лет писать?
Отрядный, вручая Феде очередной «Ответ с отказом», ругался:
— Вот, пишете, пишете, писатели тоже! Все вы не виноваты, все по ошибке! Получил срок — сиди и не рыпайся. Не видно, что ли, какого ты поля ягода?!
Ответы приходили все как один: «Осужден правильно, оснований для пересмотра дела нет».
И вот однажды бегут зэки:
— Федя, иди к вахте, к тебе приехали!
А на вахте его жена и сын — они первыми освободились и заехали за ним, а он еще ничего не знает. Оказывается, всех троих реабилитировали.
Через восемнадцать лет справедливость все-таки восторжествовала!
Был у нас еще один такой «писатель», известный всей зоне деревенский мужик Петр Ильич Изотов. И зэки, и офицеры звали его запросто «Ильичом». Вот этот Ильич писал в день по нескольку жалоб и просьб и получал не меньше двух ответов на них ежедневно. Он завел себе целую канцелярию: копии всех жалоб складывал в специальный чемоданчик, подкалывал к ним ответы, в особой тетрадке был учет — когда какую жалобу он послал, когда прибыл ответ. Отвечали Ильичу в точности так же, как Феде, и зэки над ним так же потешались. Но теперь, когда отрядный заводит свое: «Пишете, пишете, а что пишете? Все вы не виноваты, толку все равно не будет от вашей писанины, идите лучше в СВП», зэки вступаются за Ильича:
— Феде тоже говорили, толку не будет, а его вот реабилитировали.
Хотя Ильич аккуратно отправлял несколько жалоб в день, но, видно, сам не очень верил в них. В СВП он, правда, не записался, зато пошел в школу, в четвертый класс, — авось дадут хорошую характеристику на помилование.
Осенью 1963 года к нам в бригаду зачислили новенького — Нахмуддина Магометовича Юсупова. Мы с ним очень подружились и были вместе до самого моего освобождения, вместе работали, жили в одной секции, спали рядом, хлеб держали в одной тумбочке, а харчи и деньги были у нас общие: что кому удается добыть, то на всех, на всю компанию. Он очень добрый, верный друг, всем готов помочь. Бригадники перекрестили Нахмуддина в Колю, а то с непривычки язык сломаешь. Коля — огромный молодой мужчина, росту в нем, пожалуй, метра два, богатырского сложения, красивый, с правильными крупными чертами лица, с густыми бровями над большими, глубоко посаженными карими глазами. В лагерь он приехал без бороды, а здесь решил отпустить бороду: здесь много бородачей. Но кому позволяли, а кому нет. Колю несколько раз заставляли сбривать: то за бороду посылки лишат, то ларька. А другой раз не лишают, а просто отказываются в ларьке выдавать продукты: мол, ты же на фотокарточке у нас бритый, откуда борода? Может, это не ты. Все-таки в конце срока Коля отрастил бороду, она выросла очень красивая, медно-каштановая, и обрамляла его лицо, придавая ему большую выразительность.
Коле сейчас лет тридцать семь — тридцать восемь. Он аварец, старики его живут в горах Дагестана, и он там вырос. Окончил городское педучилище, некоторое время учительствовал у себя в ауле, потом — армия. Коля служил в парашютно-десантных частях, остался на сверхсрочную — в общем, отслужил лет восемь. За это время он повидал, где как живут люди, видел городскую жизнь, а демобилизовавшись, не захотел оставаться в своем заброшенном ауле. Он решил подзаработать деньжат и вернуться к своим старичкам не с пустым карманом, как возвращаются из армии. Больше всех зарабатывают шахтеры — он и подался на шахту. Работал он там — будь здоров! Он и умеет работать: мы в бригаде видели, как он работает один за троих. Только накопить ничего не удавалось: сколько заработает, столько и проживет, так, может, пустяк какой останется.
И как ни старайся, больше ста пятидесяти — двухсот рублей в месяц не выгонишь; много работаешь — расценки снижают, норму поднимают. Уйти с шахты — и того хуже, на учительскую зарплату и один не проживешь. А тут еще цены на продукты повысили. Все товарищи шахтеры тоже недовольны, ворчат, бурчат, все матом кроют — но только между собой, в своей компании. И Коля тоже, как все.
Как-то он с друзьями выпил в воскресенье и отправился к себе домой в общежитие. Не то чтобы пьян, а, как говорится, под градусом. Шел через базар. На базаре репродукторы со всех углов орут: «Хрущев, Хрущев — верный ленинец! Забота о народе! Рост благосостояния!» Колю зло взяло. Он влез на какую-то бочку и стал держать речь:
— Люди! Слышите, по радио брешут, что мы живем с каждым днем лучше и богаче. Вы это заметили, что лучше живете? Никита про Сталина говорит, что при нем плохо было. При Сталине нормы были меньше, а расценки выше. При Сталине шахтер получал семь-восемь тысяч, а я при Никите еле сто пятьдесят — двести выколачиваю. Да и чего они стоят? При Сталине масло было по два семьдесят, а теперь по три шестьдесят. Мясо вздорожало — кому нужна такая жизнь? Раньше у нас на Кавказе, старики рассказывают, ели баранов и за каждым аулом были горы бараньих костей. А теперь мы отвыкли от баранины. И вместо бараньих костей за аулом растет хрущевская кукуруза.
Коля говорил долго, топтался на бочке и проломил ее. Хозяин бочки кинулся было к нему с кулаками, но когда услышал, что он ругает Хрущева и хвалит Сталина, отошел: «Говори, говори, дорогой». (Многие кавказцы и сейчас еще боготворят Сталина.) Коле дали договорить до конца, а потом несколько ребят увели его с базара. С неделю его никто не трогал, но потом все-таки нашли, посадили и судили за антисоветскую пропаганду, за клевету на советский строй и правительство. Суд, как водится, закрытый. Дали четыре года. Когда скинули Хрущева, его, как и других таких же, вызвали, предлагали просить помилования. Он отказался, отсидел весь свой срок и освободился уже после меня, 28 мая 1967 года.
У Геннадия Кривцова жизнь была очень бурная, полная приключений. Между прочим, Генка мой земляк, он тоже из Новосибирской области. Он в конце войны окончил Одесское артиллерийское училище, стал офицером, еще войну захватил. Но когда его часть проходила через Чехословакию, он дезертировал: влюбился в чешку, женился на ней, при ней остался. Чтобы не попасть под трибунал, бежал в Австрию. Вернулся в Чехословакию за женой — тут его и схватили. Конечно, трибунал, срок, лагеря, ссылка. Из ссылки он бежал — поймали, снова судили, дали новый срок. В очередном лагере Генка написал очерк в лагерную газету, его напечатали, а через некоторое время решили, что очерк антисоветский, и добавили срок.
Вообще, Генка Кривцов как раз такой человек, про какого поется в тюремной песне: «Я твой навечно арестант, погибли юность и талант в стенах твоих». Действительно «навечно арестант». Вся жизнь — лагеря да ссылки, да побеги, да новые сроки. Я и не упомню, в каких лагерях он сидел, сколько раз бежал, за что получал «довески». И все никак не угомонится, никак не может приспособиться. Или не хочет.
Сам он небольшой, щуплый, тощий-тощий, я даже во Владимирке не много таких доходяг видел. Но боевой, каких мало. Его еще в старых лагерях прозвали «сыном Троцкого» — за ловко подвешенный язык. Отрядные просто боялись с ним связываться: Кривцова все равно не переспоришь, только опозоришься. От таких, как он, стараются избавиться под любым предлогом. Конечно, его выпихивают не на волю, а либо в БУР, либо в тюрьму. Я с ним познакомился во Владимирке, а потом мы были вместе и на семерке.
В тюрьме он начал писать повесть, я запомнил название — «В когтях у дьявола». О лагерной, тюремной жизни. Написал несколько глав, у него их отобрали, а его самого посадили для начала в тюремный карцер, предупредив: «Кривцов, вы заработаете еще срок!» После карцера воспитательную работу продолжали. Генку привели в кабинет, там с ним беседовал владимирский поэт Никитин. Он убеждал Генку раскаяться и писать на другие темы. Мол, у него, Кривцова, несомненно, писательский дар; если бы он переменил тенденцию своих произведений, чтобы их можно было печатать, то его бы, наверное, помиловали и тогда бы он остался во Владимире уже на воле, был бы принят в Союз писателей… Блестящие перспективы не привлекли Генку. Он остался «вечным арестантом».
У Кривцова в Новосибирске живет замужняя сестра. И она, и ее муж члены партии, он парторг на заводе, она работник идеологического отдела горкома. Об этом узнало тюремное начальство, и Генке предложили вступить с сестрой в открытую дискуссию, то есть писать ей сколько угодно и что угодно, высказывать все свои убеждения. Обещали, что ему ничего не будет, цензура пропустит его письма. И вот началась полемика между братом и сестрой. Генка верующий, а она, конечно, атеистка: на эту тему и произошел их первый обмен мнениями. Оказалось, что убежденная атеистка не очень тверда в своих убеждениях, во всяком случае, не в состоянии отстоять свои взгляды. Так что начальство очень скоро прикрыло диспут и вернуло Генкину переписку в установленные рамки.
У нас, на седьмом, Кривцова, Родыгина, Никлуса и других, подобных им, перед приездом лектора с воли запирали на сутки-двое в карцер, так что мы уже знали: если Кривцова и Родыгина поволокли в карцер — значит, завтра лекция.
С Родыгиным меня и Валерку познакомил Кривцов. Вернее, мы еще раньше его заприметили. Идем как-то с Валеркой мимо штаба, смотрим, там стоит начальник КГБ управления, майор Постников, а какой-то парень-зэк что-то ему втолковывает. Прошли несколько раз мимо них. Валерка потом мне пересказал, о чем шла речь. Оказывается, зэк Постникову говорил:
— Вот вы говорите, что наша власть опирается на народ, что в этом ее сила и могущество. Если бы вы, представители этой власти, действительно были уверены в своей силе, вы бы нас не сажали. Сколько народу держите вы в лагерях и тюрьмах, за какое-нибудь слово против вас простому мужику десять лет даете — значит, вы того мужика боитесь и в поддержке народа совсем не уверены…
Что отвечал Постников, Валерка не слышал. Мы потом спросили у Генки, не знает ли он этого парня, и Генка нас познакомил.
Толик Родыгин, ленинградец, молодой еще, года с 1936-го. Он тоже был офицером, только Кривцов артиллерист, а Родыгин моряк. Кривцов писал прозу, а Родыгин стихи. В Ленинграде он издал сборник стихов, вступил в Союз писателей. Когда его привезли на семерку, он в лагерной библиотеке обнаружил свой сборник, утащил его оттуда и никому не показывал: плохие стихи, говорит, стыдно.
Из армии он каким-то образом ушел, поехал на Дальний Восток ловить рыбку, плавал на сейнере капитаном. Посадили его в 1962 году — и, как и меня, за попытку уйти за границу: попытался на Черном море вплавь то ли в Турцию, то ли на иностранный корабль. Его выудили — и в Мордовию на восемь лет.
Они с Кривцовым дружили. Спорили так, что слушать сбегалось чуть ли не ползоны, не то что на лекцию или на политбеседу. Родыгин атеист, Кривцов, я уже говорил, верующий, вот они и устраивали диспут. Чаще всего в нашей секции, у аварийщиков. До того доходило, что слушатели даже ужин пропускали. Спорили, конечно, не только о религии, а и о политике, о литературе, искусстве, о роли современной науки, о морали, откуда берутся моральные оценки, потом снова о религии. Офицерам эти диспуты — нож острый: вмешаться в спор они боятся, потому что Кривцов и Родыгин с двух разных сторон в два счета разложат их на лопатки, вот они и злятся. Вбежит отрядный в секцию:
— Зачем собрались? Есть что тут слушать! Расходитесь! Подчиняйтесь начальству!
— Ну, против такого аргумента не поспоришь.
Осенью 1965 года Родыгина, Кривцова, Никлуса и других заядлых спорщиков упекли-таки в БУР на шесть месяцев. Мы с Валеркой изредка видели их, когда БУР водили в баню.
Вскоре меня отправили на третий в больницу, и, пока я там был, семерку перевели в другие зоны. Геннадий и Толя попали на одиннадцатый, но пробыли в зоне всего недели две, а потом их судил лагерный суд и обоим дали по три года тюрьмы. Так что, вернувшись с третьего, я уже не застал своих друзей в лагере. Помню один из последних разговоров Кривцова и Родыгина с начальством, незадолго до БУРа.
К нам приехал лектор — мордовский писатель. Как-то получилось, что Кривцова и Родыгина не успели заранее упрятать в карцер и они присутствовали на лекции. Писатель рассказывал то ли о писательском съезде, то ли о совещании, на котором он присутствовал, — кто выступал, кто что говорил. Иногда после лекции разрешают задавать вопросы из зала, иногда предлагают тем, кто хочет о чем-нибудь спросить, подняться на сцену и беседовать «в более узком кругу», в зависимости от темы лекции. На этот раз желающим задать вопросы предложили пройти в штаб. Но Кривцов, Родыгин и еще несколько человек остановили лектора на крыльце штаба, так что все равно разговор произошел при широкой публике. Лектору «помогал» майор Постников, главный наш кагэбист. Кривцов спросил, почему на этом писательском совещании или съезде не дали слова никому из наиболее прогрессивных писателей — например, Некрасову или Солженицыну. Лектор ответил, что невозможно же дать слово всем. Тут вмешался Постников — на него, как и на всех лагерных офицеров, надзирателей, кагэбистов, одно имя Солженицына действует, как красная тряпка на быка: у них пена на губах закипает.
— Носитесь со своим Солженицыным! Какой это писатель? Он только позорит звание писателя!
— Да кому это может понравиться? Он же на русский язык клевещет! Что это такое, на каждой странице «масло-фуясло» или «нифуя».
В это время невдалеке какой-то зэк просил дежурного надзирателя пропустить его в рабочую зону к зубному врачу… Он показал надзирателю справку, а тот отмахивался и орал:
— На… мне твоя справка! Жди развода, а пока катись к… матери!
— Ну а какими словами прикажете описывать эту сцену? — спросил Родыгин.
— Это вообще незачем описывать! Ни к чему и даже вредно заострять внимание на темных сторонах жизни, на мелочах и отдельных недостатках, — поучительно ответил Постников.
— Если бы Щедрин не писал о «мелочах жизни», а Островский не обличал темное царство, их бы сегодня никто не помнил; и ни с мелкими, ни с крупными недостатками невозможно бороться, пока их скрывают, замалчивают, натягивают на них тряпку с позолоченными декорациями…
Кривцов говорил не столько для Постникова, сколько для толпившихся вокруг него зэков. Но Щедрин и Островский мало волновали Постникова, он еще не разделался с Солженицыным.
— Ваш Солженицын искажает жизнь! Вот у меня две дочери-школьницы прочли этого «Ивана Денисовича» и вообразили, что могут теперь критиковать отца. Каждый вечер то вопросы, то упреки, то слезы! Я им сначала объяснял по-хорошему, а потом пришлось кинуть журнал в печку, и конец.
— Ну и как, — спросил Родыгин, — убедили этим своих дочек? У вас всегда один веский довод: журнал — в печку, а нас в карцер.
О молодежи
Сейчас в СВП, в советах коллектива и других зэковских организациях служат в основном старики. Но и у стариков кончаются сроки, а в лагеря идет молодежь — студенты, рабочие, молодые писатели, научные работники. Лагеря «молодеют».
А с молодежью администрации труднее найти общий язык, как любит говорить начальство. Молодых сильнее прижимают — а они только злее становятся. Перед начальством не гнутся, не молчат, протесты в разных формах так и сыплются.
Попробовали действовать не кнутом, а пряником: стали создавать молодежные бригады, молодежные бараки. Надеялись, что так легче будет держать всех под контролем. Но вышло наоборот. Оказавшись вместе, молодые украинцы и литовцы, эстонцы и русские, рабочие и студенты легко нашли этот самый «общий язык».
Надзиратели жалуются:
— Ну и зэк пошел! Ты ему слово, он тебе два. Ты его матом, он тебя втрое дальше. Карцера не боятся!
Букет
В Мордовию свозят политических заключенных со всего Союза, из всех республик. Особенно много украинцев и прибалтов — литовцев, латышей, эстонцев. Мало того что их привезли в Россию в лагерь — их даже на свиданиях с родными заставляют говорить по-русски, чтобы надзиратель мог понять. Но между собой эти заключенные, конечно, говорят на родном языке, поют свои песни, тайно устраивают вечера памяти своих поэтов и писателей.
Кроме того, в лагеря иногда приезжают представители общественности разных республик. Эти «представители» не смотрят, в каких условиях содержат их земляков, не спрашивают, каково им здесь, они даже избегают непосредственных разговоров с зэками, боясь обвинения в том, что они вмешиваются в лагерные порядки. Все разговоры они ведут только в присутствии лагерной администрации и кагэбистов (бывает, что и сам «представитель» — кагэбист, и даже в форме). Они вообще ничего не хотят слышать о лагере, рады бы глаза закрыть и уши заткнуть, — зато они рассказывают о жизни своих республик. Зэки тоже не хотят их слушать: как можно верить человеку, если невооруженным глазом видно, что у него дрожат коленки перед начальством и КГБ? И при этом он твердит, как ему и всем хорошо и свободно живется!
Сначала на эти «встречи с земляками» мало кто ходил, зэков туда загоняли силой, как на политбеседу. Тогда вместе с этой общественностью стала приезжать какая-нибудь художественная самодеятельность. После этого в клуб-столовую на такую встречу стало не пробиться, приходят не только латыши или украинцы, но и другие зэки. Всем хочется послушать песни, стихи, посмотреть танцы. На сцене артисты в национальных костюмах, а не в зэковских робах. Их встречают очень дружелюбно (не то что ораторов), преподносят цветы, благодарят.
Летом 1965 года к нам на семерку приехала общественность одной из Прибалтийских республик; после беседы обещали концерт. Народу в клубе собралось очень много. Сначала, как обычно, выступил «представитель». Когда он кончил говорить, из зала послышались вопросы — это тоже обычно. Оратор не мог на них ответить, он был приперт к стенке — ведь зэки не стесняются и не боятся спрашивать о том, о чем не спрашивают на воле. Дискуссии обычно прикрывают офицеры:
— Товарищи, не обращайте внимания на провокационные вопросы, у нас здесь провокаторов полно.
И зэкам:
— Кому-то, кажется, строгий режим в тягость? Здесь и особый близко!
И вдруг на сцену поднялся молодой прибалт-зэк, бывший студент юридического факультета. В руках у него плотно обернутый в бумагу букет. Видно, он хочет преподнести цветы своим землякам. Такого еще не бывало: цветы дарили артистам, лекторам же — никогда.
В зале наступила тишина. Парень обратился к лектору:
— Разрешите мне от имени всех земляков передать нашей Родине цветы, которые растут здесь, вдали от нее.
Он говорил с акцентом, но по-русски, чтобы поняли все. Пока он произносил свою короткую речь, в зале началось возмущение. Со всех сторон неслось:
— Подонок!
— Ж…лиз!
— Стукач!
Я кипел от негодования: и с этим парнем дружили Кривцов и Родыгин! А зэк уже закончил речь и протянул свой букет лектору. Тот взял его в руки, и тогда парень сорвал бумагу и все увидели, что это букет из колючей проволоки. В первый момент и в зале, и на сцене все разинули рты и замерли, ничего не соображая. Лектор топтался со своим букетом около стола президиума. Через минуту в зале началась буря. Таких аплодисментов, как тогда, я здесь ни раньше, ни позже не слышал. Хлопали буквально все, даже известные стукачи-эсвэпэшники в повязках.
Кагэбист за столом опомнился. Он подбежал к лектору и выхватил у него букет. Но он сам не знал, что с ним делать, — не бежать же через зал наружу. Он сел на место и положил «цветы» перед собой на стол, потом схватил и сунул вниз, под ноги. Зал продолжал бушевать.
Парень, вручивший букет, сошел со сцены и шел сквозь толпу. К нему кинулись надзиратели, но зэки завопили, закричали. Начальник ПВЧ отдал распоряжение офицеру, тот кинулся к надзирателям, что-то сказал им, и они отошли от парня. Все мы понимали, что это ненадолго, только при гостях.
Кое-как зал утихомирился. На трибуну поднялся еще один из приезжих и стал говорить, что это была выходка провокатора, «как сказал, вот, товарищ капитан»:
— Но мы знаем, что большинство присутствующих правильно понимает случившееся и осудит своего товарища.
Кто-то крикнул в ответ:
— Вы видели и слышали, как отнеслось большинство! Не притворяйтесь!
Оратор умолк. И тут же поспешили объявить концерт.
После концерта артистам преподнесли цветы — настоящие. Когда передавали букеты, и зэки, и артисты понимающе переглядывались и улыбались.
Вечером того парня забрали в карцер, а через пятнадцать суток перевели в БУР, на камерный режим.
Через несколько дней после этого случая мы читали в газете Дубравлага «За отличный труд» о том, как «в седьмом подразделении встреча с земляками прошла в теплой, дружеской обстановке».
Цветы в зоне
Приезжего человека с воли поражает то, что в зоне много цветов и зелени. «Территория подразделения утопает в цветах» — так пишут в лагерной газете, и это на сей раз — правда.
Цветами занимаются больше всего старики и инвалиды, особенно те из них, кого не гоняют на работу. Таких немного, но на озеленение хватает. Для работы они уже совсем не годятся, но их не выпускают, пока не вышел срок. Цветочные семена присылают родные — это разрешается. Многие из молодых тоже помогают. Цветы все любят.
Начальство не приказывает растить цветы, но и не запрещает их, не вытаптывает, как морковь или лук. Пусть приезжие увидят и расскажут, как красиво у нас живут заключенные!
Офицеры и надзиратели нередко уносят букеты домой, своим женам. А 31 августа, перед началом учебного года, все вольные идут из зоны с цветами: завтра их детишки подарят букеты своим учителям.
Однажды к нам приехал лектор, и зэки завели с ним спор-разговор о положении в лагерях.
— Да чем же у вас плохо? — возмутился лектор. — Стадион, волейбол, библиотека, полным-полно цветов!
— Вы забыли, что на могилах тоже растут цветы, — ответил ему заключенный Родыгин.
Больница (третье лаготделение)
И тех, кого мастер заплечный калечит,
Они латают, штопают, лечат
И шлют в застенок назад.
Бертольт Брехт. Страх и отчаяние в Третьей империи[11]17 сентября 1965 года часов в восемь утра всех нас, кого в этот день отправляли в больницу, собрали на вахте с вещами. Обходные листки (в них отмечено, что ты сдал все лагерное имущество — матрац, подушку, рассчитался на работе) мы заполнили еще накануне. Собралось нас человек двадцать — кто мог, пришел на своих ногах, лежачих принесли на носилках. Носилки поставили прямо на землю в предзоннике. Ждем шмона. Вот надзиратели начали вызывать нас по одному на вахту. (Когда очередь доходит до лежачих, их вносят на вахту на носилках.) Всех без исключения догола раздевают, осматривают, ощупывают, в барахле перещупывают каждый шов, отбирают все, запрещенное для зэка, — деньги, колющие и режущие предметы, чай. Словом, все, как обычно. Ищут главным образом записки, письма, как бы зэк другу, тоже зэку, не передал весточку «с оказией», ведь переписка между заключенными строго запрещена. Обыскали одного — выводят его в предзонник, отделенный от зоны и от первого предзонника. Зовут следующего.
Пока обыскивают, да строят по пятеркам, да сверяют с личными делами, да пересчитывают — проходит часа два. Наконец повели: ходячих в строю под конвоем, тех, кто не может идти, везут на подводах, тоже, конечно, под конвоем. Добрались до вокзала, ждем поезда. Это тот же небольшой состав, который ходит от Потьмы до Барашева: всего несколько вагонов, вагонзак обычно в хвосте, так что посадка не с перрона, а прямо с земли. Нам-то, ходячим, еще ничего, а вот с носилками приходится помучиться: поднимать высоко, двери узкие, в коридорчике не развернешься. Носилки поворачивают то боком, то чуть ли не стоймя. Впрочем, у санитаров уже есть сноровка, ведь возят часто. По вторникам и пятницам — этап на третий для политзаключенных со всей дороги, со всех лагерей; за бытовиками закреплены другие два дня. Надо отметить, что, хотя везут из лагеря в больницу каждую неделю, больных в лагере не убывает; одних язвенников, желудочников в каждом лагере чуть ли не половина, для всех на третьем места не хватает. На третьем больных не вылечивают, а только обследуют, чуть-чуть поставят на ноги — и обратно в лагерь, на работу. А на их место везут новых. Так и идет нескончаемый круговорот.
В вагонзаке — даром что везут больных — давка, сесть негде. Только-только носилки установили, а остальные приткнулись кто как сумел. «Ничего, как-нибудь доедете, ехать всего часов около двух». На оправку не водят — тоже говорят, что «ехать недолго, потерпите». А нас согнали еще утром, так что терпеть не два часа, а с восьми утра. И опять же, больные. Но — хоть плачь, терпи.
На каждой станции подсаживают новых больных — снова двери на замок.
Наконец приехали. Вот он — третий, больничная зона. Такой же лагерь, как и все остальные: забор, колючка, вышки, внутри несколько бараков.
От станции до вахты совсем близко, метров, может, сто. А все равно порядок есть порядок: начальник вагонзака сдает нас начальнику конвоя, как и принял, по счету и по делам; конвой, проведя нас эти сто метров, сдает — опять же пересчитывая, сверяя зэка с фотокарточкой в деле — надзирателю на вахте. Здесь снова шмон. Собрали всех на вахте в одной большой камере и перегоняют по одному в другую, через коридор. А в коридоре сидят несколько надзирателей, велят раздеться догола, перещупывают каждую ниточку в вещах и каждое потайное место на теле… Впрочем, вещи нам все равно на руки не дают. Все сдают в каптерку. Рассортируют по корпусам — кого в хирургический, кого в психиатрический, кого в терапевтический, — и в корпусе выдадут полотенце, кальсоны, рубашку и тапочки на босу ногу. Теперь ты больной, кроме этого тебе ничего не положено. Да с собой можно взять зубную щетку, пасту, мыло, пару книжек, продукты, какие есть. В общем, похоже на то, как меня привезли в больницу на воле. Вот разве пижаму здесь не дают, да еще первый «осмотр» ведут надзиратели, а не фельдшера.
Я попал в седьмой корпус — терапевтический. Длинный барак, коридор во всю длину, по обе стороны коридора палаты коек на двенадцать-двадцать, кабинет врача, процедурный, раздаточная. Хозобслуга корпуса (санитары, раздатчики) живут здесь же. В палате чисто, койки стоят хоть и тесно, но не в два яруса. Белое постельное белье. Висят халаты — на палату штук пять-шесть, кому надо выйти в коридор, надевают их, а по палате ходят в белье. Очень похоже на ту же вольную больницу, разница только в том, что из больницы на воле все рвутся поскорее выписаться, поскорее попасть домой, а здесь наоборот, подольше стремятся полежать, отсюда дорога обратно не домой, а в зону, к тем же начальникам, воспитателям, надзирателям, опять разводы, шмоны, подневольная, постыдная работа…
Да еще в больнице на воле ждешь приемных часов, к тебе придут родные, принесут чего повкуснее. Здесь, в лагерной больнице, никто не навестит тебя, лагерные друзья разве что привет передадут с очередным этапом.
И никаких передач, никакого «подогреву», если только тебе не полагается очередная посылка (и если ты притом не лишен права получить ее). Болен ли, здоров ли — ты зэк и никаких дополнительных льгот не жди, дай бог, чтобы законных не лишили…
Зато кормят в больнице лучше, чем в зоне. Язвенники, почечные, голодавшие, послеоперационные получают каждый свою диету. Кому протертая пища, кому бессолевая. Даже общий стол на третьем лучше обычного лагерного. Ведь тут ты на самом деле получаешь все, что тебе полагается по суточной норме: если сказано пятьдесят граммов мяса в сутки, то в лагере зэк его и не понюхает, а на третьем, конечно, не все пятьдесят, но хоть тридцать граммов получит в виде котлеты или биточка. Баланда утром и в обед та же, каша та же и столько же, зато утром получаешь еще стакан компота, граммов пятнадцать-двадцать сливочного масла. И больным полагается молоко — стакан в день. Хлеба меньше, чем в зоне, пятьсот граммов, зато из них двести граммов белого. Калорийность больничного лагерного пайка, может, и не выше, чем в обычной норме зэка, но качество этих самых калорий получше. Конечно, «вольных» больничных деликатесов вроде яйца, сырника, яблока зэк, хоть умирай, и перед смертью не увидит… Зато все-таки молоко, компот… Пока ты в тяжелом состоянии или очень слаб — больничный паек тебя вполне устраивает, даже иногда остается. Но вот выздоравливающим уже приходится туго, голоднее, чем в лагере. Ведь в лагере, я уже говорил, никто не живет на «гарантийке», все как-то исхитряются: кто достанет хлеба на деньги, переданные тайком из дома, кто подспекулирует, а у кого ничего нет, так хоть от чужой пайки достанется, от другого, более ловкого перепадет. Здесь же, на третьем, и биточек съешь, и стакан молока выпьешь, а все равно за положенную норму не выскочишь, и даже хлеба сверх положенных пятисот граммов достать негде. Правда, на больничной тоже есть ларек, но все делается для того, чтобы зэк не мог им воспользоваться. Вот перевели тебя в больничную зону, а деньги с твоего личного счета когда еще прибудут. Пока ждешь денег, тебя выпишут обратно, а приедешь в свою зону, твои деньги где-то путешествуют, так что и здесь ларек пропустишь…
На воле и не понять всех тех проблем и мелких, на первый взгляд, бытовых сложностей, которые заполняют жизнь зэка. Вот, например, — проситься ли в больницу? С одной стороны, чувствуешь себя отвратительно, необходимо подлечиться, совершенно нет сил работать, а с другой стороны, потеряешь ларек, а то и два-три, значит, на месяц-два зубы на полку…
Я чувствовал, что превращаюсь в инвалида, что просто не в состоянии оставаться в бригаде: день ли, ночь ли, велят — иди на разгрузку, ворочай бревна. Работенка такая, что и здоровому спину ломит. А тут еще идет осень, за ней зима — дожди, холодный ветер, потом морозы. На работе взмокнешь, на вахте прохватит тебя осенним ветром — к весне попадешь если не в покойники, так в инвалиды. Ребята мне посоветовали все-таки проситься в больницу и постараться там прокантоваться подольше.
Ну вот, оказался я на третьем; ушник, почти не глядя, прописал мне какие-то капли в ухо. Лечение выписали на пять дней. Значит, через неделю, в очередной этапный день, снова в зону, в родимую аварийную бригаду.
К счастью, в хирургическом корпусе встретился мне знакомый из хозобслуги — старый санитар Николай Сеник. Да и фельдшер-зэк тоже меня немного знал. Они посоветовали мне проситься в санитары: все-таки, если что, так врачи близко, будут подлечивать помаленьку. Да и работа, хоть и не из легких, но в помещении, под крышей. Зэки в санитары идут неохотно, только при крайней необходимости или ради хорошей характеристики. Дело в том, что больничная зона никакого дохода не приносит, один чистый расход, вот начальство и старается сократить эти расходы насколько возможно. На целый корпус два-три санитара. А работа — и печи топить, и мыть, и чистить, и халаты врачам стирать, и раздавать пищу, и посуду мыть, и за лежачими больными ходить. К тому же с санитара-зэка спрашивают не так, как в вольной больнице: на воле, если санитарку будут чересчур донимать требованиями, она возьмет расчет и уйдет, — найди-ка другую на ее место при этой мизерной зарплате; поэтому нигде на воле я не видел в больницах такой чистоты, как в лагерной. У нас врач на обходе белой ваткой водит и по стенам, и по стеклам, по каждому листику цветка — не дай бог обнаружит пыль! Так что санитару приходится целый день крутиться. Пятьдесят процентов здесь, как и везде, отчисляют; после вычетов за питание и одежду ничего не остается, даже на ларек не хватает. Вот и идут в санитары зэки вроде меня — кто рассчитывает подлечиться.
Конечно, начальство и здесь пытается действовать административными мерами: назначили тебя санитаром, хочешь — работай, подчиняйся. Отказываешься от работы — в карцер. Но только здесь, в больнице, эти меры не помогают. Одного посадят в карцер, другого выпустят, они снова отказываются, их снова в карцер: кто-то пока работать все равно должен. Вот и приходится начальству идти на непривычный либерализм: сестры или врачи сами подбирают подходящих для этой работы или кто-то из заинтересованных зэков договаривается с ними сам. Работаешь фактически хоть и задаром, но зато добровольно.
Я решил проситься в санитары в хирургический корпус: здесь были маленькие комнатушки на двоих из хозобслуги, это все-таки огромное благо — после барака пожить почти в отдельной комнате (правда, мы жили там «нелегально», вся хозобслуга больничной зоны помещалась в особом бараке, и, когда являлась комиссия, нас спешно эвакуировали из наших комнатенок).
Сеник рекомендовал меня сестре-хозяйке. Та переговорила с главврачом, главврач ходатайствовал перед начальником режима — и я стал санитаром. Советы друзей оказались правильными: меня продолжали лечить и даже назначили какие-то уколы. Работа, хоть ее и хватало, меня не тяготила, моя мать работала уборщицей, и я еще мальчишкой привык ей помогать. Что было нелегко, так это топить печи. Дрова привозили такие, что в печку не лезли, а топора-то в зоне не полагается! Хоть зубами их перегрызай. Конечно, как и всегда, выход нашелся, добыл я себе топор. Но рубить во дворе, на виду, нельзя: топор есть, но надо делать вид, что его нет. Вот я залезу под крыльцо и, согнувшись, чуть не на коленях, рублю эти самые полешки украдкой — как будто для себя выгадываю, а не для того, чтобы больницу протопить.
По штату у нас в хирургическом полагалось два санитара. Меня взяли уже сверх штата, а потом пришлось взять еще двоих, один разделил обязанности с Сеником, другой — со мной. По списку мы числились больными, так что зарплату нам вообще не начисляли, мы работали только за лечение, питание получали как больные. Больные в нашем корпусе тоже помаленьку работали: кто вызовется посуду мыть, кто в уборке помогает; чуть только состояние позволяет — так и просят какую-нибудь работенку. Это, конечно, не от нечего делать, а за лишнюю миску баланды, за хлеб: пойдет санитар на кухню, выпросит, отдаст тому, кто ему помогал.
В нашем корпусе были и бытовики, и зэки со спеца, и даже женщин из женской больничной зоны приводили к нам на операцию — их операционная еще ремонтировалась.
Больные со спеца содержались в отдельной палате-камере: окно с решеткой, параша, дверь под замком. Положат «полосатика» (на спецу полосатая форменная одежда) в общую послеоперационную палату, он там лежит, пока не очухается после операции, ну, два-три дня; а как только начал шевелиться — в камеру и под замок. Их палаты-камеры были на троих — тройники. Ключи от них полагалось хранить дежурному по вахте. Мы старались всячески донять дежурного: то бежали к нему, чтобы открыл камеру, — уборка; то процедуры — уколы надо делать, клизму больному поставить; то фельдшер должен проверить состояние больного; то пора выпускать на прогулку (в больнице им полагается получасовая прогулка по коридору, причем время определяет фельдшер). В конце концов дежурным это надоело, и они отдали ключ от камеры фельдшеру, под его ответственность. Фельдшер, конечно, не стал держать выздоравливающих взаперти, позволял им пошататься по коридору подольше. Застанет надзиратель дверь открытой — «только что укол делали», «санитары полы моют» — отговорка всегда найдется.
Сеник старался этих больных подкормить получше; да и мы все тоже знали, каково на спецу, видели, какие доходяги поступают оттуда.
Выпрашивали для них в хлеборезке остатки черного хлеба, сушили сухари им — поедет обратно на спец, так хоть сухари повезет себе и сокамерникам. Что бы другое ни повезли на спец из продуктов — отберут при обыске, а сухари черные не отберут, это можно. Другие-то зэки, со строгого режима, у себя в зоне как-нибудь устроятся подкормиться, а на спецу — как в тюрьме, ничего ниоткуда.
У хирургических больных-бытовиков тоже отдельные палаты (терапевтические вообще в отдельной зоне), но не под замком, по коридору ходят все вместе. Вообще же бытовиков стараются отделить от политических не потому, что берегут политических от бандитов, а наоборот — боятся, как бы «политики» не разложили своими разговорами честных и порядочных хулиганов и жуликов.
Женская больничная зона находится за бытовой. В ту зиму женщин оперировали в нашей операционной. За лежачими больными посылали обычно Сеника и меня, после операции относили их тоже мы. В операционный день отправлялись мы по вызову, под конвоем, на вахту женской зоны, укладывали больную на носилки и несли ее прямо в корпус. Здесь, в маленьком коридорчике перед операционной, ставили носилки, раздевали больную до рубашки и уже на руках несли ее в операционную, клали на стол. А за дверьми коридорчика толпятся выздоравливающие — им бы хоть поглядеть на женщину, к тому же почти совсем раздетую. Неважно, что она больная и не может даже ходить, вот — на носилках принесли.
После операции больная еще под наркозом, а мы снимаем ее со стола, кладем на носилки, укутываем потеплее — зима, мороз — и несем к вахте. Здесь ставим носилки, начинаем просить дежурного, чтобы дал поскорее конвой, — а он не торопится. Мимо стоящих прямо на земле носилок идут офицеры, врачи, и никому нет никакого дела до нас и до нашей больной, каждый вольный здесь давно привык к мысли, что зэк не человек. Мы начинаем злиться, кидаемся к одному, к другому:
— У нас послеоперационная больная, наркоз скоро кончится, она станет метаться, раскроется, простынет! Поторопите конвой!
Офицеры отвечают:
— Мы не врачи, наше дело вас караулить, а что там наркоз, больная — нас не касается.
Вот мимо идет пожилая представительная дама в светло-коричневом пальто с меховым воротником. Это начальница больницы, майор медицинской службы Шимканис. Не глядя на носилки, она оскорбленно отвечает нам:
— Мы — врачи, наше дело лечить, делать операции. К конвою мы отношения не имеем. Что вы от меня хотите?
Мы пытались жаловаться на такой бесчеловечный порядок. Начальник режима в ответ указывал нам наше место:
— Какое ваше дело! Принесли на вахту и ждите! Каждый может жаловаться только сам за себя, а не за других. Забыли об этом?!
То же самое говорил нам и майор Петрушевский, начальник санитарного отдела управления Дубравлага:
— Что вы лезете не в свое дело? Начальство само за все отвечает!
Как же, отвечает! Посадили в лагерь здорового человека, а вернули инвалидом — разве майору Петрушевскому или майору Шимканис за это когда-нибудь придется отвечать? Перед кем?..
Вот стоим, стоим, ждем, ждем, наконец выползает конвой и нас ведут на вахту в женскую зону. Идем медленно, боимся упасть: скользко, ботинки скользят по смерзшемуся снегу, а ведь на носилках тяжелобольной человек. Пока дойдем, несколько раз останавливаемся, отдыхаем. Носилки здесь приходится ставить прямо на снег. На вахте нас принимают две надзирательницы — толстые грубые бабы в шинелях, в погонах с лычками; ведут в корпус. Здесь нам приходится ждать в коридоре, пока санитарки снимут нашу больную и освободят носилки. Тоже смешно: одно управление по сути, одна больничная зона, только разделенная на политическую и бытовую, — но в каждом отделении свое имущество, свои носилки, и ради того, чтобы за них отчитаться, нам разрешают задерживаться среди женщин-заключенных. Хотя всякое общение запрещено и преследуется, но когда речь идет даже о таком ничтожном имуществе, как носилки, так и на правила наплевать!
Пока мы ждем носилок, нас в коридоре обступают женщины-заключенные, больные и санитарки. Они рады хоть поговорить, хоть поглядеть на мужчину — не охранника, не надзирателя. Среди них большинство бытовички, и уж чего только не наслушаешься, пока ждешь! У некоторых есть друзья в бытовых лагерях — эти просят передать своим знакомым приветы, записочки — «ксивы»: к нам ведь везут больных со всего Дубравлага. А мы тоже оглядываемся вокруг, как будто мы в другом мире: не замечаем ни истощенности, ни убогой одежды окружающих нас женщин. Вернее, замечаем, жалеем их очень, но, несмотря на несчастный, убогий вид, они кажутся нам такими привлекательными! В коридор выходит дверь небольшой палаты, откуда несется писк, похожий на мяуканье. Заглядываем туда. Вдоль стен в два ряда стоят железные койки, такие же как у нас; поперек коек, по нескольку на каждой, — пищащие сверточки. Новорожденные.
— Чьи это? — спрашиваем мы.
— Дети ГУЛАГа! — отвечает бойкая, молоденькая зэчка.
Среди женщин немало таких, у которых дети народились здесь, в лагере. «Моему Валерию уже два года!» — «А моей Нинке пять!» У кого нет родных, которые взяли бы детишек на волю, — у тех дети растут и воспитываются в лагерных яслях, в детдоме. Мамка в зоне за проволокой, ребенок сначала при ней, а потом в спецдетдо-ме — тоже не на свободе. Так и растут…
Иногда женщины на операцию приходят без помощи санитаров, но под конвоем, конечно. Они и чувствуют себя неплохо, и операция им предстоит какая-нибудь несложная. Приводят к нам в корпус сразу пять-семь женщин, ведут в процедурную, здесь они раздеваются (тоже до рубашки) и идут, когда их вызовут, на операцию. В коридоре толпятся выздоравливающие мужчины. Политические ведут себя поскромнее, а бытовики прямо кидаются на баб; да и среди женщин разные попадаются. Какой-нибудь бытовик начинает просить Николая Сеника:
— Слушай, ты выведи ее в уборную, а я уж там буду. Ну выведи хоть минут на десять, а?
После операции, конечно, иных несем на носилках, иные сами бредут, но им уж не до мужчин, не до чего…
Наш хирургический корпус хорош еще и тем, что врачи у нас молодые, еще не обтершиеся в этой системе, еще не привыкшие и не приспособившиеся к ней. Кончили институты, приехали по распределению, ждут не дождутся, когда можно будет вернуться «на волю». От каждого из них я слышал: «Скорей бы отработать эти три года и уехать отсюда куда угодно, хоть к черту на рога!»
И это несмотря на то что практика у них на третьем такая, о какой начинающий врач и мечтать не может: операции любой сложности, травмы, даже пулевые ранения.
Например, однажды к нам привезли молодого парня из бытового лагеря — у него была прострелена из автомата грудь. Дело было так: группа зэков стояла в зоне на крылечке и чего-то собачилась с автоматчиком на вышке. Тот разозлился, навел на них автомат; остальные зэки вбежали в барак, а этот остался — не может быть, чтобы автоматчик стрелял в зону. Ну а тот все-таки дал очередь. Не знаю уж, наказали ли часового, а этот парень попал к нам в хирургический корпус.
Но вот и практика, и самостоятельная работа, и условия неплохие (хотя, конечно, порядочная дыра) — а рвутся молодые врачи с этой работы «куда угодно». Главным образом потому, что они ничем не могут помочь своим больным. Видят же: и несправедливости сколько угодно, и голод. Они проходят здесь школу бездушия, школу безразличия: делай свое прямое дело и ни во что не вмешивайся. Врачу, конечно, трудно совместить этот принцип с принципами своей профессии. Но некоторые привыкают, остаются здесь навсегда, становятся сами такими же, как начальство, как офицеры. Ну вот хоть эта Шимканис. И таких, как она, много, особенно в самих зонах.
Но вот наши хирурги были совсем иными — и начальник отделения Заборовский, и врачи Кабиров и Соколова. Они и с больными поговорят, и сквозь пальцы смотрят на то, что поздно вечером мы, санитары, собираемся в процедурной. Сколько раз наши врачи ходили к начальнику больницы, добивались, чтобы нам выписывали больше дров! Соколова — так та в морозы не велела мне топить ее кабинет, сидит там в шубе, чтобы больше дров осталось на палаты, чтобы больным теплее было. По сути, это и все, что могли сделать для нас врачи, помимо лечения. Еще характерно, что у них не было этого высокомерия вольных по отношению к зэкам. Наш фельдшер Николай был заключенный, двадцатипятилетник, у него был большой опыт — так наши молодые врачи всегда с ним советовались, его диагнозы считались самыми правильными.
Здесь мне снова пришлось близко столкнуться с «членовредителями», с татуировщиками, с неудачниками-самоубийцами. Чуть не каждый операционный день — какая-нибудь операция на желудке, вырезают то, что проглотил зэк.
Я не стану рассказывать о каждом подробно — это было бы повторение того, что я видел во Владимире: крючки из колючей проволоки, куски стекла, согнутые носики от чайников…
Из психиатрического корпуса привели молодого прибалта. Я с ним познакомился еще раньше, когда в первый раз лежал в больнице. Тогда он отрезал себе ухо. Рану залечили и поместили его в психиатрический корпус. И вот теперь, когда ему оставалось всего несколько месяцев до освобождения, он отрезал себе второе ухо, проглотил ложку, куски колючей проволоки. Его оперировала Соколова, а месяца через два после операции он снова оказался у нас: проглотил шахматные фигуры, целую партию, и белые, и черные, кроме двух коней. У него до освобождения оставалось дней сорок. Не знаю, был ли он помешанным. Я с ним часто разговаривал, и он производил впечатление вполне нормального человека — во всяком случае, гораздо более нормального, чем многие зэки в зоне, которые считались здоровыми. Этот прибалт был сыном священника, грамотным, начитанным парнем. Он и в больнице много читал. Операцию снова делала Соколова; шахматы, добытые из его желудка, выпросил Сеник. Мы с ним хранили этот музейный экспонат — играть ими все равно было нельзя — не хватало двух коней.
Встретил я еще одного старого знакомого — Бориса Власова, того, который пришел в нашу камеру во Владимирке на костылях. Тогда Бориса вскоре перевели из тюрьмы на спец, и все это время он был на спецу. Его привезли в полосатой одежде, положили в палату-камеру для «полосатиков». Он на спецу весь искололся — и грудь, и лицо, все те же обычные изречения: «Раб КПСС» и тому подобное. В нашем корпусе у него вырезали татуировки; он у нас лежал недолго: как только раны стали подживать, его перевели в терапевтический; уж как он не хотел туда! Только в нашем корпусе «полосатики» жили сравнительно свободно, гуляли по коридору, разговаривали с другими зэками; в других корпусах их держали строго по инструкции: в палате-камере, под замком.
Однажды привезли молодого парня из зоны. Сидя в БУРе, он проглотил несколько ржавых гвоздей, две ложки, куски колючей проволоки. Он знал, что, как только оправится после операции, его снова отвезут и посадят в БУР. И вот после операции, едва придя в себя, он сорвал все повязки и разорвал шов на животе. Пришлось зашивать снова. И он лежал связанный, привязанный к койке, пока не заросли швы. Конечно, потом его увезли в БУР. Там он раздобыл лезвие, располосовал себе живот и снова попал к нам, снова его пришлось привязывать к койке…
Все это обычные, будничные истории, к ним привыкли и зэки, и врачи, и начальство. Но вот одна из наших медсестер (сестры у нас были вольные) поехала в отпуск в дом отдыха. Она там не говорила своим соседкам, что работает в лагере, говорила, что просто медсестра в больнице. Но она рассказывала им, как это водится на отдыхе, всякие случаи из своей практики — у одного больного из желудка вынули ложки, у другого гвозди, шахматы, стекло… И после этих ее рассказов соседки по дому отдыха решили, что она ненормальная, что у нее расстроенная психика, ее даже побаивались. Вернувшись из отпуска, она рассказала об этом нам — мы вечерами собирались поболтать в процедурной. И после ее рассказа мы вдруг по-иному увидели все, что нас окружает, — всю дикость, всю фантастичность этой обстановки, всю неестественность этих обычных для нас историй, этой больницы за колючей проволокой, под охраной автоматчиков на вышках.
Любовь
Раньше наша и женская больничные зоны были рядом, их отделяла только запретка — деревянный забор, ряды колючей проволоки и вспаханная полоса. Можно было не только видеть женщин, но даже тайком переговариваться, даже перекинуть записочку. Но и потом, когда женскую больничную зону перевели дальше от нас, наши санитары и больные ухитрялись поддерживать с женщинами связь. То мы, санитары, носим женщин с операции и на операцию, то сестры от нас несут больничное белье в автоклав в женскую зону — записочку можно всегда передать. Начальство жестоко преследует заключенных за связь с женщиной. Если обнаружат записочку и доищутся автора и адресата, карцер обеспечен всем троим: и обоим «состоящим в связи», и тому, кто передает записку — «ксиву». А если передаст сестра, сразу уволят.
Не совсем понятно, почему эти платонические отношения вызывают у начальства такую ярость и возмущение — то ли им чудится нечто большее, чем есть на самом деле, то ли из зловредности (нельзя же допустить, чтобы у зэка была хоть какая-то радость!), то ли просто из-за нарушения инструкции. Но никакие запреты и преследования не могут остановить мужчин и женщин, на много лет лишенных естественного общения друг с другом. И вот возникает эта запретная лагерная связь, бумажная любовь, которая длится иногда неделю, иногда годы. Начинается со знакомства («я такая-то» — часто первую записочку передают кому-нибудь наугад). Ну а потом — и признание в любви, и мечты о встрече, иногда и фотокарточку удается передать. И вот зэк в мечтах обнимает уже не вообще женщину, а свою Надю или Люсю, она ему говорит, что любит, говорит нежные слова, а он ждет новой записки, волнуется — не разлюбила ли, не нашла ли другого… Забываются зона, проволока, одиночество, остается только разлука с любимой… Иногда, очень редко, конечно, эта лагерная любовь сохраняется и после освобождения.
У Николая Сеника была такая «возлюбленная», звали ее Люба, была она фельдшером в женской больнице. И Люба, и Николай работали в больнице давно, лет пять. Они познакомились, когда еще женская зона была рядом с нашей, передавали друг другу записочки, издали видели друг друга. Николай знал, что у Любы на воле муж, ребята даже видели его (он приезжал к ней на свидание), говорили, что симпатичный парень. Сам Николай был одинокий: жена оставила его, вышла замуж за другого. То, что Люба замужем, не мешало ей и Николаю любить друг друга. Ведь это были две разные жизни: воля, муж, свидания с ним раз в год — и зона, записочки, мечты о встрече. Неизвестно, какая из этих двух жизней реальность, а какая существует только в воображении.
Когда женскую зону перевели, Николай и Люба продолжали переписываться через сестер. Теперь им иногда даже удавалось увидеться, ведь наши санитары носили женщин на операцию. Впервые они увидели друг друга вблизи, впервые могли поговорить. Николай всегда старался сам ходить с носилками в женскую зону, чтобы лишний раз перекинуться с Любой словечком. Мы, как могли, помогали ему: дежурили вместо него в операционной, старались подольше провозиться с носилками в женской больнице, отвлечь внимание надзирательницы. Иногда Николаю и Любе удавалось даже остаться на две-три минуты наедине.
Незадолго до освобождения Любу оперировали: у нее разрезали венозные сосуды на ноге. Она сама пришла к нам на операцию. Санитарки подыскали ей рубашку получше — без дыр, по размеру. А Николай заранее приготовил ей самый подходящий халат и тапочки по ноге. Халат он сам и стирал, и выгладил. На операцию он не пошел, чтобы не смущать Любу, и попросил подежурить меня. Врачи знали об их любви, и Кабиров, который оперировал Любу, разрешил ей лечь на стол в трусиках — обычно ведь рубашка на больных прямо на голом теле.
После операции Николай вместе со мной отнес ее в женскую больницу. Они по-прежнему писали друг другу письма, но уже недолго: Люба вскоре освобождалась, и мы с Николаем вместе написали ей последнее письмо — прощальное…
Мне тоже предлагали познакомиться с какой-нибудь зэчкой («женить»), только я не захотел, зная, что недолго пробуду здесь, придется возвращаться в свою зону.
Не только в больничной — в любой зоне крутят бумажную любовь, особенно если мужская и женская зоны в одном поселке. На одиннадцатом знакомства завязались, когда наша строительная бригада работала в женской зоне; зная, что связь прервется, как только строители закончат работу, наши женщины и зэки заранее договаривались, как переписываться дальше: через родных, через больницу…
А какие ссоры, скандалы, даже драки случались из-за любви! Вдруг становится известным, что одна зэчка пишет сразу двоим-троим или, наоборот, зэк переписывается с одной, а ее подруга стала писать ему же, «отбила», — слезы, отчаяние, ревность…
Конечно, случается и более «материальная» любовь: в зоне же бывают женщины-служащие, медработники, учительницы в школе. Многие заключенные ходят в школу только для того, чтобы смотреть на женщин-учительниц, но это все-таки не любовь, на одну учительницу смотрят сразу многие, она как бы принадлежит им всем.
Ну а бывает, что зэк и сойдется с какой-нибудь из женщин, работающих в зоне, — уж не знаю, где и как они находят такую возможность. Иногда эта связь по взаимному влечению, а иногда и за подарок какой-нибудь. Один наш зэк сошелся с вольной, подарив ей часы. Только-то и всего. Самое тут примечательное, что вольные женщины в зоне — это обычно дочери и жены офицеров и надзирателей.
Но большинство заключенных весь срок — пять, десять, пятнадцать, двадцать пять лет — живут безо всякой любви, и без бумажной, и без настоящей. Из-за этого в бытовых лагерях, среди уголовников, процветает гомосексуализм. Этим занимаются почти поголовно все бытовики, несмотря на то что гомосексуализм преследуется по закону. Поймают за этим делом — могут дать новый срок; но ведь всех не посадят. Помню, когда я был в Караганде, в Степном, у нас там всех гомосексуалистов — известных, пойманных на этом — согнали в один барак на сто восемьдесят человек, пытаясь таким образом отделить их от остальных. Сто восемьдесят человек — это только пойманных и только тех, кто в паре шел за женщину. А те, кто исполнял роль мужчины, и за гомосексуалистов не считались. Первых все презирали, вторые ходили в героях, хвастаясь своей мужской силой и своими «победами» не только друг перед другом, но даже и перед начальством. Я слышал однажды, как Воркута, известный всей зоне педераст, стоя вместе с одним начальником отряда, говорил ему про другого отрядника (тот как раз проходил мимо): неплохо бы, мол, его употребить так-то и так-то; оба при этом с удовольствием смаковали подробности. Это уже было не в уголовном лагере, а в политическом…
Вообще, гомосексуализм проникает и в политические лагеря — вместе с попадающими сюда уголовниками. Но положение педерастов здесь совсем другое, чем в бытовых лагерях. Их презирает вся зона, зато любит начальство. Если кого ловят за этим занятием, то не отдают под суд, а только грозят судом и оглаской — таким образом шантажируют, вербуют из них армии стукачей и провокаторов. Правда, проку от них начальству немного: в политических лагерях педерастов мало, они все наперечет, заключенные знают их лучше, чем начальство, и стараются не общаться с ними. Я знал нескольких педерастов: во Владимире, а потом и в Мордовии был такой Субботин (тот, который домино съел), еще Юрка Кармалов, парень по кличке Любка, — педераст со времени Беломорканала, вот этот знаменитый Воркута. Это все были подонки из подонков, циники, матерщинники. Впрочем, в сквернословии с ними могли соревноваться надзиратели и служащие лагеря, и неизвестно, кто кого обогнал бы. Раз Воркута вступил в такое соревнование с нашим цензором. Воркута стоял в очереди за бандеролью и вот как загнет в три этажа! Цензор, видно, решил показать, что тоже не лаптем щи хлебает, тоже кое-что умеет, — и отозвался еще похлеще. Воркута — в бога, в душу, в мать; цензор так же. Слушать это со стороны — я тоже стоял за бандеролью — было и смешно, и дико…
Конечно, женатые зэки — дело другое, им не нужна бумажная любовь. Они живут памятью о семье, письмами, к ним раз в год приезжает жена на свидание. Но КГБ и лагерная администрация стараются использовать право зэка на свидание как еще одно средство давления, средство, порабощающее заключенного. Сначала, еще во время следствия и вскоре после него, жену пытаются уговорить отказаться от мужа-преступника; некоторые жены отказываются сами: неприятности, хлопоты, поездки, надо растить детей, а ждать-то десять-пятнадцать лет. Жена одного моего лагерного знакомого потребовала не только развода с мужем, но и лишения его прав отцовства. Закон шел навстречу таким требованиям даже тогда, когда обычный развод был у нас осложнен многими формальностями. Разводили, лишали права отцовства безо всякой волокиты, не спрашивая ничего у мужа-заключенного. Мой приятель спросил: мол, как же так, его развели с женой, отняли у него детей без его согласия (тогда еще для развода требовалось согласие обеих сторон). Ему ответили: «Вы изменили родине (он был осужден по этой статье), тем самым, значит, изменили и жене, вот она и отказалась от вас».
А если жена не отрекается от мужа, ездит к нему на свидания — с ней перед свиданием проводят беседу, чтобы она воздействовала на мужа, уговорила его отказаться от своих убеждений, отказаться от лагерных друзей, сотрудничать с администрацией. За это обещают свидание на полных три дня, посылку, обещают облегчить участь мужа. Зато «строптивым» заключенным, упорствующим в своих убеждениях, сокращают свидание до двух суток, до суток, до суток с выводом на работу (то есть дают свидание всего на шестнадцать часов), находят любые предлоги для того, чтобы вообще лишить личного (без присутствия надзирателя) свидания, единственного в году.
Холостые ребята — а их теперь немало в политических лагерях, в последние годы в лагеря попадает все больше молодежь — очень страдают без женщин. Бывает так: на воле парень жил с какой-то девушкой, как муж с женой, только брак не зарегистрировали. И вот его посадили, а она не может приехать к нему на свидание, даже на общее, потому что лагерная администрация признает только узаконенные, проштампованные загсом браки. Правда, могут разрешить свидание, если незаконная жена раздобудет справку из сельсовета или райсовета о том, что она фактически сожительствовала с таким-то. Хоть это и унизительно для женщины — просить такую справку, все же многие идут на унижение, чтобы повидаться со своим возлюбленным. И даже, бывает, незнакомые девушки, сведя знакомство в письмах, приезжают на свидание со своими заочными друзьями с такой справкой, если удастся получить в сельсовете (а сельсовету куда деваться, почем там знают, кто с кем живет).
Говорят, что еще недавно, года за два до моего приезда в Мордовию, недостаточно было свидетельства о браке или справки из сельсовета. Тогда, говорили мне ребята, женщина должна была предъявить еще справку из вендиспансера, что она не была больна венерическими заболеваниями. Бывало, муж пишет жене: «Дорогая, мне разрешено свидание, приезжай, только вот прихвати еще справочку от врача, что у тебя нет сифилиса или гонореи…» (Жена, конечно, в слезы: «У нас дети, я тебя жду, а ты мне не веришь!» — «Я-то тебе верю, милая, это мой начальник тебе не верит».)
Особенно забавно было, что если жена член партии, то свидетельства, что она не больна венерической болезнью, не требовалось, вместо него она могла предъявить партбилет. У нас возникало множество вопросов: нужна ли справка кандидату в партию? Требуется ли справка от вендиспансера при вступлении в партию? Если нет — то установлено ли наукой, что само вступление в партию очищает, излечивает от сифилиса, подхваченного еще раньше?.. Словом, шуток на эту тему хватало.
Я уже этого правила не застал. В мое время довольно было свидетельства о браке или справки от сельсовета. Я написал про это одной своей знакомой, и вот в 1964 году она, добыв в селе нужную справку, приехала ко мне на свидание. За мной в это время не числилось никаких грехов, и дали три дня; бригадир не вызывал меня в эти дни на работу. Мне повезло: за шесть лет заключения я пробыл три дня с женщиной.
Больше я ее не звал: зачем ей связывать свою жизнь с зэком, что ей за радость приехать раз в год, чтобы пробыть со мной три дня?
Дурдом
У нас на третьем кроме терапевтического и хирургического есть еще и психиатрический корпус — все его называют «дурдом»: «дурацкий дом», что ли, или «дом дураков». Словом, дурдом. О сумасшедших, о психбольницах на воле какие только страсти не рассказывают! Меня разбирало любопытство: хоть и страшно, а так и тянет самому поглядеть на психов вблизи. Тем более что всякому лестно: посмотришь на дураков и возвышаешься в собственных глазах — они дураки, а я умный. Правда, я слышал, что в сумасшедший дом иногда упекают совершенно здоровых людей, чем-нибудь не угодивших властям. Ну а все-таки дурдом есть дурдом…
Я пошел в гости к санитарам психкорпуса. Корпус отгорожен от остальных высоким забором. Звоню у калитки, открывают. С опаской вхожу во двор. По двору прохаживаются зэки-больные, мирно беседуют. Может, тихопомешанные, только слегка чокнутые? Я прошелся по всему корпусу, обошел все камеры — везде такая же картина. Читают, играют в шахматы, тихо разговаривают. Санитары смеялись надо мной, что я ищу здесь сумасшедших:
— Ты что, сам чокнулся, что ли? Не знаешь, где психи? В зоне не видел?
Я вспомнил, что, действительно, и в зоне, и во Владимире в общей камере встречал настоящих душевнобольных, даже буйных. Некоторые просто отравляют остальным и без того не сладкую жизнь: шумят ночью, что-нибудь выкрикивают, воют, воруют продукты, скандалят, дерутся; есть даже такие, что ходят под себя, а потом едят свои испражнения. Сколько мы ни жаловались начальству, просили убрать их, изолировать от здоровых, нам отвечали обычно: «Не ваше дело, не вы здесь распоряжаетесь». Или в лучшем случае: «Куда мы их денем? Не домой же к себе брать?»
— Неужели же тут все нормальные? Ни одного настоящего психа нет? — спросил я у знакомого санитара. Он объяснил мне, что бывают и настоящие, но их здесь долго не держат и отправляют обратно в лагерь. Иногда таких отправляют в Москву, в Институт Сербского, на экспертизу. Там их чаще всего признают нормальными и дают администрации санкцию обращаться с ними как со здоровыми. Если они подследственные, другое дело — в Институте Сербского могут признать душевнобольным любого человека, с самыми незначительными отклонениями в психике и даже совсем здорового, если это только потребуется КГБ.
Я потом часто заходил в «дурдом», да и наши «дураки», втайне от администрации, гуляли по всей зоне, хотя это строго запрещалось. Санитары не боялись выпускать их: они знали, что от своих больных нечего ждать неприятностей. Среди «дураков» я встретил несколько знакомых. В первый же раз, как я пришел туда, я был поражен, узнав в одном из больных зэка, знакомого еще по десятому, — того самого, который сцепился с капитаном Васяевым в памятный мне вечер нашего неудавшегося подкопа. Мне рассказывали другие зэки, что он вступал в дискуссии не только с офицерами-воспитателями, но и с приезжими лекторами — и всегда ставил их в тупик своими вопросами и доводами. Заключенные слушали эти дискуссии с огромным интересом, начальство злилось. Сколько раз его сажали за это в карцер — а он все не унимался. Мы разговорились с ним, вспомнили тот вечер, общих знакомых, Бурова — он его хорошо знал. Я осторожно спросил его, как он угодил в «дураки». Он посмеялся над моим смущением и сказал, что здесь таких, как он, много: начальству гораздо спокойнее, когда они в дурдоме, а не в зоне.
Здесь же был и Коля Щербаков — без обоих ушей, весь синий от наколотых по всему телу и лицу лозунгов и изречений. Встретился мне и один настоящий сумасшедший, прибалт Нурмсаар; я знал его на семерке, одно время жил с ним в одной секции. Держался-то он более или менее спокойно, больше неприятностей причинял себе, чем окружающим. Бывало, не идет на работу: надо к вахте на развод, а он пошел себе в другую сторону. Остановишь его: «Нурмсаар, куда ты? На работу надо!» — а он как не слышит, смотрит мимо. Несколько раз наш отрядный Алешин выписывал ему по пятнадцать суток карцера за невыход на работу. Теперь вот его привезли в дурдом — правильно, конечно. Можно ли его гонять на работу и спрашивать норму, как со здорового? Я подошел к нему, чтобы порасспросить о своих друзьях с седьмого. Но он, похоже, совсем не понимал меня, а может, даже и не узнал. Так, ничего не добившись от него, я и отошел. Позже, уже на воле, я слышал, что Нурмсаар снова в зоне и снова сидит в карцере.
Самое большое впечатление произвела на меня одна встреча. Я пошел, как это полагалось, встречать очередной этап — отбирать и вести больных в хирургический корпус. Смотрю — среди вновь прибывших мой хороший знакомый, Март Никлус. Он дружил с моими друзьями Генкой Кривцовым и Толиком Родыгиным. Их всех троих посадили в БУР за невыполнение нормы, но вся зона знала, что их заперли на камерный за «строптивость», за то, что они отстаивали вслух свои убеждения. Я знал, что срок БУРа у них еще не кончился, и тем более обрадовался Никлусу и тому, что он вырвался из БУРа в больницу (это бывает очень редко, обычно говорят: «Вот отсидишь свой срок, потом будешь лечиться»), и тому, что узнаю новости о друзьях. Март передал мне приветы от Генки и тезки, я рассказал ему коротко о жизни на третьем, чтобы помочь ему сразу сориентироваться. Потом спросил, что с ним, как это ему удалось попасть из БУРа в больницу. И хоть я уже ко всему привык, но был просто поражен его ответом:
— Да ведь я теперь сумасшедший, вот — привезли в дурдом.
Эта новость просто не укладывалась у меня в голове. Март объяснил, что он в БУРе объявил голодовку в знак протеста против голодного режима. Ему пригрозили, что, если он не снимет голодовку, его запрут в сумасшедший дом; вот и отправили.
— Буду теперь, — говорил Никлус, — жить среди таких же дураков, как и сам.
Никлус иногда тайком приходил к нам в корпус. Мы вчетвером — он и два наших санитара, земляки Никлуса Карл и Ян, — проводили вечера в разговорах. Пробыл он на третьем около месяца, и его снова отправили в БУР — досиживать срок. А когда кончился срок БУРа, всех троих, и Никлуса, и Родыгина, и Кривцова, «судили» и отправили на три года во Владимир. Никлуса скоро освободили, совсем выпустили, а Геннадий и Толя и сейчас сидят во Владимирской тюрьме.
Как интересно получается: один и тот же человек оказывается то здоровым, то ненормальным, то снова здоровым — по воле начальства. Никлус, например, считался здоровым, от него требовали выполнения нормы и соблюдения режима; объявил голодовку — стал сумасшедшим, попал в дурдом; потом снова оказался в БУРе, потом его судил лагерный суд, уже как здорового, за то же самое, за что он отсидел уже шесть месяцев в БУРе; объявил бы он голодовку во Владимире — может, снова считался бы психом.
А вот другой случай: однажды на третьем надзиратель задержал около библиотеки больного из психкорпуса (им ведь запрещено выходить со своей территории). Этот больной был признан ненормальным в Институте Сербского; думаю, что он и на самом деле был чокнутый. Тем не менее надзиратель потащил его в карцер за нарушение правил. Больной вырвался, побежал, надзиратель догнал его, схватил, зэк стал отбиваться — и в потасовке сорвал с надзирателя погон. Об этом составили акт. Но пока дело касается сумасшедшего, его нельзя судить. И вот нашего психа через несколько дней объявляют здоровым, отправляют в лагерь, а там месяц спустя судят — за сопротивление представителю охраны, за нанесение телесных повреждений, за то, что сорвал погон. Судят больного и только для того, чтобы устрашить всех, чтобы другим неповадно было. Ему добавили срок до пятнадцати лет; хорошо еще, что не расстрел!
Стычка с «представителем администрации»
В конце февраля, в один из этапных дней, мы с Карлом Кивило отправились в приемный покой встречать хирургических больных. Пошли налегке: в тапочках, без шапок, без рукавиц, даже телогрейки не надели; руки в карманы, носилки зажали под мышками и бегом. Хотя мороз был ниже тридцати градусов, мы не боялись застыть: от нашего корпуса до приемного покоя одна минута ходу. Прибежали — а лежачих больных двое. Значит, надо еще одни носилки. Кивило остался принимать больных, а я отправился за носилками. Выскочил на крыльцо и на секунду остановился — куда кинуться? — в нашем корпусе только одни носилки. Оглядываюсь и вижу, какой-то офицер у вахты машет мне рукой, манит меня к себе. Вот, думаю, незадача, понадобился я ему зачем-то в такой мороз. Но бегу, нельзя не пойти. Руки держу в карманах, ноги хлябают в одних тапочках, и, чувствую, пальцы уже прихватывает морозом. Подошел. На офицере теплая шинель с погонами старшего лейтенанта, уши ушанки опущены, но не завязаны, валенки, меховые рукавицы, под шинелью, видно, тоже что-то теплое. Лицо незнакомое; правда, мы на третьем мало кого знали из начальства и охраны, они к нам редко заходили, и слава богу. Офицер шевелит губами — что-то говорит негромко, обращаясь ко мне. Я говорю:
— Пожалуйста, говорите погромче, я плохо слышу.
Он как заорет:
— А, сразу и слышите плохо! Фамилия?!
— Марченко.
— Из какого корпуса?
— Из первого хирургического.
Пока шел этот разговор, я основательно промерз: ведь на мне одна бумажная куртка на нижней рубахе, тоже бумажной, и почти босой. Я ужасно разозлился. Что же он, не видит, что я совсем раздет, держит меня на морозе? А он кричит мне:
— Почему руки в карманах?! Забыли, как надо разговаривать с начальством? Это правило и для глухих тоже!
Я до того опешил, что не нашелся, что отвечать. А он кричит без передышки:
— Что это вы все прыгаете, дергаетесь?! Не можете спокойно постоять, когда с вами говорит представитель лагерной администрации?!
Я молчу. Он снова:
— Почему вы молчите? Вы обязаны отвечать, раз вас спрашивает представитель лагерной администрации! Выньте руки из карманов, станьте, как положено! Почему не подчиняетесь? Почему не отвечаете на вопросы?
— Потому что ваши вопросы дурацкие! — ответил я зло, стуча зубами от холода.
Он вытаращил на меня глаза. Но тут же, опомнившись, крикнул на вахту надзирателям, чтобы меня отвели в карцер.
— Мы еще с вами разберемся, потолкуем в другом месте! — бросил он мне с угрозой.
Я был рад уже тому, что можно двинуться с места, идти в помещение, пусть хоть в карцер, все же не на улице на морозе стоять.
Пока мы стояли с надзирателем у калитки забора, окружающего карцер, и ожидали, чтобы ее отперли, я думал, что совсем закоченею. Вошли. Обычная процедура — раздели догола, обыскали, велели одеться и втолкнули в камеру. Камера маленькая, на двоих, шириной в большой шаг, длиной метра в два с половиной. От стены к стене низко, у самого пола, сплошные нары; маленькое оконце, в углу — параша. Над дверью сквозная ниша с лампочкой. Холодина такая, что ни сидеть, ни лежать — замерзнешь. Стекла в оконце не замазаны, в щели дует. Я стал топтаться на свободной от нар площадке: шаг от двери до нар, шаг вдоль нар от стены до стены — и снова тот же круг. Скоро я заметил, что время от времени сквозняк усиливается, ну просто так и прохватывает ледяным ветром. Это когда в коридоре открывали дверь, тянуло сквозь все щели в окно, ниша-то была сквозная из камеры в коридор. Я из-за глухоты не слышал, как хлопала дверь, но видел, как вздрагивают стекла в раме.
В обед мне дали миску чуть теплой баланды, а часа через два пришел надзиратель и повел меня в кабинет начальника режима. Там за столом сидел тот самый офицер. Его ушанка и рукавицы лежали на столе. Он предложил мне сесть и велел надзирателю выйти.
— Почему вы себя так ведете? — задал он мне первый вопрос.
— Как именно?
— Вы ведете себя, как прохвост!
— А вы ведете себя, как фашист.
Офицер привскочил:
— Я советский офицер! Как ты смеешь называть меня фашистом?! Знаешь, что тебе за это может быть?
Я сказал, что только фашисты могли специально морозить людей, что он-то сам был одет тепло (я показал на его шапку, рукавицы, на валенки и шинель), а меня, почти совсем раздетого, в одних тапочках, без шапки, без бушлата, допрашивал на морозе, да еще заставлял вынуть руки из карманов, стоять смирно, не шевелясь. Ведь я из-за мороза переступал с ноги на ногу.
Офицер немного поуспокоился и даже стал как будто оправдываться.
— Надо было подчиниться, вынуть руки из карманов, тогда бы ничего не было. А так вот получите трое суток карцера. Скажите еще спасибо, что в больнице; в зоне получили бы все десять или пятнадцать.
Потом он стал спрашивать, за что сижу, сколько дали, где судили.
— Наверное, студент, да? — спросил он и, не дождавшись ответа, продолжал нравоучительно:
— Вот вы, молодежь, и чего только лезете в политику? Ведь ни в чем не разбираетесь, а лезете, вот и сидите в лагерях. Учились бы себе, надо вам во все встревать!..
Я не стал с ним заводить дискуссию на эту тему, а только спросил:
— А зачем вы меня к себе подозвали на морозе? Специально, чтобы придраться к чему-то и посадить в карцер?
— Вот вы опять ведете себя вызывающе, — грустно сказал он. — Я вас подозвал потому, что заключенным не полагается находиться около вахты, когда прибывает этап.
— Так ведь я санитар, около вахты был по делу, моя обязанность принимать больных.
— Почему же вы мне этого не сказали?
— Вы же меня об этом не спрашивали.
— Ну теперь поздно разбираться. Отсидите свои трое суток, подумаете, может, потише будете, не станете дерзить представителю лагерной администрации.
Меня отвели в мою камеру, и я занялся делом. Вылил воду из миски в парашу, оставив чуть-чуть на дне, наколупал со стены штукатурки, размял в воде — получилась густая кашица. Я замазал этой самодельной замазкой все щели в раме, обмазал по краю все стекла. Хорошо, что в камере было маленькое окошко! К вечеру работа была закончена. Теперь от окна не дуло, даже когда в коридоре открывали дверь. А позже стало совсем хорошо: пришел зэк-дневальный и затопил в карцере печь. Тепло теперь не выдувало, и можно было спать до самого утра, пока печь не остыла. Хоть и на голых нарах, но не замерз. Только к утру снова похолодало, и я мерз до следующего вечера. Все же карцер в больнице намного лучше, чем все остальные карцеры в зонах!
Снова в зону
Пока я был на третьем, политических с седьмой зоны, откуда я приехал, перевели на одиннадцатый. Седьмую зону заполнили уголовниками. Скоро до нас стали доходить слухи о безобразиях, которые там начались. Уголовники изнасиловали нескольких женщин-служащих — кассиршу, дочь одного начальника отряда, тоже работавшую в зоне. К нам на третий привезли двоих с семерки — они перепились там ацетоном. Троих удалось откачать на месте, а двоих замертво отправили в больницу, но не довезли, они скончались дорогой, так что прибыло два трупа. Начальство теперь взвыло: как хорошо, как спокойно было работать с пятьдесят восьмой статьей (нас, политических, по привычке называют до сих пор пятьдесят восьмой статьей, хотя с 1961 года действует уже новый Уголовный кодекс и все статьи перенумерованы).
Меня перевели из «больных» санитаром в штат. Но я предчувствовал, что надолго здесь не застряну. Так оно и вышло: после конфликта с начальником режима Кецаем я угодил в карцер на трое суток. Когда я вышел из карцера, Николай сообщил мне, что меня уволили и назначили в ближайший этап.
Я уезжал с третьего в самом конце февраля 1966 года. Все-таки осень и зиму перекантовался, может, это меня и поддержало.
В день отъезда я пошел на вахту с вещами. Там уже обыскивали других этапников. Проходя через приемный покой, я увидел вновь прибывших: группа ходячих больных, двое на носилках. Один лежал укрытый до подбородка брезентом и поверх — бушлатом. И бушлат, и лицо у него были в крови. Наверное, кровавая рвота — либо язвенник, либо наглотался чего. Другого, лежащего на носилках, я сразу узнал, хотя вид у него был страшный: обросший весь, щеки втянуты, скулы торчат — он, как мне сказали, голодал в лагере уже дней двадцать, и вот теперь его убрали из зоны в больницу. Я знал его еще во Владимире, это был тогда здоровенный парень, звали его Володя, а фамилии не помню уже. Глаза у него были открыты, я поздоровался с ним, но он не ответил, наверное, совсем ослабел.
Пройдя через приемный покой, я вошел в камеру, где ожидали шмона выписанные из больницы, тоже группа ходячих и трое на носилках: один старик-паралитик, другой молодой, тоже парализованный, третий — не помню, что было с ним. Их привезли на третий совсем недавно, недели две-три назад, и вот уже отправляли обратно: так же на носилках, как и доставили сюда.
Все пошло обычным порядком: тщательный обыск, дорога к поезду под конвоем, погрузка — снова возня с носилками, теснота и духота вагонзака, стоны, рвота у некоторых, остановки на каждой станции у зон; наконец Явас.
Я прибыл на одиннадцатый.
Дубравлаг
Суд окончен давно, и готовы бумаги. Значит, нам суждено жить с тобой в Дубравлаге, По сигналу вставать, дожидаться отбоя… Дни неволи считать, дни неволи считать суждено нам с тобою. Здесь и днем, и в ночи мысли голову кружат. Стиснув зубы, молчи, чтобы не было хуже, И не мучай души сожаленьем напрасным — Это строгий режим, это строгий режим для особо опасных… Здесь порою часы, как недели, проходят, Здесь свирепые псы, автоматы на взводе, И колючкой не зря огорожены зоны — Это спецлагеря, это спецлагеря для политзаключенных. Не жалеешь ты, Русь, арестантской баланды! Декабристов союз угодил в арестанты. Чернышевский был там и Народная воля, А теперь вот и нам, а теперь вот и нам эта выпала доля. Песня. 1966 год[12]Я вернулся из больничной зоны в лагерь, но уже не на семерку, а на одиннадцатый. Здесь оказалось очень много зэков с седьмого, а больше всего меня обрадовала встреча с друзьями. Как повезло, что я попал туда же, где были Валерий, Коля Юсупов, Буров и другие мои старые знакомые! Лагерь тем еще страшен, что то и дело рвутся тесные дружеские связи. Если только начальство узнает о дружбе зэков, оно поскорее их разводит по разным зонам. И тогда даже письмами не обменяешься, ведь переписка между зэками запрещена. Но вот нам повезло, мы снова оказались вместе.
Одиннадцатый был набит битком, первое время жили даже на чердаках — мест в бараках не хватало. Но друзья помогли мне устроиться, да и сам я уже не новичок в лагере. Меня зачислили снова в аварийную бригаду; я и не пытался доказывать, что мне с моим здоровьем и слухом невозможно работать на разгрузке, — доказывай, не доказывай, все равно бесполезно. Начальству виднее. Завтра, 28 февраля 1966 года, я уже должен выйти на работу.
Пока что мы с Валерием и Колей сошлись, чтобы обменяться новостями. Что пишут родные, как живут… Мой срок кончался через восемь месяцев, и с первого дня на одиннадцатом начали уже обсуждать, как я выйду, как буду устраиваться на воле. Тоже проблема не из легких: как будет с пропиской, с работой? Из-за потери слуха я не смогу больше никогда работать по своей специальности — буровым мастером. А в лагере я не мог получить никакой новой профессии. Видно, теперь и на воле придется идти в грузчики, просто нет другого выхода. Но как быть со здоровьем? Валерий настаивал, чтобы я первым делом занялся лечением. Ну ладно, впереди еще восемь месяцев, успею все обдумать, да и вообще там видно будет.
Мы поговорили о событии, которое занимало сейчас всех зэков-политических, — о процессе над писателями Синявским и Даниэлем. Первые сведения о нем застали меня еще на третьем, а теперь суд кончился, значит, скоро они будут в Мордовии. Один из них наверняка попадет к нам на одиннадцатый: подельников обязательно разделяют, сажают в разные зоны, применяют к ним разную тактику воздействия. Пока что мы не знали ни одного из них.
В лагерях зэки много спорили об этом процессе и о самих писателях. Вначале, после первых газетных статей, еще до суда, все единодушно решили, что это либо подонки и трусы, либо провокаторы. Ведь это неслыханное дело — открытый политический процесс, открытый суд по 70-й статье! Мы тогда еще не знали, что уже весь мир говорит об их аресте и только поэтому наши не могли о нем умолчать. Наверняка эти двое будут плакать и каяться, думали мы, сознаются, что работали по заданию заграницы, что продались за доллары. Сколько ходит по зоне таких, как они, — но никого не судили открыто. Мы ожидали очередной суд-спектакль, где подсудимые послушно сыграют свои роли.
Но вот появились первые статьи «Из зала суда». Подсудимые не признают свою вину! Они не каются, не умоляют простить их, они спорят с судом, отстаивая свое право на свободу слова. Это было очевидно даже из наших газет; также ясно было видно, что в статьях искажают суть дела и ход процесса. Но последнее мало волновало нас, скоро все услышим от самих. Молодцы Синявский и Даниэль! КГБ впервые устроил суд не над подонками — и вот получил! Но в чем дело? Почему открытый, почему об этом пишут в газетах? Некоторые догадывались: не удалось сохранить дело в тайне от Запада. Ну, скоро узнаем.
Приговор мы определили сразу, с первого дня: Синявскому дадут семь, Даниэлю — пять. Как-никак, все у нас люди опытные. Немногие предполагали тюрьму, Владимир, а большинство были уверены — к нам. Но в чем все были единодушны, так это в одном: какой бы ни был приговор, КГБ потерпел на этот раз сокрушительное поражение. И дело даже не в честном поведении подсудимых. Главное, теперь весь мир узнал, что у нас есть политические заключенные. Хрущев на весь мир кричал, что у нас нет политических, что за убеждения у нас не сажают, — куда же теперь денут этих двоих? В отдельный лагерь, что ли?
Мы с Валерием и Колей поговорили об этом процессе: что думают на одиннадцатом? А что на третьем? Решили помочь на первых порах тому, кто попадет к нам. А не мы, так другие помогут, люди найдутся. Молодежь в особенности заранее относилась к этим писателям с уважением.
В первый же день состоялось знакомство с отрядным, капитаном Усовым:
— Ну, Марченко, надеюсь, вы одумались и стали на путь исправления. Вступайте в СВП, помогайте администрации, и мы поможем вам получить посылку, свидание с родными.
Я ответил, что почти весь срок отсидел и уж как-нибудь досижу оставшиеся восемь месяцев без посылок. Зато на воле смогу честно смотреть в глаза любому из нынешних попутчиков под конвоем.
— Марченко, у вас неправильное представление о чести и совести. Как вы будете жить на свободе с вашими взглядами?
— Да уж как-нибудь буду!
Назавтра отрядный снова вызвал меня, чтобы прочитать мораль о необходимости посещать политзанятия. Под конец он сказал:
— Вот вы, молодежь, всем недовольны, все вам не так. Вы бы здесь потрудились — так нет, за границу сбежать хотели.
— Ну, хотел бежать. А тех, кто открыто просит выезда, вы ведь не пускаете!
— Еще чего!
— А зачем тогда СССР подписал Декларацию прав человека? Там сказано, что каждый имеет право жить, где хочет, выбирать любую страну, где ему больше нравится. Подписали, а выполнять и не думают…
— Марченко, откуда вы знаете, что написано в Декларации? Где вы могли ее прочесть? Кто вам давал? Кто вам рассказывал, что в ней написано?
— Она опубликована в «Курьере ЮНЕСКО», и, хоть у нас мало кто добирается до этого журнала, вы, гражданин начальник, могли бы его достать, если захотели бы. Может, вы мне объясните, кстати, почему у нас в печати нигде ничего нет о содержании этой Декларации?
— Не знаю, я не в МИДе работаю, а в МВД (даже нестарые офицеры говорят не МООП, а МВД, по-старому, по-сталински). А вы зря думаете, что в Америке рабочим лучше живется, чем нашим. Не от хорошей жизни бастуют.
— А наши не бастуют, потому что хорошо живут?
— Конечно, тут и спорить не о чем.
Тут я привел Усову сравнение заработной платы наших и американских рабочих. Сколько у нас зарабатывают на строительстве, он знает, сам наряды подписывает — если без туфты, то рублей 70 начислят в месяц. А в Америке около 500 долларов.
— Откуда, Марченко, вам это известно? Кто вам рассказывал? Я, например, нигде об этом не читал.
— А я читал. Можете и вы прочесть в журнале «Мировая экономика и международные отношения».
— Но ведь доллары дешевле рубля?
— По курсу дешевле. А по реальной стоимости? При заработке в пятьсот долларов американский рабочий может купить такой телевизор, как наш «Радий-В», за девяносто девять долларов. На одну зарплату пять телевизоров! А сколько телевизоров по триста шестьдесят рубликов можно у нас купить на одну рабочую зарплату?
— Марченко, вы начитались буржуазной пропаганды и теперь заблуждаетесь!
— Где уж нам! Ваша лагерная цензура не то что буржуазную пропаганду, а от родной матери письма конфискует.
— Вы мне, Марченко, мораль не читайте. Не вы мой воспитатель, а я — ваш.
— Тогда вы, мой воспитатель (Усова тут перекосило), убедите меня, что я заблуждаюсь. Убедите меня, что наш рабочий живет лучше американского и потому не бастует, — вы же с этого начали.
— По-вашему, у нас рабочие мало зарабатывают, плохо живут. Ладно. А этим двоим, — он показал на старую газету со статьей о Синявском и Даниэле, — им чего не хватало? Может, тоже мало зарабатывали? Небось, у каждого по машине, как у министра! Но им все мало — продались за доллары и франки, работали на ЦРУ. Убеждения у них! Знаем таких!
— Гражданин начальник! Вам известно об их связи с ЦРУ? В газетах этого не было.
— Пока не было. Но будет! Не может не быть.
— Ну, увидим. И с ними познакомимся. Ведь их к нам привезут?
— Тут и знать нечего, я вам точно говорю, продались. А вы, Марченко, подумайте о себе. Одумайтесь. Ведь вас выпускать нельзя с вашими представлениями о советской действительности.
На том разговор и кончился. Такие беседы отрядный провел и с Валерием, и с Колей, и со многими другими зэками.
Дня через два после этих накачек прихожу я с работы в зону. Заглянул в секцию — Валерки нет. Я пошел в раздевалку переодеться. Туда заглянул наш Ильич (Петр Ильич Изотов); увидел меня и кричит:
— Привезли, привезли!
— Кого?
— Писателя привезли!
— Ну? И где он?
— К нам в бригаду зачислили, в твоей секции будет жить. Валерка повел его в столовую.
Я не спросил, которого из двоих привезли. Хорошо, что с ним Валерка, он все сумеет рассказать и показать.
Пока я переодевался, Валерка вернулся, а с ним парень лет тридцати пяти — сорока. Новичок, во всем своем еще, но видно — готовился к лагерю: стеганая телогрейка, сапоги, рыжая меховая ушанка. Телогрейка нараспашку, а под ней толстый свитер. В общем, вид его показался мне смешным: телогрейка без воротника не вязалась с добротной шапкой, ноги он переставлял косолапо, как медведь, сильно сутулился, держался немного смущенно и растерянно.
Мы познакомились. Это был Юлий Даниэль. Да еще при разговоре он наставлял на меня правое ухо, просил говорить погромче. А сам говорил тихо. Я тоже поворачивался к нему правым ухом и отгибал его ладонью. Значит, коллеги — тоже глухой, как и я. Это нас обоих рассмешило.
Подошли еще наши бригадники, окружили новичка, стали расспрашивать про волю. То и дело в наш барак забегали поглазеть на Даниэля — знаменитость! Вопросы сыпались на него со всех сторон. Мы узнали, что процесс был только по названию открытый, а пускали туда по особым пропускам. Из близких в зале Юлий увидел только свою жену и жену Синявского.
— Я уверен, что друзья пришли бы, но их не пустили, — сказал он.
Большинство в зале были типичные кагэбэшники, но были и писатели. Некоторых Юлий знал по портретам, а кое-кого и в лицо. Одни опускали глаза, отворачивались, двое или трое сочувственно кивнули ему.
— Ну а как ты думаешь, почему такая гласность?
Оказывается, Юлий думал так же, как кое-кто из нас: наверное, на Западе поднялся шум. Сидя в следственном изоляторе, он, конечно, ничего не знал, но кое-что понял со слов судьи и из допроса свидетелей.
— А в изоляторе был в своей одежде или дали тюремную?
— В своей, конечно. И под следствием, и на суде.
— А в камере сидел один?
— Только первые несколько дней. А остальное время вдвоем. Хороший сосед попался, мы с ним партий сто в шахматы сыграли…
Ишь ты, как Пауэрс какой-нибудь! Нас всех обряжали в тюремное с первого дня ареста. Меня все пять месяцев в одиночке держали, других тоже. А эти — ну да, их готовили для «открытого процесса».
— А что вы с Синявским писали?
— А машина у тебя есть? Какой марки — наша или заграничная?
— Той же марки, что и твоя.
Через комнату, где мы разговаривали, прошел капитан Усов. На ходу спросил:
— Новенький? Шапку и свитер сегодня же сдать в каптерку — не положено.
Юлий стал расспрашивать нас о работе. Его подбадривали, как и других новичков:
— Работа тяжелая, но не робей, привыкнешь. Не ты один, многие раньше ничего, кроме авторучки, в руках не держали, теперь лопатой орудуют — будь здоров. Вытянешь!
Больше, чем о себе, Юлий говорил об Андрее Синявском.
— Вот это человек! И писатель, каких сейчас в России, может, один или два, не больше.
Он очень беспокоился о друге: как-то он устроился в лагере, на какую работу попадет, не было бы ему слишком тяжело. Это нам всем, конечно, понравилось.
Хотя Даниэль обязан был выходить на работу завтра же, бригада договорилась в первые три дня не брать его, как и меня после Владимира. Пусть осмотрится в зоне. К тому же мы знали, что у него перебита и неправильно срослась правая рука — фронтовое ранение. Надо же — нарочно поставили на самую каторжную работу в лагере! Как он сможет со своей искалеченной рукой поднимать бревна, кидать уголь? У начальства на то и был расчет: оглушить его этим адом, чтобы он не выдержал и попросился на более легкую работу. А тогда его голыми руками возьмешь: напишет и в лагерную газету, и выступит по радио, — а его поставят библиотекарем, врачи дадут третью категорию труда. Не через три недели, так через месяц — все равно этот интеллигент сломается. На суде не каялся — здесь покается. Узнает, почем фунт лиха.
Мы советовали Юлию терпеть, как ему ни будет тяжело, ни о чем не просить начальство. Да он и сам не собирался, готов был к трудностям.
Далеко не все зэки относились к Даниэлю доброжелательно. Некоторые настороженно ждали, как он поведет себя в лагере. А некоторые злорадствовали:
— Пусть-ка погнутся вместе с нами! Знаем мы этих писателей, все они продажные, сами живут в тепле и сытости — вот и пишут про нашу райскую жизнь. Эти двое попались — так пусть здесь искупят свою подлинную вину.
Зэки очень злы на писателей. Ведь сколько раз читаешь и в газетах, и в книгах о «перековке преступников честным трудом», о суровом, но справедливом начальнике-воспитателе. А где про наш голод, про произвол, доводящий зэков до самоубийства?!
Один Солженицын осмелился написать правду, да и то не всю. Все остальные — подонки, и из-за них, сволочей, режим в 1961 году усилили. Расписали писатели лагеря — спасибо им!
— Давай их, начальник, к нам в аварийку, мы им самые большие лопаты под уголек! — кричали наши уголовники Футман и Воркута еще до прибытия Юлия.
— Да как же, станет Даниэль у станка или лопатой ворочать! — говорили другие. — Он и здесь пристроится на тепленькое местечко, евреи везде устраиваются.
Мы уже знали из газет, что Даниэль еврей. В лагере, как и на воле, хватает антисемитов, хотя и здесь одни евреи-зэки вкалывают наравне со всеми, а другие ищут непыльной работенки, тоже не отличаясь этим от зэков прочих национальностей.
Начальство своими «беседами» подогревало эти настроения, зная, что большинство зэков хорошо относятся к Синявскому и Даниэлю за их честную позицию на суде. Юлия сунули в аварийку еще и для того, чтобы скомпрометировать в глазах работяг, чтобы своей физической слабостью он сам подорвал свой авторитет.
— Держись, Юлька, держись из последних сил, — говорил ему Валерий. — Покажи всем, что тебя сломить не удалось.
Отношение Футмана и даже Воркуты к Даниэлю переменилось в первые же дни. То ли они переняли уважение других, а скорее всего, он сам расположил их к себе. Он ведь совсем простой парень, слава и знаменитость ничуть не вскружили ему голову. Он считает, что просто случайно стал известным, ему повезло больше, чем другим, таким же, как он. И еще то много значит, что он ко всем очень участлив и не равнодушен к чужим бедам. Скоро все убедились, что Юлька не ищет себе более легкой участи, чем у других. На разгрузке он вкалывал, как мог, конечно, делая меньше других. Где ему тягаться с такими, как Коля Юсупов. А уставал, намучивался он больше всех. Сказывались и отвычка от физического труда — с войны после ранения ему не приходилось работать физически, — и больная рука.
Очень скоро у него начались боли в плече, там, где была раздроблена кость. Но Юлька и тут не пошел на поклон к начальству. Тогда мы в бригаде решили подобрать ему работу по силам. Такая работа у нас была: уборка лесобиржи. После разгрузки леса остается много мусора — всякие доски, палки, мелкие бревна, растяжки, которыми крепят лес в вагонах. Дела хватает на всю смену, но не требуется большой физической силы. Самое большее — это приходится раскатывать крючком бревна, да и то небольшие. И по ночам не подымают, отработал смену — и спи. Вот мы и настояли, чтобы бригадир поставил Юльку на эту работу. Проходил он в уборщиках всего несколько дней. Об этом узнало начальство, и лагерное КГБ сразу приказало перевести его опять на разгрузку. И все-таки из их замысла ничего не получилось. Даниэль не обращался к ним с просьбой об облегчении, а все наши зэки помогали ему, как могли. Коля Юсупов, так тот просил бригадира в Юлькину очередь ставить его, Колю, но тот не решался: боялся начальства. Зато на угле, разгрузив свои люки, Футман, Юсупов, Валерий переходили к Юлькиному и помогали.
Наших бригадников стали вызывать в КГБ:
— Кто помогает Даниэлю работать?
— Все помогаем.
— Почему? Он что, сам не может? Отлынивает! Может, вы за него хотите и срок отбывать?
Один языкастый парень нашелся:
— А в моральном кодексе у вас что написано? Товарищеская взаимопомощь, человек человеку друг, товарищ и брат.
С этим кагэбисты ничего не могли поделать. Тогда они убрали Даниэля из нашей бригады, перевели в машинный цех, будто пошли ему навстречу, раз у него рука искалечена. Но ведь она покалечена не вчера, об этом знали с самого начала, а все-таки послали его на аварийку, заставили работать на разгрузке. Мы все понимали: дело не во внезапной доброте начальства. Просто не нравится, что зэки ему помогают. Да и какая там доброта? В машинном цехе и у здорового голова гудит от рева станков. А у Даниэля уши больные, и начальству отлично это известно, так же как и про руку. Кстати, на руку у станка тоже приходится порядочная нагрузка. Не такая, конечно, как на угле, но все-таки… Помочь здесь уже никто не может, у каждого своя норма.
Юлька продолжал дружить с нами. Хоть мы теперь жили в разных бараках, но по-прежнему держались вместе, кто что добудет — делили на всех. Теперь к нам пристроился и Футман. Он к Юльке больше всех привязался, опекал его всячески, даже ревновал к другим зэкам. Сколько раз повторялась такая сцена: Юлька, лежа на своей верхней койке, читает, или пишет письмо, или сочиняет стихи. Кто-нибудь не из нашей компании входит: «А где Даниэль?» К нему то и дело приходили спросить что-нибудь, рассказать о своей беде, просто потрепаться. Ему и отдохнуть не давали в первое время. Футман тут как тут: «Кто потревожит Даниэля, будет иметь дело со мной!» Охотников на это не находилось.
Футман только не любит, когда вспоминают один из первых разговоров с Юлькой. Мы всей компанией стояли в коридоре у окна, а в барак то и дело заглядывал то один зэк, то другой. Посмотреть, познакомиться. Особенно забегали наши евреи. Футман и говорит:
— Ну, жидовское племя, забегали, б…, закрутились!
Юлька повернулся к нему:
— Не забывай, что я тоже еврей.
— Да мне один…, кто ты есть.
Но только после этого разговора Футман при Юльке не говорил неуважительно о евреях.
Вообще, этот парень, подружившись с Юлькой, здорово переменился. Был из уголовников уголовником, вечный зэк, что называется. В политику он влип, как и другие уголовники. Он на все и на всех плевал, всех крыл матом — и начальство, и зэков, ему море было по колено. При случае он, по-моему, не задумался бы и ножом пырнуть. Он и не собирался жить на воле. Теперь Футман стал куда спокойнее, стал много читать, задумывался о своем будущем. Он, может, впервые в жизни почувствовал к себе человеческое отношение. Начальству это очень не понравилось. Они вызывали то Юльку, то Футмана, пытались настроить их друг против друга, рассказывая каждому о другом всякие гадости. А когда им не удалось разбить эту дружбу, они перевели Даниэля в другой лагерь. Это было, когда я уже освободился. Я узнал об этом уже на воле.
Начальство раздражала не только дружба Даниэля с нами и Футманом. Его полюбили, пожалуй, все в лагере. Он невольно стал центром, вокруг которого объединялись разрозненные компании и землячества. То литовцы его в свой кружок зовут послушать песни, то ленинградская молодежь на чашку кофе, то украинцы почитать стихи. Раз в какой-то компании его угостили «мордовской особой» — лаком, который зэки пьют вместо водки. Валерий не советовал ему пить лак.
— Раньше, — говорил он ему, — ты мог напиваться хоть до потери сознания. А теперь не имеешь права, да и начальству незачем давать повод придираться.
Юлька очень уважал Валерия и прислушивался к его советам.
Прошло некоторое время, к Даниэлю все привыкли, и он стал зэк как зэк, как все. Он нам рассказывал, как ехал в лагерь:
— Куда же, думаю, меня повезут? Как в песне поется: куда, куда меня пошлют? С кем сидеть придется? Политических-то всех десять лет назад выпустили. Слышал я, правда, что одного киевского еврея посадили то ли за связь с Израилем, то ли еще за что-то в этом роде. Он да мы с Андрюшкой — трое; ну, может, еще десяток-другой наберется вроде того еврея. Наверное, посадят с уголовниками. Я уже прикидывал, как я с ними полажу. Вспоминал фронт — у нас в части были уголовники. А в Рузаевке говорят: политических тысячи. Здорово нас оболванивают, ничего не скажешь.
А еще смеху было, когда мы узнали, что он с собой взял.
— Жена, — говорит, — перед отправкой вещей нанесла вагон и маленькую тележку. Теплое, видно, все друзья собирали. У кого что было. Меховые рукавицы — тестя лагерные; телогрейку — помню, ее товарищ надевал на обмеры; теплое белье — его у меня сроду не бывало. Ну и мое кое-что: свитер, шапка и единственный костюм, белая рубашка. Да валенки новые передала, сапоги вот. Куда мне столько? Я немного теплого отобрал, а еще взял костюм, ботинки, рубашку. В их лагерные времена зэки в своем ходили. А парадная одежда, может, пригодится в самодеятельности выступать, на вечере стихи прочесть. А тут, смотрю, полицаи на сцене поют «Партия — наш рулевой». И все как один в робах…
Мы хохотали, и Юлька вместе с нами. Теперь он лихо носит лагерную «кубинку», прикрывая ею бритую голову.
Он попытался возместить недостачу волос на голове усами, но усы у него выросли какие-то рыжие, пегие. Не понравилось, сбрил.
Начальство стало донимать его не мытьем, так катаньем. В июне 1966 года ему дали пятнадцать суток за «симуляцию и невыполнение нормы». И зэки, и администрация знали, что у него нагноилась старая рана, под гнойником оказался обломок кости. Врач не дал ему освобождения, и тогда Юлька не вышел на работу, вот и угодил в карцер, отсидел пятнадцать суток. Вечером вышел, а утром новое постановление, еще десять суток, и опять все знают, что ни за что, просто допечь хотят. Некоторые зэки протестовали по этому поводу. Я знаю, что, например, заключенный Белов написал протесты в ЦК и в Президиум Верховного Совета, требуя прекратить травлю политзаключенного Даниэля и оказать ему медицинскую помощь. Толку от этих протестов, конечно, не было, как и в других подобных случаях. Его продолжали донимать до самого моего освобождения: ни разу не дали полного свидания с женой, даже папиросы не разрешали взять со свидания. Но ведь это все по инструкции, так что и не поспоришь.
Нам всем было приятно видеть, что Юлий не из того теста, чтобы его согнуть. Он никогда ни на что не жалуется и ничего не просит для себя, зато всегда готов вступиться за другого.
У нас на одиннадцатом, как и в других больших зонах, есть своя санчасть: кабинет врача, аптека, лаборатория. Заболел — можешь обратиться к врачу. Вначале нас было до четырех тысяч зэков, а прием вела одна врачиха. Если она болела или еще почему-нибудь не выходила на работу, больных принимал муж начальницы санчасти, хирург местной вольной больницы. При санчасти стационар на двадцать пять коек. Коек восемь-десять из них постоянно заняты одними и теми же неподвижными паралитиками (теперь таких не «актируют», они так и умирают в зоне, зэками). Остальные койки обычно пустуют. Чтобы попасть в стационар, надо, чтобы тебя на носилках принесли чуть ли не без сознания. Так я туда и попал.
Числа семнадцатого марта нам поставили под разгрузку три вагона березового кряжа — полные вагоны толстых полутораметровых бревен. Выгружали вручную: кран, как обычно, простаивал. Бревна мокрые: сверху дождь со снегом. Кончили работу — простояли еще около часа на ветру у вахты, ждали конвой. Я продрог так, что и на койке под одеялом не мог согреться, меня всю ночь трясло. Ночью подали еще два вагона угля и три вагона такого же кряжа. Бригадир стал меня поднимать, а я не могу встать. Валерий говорит:
— Не трогай его, он болен, не видишь?!
Бригадир оставил меня в покое, но я знал, что утром мне придется объясняться с отрядным, и вполне возможно, что я уже заработал карцер.
Еле дождался утра, чтобы пойти в санчасть. Голову просто разламывало. Я попытался подняться с койки, но голова закружилась и меня вырвало. Я снова лег, авось пройдет, тогда я двинусь. Но становилось хуже с каждой минутой. Я уже не мог и пошевелить головой. Сразу сильное головокружение и рвота. Футман побежал в санчасть и привел нашу врачиху. Она осмотрела меня и велела Футману и Валерию нести в больницу. Ребята положили меня на бушлат и понесли.
В этот день меня никто не смотрел. На другой день обход делал хирург из вольной больницы:
— Что болит?
Я даже говорил с трудом. Фельдшер-зэк объяснил, что меня принесли с головокружением и рвотой. А когда врач ушел, фельдшер сказал, что вызовут ушника из третьего лаготделения, а этот доктор лечить не может, не его специальность. Еще через два дня на обходе хирург повторил, что нужен ушник, что он обещал приехать, как только будет свободное время.
— А если у ушника не будет свободного времени? — съязвил мой сосед по палате.
Прошло уже пять дней, как я лежал в санчасти, а меня и не думали лечить. Тем временем мне стало еще хуже, я уже не мог переводить взгляд с одного предмета на другой. Пока смотрю в одну точку — ничего, переведу взгляд — сразу головокружение и рвота. Около моего изголовья так и стоял таз: меня очень часто рвало. Хирург на каждом обходе говорил:
— Я ничего не могу сделать, я не специалист, ждите ушника.
Наконец, на шестой или седьмой день, приехал ушник, тот самый, который смотрел меня на третьем. Он держался со мной по-приятельски, расспросил, прописал какие-то уколы. Я спросил его:
— Доктор, что это со мной?
— Ничего страшного, полежите немного, все пройдет.
Вечером фельдшер решил делать укол. Оказывается, ушник прописал уколы пенициллина, а сам же, помню, говорил мне на третьем, что на меня пенициллин не действует.
Три дня меня кололи, а лучше не становилось. Все это время я не мог ничего есть, мутило от одного взгляда на пищу. Выпью за весь день несколько глотков больничного компоту — и все. А весь паек отдавал соседу по палате.
На четвертый день после посещения ушника у меня поднялась температура — 39,8. На следующем обходе фельдшер сказал об этом хирургу, и тот отменил уколы, раз они все равно не помогают. Он просил, чтобы еще раз вызвали ушника, но его все не было, а потом сказали, что и вовсе не будет. Он уехал на четыре месяца усовершенствоваться.
Так я и валялся на больничной койке дней двадцать, и все это время мне помогал только сосед по палате, Рафалович, подавая пить, меняя на голове холодные компрессы. Мне было так плохо, что я был уверен: здесь я подохну. Тогда все в порядке: зэк скончался в больнице, а не на работе — что поделаешь? Медицина пока не всесильна. А что меня не лечили, что врач-ушник осматривал меня только один раз, что в течение девяти дней не могли получить результата анализа крови — кого это интересует? Об этом никто и не узнает!
Дней через двадцать мне стало легче, я постепенно стал приходить в себя: сначала мог поворачиваться на койке без головокружения и рвоты, потом стал подниматься и даже ходить, держась за стенку. Только на пищу я по-прежнему не мог и смотреть. Наконец я выполз на улицу. Была уже середина апреля, тепло, солнечно. Валерий притащил ко мне какого-то врача-зэка: он на воле был врач, а здесь — рабочий, строитель. Он меня расспросил обо всем и поразился:
— Ну и ну! Теперь сто лет будешь жить, раз сейчас не умер. У тебя ведь был менингит!
Температура у меня упала, и я, хоть и нетвердо, уже держался на ногах. Теперь на обходах хирург смотрел на меня с подозрением и выговаривал:
— Марченко, температуры у вас уже нет, пора вас выписывать в зону.
— Доктор, да ведь я еле хожу, куда же мне на работу! И ушито все равно болят.
— В ушах я не разбираюсь, ваши уши здесь лечить некому, а держать вас в больнице я больше не могу. Еще два дня, так и быть, пофилоните — и все. Через два дня в зону.
Я смотрел на его татуированные руки (знакомое, сто раз виденное «нет в жизни счастья») и думал: «Сам ты филон, сволочь, гад! Врач, называется! Сам знаешь, в каком я состоянии, а посылаешь уголек кидать. Не лучше начальников!»
Я боялся, что через несколько дней разгрузки меня снова принесут на бушлате, а умирать не хотелось, тем более за полгода до освобождения.
В этот же день я написал большую жалобу в ЦК. Написал, что болен, что меня не лечат, хотя дважды и подержали в больничной зоне и один раз в лагерной больнице. Что меня, больного и глухого, все время заставляют работать в аварийной бригаде на самых тяжелых лагерных работах. Что лагерные врачи каждый раз дают заключение: «3/к Марченко в медицинской помощи не нуждается, работать может на любых работах» — и вот в результате этого я едва не отправился на тот свет. И если мне отказывают в медицинской помощи здесь, у нас, я вынужден буду обратиться за помощью в Международный Красный Крест.
Я заранее знал, что мне от этой жалобы не будет никакого проку, а может, будет и хуже. Знал, что даже на воле мне ни в какой Красный Крест не дали бы обратиться, а не то что отсюда, из лагеря. Но пусть у них хоть этот документ будет — себе я оставил копию.
Через два дня меня выписали в зону — и сразу же на работу. Хорошо, что рядом были друзья. Валерий, Толя Футман теперь помогали мне, как и Юльке. Я ходил на вызовы днем и ночью, но работать мне они не давали. Только и меня, и Юльку мучило то, что мы грузом ложились на остальных, а им и без нас тяжело приходилось. Уж лучше карцер до конца срока!
Но ребята нас уговаривали и успокаивали: мол, и мы другим пригодимся когда-нибудь.
Через две недели в лагерь явилась комиссия из САНО — перекомиссовка зэков, определение категории труда. Два незнакомых мужчины в гражданском, три женщины, наш хирург с татуированными, как у урки, руками. Все хорошо одетые, чистые, сытые. Врачи! Когда меня спросили, я рассказал им о своем состоянии.
— Где работаете?
— В аварийной бригаде.
— Какой характер вашей работы?
Я объяснил.
— Когда приедет ушник, он вас осмотрит. А теперь можете идти. Первая категория.
Я вышел, стиснув зубы от злости.
Месяца два спустя меня вызвали в больницу.
— Вы жалобу писали? Получен ответ. Распишитесь, что он вам объявлен.
На руки нам никаких ответов не дают, можно записать себе номер и от какого числа.
Читаю: «Ваша жалоба получена и направлена на рассмотрение в САНО Дубравлага».
Ну, конечно! На них жалуюсь — пусть они и разбираются. Так всем отвечают.
Читаю дальше: «Медслужбой ll-го лаготделения установлено, что з/к Марченко А.Т. в лечении не нуждается. Нач. САНО Дубравла-га майор медицинской службы Петрушевский».
Через четыре месяца после этого ответа, выйдя на волю, я обратился к врачу. Доктор Г.В. Скуркевич, кандидат медицинских наук, осмотрел меня и дал заключение: немедленно оперировать левое ухо, потом нужна будет операция на правом. Он сам и оперировал меня. Потом говорил, что редко к нему попадают больные в таком запущенном и угрожающем состоянии. Григорий Владимирович пытался что-то такое сделать, чтобы восстановить слух, но это уже не удалось — было поздно. Зато вычистил весь накопившийся гной; он рассказал, что, когда вскрыл полость, гной брызнул оттуда, как под высоким давлением.
Хорошо, что я вовремя освободился, а то, наверное, так и загнулся бы в лагере от гнойного менингита, по-прежнему «не нуждаясь в медицинской помощи».
Мишка Конухов
Весной 1966 года на одиннадцатый прибыл новенький, и его зачислили к нам в бригаду аварийщиков. Это был Мишка Конухов, архангельский портовый грузчик.
Мишка Конухов — парень лет двадцати пяти. Детство у него было тяжелое, рос без родителей. Стал грузчиком, грузил иностранные суда, и, хоть зарабатывал больше, чем если бы грузил наши или, скажем, где-нибудь в железнодорожном пакгаузе, все равно только-только хватало на жизнь. Ведь он один, помогать некому. Это если молодежь в семье живет, так родители кормят, а заработок себе: прибарахлиться и на развлечения. Мишка к тому же рано женился. Жена, правда, тоже работала — в прачечной, но на ее мизерный заработок — пятьдесят рублей — и одной-то не прокормиться. Ну, словом, ясно, что за жизнь: работаешь, чтобы есть, ешь, чтобы работать.
А тут он в портах и на кораблях видит иностранных матросов — они хорошо одеты, и хоть по-русски не разговаривают, а понять можно, что на свою жизнь не жалуются и не рвутся поскорее переехать на жительство к нам, на родину мирового пролетариата. Даже негры, и те.
Конечно, это все была буржуазная пропаганда, но Мишка этого не понял. Он только страшно разозлился и, видно, вспомнив что-то из своего беспризорного детства, нашел единственно доступную для него форму протеста: наколол поперек всей груди слова «Жертва коммунизма». И разгорелись вокруг грузчика Мишки Конухова политические страсти.
Кто-то из иностранцев сфотографировал его голым по пояс, и этот снимок был помещен у них там в газетах. У нас же Мишку стали тягать в КГБ: пусть, мол, напишет заявление, что он жертва не коммунизма, а блатного мира, что накололся по молодости, по глупости, а вот желтая пресса воспользовалась этим без его ведома. Мишка ничего писать не захотел.
Тогда с ним стали происходить всякие странные истории: то привяжутся на улице какие-то типы, осыпают бранью и оскорблениями; то вдруг рядом с ним закипит драка и его стараются втянуть в дерущуюся компанию; то просто налетят «хулиганы» и изобьют его в темном углу.
Мишка на эти провокации не поддавался, в драках не участвовал, в компаниях не пил, а после каждого происшествия шел в милицию, оставлял там заявление, подписывал очередной акт. Милиция почему-то все никак не могла найти виноватых.
Между тем его продолжали тягать в КГБ и предупреждали, что с ним всякое может случиться, что наша патриотически настроенная молодежь возмущена им, дело может дойти до расправы, до самосуда, и милиция, конечно, не в состоянии будет защитить его от разгневанной толпы.
Вся эта комедия Конухову надоела, он сел в поезд и приехал в Москву. Бродил по улицам — искал британское посольство.
Как туда попасть, он обдумал заранее. Знал, что, если замешкаться, его тут же задержат дежурящие около посольства милиционеры. Вот идет он скорым шагом мимо посольства, будто по делу торопится, а прямо против входа — резкий поворот на девяносто градусов и бегом в подъезд. Милиционеры не сразу опомнились, уже за спиной Мишка услышал:
— Куда же вы, молодой человек? Остановитесь!
А он уже там. В подъезде его задержал какой-то служащий — швейцар или дежурный. Мишка объяснил, что ему непременно надо видеть английского посла.
— Посол сейчас занят, но с вами может поговорить один из секретарей посольства: возможно, удастся и без посла уладить ваше дело.
Его проводили в кабинет, предложили сесть. При беседе Конухова с секретарем посольства присутствовал переводчик, но ему, похоже, зря платили зарплату — сам секретарь вполне прилично говорил по-русски. Для начала он предложил Мишке пообедать. Мишка вежливо отказался: он сыт, мол, недавно только поел в столовой. Тогда секретарь попросил принести им обоим кофе — за чашкой кофе как-то лучше беседовать. Ну, кофе можно, Мишка не стал отказываться. Он объяснил, в чем состоит его просьба: он просит помочь ему выехать в Англию, он не хочет больше жить в СССР. Его спросили, кто он, где работает, почему хочет уехать. Все его объяснения секретарь выслушал очень внимательно. Потом заговорил сам.
Он сказал, что для того, чтобы уехать из своей страны, господин Конухов должен сначала отказаться от советского гражданства. Тогда он сможет принять любое подданство, в том числе английское, и посольство поможет ему в этом. Но секретарь советовал ему еще раз серьезно обдумать решение. Ведь нередко бывает, говорил секретарь, что советский турист или член делегации остается в Англии, просит убежища, а потом понимает, что ему трудно жить без своей родины, без семьи и близких: очень долгое время, десятки лет, ваше правительство не разрешает таким людям приехать, навестить их. Некоторые эмигранты рано или поздно решают вернуться на родину. Нам понятны их чувства, и наше правительство не чинит им в этом препятствий. Однако нередко эти люди, возвратясь в СССР, объясняют свое возвращение не тоской по родине и семье, а плохими условиями жизни в нашей стране. Больше того, сочиняют, будто их оставили в Англии чуть ли не насильно, обманом, будто их не пускали на родину. Конечно, такие заявления нам крайне нежелательны, они задевают нашу честь, вызывают дипломатические трения. Поэтому мы вынуждены очень осторожно подходить к решению таких вопросов, как ваш. И вообще, господин Конухов, вы, может, плохо знаете нашу жизнь и идеализируете ее? У нас есть свои проблемы, свои трудности, и, столкнувшись с ними, вы, возможно, пожалеете о своем поспешном решении.
Словом, англичанин скорее вежливо отговаривал Мишку от бегства в Англию, чем зазывал и заманивал, — этого Мишка уж никак не ожидал. Секретарь под конец объяснил Мишке, что если он не передумает по зрелом размышлении, то пусть идет в МИД и отказывается от советского гражданства. В посольстве не отказывались принять его в английские граждане — но дело явно затягивалось.
Мишка решил идти до конца. Но когда он вышел из посольства, то заметил, что за ним неотступно следуют какие-то три типа, а рядом по мостовой все время медленно едет автомобиль. Мишка попытался смешаться с толпой — но все равно понимал, что ему не удастся скрыться. На одном из перекрестков эти трое подступили к нему вплотную, смеясь и балагуря, крепко обняли его, как старого друга, и втолкнули в машину. Все произошло в одну секунду, в толпе, наверное, никто ничего не заметил и не понял.
Привезли естественно куда — в КГБ. Посадили в камеру, начали допрашивать. Зачем ходил в посольство? С кем разговаривал, о чем? Не оставил ли там чего-нибудь? Михаил рассказал им все, как было, — скрывать ему было нечего. Здесь же он написал заявление в МИД, что он отказывается от советского гражданства и просит разрешить ему выехать в Англию. С ним беседовали и кагэбисты, и сотрудники МИДа — уговаривали взять это заявление обратно, написать, что он передумал. Но как уговаривали:
— Все равно мы вам выехать не дадим! Вы понимаете?
Мишка настаивал на своем. Через три дня его выпустили, велели ехать в Архангельск, а там взяли подписку о невыезде.
В Архангельске работать на иностранных судах его, конечно, не допустили, перевели на другой участок. Здесь и платили меньше. Его продолжали таскать в КГБ, провоцировать на «хулиганство» на улице. Мишка не поддавался на провокации и не унимался. Он еще несколько раз писал в МИД и наконец получил оттуда анкету. На вопрос «Почему хотите выехать из СССР?» он ответил: «Меня не устраивают политический строй и идеология СССР». Что бы ему соврать — мол, к двоюродному дяде хочу; и так все равно не пустили бы. А тут его снова тягают в КГБ, в обком, прорабатывают на собраниях, уже все грузчики знают, что Мишка просится в Англию, а его не пускают.
Подходит время очередного отпуска, и, хоть поехать он никуда из-за подписки о невыезде не может, Мишка подает заявление: «Прошу предоставить мне месячный отпуск». Месячный! — а полагается двенадцать дней! С Конуховым беседовал по этому поводу даже первый секретарь обкома. Мишка снова упорствовал, настаивал на своем:
— В Швеции рабочие путем забастовки давно добились месячного оплачиваемого отпуска, вот и я требую того же.
На удивление всем грузчикам он получил месячный отпуск и даже для жены добился того же. Начальство, вероятно, думало: чем черт не шутит, а вдруг отпустят его в Англию, что он там расскажет о нашей жизни!
Вскоре после этого пришло письмо из МИДа — Конухов должен уплатить девяносто рублей пошлины за оформление отказа от гражданства. Мишка выслал деньги. А дня через три к нему приехали на машине, силой взяли его и куда-то повезли. Привезли в какой-то лагерь, в лагерную больницу, положили в отдельную палату. Пришел хирург, спрашивает:
— Конухов, согласны ли вы на операцию, чтобы мы вырезали у вас это украшение на груди?
— А если я не соглашусь, тогда что?
Хирург смеется.
— Рано или поздно все равно согласитесь, уж лучше не тяните. — И Мишка согласился.
Но после операции его отправили не домой, а в следственный изолятор КГБ:
— Вот видите, Конухов, мы вас предупреждали, что посадим, найдем, за что посадить, если вы не уйметесь. Теперь на себя пеняйте.
Его судили за хранение иностранной валюты, какой-то литературы — бог знает, было ли у него действительно несколько долларов или все липа с начала до конца. Суд, как водится, был закрытый, приговора Мишке на руки не дали.
Вот так и прибыл он к нам в бригаду без пяти минут англичанином. Он осматривался здесь с любопытством, наверное, с таким же, как если бы он оказался в Англии. Особенно его интересовали те зэки, которые возвращались из-за границы: какая там на самом деле жизнь, почему они вернулись, как угодили в Мордовию? Он помнил свой разговор с секретарем британского посольства и проверял себя и его.
У нас таких зэков много, в одной только аварийной бригаде несколько: Володька Пронин вернулся из Западной Германии; Антон Накашидзе, танцовщик из грузинского ансамбля песни и пляски, остался в Англии, а потом вернулся; Петр Варенков, Буденный, Бессонов, осетин Петр Тибилов также вернулись из-за границы. Все «возвращенцы» рассказывают: материально на Западе живется куда лучше, чем у нас, и, конечно, свобода, никто ни к чему не принуждает.
— Так за каким же хреном вас принесло обратно, если так жилось хорошо?
Отвечают, что стосковались по родине, по семьям — у того отец, мать, у другого жена (биолог Голуб, например, о котором в свое время много писали в газетах, вернулся потому, что жена звала; а когда его посадили, она от него отреклась). Возвращались они до границы вольными, а от границы — под конвоем, в тюрьму, а потом и в лагерь лет на десять-двенадцать. Голуба, правда, и других таких же «знаменитостей» сажают не сразу, а через полгода-год, когда их история забудется.
— Ну вот и радуйтесь, — говорят зэки «возвращенцам», — вот вам и родина, и семья — Мордовия и наш дружный лагерный коллектив.
Может, если эти люди согласились бы выступить и заявить, как плохо им жилось на Западе, как их вербовали в шпионы и еще что-нибудь в этом роде, — может, некоторых из них и не посадили бы или освободили бы по помилованию. Но и то не всех: в лагерь попасть легко, а выйти оттуда до срока мало кому удается, даже ценой публичного покаяния.
Мишка Конухов уже не надеется уехать в Англию, даже девяносто рублей пошлины ему вернули, так как отказ от подданства не состоялся. Теперь он мечтает о другом: выучиться бы на фельдшера, хоть работа будет почище. И почета больше.
Очередное ЧП
Летом 1966 года произошло ЧП — сгорел наш барак. За поджог судили Юрку Карманова, моего старого знакомого по Владимиру и по седьмому. Про это дело говорили по-разному. Кто считает, что это была очередная провокация начальства, чтобы получить повод еще строже закрутить режим. Говорят, будто бы автоматчик с вышки, давая показания на суде, заявил:
— Мне было приказано — как увижу огонь, сразу поднимать тревогу.
Не знаю. Я думаю, что Юрка Карманов мог на самом деле поджечь от отчаяния и от бессилия. Так же, как Ромашов и многие другие лезут на пушку к автоматчику. Как Шерстяной на семерке поджег цех, как режутся, травятся, накалываются. Кто не был в лагере, тот не поймет поступков зэка, его поведения.
«Перевоспитание»
Месяца за два или три до освобождения меня вызвали в кабинет КГБ на беседу. Беседовали со мной трое: кагэбист, начальник ПВЧ и отрядный Усов. Я хорошо запомнил этот разговор: в последний раз они пытались переубедить меня, перевоспитать «по-хорошему».
— Марченко, вы скоро освободитесь. Вы понимаете, что, выйдя на волю, вы должны вести себя и думать, как все? Воля — это вам не лагерь, где у каждого свое мнение.
— Гражданин начальник, вряд ли и на воле сейчас все думают одинаково. Не те времена. Даже и коммунисты, и те перегрызлись между собой.
— Не клевещите, Марченко! Коммунисты — в едином строю!
— А китайцы? Албанцы? А раскол во многих компартиях?
— Что китайцы. В семье не без урода.
— Граждане начальники, вот вы все коммунисты, да? А какие вы коммунисты — простые или параллельные?
Они вопросительно посмотрели на меня — мол, чокнулся, что ли? Усов сказал:
— Я от заключенных всякую чушь слышал, но такую слышу впервые. Что это вы мелете?
— А я во вчерашней газете прочел, что правительство Индии освободило из тюрьмы тридцать коммунистов — членов параллельной компартии Индии. Вот я и спрашиваю, вы-то какие: параллельные, перпендикулярные или наклонные?
Кагэбист снял со стены подшивку и стал ее листать. Я со своего места показал, где эта заметка. Тогда они переменили тему, начав сначала:
— Одумайтесь, Марченко! С такими убеждениями снова у нас будете.
— Что-что, а это я и сам знаю. Чуть кто с вами не согласен — в лагерь его! Завтра в другую сторону будете гнуть — и опять единодушно соглашайся! Слава богу, за шесть лет навидался. Таких изменников, как я сам, — полны лагеря. Но одного я не понимаю — как вы, коммунисты, можете мне говорить, что меня посадят за мои убеждения? Ведь в других странах легально существуют целые оппозиционные партии, в том числе и коммунистические, которые ставят своей целью изменить строй. Их, коммунистов, когда они возвращаются к себе из Москвы, с очередного совещания, не судят за измену родине. А меня, рабочего, не члена никаких партий, вы шесть лет держите за проволокой и снова грозите тем же.
— Что вы нам про другие страны говорите! У них свои законы, у нас свои. Все вы на Америку тычете — тоже нашли свободную страну! Была бы там свобода — зачем бы негры бунтовали? А рабочие забастовки?
— А Ленин говорил, что забастовки и борьба негров в США — это как раз и есть признак свободы и демократии.
Когда я это сказал, мои воспитатели так и подпрыгнули. Они накинулись на меня все трое:
— Как вы смеете клеветать на Ленина!
— Где вы слышали такую ложь?!
— Повторите, повторите, что вы сказали!
Я помнил эту цитату дословно и повторил ее, даже назвав номер тома. Начальник ПВЧ направился к двери:
— Какой том, вы говорите? Сейчас, минуточку.
Он принес из своего кабинета книгу в темно-синем переплете — последнее издание, я видел в его шкафу все тома, корешок к корешку, плотно уставленные за стеклянной дверцей. Он дал мне книгу.
— Ну, покажи, где здесь написано то, что ты говоришь.
Пока я листал слежавшиеся страницы, они втроем ждали, как собаки на охоте: сейчас меня уличат. Они были уверены, что у Ленина нет таких слов, он не мог такое говорить. Тут еще много значило и то, что в их головах не укладывается, чтобы парень без образования вроде меня сам читал Ленина или что-нибудь еще. Они сами-то его читали «от сих до сих». С зэком-историком они стараются не спорить. А когда такой, как я, ссылается на статью из журнала, на документ, словом, на печатное слово, — они убеждены, что ты говоришь с чужого голоса, что кто-то из зэков ведет в лагере враждебную пропаганду, и тут же кидаются: где слышал, кто тебе такое сказал? Вот сейчас окажется, что я наврал, и на меня обрушатся эти вопросы.
Я подал им раскрытую книгу. Начальник ПВЧ вслух прочел там, где я показал. Усов растерянно уставился на него. Кагэбэшник подошел к начальнику ПВЧ:
— Ну-ка, дай мне.
Они вместе стали листать страницы, наверное, надеясь найти там какое-нибудь подходящее объяснение или опровержение прочитанного. Но ничего не нашли, и капитан КГБ сказал мне, ничуть не смущаясь:
— Вы, Марченко, наверное, неправильно поняли Ленина. Вы с вашими взглядами понимаете Ленина по-своему, а это не годится. Долго вам на воле не прожить!
— А как же по-другому можно понимать эти слова? Ведь и на самом деле забастовки и массовые беспорядки бывают только в демократических странах, а при тоталитарных режимах народ зажимают путем террора. При Гитлере, например, в Германии не было никаких забастовок.
Опять началось:
— Да как вы смеете! За такие слова надо к стенке ставить!
Потом, поостыв, они снова взялись за «воспитание»:
— Народы всего мира идут к коммунизму, он завоевывает все больше сторонников…
— Если бы эти сторонники знали, как они ведут свои народы к тюрьмам и лагерям, так еще, может, задумались бы. Но об этом вы вслух обычно не говорите, разве что когда передеретесь. То чуть не в каждой газете: «Китай на пути к коммунизму!», «Успехи социалистического строительства в Китае!» А теперь что? Сто миллионов китайцев в концлагерях — что же их, в один день посадили, что ли?
— Это вы тоже у Ленина вычитали — сто миллионов? Сто миллионов — это же седьмая часть всего населения. Бред сумасшедшего!
— Тогда это не я сошел с ума, а тот лектор, что приезжал прошлым летом на седьмой. И почему это бред? У нас, что ли, не сидели десятки миллионов? Себе я, может, не поверил бы, подумал, что недослышал про Китай. Но не я один, все зэки слышали и смеялись, что ученики переплюнули учителей.
— Сто миллионов — это клевета! Вот возьмите бумагу и карандаш и напишите, что в Китае сто миллионов заключенных. Знаете, что вам будет, если это неправда?
Я взял бумагу и написал:
«Я, з/к Марченко А.Т…. тогда-то и там-то слышал на лекции, что в Китае сейчас 100 миллионов заключенных. На беседе с представителями КГБ и ПВЧ я упомянул об этом, сославшись на лектора, но мне сказали, что это неправда. Прошу выяснить, правда ли это, и объяснить мне».
Я поставил число и расписался. Потом спросил:
— Когда я узнаю ответ?
— Мы все это проверим. Когда надо будет, вас вызовут. Можете идти.
Но меня по этому поводу так и не вызвали.
Я знаю, что на воле, прочитав про эту беседу, скажут: «Черт возьми, да в лагере куда больше свободы, чем здесь! Да я бы и дома с оглядкой говорил то, что этот Марченко лепил там начальству! Ему там после этого говорят „Можете идти“ — да здесь меня бы живо упекли за такие речи!»
Конечно, если бы я в зоне вздумал говорить такое кому попало, стукачи донесли бы об этом и мне добавили бы срок «за агитацию среди заключенных». Но офицер в своем кабинете обязан меня переубеждать, а если выходит наоборот, при чем тут я? Не может же он пришить мне агитацию среди самого себя!
Все равно, конечно, могли бы состряпать дело и засадить во Владимир, — но если бы я один был такой, а то все такие, вся молодежь. Так что дальше карцера не упекут, а карцера в лагере и так не минуть.
Еще раз в карцере
В карцер я угодил чуть не перед самым освобождением, 30 сентября. 29-го мы работали днем с восьми до пяти, потом еще ночью пришлось идти разгружать цемент, а под утро гонят в третий раз. А у меня снова озноб и головокружение. Я не пошел, отказался. Антон Накашидзе (из грузинского ансамбля) тоже остался, он встать не мог от усталости.
Утром я поплелся в санчасть, записался, дождался очереди. Врачиха дала мне градусник, я его сунул под мышку, сижу и думаю: «Температуры у меня, кажется, нет, в тот раз тоже поднялась только через неделю. В больницу не положат: сам пришел, своими ногами. Что же делать?»
Врачиха взяла градусник:
— Почти нормальная. На что жалуетесь?
— Да все то же: головокружение, головная боль.
— Зачем же вы ко мне пришли, Марченко? Вы же знаете, что вам к ушнику надо! Возьмите таблетки от головной боли, а больше я ничем помочь не могу.
Взял я в окошке таблетки и пошел в барак. Ну просто еле ноги переставляю. Наши все уже вернулись с работы, спят, один только Антон не спит. Ему уже отрядный выписал пятнадцать суток карцера. Тут вскоре наш дневальный Давлианидзе приходит.
— Марченко, к отрядному!
Пошел.
— Почему ночью от работы отказался?
Я объяснил, и мне показалось, что Усов поверил:
— Ну ладно, идите.
В секции Антон спрашивает:
— Сколько — десять или пятнадцать?
— Да вроде бы ничего.
Антон даже не поверил:
— Да ну?! Не ожидал!
Я залез к себе на койку и попытался уснуть. Но только было задремал — кто-то толкает меня под бок, тянет за ногу. Открываю глаза — надзиратель:
— Собирайся!
— Куда?
— Не знаешь, куда отказчиков водят?
Ну и черт с ним, карцер так карцер. Неизвестно еще, что хуже — карцер или лес разгружать. Стали мы с Антоном собираться, надеваем что потеплее, а надзиратель предупреждает:
— Зря обряжаетесь, все равно отберем.
Действительно отберут. Давно в карцере не сидел, забыл. Взяли мы телогрейки, зубные щетки, мыло, полотенца — и готовы. Я и спрашивать не стал, сколько мне выписали. Уже когда пришли, объявили, что тоже пятнадцать суток.
Нас с Антоном развели по разным камерам. Моя оказалась крошечная, два на три, но сидел я в ней один. Всегда так норовят: либо в одиночку, либо уж в маленькую камеру набьют человек двадцать. Я обрадовался, что хоть усну спокойно, да не тут-то было. Вместо коек деревянные полки, как в вагоне, обе подняты к стене и заперты на замок. Лежать можно только от отбоя до подъема. Хорошо еще, я один, хоть сесть можно. А когда двое, один сядет на чурбачок, приваренный к полу, а другой на ногах: сидячее место одно. Разве что на парашу садись.
На ночь принесли отобранную телогрейку, отомкнули полку. Я лег. Сначала телогрейку подстелил под себя. Но скоро замерз. Холод собачий, на дворе завтра октябрь, а топить начнут только восемнадцатого числа. Вытащил я из-под себя телогрейку, скорчился под ней, укрылся. Теперь холод стал пробирать снизу: полка из досок, в ней щели чуть не в пол-ладони и в полу такие же. Словом, заснуть так и не удалось от холода. Всю ночь топтался по камере, пытаясь согреться. Хорошо было Юльке, он сидел в июне!
Утром мою лежанку опять на замок, телогрейку отобрали до следующей ночи, а самого повели во дворик на работу. Работа старушечья, весь БУР и карцер плетут сетки-авоськи. Норма — семь или восемь штук в день. Никто, конечно, не только что норму, но и до полнормы не дотягивает. Мы как-то провели опыт: плели целый день без передышки. И все равно даже самые работящие застряли на третьей авоське. Когда меня посадили, норму с нас не требовали; лишь бы от работы не отказывался, гарантийку получишь. Правда, кроме лагерного пайка, больше ничего. Но через неделю объявили: кто сделает меньше трех сеток, тех переведут на пониженную норму питания. Никто с заданием не справлялся, и всех нас перевели на 1300 калорий. Нам-то в карцере неделю, две недели высидеть голодом ничего, а каково тем, кто в БУРе? У них срок по шесть месяцев — и все это время на голодном пайке! Ведь у них ни посылки, ни ларька. Даже чтобы курева купить, надо писать заявление начальнику лагеря. А тот кому разрешит, а кому и нет. А в карцере и вовсе запрещено курить, найдут махорку — отберут.
Как и в любой тюрьме, здесь было мучение с оправкой. Умыться не дают, зубы почистить тем более. Уборная на всю тюрьму одна, а в ней всего два очка. Водят же по две камеры сразу, человек двенадцать-пятнадцать, всем нипочем не успеть. Когда сажают в карцер, обыскивают все до нитки, любой клочок бумаги отбирают. А на оправку водят — бумаги не дают:
— Подумаешь, интеллигент! Пальцем… вытрешь, ничего не сделается.
Как еще не додумались до сих пор парашу на замок закрывать?
В этих условиях обмануть начальство для зэка — вопрос жизни. «Они умеют искать, а мы умеем прятать», — говорят в лагере. Даже БУРу и карцеру зона умудряется помочь. Друзья «с воли» — зона по отношению к карцеру, конечно, воля — переправляют своим то курево, то хлеба немного, то сахара, то маргарина. Для такой передачи зэки изобрели «коня». Ребята в зоне заворачивают в тряпочку махорку, хлеб, еще что-нибудь, делают тугой-тугой сверток и спутывают его тоненькой веревочкой с множеством висячих петель — это и есть «конь». Его в удобный момент перекидывают через забор под самые окна тюрьмы. А уж там зэки к этому готовы. Согнут из проволоки крючки, добудут нитки — кто-нибудь пожертвует для этого свой носок — и закидывают эту удочку так, чтобы крючок попал чуть дальше пакета. Теперь тяни потихоньку. Переползая через пакет, крючок непременно зацепится за какую-нибудь из петель. Если сверток с подогревом чересчур велик и не проходит через решетку на окне, его тут же за решеткой разворачивают, разнимают руками и по частям втаскивают в камеру. Лишь бы кто-нибудь втащил «коня», а подогрев, попав в тюрьму, уже дойдет до того, кому предназначен: зэки передадут или на оправке, или на работе, или еще как-нибудь. За передачу из зоны в карцер или из камеры в камеру строго наказывают, но с этим никто не считается. Если в лагере бояться наказания и соблюдать все правила, то и года не протянешь. А у нас у всех сроки пять, десять, пятнадцать лет.
«Конем» пользовались до лета 1965 года. Так изловчились, что вся операция занимала не больше минуты: в один момент «конь» переброшен и уже в камере. Но это дошло до начальства. Начальник режима распорядился повысить бдительность и прекратить это безобразие. И вот на окна наварили дополнительные стальные прутья. Теперь решетка стала втрое чаще, не решетка, а сетка. Сквозь нее не то что руку, а даже два пальца не протиснешь.
Когда я осенью сидел в карцере, «коня» уже не было, он отслужил свое. Нового зэки тогда еще не придумали. Но придумают обязательно. Я в этом уверен. А как же иначе?
15 октября я вышел из карцера в зону, шатаясь, как пьяный, от этих научно разработанных 1300 калорий. До конца срока, до освобождения, мне оставалось семнадцать дней.
Освобождение
Я, как и раньше, ходил на разгрузку, таскал бревна, кидал лопатой уголек и цемент. Поднимался ночью по вызову, шел со всеми на вахту, ждал конвоя. Как и раньше, у меня были головокружения, но я больше не отказывался от выхода на работу: не хотелось последние дни просидеть в карцере, я хотел провести их с друзьями.
Каждую свободную минуту мы собирались вместе. Разговоры шли об одном: куда мне ехать, где и как устраиваться на воле. Наш начальник спецчасти давно уже предупредил меня, что «по положению о паспортах» мне запрещено жить в Московской и Ленинградской областях, в портовых городах, в приграничных районах. Кроме того, есть режимные города, в них тоже не пропишут.
— А что это такое — режимные города, какие?
— Где не пропишут, там, значит, и режимные.
— Ладно, где же мне можно жить?
— На воле узнаете, а пока куда вам билет и справку выписывать?
— Ну, в Калининскую область, что ли.
Майор усмехнулся.
— В Калининской не пропишут.
— Тогда пусть Курская.
— Я могу дать вам справку с направлением в Курск. Но, Марченко, прямо скажу: поезжайте лучше на север или в Сибирь по оргнабору, чтоб зря не мотаться.
— Из одного лагеря в другой, такой же, только без проволоки? Нет уж, спасибо! Да и не возьмут меня по оргнабору с моим-то здоровьем.
— Как хотите, дело ваше, а только станете добиваться, опять к нам попадете, пропишем вас в мордовских лагерях лет на пять-семь без всякой волокиты.
Друзья больше всего волновались, удастся ли мне сразу же пробиться на прием к хорошему врачу-ушнику. Строили и более отдаленные планы моего будущего. Валерий настаивал, чтобы я непременно учился:
— Заканчивай вечернюю школу, поступай в институт. Тебе не поздно.
— Валерка, ну какой же из меня ученик? Я же в математике бревно бревном.
Валерий начинал доказывать, что неспособных нет, кроме клинических идиотов. Просто обычно математике плохо учат.
— Захочешь — одолеешь.
— Да я глухой, урока не услышу.
Юлий сказал, что в Москве можно купить слуховой аппарат:
— Придется денежки выложить. Зато девушки не узнают, что ты глухой. Вот только волосы отрастишь — дужку прикрывать.
Обсуждали все, вплоть до мелочей: как я оденусь в вольное, где что купить, чтоб и дешево и сердито. Ехать-то придется в лагерном бушлате: так получилось, что у меня из своего остался только старый лыжный костюм да ботинки. Скинуть бы этот бушлат поскорей, как он мне осточертел!
Ребята натащили мне вырезок из каких-то журналов: модная мужская одежда, какой галстук к какому костюму. Можно было подумать, что у меня этих костюмов будет по меньшей мере три, что мне только и предстоит поспевать из концертного зала на дипломатический прием.
Последние дни в лагере особенно мучительны, тянутся и тянутся, и кажется, что никогда не кончатся, и не верится, что он действительно наступит, день освобождения, и не знаешь, чего ждать потом.
Еще накануне я сдал все казенное имущество и спецовку. Рано утром второго ноября пришли попрощаться друзья и знакомые, которым идти в первую смену: их сейчас уведут, и мы больше не увидимся. Пришли Буров, два Валерия из Ленинграда — Ронкин и Смолкин, их подельник Вадим, подошли другие, с кем я не был близко знаком. Все желали мне хорошо устроиться на свободе, давали адреса своих родных, просили заехать, если будет по пути. Просили не забывать их — тех, кто остается в Мордовии, тех, кто сидит во Владимирке. Когда они ушли на работу, остались самые близкие друзья: Валерий, Юлий, Коля, Толик Футман, Антон. Юлий подарил мне книгу Лебедева о Чаадаеве — он знал, что она мне очень нравится. На белой странице он написал:
А в общем неплох Забавный удел: Ты здесь и оглох, Ты здесь и прозрел. Гордись необычной удачей — Не каждый, кто видит, зрячий.С уважением и самыми дружескими пожеланиями Толе Марченко от Юлия Даниэля.
Футман с Валерием подарили на память мне «Манон Леско» Прево — наверное, не без намека. В десятом часу вся компания проводила меня до вахты. Здесь мы еще раз обнялись и попрощались. Не могу передать своих ощущений. Радость исчезла, в горле стоял комок, я боялся, чтобы не расплакаться. Мне жаль было расставаться с друзьями, оставлять за проволокой тех, кто мне стал так дорог. Хоть назад возвращайся!
— Иди, Толик, иди, на поезд опоздаешь! — торопили и подбадривали они меня.
Я шел по предзоннику, нас уже разделяла колючая проволока. Помахав на прощанье рукой, я вошел на вахту, и дверь вахты захлопнулась за мной. Теперь предстояло совсем другое прощанье.
Меня ввели в кабинет.
— Разденьтесь догола! Станьте здесь. Присесть, вытянуть руки! Отойдите в угол!
После этого стали прощупывать мою одежду. Каждый шов на рубашке, потом на подштанниках, потом все остальное. Проверит рубашку один надзиратель, передает другому, тот прощупает, передает офицеру, тот другому, потом третьему, потом следующему и, наконец, мне. Я надеваю. При обыске присутствовали: начальник режима, старший опер, главный лагерный кагэбист.
Дошла очередь до чемодана. Там почти ничего не было: полотенце, мыло, зубная щетка, несколько носовых платков, тетради с моими конспектами, книжки. Все пересмотрели так же тщательно, как одежду, каждую вещь прощупали пять или шесть пар рук. Тетради и книги проверяли особенно внимательно, перелистывали по одной страничке. Что они ищут? Надзиратель открыл «Чаадаева» и увидел надпись Юлия. Он сразу показал ее кагэбисту, тот взял книгу и вышел с ней из кабинета. С тетрадками они тоже то и дело выходили в коридор, кому-то показывали, с кем-то совещались. Вернувшись с «Чаадаевым», кагэбист отложил книгу в сторону.
Я смотрел, как они копаются в моих вещах, и вспомнил, как незадолго до меня освобождался москвич Рыбкин. Когда он пришел на вахту, ему сразу сказали:
— Давайте сюда стихи Даниэля! Мы все знаем!
Рыбкин изумился, он с Даниэлем даже двумя словами не перекинулся, не познакомились. Когда его обыскивали и дело дошло до бумаг, надзиратели вытащили из них тетрадь со стихами:
— Вот они, нам же сказали!
Но они напрасно торжествовали. Это были стихи не Даниэля, а Рыскова (бывшего фельдшера с третьего). Кто-то из стукачей увидел, как Рысков передавал Рыбкину стихи, — и донес. Вот на вахте уже и знали: Рыбкин хочет пронести на волю чьи-то стихи, целую тетрадь. Чьи стихи? Никто не сомневался — конечно, Даниэля. А оказалось, не Даниэля, и, кроме того, сплошная любовная лирика. Какое огорчение! Наверное, и у меня ищут Юлькины стихи. Пусть ищут! Одно уже найдено — надпись на книжке.
Тем временем барахло уже перерыли, начальник режима осматривал, прощупывая, простукивая, прокалывая шилом чемодан, до него уже проверенный остальными. Потом он занялся подаренной мне игрушкой — перлоновым рыбаком с удочкой. Рыбак был весь мягкий и чуть ли не прозрачный. Только голова плотная, чем-то набитая. Начальник ее мял, мял, щупал, щупал, но, видно, ничего сам не решив, пошел с рыбаком в коридор. Через некоторое время вернулся, бросил рыбака в чемодан: опять ничего!
В кабинет вошел сам майор Постников — глава КГБ мордовских лагерей. Ему показали Чаадаева. Постников повертел книгу, прочитал надпись и приказал:
— Вырезать и составить акт.
Я попросил объяснить мне, что в этой надписи недозволенного, почему ее конфискуют.
— Видите ли, Марченко, по-моему, Даниэль выразил в этом стихотворении свои взгляды.
— Да уж, наверное, свои, а не чужие. Но что в них крамольного?
Постников не ответил. Он стал просматривать мои тетради:
— Я вижу, Марченко, вы здесь всего Ленина прочитали. Вообще-то это хорошо, но… Боюсь, с вашими взглядами вы снова к нам попадете.
С этим напутствием, получив свой чемодан, подвергнутого обрезанию Чаадаева, паспорт и справку, я пошел к выходу. Меня сопровождал майор, начальник спецчасти. Мы прошли несколько дверей, у каждой майор предъявлял в окошко какие-то бумаги, дверь открывалась и тотчас же закрывалась за нами. Открылась и захлопнулась за мной последняя дверь — и я вышел на улицу.
Мимо вахты, по дороге между жилой и рабочей зоной, мимо праздничных плакатов и лозунгов гнали колонну женщин-заключенных. Слышны были грубые окрики автоматчиков-конвоиров: «Разговоры! Кому сказано!» Женщины шли медленно, волоча ноги в больших кирзовых ботинках. Темно-серые телогрейки, ватные брюки, серо-желтые лица. Я всматривался в них — может, эту вот носил на операцию, может, эта говорила: «А моему Валерке уже годик». Нет, я никого не мог узнать. Все они в этой колонне были как одна — зэчки.
Колонна прошла. Я вдохнул полные легкие свежего воздуха, хоть мордовского, но уже бесконвойного, вольного, и зашагал от вахты. Шел снег. Большие снежинки садились и сразу же подтаивали на еще теплой, не успевшей остыть одежде.
Было 2 ноября 1966 года, пять дней до 49-й годовщины советской власти.
Примечания
Целина
Отрывок написан не позднее февраля 1980 года (изъят на обыске 15 февраля 1980 года, хранился в следственном деле 1981 года). Повествование относится к первому лагерному сроку А.Т. Марченко (1958–1959). Текст подвергнут незначительной редакторской правке. Печатается по: Дело Марченко. (Здесь и далее «Делом Марченко» называются материалы, полученные из КГБ и хранящиеся в семейном архиве.) Т. 9. Л. 246–254. Публикуется впервые.
Восстание в Темиртау
Отрывок написан не позднее марта 1981 года (изъят на обыске 17 марта 1981 года, хранился в следственном деле 1981 года). Повествование относится к первому лагерному сроку А.Т. Марченко (1958–1959). Текст подвергнут незначительной редакторской правке. Печатается по: Дело Марченко. Т. 6.
Л. 146–147. Заголовок составителей. Публикуется впервые. Восстание в Темиртау произошло в начале августа 1959 года.
Мои показания
Работа над текстом завершена автором осенью 1967 года. Впервые книга была издана на Западе в 1969 году. Печатается по второму немецкому изданию (Франкфурт-на-Майне: Посев, 1973).
Примечания
1
Марченко А.Т. Мои показания. M.: Моек, рабочий, 1991; Марченко А.Т. Живи как все. М.: Весть-ВИМО, 1993.
(обратно)2
Предупреждая естественные вопросы читателей, спешим сообщить, что Владимир Николаевич Войнович, который еще в 1961 году опубликовал в «Новом мире» одноименную повесть, любезно дал нам разрешение использовать в заглавии сборника этот оборот.
(обратно)3
«Живи как все» (см. наст. изд., т. 2, с. 13).
(обратно)4
«Мои показания» (наст. изд., с 77).
(обратно)5
Текст этого письма см. в «Живи как все» (наст. изд., т. 2, с. 110–116).
(обратно)6
Эпиграф состоит из двух отдельных отрывков; перевод сделан кем-то из знакомых А.Т. Марченко специально для использования в «Моих показаниях».
(обратно)7
В приговоре указана другая дата — 31 октября 1960 года.
(обратно)8
Автор «Песни о часовых поясах» — московский физик Роман Рутман, знакомый А.Т. Марченко, которому и посвящено стихотворение. В оригинальном тексте «Моих показаний» авторство не было указано по очевидным причинам.
(обратно)9
Начало популярной песни из лагерного фольклора.
(обратно)10
Перевод Е. Эткинда.
(обратно)11
Перевод В. Станевич.
(обратно)12
Автор песни — Валерий Ронкин. В оригинальном тексте авторство не было указано по очевидным причинам.
(обратно)




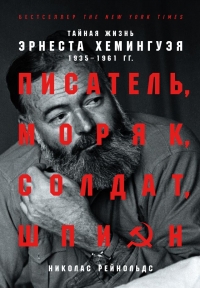
Комментарии к книге «Мы здесь живем. Том 1», Анатолий Тихонович Марченко
Всего 0 комментариев