Иван Чистяков СИБИРСКОЙ ДАЛЬНЕЙ СТОРОНОЙ Дневник охранника БАМа 1935–1936
.
ПРЕДИСЛОВИЕ «В дневнике вся моя жизнь…»
Дневник Ивана Чистякова, командира взвода вооруженной охраны (привычное советское сокращение — ВОХР) на одном из участков Байкало-Амурской магистрали (БАМ), который он вел в ГУЛАГе день за днем, с 1935 по 1936 год, — вероятно, единственный дошедший до нас источник подобного рода.
Не только дневников, но и каких-либо воспоминаний тех, кто находился по эту сторону колючей проволоки, известно очень мало, хотя в системе ГУЛАГа работали десятки тысяч людей. Это объясняется несколькими причинами — и тем, что в 1930-е годы кадры ГУЛАГа подвергались репрессиям (начиная с руководителей, пятеро из которых, сменявшие друг друга в 1930-е, были расстреляны), и тем, что контингент работников НКВД и ВОХР в лагерях часто состоял из проштрафившихся, нечистоплотных, развращенных властью людей, обворовывавших заключенных. Писать дневники, делать записи у них особой потребности не было. Тем более что люди из этих структур хорошо понимали, как это опасно. Аресты всегда сопровождались обысками и изъятием бумаг, и не только письма и дневники, но и обычные записные или телефонные книжки — даже простая запись в календаре — могли превратиться в тяжелую улику. А после ХХ съезда КПСС и хрущевских разоблачений работа в ГУЛАГе не вызывала в обществе уважения и сочувствия. Поэтому можно утверждать, что чудом дошедшие до нас записки Ивана Чистякова совершенно уникальны.
Оригинал дневника хранится в архиве общества «Мемориал» в Москве, где с конца 1980-х годов собирались документы, мемуары, письма, связанные с историей политических репрессий в СССР. Именно тогда дневник и был передан в архив людьми, случайно обнаружившими его в бумагах умершей дальней родственницы.
К сожалению, о самом авторе нам известно очень мало. Вместе с тетрадками сохранился лишь один мутный любительский снимок, на оборотной стороне которого есть надпись:
«Чистяков Иван Петрович, репрессирован в 1937–1938 годах. Погиб в 1941 году на фронте в Тульской области».
Предпринятые нами попытки отыскать его следы в государственных архивах не увенчались успехом.
Все остальные сведения об этом человеке можно почерпнуть только из его дневника.
Сколько лет было в тот момент его автору? Вероятно, уже за 30, поскольку в дневнике есть упоминание о том, что он был на фронте. Таким образом, если Чистяков участвовал в Гражданской войне, хотя бы и в самом ее конце, в 1920–1921 годах, то он, скорее всего, родился не позже 1903 года. До призыва в армию (на свою беду, он попадает на службу во внутренние войска) жил в Москве, неподалеку от Садово-Кудринской площади, ездил на трамвае на работу, в свободное время ходил в театр, занимался спортом, любил рисовать, словом, вел жизнь обычного полуинтеллигентного советского горожанина начала 1930-х годов. В Иване Чистякове мы узнаем характерные черты «лишних» людей, находившихся на обочине «магистральных путей» новой эпохи. Они описаны во многих литературных произведениях той эпохи: в «Зависти» Юрия Олеши, в «Сентиментальных повестях» Михаила Зощенко, в «Самоубийце» Николая Эрдмана.
У Чистякова не слишком удачное для того времени непролетарское происхождение и высшее техническое образование. Во время одной из проходивших в конце 1920-х — начале 1930-х широких чисток, когда партийного билета лишались прежде всего так называемые социально-чуждые элементы, он был исключен из партии. (Об этом Чистяков также упоминает в дневнике, поскольку считает, что на БАМ его отправили как уже «провинившегося».)
Кем он работал до призыва в армию, понять из текста дневника трудно, — возможно, преподавателем какого-нибудь техникума или даже вуза. У него, по-видимому, нет семьи или эта семья распалась, он лишь дважды упоминает в дневнике о том, что получил письмо или посылку. Во всяком случае, нигде нет ни слова о родных или близких людях.
Чистякова мобилизуют во внутренние войска в тот момент, когда широко разворачиваются масштабные сталинские проекты под руководством НКВД и ГУЛАГ испытывает острую нехватку в кадрах. Осенью 1935 года он попадает в одно из самых далеких и страшных мест — в Бамлаг[1].
Бамлаг
В 1932 году Совет народных комиссаров СССР принял постановление о строительстве Байкало-Амурской магистрали. БАМ являлся стройкой оборонного значения, и первоначально его сооружение было поручено Наркомату путей сообщения. На строительство отводилось всего три с половиной года. Срочность работ по строительству БАМа была связана с военно-стратегической ситуацией на Дальнем Востоке, сложившейся после захвата Японией в 1930–1931 годах Маньчжурии и фактической потери КВЖД[2] — основной железнодорожной линии, связывавшей единственный на Дальнем Востоке крупный российский порт и военно-морскую базу Тихоокеанского флота, город Владивосток, с Сибирью и центральными районами страны. Остававшаяся Транссибирская магистраль была во многих местах одноколейной и проходила на протяжении более чем 1000 км вблизи советской границы с Маньчжурией.
Но, несмотря на развернувшуюся в СССР агитационную кампанию, мобилизовать на Дальний Восток («на близкий и любимый, на Дальний Восток», как пелось в популярной песне из пропагандистского советского фильма того времени) на очень тяжелую работу в труднейших условиях тысячи вольнонаемных людей было невозможно. Очень скоро стало ясно, что осуществить этот амбициозный проект в такие краткие сроки можно, только используя принудительный труд. Поэтому вскоре стройка была передана в руки ОГПУ. Строительство сложнейшей многокилометровой железнодорожной структуры осуществлялось десятками тысяч заключенных, как и на всех лагерных стройках, вручную — лопатой, тачкой, кайлом и пилой.
К этому времени завершалось сооружение Беломорско-Балтийского канала — первой масштабной стройки ГУЛАГа, и тысячи заключенных были оттуда отправлены на БАМ.
В середине 1935 года, когда в Бамлаге оказался Чистяков, их количество составляло уже около 170 тыс. человек, а к моменту расформирования лагеря — к маю 1938-го — свыше 200 тыс. (из более 1,8 млн всех узников ГУЛАГа на тот момент).
Начальники
Бамлаг в 1935-м охватывал огромную территорию от Читы до Уссурийска. Управлялся он из города Свободный Дальневосточного края.
Новым начальником Бамлага стал Нафталий Френкель, один из наиболее одиозных строителей гулаговской системы. До своего назначения в Бамлаг Френкель сделал фантастическую карьеру. В начале 1920-х годов он был осужден за мошенничество и контрабанду и отправлен в Соловецкие лагеря. За несколько лет пребывания на Соловках заключенный Френкель сумел превратиться в начальника производственного отдела лагеря, а после выхода на свободу был взят на службу в ОГПУ. В 1931–1933 годах Френкель становится одним из руководителей первого крупнейшего объекта ОГПУ, построенного руками заключенных, — Беломорско-Балтийского канала.
Френкель оставался начальником строительства в Бамлаге весь последующий период и оказался одним из немногих деятелей ГУЛАГа, кто не был арестован, смог продержаться на такой должности и даже продвинуться наверх[3].
Свое руководство Бамлагом Френкель начал с радикального переустройства лагерных подразделений. Он создал фаланги — специализированные бригады по 250–300 человек, где все заключенные были связаны круговой порукой выполнения плана и соревнованием за пайки. (Эти фаланги неоднократно упоминаются в дневнике Чистякова.) Суть новой системы точно описал человек, находившийся в начале 1930-х годов по другую сторону колючей проволоки, — Варлам Шаламов:
«Ведь только в начале тридцатых годов был решен этот главный вопрос. Чем бить — палкой или пайкой, шкалой питания в зависимости от выработки. Выяснилось, что с помощью шкалы питания, обещанного сокращения срока можно заставить и „вредителей“, и бытовиков[4] не только хорошо, энергично, безвозмездно работать даже без конвоя, но и доносить, продавать всех своих соседей ради окурка, одобрительного взгляда концлагерного начальства»[5].
Система, предложенная такими новаторами ГУЛАГа, как Френкель, заключалась в применении «бесплатного принудительного труда, где желудочная шкала питания сочеталась с надеждой на досрочное освобождение по зачетам». Все это разработано чрезвычайно детально, лестница поощрений и лестница наказаний в лагере очень велика — от карцерных ста граммов хлеба через день до двух килограммов хлеба при выполнении стахановской нормы (так она и называлась официально)[6]. Шаламов пишет:
«Так проведен был Беломорканал, Москанал — стройки первой пятилетки. Экономический эффект был велик. Велик был и эффект растления душ людей — и начальства, и заключенных, и прочих граждан. Крепкая душа укрепляется в тюрьме. Лагерь же с досрочным освобождением разлагает всякую, любую душу — начальника и подчиненного, вольнонаемного и заключенного, кадрового командира и нанятого слесаря».
Каждый месяц Френкель получал эшелоны с новыми заключенными, и его лагерь рос как на дрожжах. В начале 1933 года сеть Бамлага состояла всего из двух лаготделений, занятых строительством головной ветки БАМа. Но потом основную часть заключенных бросили на строительство вторых путей Транссибирской магистрали. По всей протяженности этого пути создавались многочисленные лагерные отделения и ОЛП (отдельные лагерные пункты). Второе отделение Бамлага (именно туда попадает Чистяков) представляло собой огромный рабочий муравейник. В него входило и строительство вторых железнодорожных путей, паровозоремонтных депо, вокзалов и других гражданских сооружений. Там были механические мастерские и подсобные сельские хозяйства, своя агитбригада и лагерная печать, производственные фаланги с сотнями заключенных — путеармейцев[7], изоляторы для провинившихся и фаланги для штрафников и отказчиков[8].
Заключенные Бамлага строили железную дорогу в невероятно трудных географических и климатических условиях, при сильнейших морозах и под проливными дождями. Они прокладывали рельсы через неосвоенные территории Дальнего Востока — горы, реки, болота, преодолевая скалы, вечную мерзлоту, высокую влажность грунта. В таких условиях строительные работы можно было вести не более 100 дней в году, но заключенные работали круглый год и в любую погоду по шестнадцать — восемнадцать часов в сутки. У многих появилась «куриная слепота» — с наступлением темноты люди переставали видеть, свирепствовала малярия, простуда, ревматизм, желудочные заболевания.
Благодаря каторжному труду десятков тысяч людей к концу 1937 года главные участки работ Бамлага на вторых путях трассы (Карымское — Хабаровск) были закончены. Теперь заключенным предстояло продолжить возведение вторых путей Транссибирской магистрали до Тихого океана, построить ряд дорог оборонного назначения и приступить к строительству собственно БАМа — дороги от Тайшета через Северный Байкал до Советской Гавани общей протяженностью 4643 км.
Таким образом, в руках Френкеля был уже не просто лагерь, а громадная армия, рассредоточенная на пространстве от Байкала до Тихого океана. Для управления такой структурой прежняя схема уже не годилась. В мае 1938 года Бамлаг был разделен на шесть самостоятельных лагерей, и возникло специальное Управление железнодорожного строительства ГУЛАГа НКВД СССР на Дальнем Востоке во главе с Френкелем.
После начала Великой Отечественной войны в 1941 году огромное строительство было остановлено; у ГУЛАГа уже не хватало ни людей, ни мощностей.
Фактически прокладка нового участка Байкало-Амурской железной дороги от Тайшета до Советской Гавани была продолжена в 1970-е, и тогда на стройку, объявленную комсомольской ударной, отправили тысячи молодежных бригад. Строительство шло 12 лет и закончилось незадолго до начала перестройки. Сегодня этот участок железной дороги переименован, и названия БАМ больше не существует.
Винтики системы
Наши представления о лагерном мире многие годы формировались под влиянием свидетельств, которые оставили бывшие заключенные. А когда в 1990-е открылись государственные архивы, стало известно, как функционировала гулаговская система, ее структуры, ее организаторы и начальники.
Но образ «человека с ружьем» нам знаком очень плохо, мы едва ли представляем себе «винтики» огромной репрессивной машины. Бывшие зеки, как можно судить по многочисленным воспоминаниям, чаще запоминали своих следователей, тех, кто допрашивал их в тюрьме после ареста, составлял протоколы и обвинительные заключения. (Не говоря уже о следователях, настоящих мучителях и садистах, — массовое явление в 1937–1938 годах, во время Большого террора.) Такое трудно не запомнить. К тому же от следователя непосредственным образом зависела дальнейшая судьба и лагерный срок арестованных, и они часто склонны были видеть в нем — в конкретном человеке, а не в государственной репрессивной машине — персонализированное насилие, проявление по отношению к ним несправедливости и жестокости.
Но тех, кто охранял их в лагерях, люди, попадавшие в ГУЛАГ на многие годы, как правило, не запоминали. Охранники часто сменялись, были все будто на одно лицо, и в памяти заключенного оставался лишь тот, кто неожиданно проявлял какие-то человеческие чувства или, наоборот, особую жестокость.
Отношение заключенных к тем, кто их охранял в лагерях, довольно точно описывает Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»:
«В том наша ограниченность: когда сидишь в тюрьме или лагере — характер тюремщиков интересует тебя лишь для того, как избежать их угроз и использовать их слабости. В остальном совсем тебе не хочется ими интересоваться, они твоего внимания недостойны… А теперь с опозданием спохватываешься, что всматривался в них мало… может ли пойти в тюремно-лагерный надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности? — зададим вопрос: вообще может ли лагерник быть хорошим человеком? Какую систему морального отбора устраивает им жизнь?.. Всякий человек, у кого хоть отблеск был духовного воспитания, у кого есть хоть какая-то совестливая оглядка, различение злого и доброго, — будет инстинктивно, всеми мерами отбиваться, чтобы только не попасть в этот мрачный легион. Но, допустим, отбиться не удалось. Наступает второй отбор: во время обучения и первой службы само начальство приглядывается и отчисляет всех тех, кто проявит вместо воли и твердости (жестокости и бессердечия) — расхлябанность (доброту). И потом многолетний третий отбор: все, кто не представляли себе, куда и на что идут, теперь разобрались и ужаснулись. Быть постоянно орудием насилия, постоянным участником зла! — ведь это не каждому дается и не сразу. Ведь топчешь чужие судьбы, а внутри что-то натягивается, лопается — и дальше уже так жить нельзя! И с большим опозданием, но люди все равно начинают вырываться, сказываются больными, достают справки, уходят на меньшую зарплату, снимают погоны — но только бы уйти, уйти, уйти! А остальные, значит, втянулись? А остальные, значит, привыкли, и уже их судьба кажется им нормальной. И уж конечно, полезной. И даже почетной. А кому-то и втягиваться было не надо: они с самого начала такие»[9].
Эти слова Солженицына о тех, кому не удалось «отбиться», кто чувствует, что так дальше «жить нельзя», и хочет только «уйти, уйти, уйти», прямо относятся к Ивану Чистякову. И дневник, который оставил Чистяков, дает нам уникальную возможность понять, что думал и чувствовал человек, оказавшийся в его роли.
«Вызвали — и поезжай…»
В 1935-м Чистякова призвали во внутренние войска и отправили на край света командовать взводом стрелков ВОХР, конвоировать заключенных на работу, охранять лагеря по периметру, сопровождать эшелоны и ловить беглецов.
С этого момента каждый день, проведенный им на БАМе, проникнут одним желанием: любой ценой выбраться из того кошмара, в который он попал.
Прежде всего, Чистяков сам оказался в ужасных бытовых условиях, которые не устает описывать:
«Так вот и живем… топчан с сенным матрасом, казенное одеяло, стол на 3-х ножках, да 1 скрипучая табуретка, у которой каждый день приходится кирпичом заколачивать выезжающие гвозди. Керосиновая лампа с разбитым стеклом и бумажным из газеты абажуром. Полка из куска доски обтянута газетой. Стены частью голые, частью оклеены бумагой от цемента. Всегда сыпется с потолка песок, и щели в оконных рамах, в двери и пазах стен. Буржуйка. Пока топят, то одному боку тепло. Что к печке, то на Южном полюсе, что от печки, то на Северном».
Едва ли не на каждой странице дневника мы читаем про тяжелый климат, отвратительное жилье, где ночью от холода волосы прилипают ко лбу, отсутствие бани, нормальной еды. Чистякова постоянно мучает простуда, боли в желудке, ревматизм. Он командует взводом охраны, он — самое низшее в этой системе командное звено, и тяжесть своего положения он ощущает с двух сторон. С одной стороны — грубые, безграмотные, пьяные стрелки, многие из которых тоже заключенные (осужденные на небольшие сроки) или бывшие заключенные, с которыми он не может найти общего языка:
«Помещение ВОХР. Топчаны, цветные одеяла, безграмотные лозунги и кто в летней, кто в зимней гимнастерке, кто в своем пиджаке, кто в ватнике, подпоясаны кто веревочкой, кто ремнем, кто брезентовым поясом. Курят, лежа на постели. Двое схватились и, образовав клубок, катаются, один задрав кверху ноги, смеется, смеется неистово, надрывно. Лежит и пилит на гармошке страдания. Горланит: „Мы работы не боимся, а на работу не пойдем“».
С другой стороны на него давит чекистское начальство, переведенное на БАМ с Соловков и прошедшее там школу власти «соловецкой, а не советской» (поговорка, которая родилась в Соловецком лагере[10] и на долгие годы его пережила) — школу, методы которой теперь распространились на всю гулаговскую систему. О том, какова эта власть, какими жестокими методами действует она по отношению к заключенным (с этим должен был столкнуться и Чистяков на БАМе), пишет Варлам Шаламов, анализируя собственный лагерный опыт начала 1930-х:
«Ведь кто-то застрелил тех трех беглецов, чьи трупы, — дело было зимой, — замороженные, стояли около вахты целых три дня, чтобы лагерники убедились в тщетности побега. Ведь кто-то дал распоряжение выставить эти замерзшие трупы для поучения? Ведь арестантов ставили — на том же самом Севере, который я объехал весь, — ставили „на комарей“, на пенек голыми за отказ от работы, за невыполнение нормы выработки».
Описаний такого садизма у Чистякова мы не найдем. Но то, что система, в которую он попал, бесчеловечна, полна насилия, бессмысленной жестокости, осознается им очень ясно. Та роль, которую он должен играть здесь, в Бамлаге, вызывает у него чувство стыда:
«Куда, думаю, я попал? И стыдно стало мне за свой кубик, за то, что я командир, за то, что я живу в 1935 г.».
В записях, сделанных Чистяковы вскоре после приезда на БАМ, сильны ноты сочувствия к тем, кого он вынужден охранять. Он понимает, почему зеки отказываются выходить на работу и при любой возможности стараются бежать:
«Прислали малолеток: вшивые, грязные, раздетые. Нет бани, нет, потому что нельзя перерасходовать 60 руб. Что выйдет по 1 к. на человека. Говорят о борьбе с побегами. Ищут причины, применяют оружие, не видя этих причин в самих себе. Что тут косность, бюрократизм или вредительство. Люди босы, раздеты, а на складе имеется все. Не дают и таким, которые хотят и будут работать, ссылаясь на то, что промотают. Так не проматывают и не работают, а бегут».
Его поражают чудовищные условия, в которых содержатся заключенные, занятые тяжким трудом на строительстве железной дороги:
«Пошли по баракам…. Голые нары, везде щели, снег на спящих, дров нет… Скопище шевелящихся людей. Разумных, мыслящих, специалистов. Лохмотья, грязь от грунта…. Ночь не спят, день на работе, зачастую в худых ботинках, в лаптях, без рукавиц на холодной пище в карьере. Вечером в бараке снова холод, снова ночью бред. Поневоле вспомнишь дом и тепло. Поневоле все и всё будут виноваты… Лагерная администрация не заботится о з/к. Результат — отказы… и з/к правы — ведь они просят минимум, минимум, который мы должны дать, обязаны. На это отпущены средства. Но наше авось, разгильдяйство, наше нежелание, или черт знает что еще, работать…»
Методы, которыми ведется эта стройка, сочетание хаоса с глубочайшим равнодушием и безжалостностью к людям, которые лишены самого необходимого, — все это вызывает у Чистякова неприятие. Возможно, именно поэтому его дневник — одно из достоверных свидетельств, разоблачающих порочность сталинской системы принудительного труда. Уникальность его в том, что автор описывает происходящее день за днем изнутри этой системы.
На каждом шагу он сталкивается с бессмысленностью и неэффективностью организованной чекистами работы. Например, начальство не обеспечивает заключенных дровами, а в условиях 50-градусного мороза людям нужно хоть как-то обогреваться, значит — и это признает Чистяков, — они вынуждены воровать и сжигать драгоценные шпалы, предназначенные для строительства:
«Жгут шпалы, возят возами. Здесь немного, там немного, а в общем уничтожают тысячи, уничтожают столько, что страшно подумать. Начальство или не хочет или не может додуматься, что дрова нужны и что шпалы обойдутся и обходятся дороже. Наверно всем, как и мне, служить в БАМе не хочется. Поэтому не обращают внимания ни на что. Крупные чины, члены партии, старые чекисты делают и работают на авось, махнув на все рукой… Вся дисциплина держится на Ревтрибунале[11], на страхе».
Свое недовольство и раздражение против чекистского начальства, которое пребывает в постоянной истерике, «выгоняет из кабинета, рычит», потому что сверху от него требуют любой ценой выполнения невыполнимого, нереального по срокам плана сдачи строительства, Чистяков выражает едва ли не на каждой странице дневника. Так же как неверие в «подгоняльные» методы работы. Но высказывать критику вслух просто опасно:
«Попробуй, скажи истинное положение вещей, всыпят, закашляешься…»
Судя по тому, что Чистяков описывает в дневнике, он ведет себя, в сущности, так же, как заключенные, то есть старается всячески уклониться от выполнения бессмысленных приказов. Он осознает то, чего не понимает или не хочет понимать лагерное начальство, которое
«...считает, что подчиненный, которому отдано распоряжение, готов и обязан выполнить это распоряжение срочно и со всей душой. На самом деле рабы не все. Целый ряд работяг из зэка любое распоряжение начальника встречает с тем, чтобы напрячь все духовные силы и его не исполнять… Это естественное действие раба. Но лагерное начальство, московское и ниже, почему-то думает, что каждый их приказ будет выполняться. Каждое распоряжение высшего начальства — это оскорбление достоинства заключенного вне зависимости, полезно или вредно само распоряжение. Мозг заключенного притуплен всевозможными приказами, а воля оскорблена»[12].
И все-таки трагизм ситуации, в которую попадает Чистяков, заключается в том, что, хочет он этого или нет, но порой он с ужасом осознает, что и сам «врастает в БАМ». А это значит, что постепенно слабеет, почти исчезает сочувствие, которое он вначале испытывал к заключенным. Драки и убийства среди уголовников, постоянные побеги, за которые ему приходится отвечать, — все это приводит к тому, что человеческие чувства в нем притупляются. Тем более что здесь, в Бамлаге, среди заключенных мало людей интеллигентных, их час еще не настал, 1937-й, год массового террора, еще впереди[13]. Основной контингент — это уголовники, сидящие по бытовым статьям, раскулаченные, пойманные беспризорники-малолетки. Эти люди особенно легко решаются на побег, да и обстановка благоприятствует: постоянное перемещение бригад-фаланг по мере продвижения строительства железнодорожных путей, отсутствие стационарной лагерной инфраструктуры. Чистяков пишет о том, что ему ежедневно приходится преодолевать пешком или на лошади многие километры. В таких условиях предупреждать побеги становится почти невозможным:
«Как все уставное относительно и особенно у нас. Отправляем этап. Часть приняли, проверили, часть нет — поехали. Уполномоченный ругается, мы протестуем. Уполном. прав и мы правы. На случай чего либо мы будем виноваты, если не отправим людей, тоже мы виноваты. Как-нибудь. Тут еще план, черт бы его затащил в пекло. БАМ — ссылка всем вольным и невольным».
Женщины-заключенные (это в основном представительницы уголовного мира или проститутки) вызывают у него прежде всего чувство ужаса и брезгливости, хоть и смешанное порой с жалостью:
«На фаланге драка, дерутся бабы. Бьют бывшую… и убивают. Мы бессильны помочь… Все они 35[14], но все же жалко человека. <…> Ну уж ладно, пускай з/к сами себя бьют, нам не пачкаться в ихней крови».
И все же Чистяков не чекист, он на БАМе человек чужой, подневольный, поэтому все-таки время от времени в нем просыпается рефлексия, и он вспоминает о том,
«...скольким… увеличил срок. Как ни стараешься быть спокойным, но иногда прорвет. Кому-нибудь и дашь арест[15]».
Но, к сожалению, из-за собственной тоски, от обреченности Чистяков не видит вокруг себя людей — у него нет сил и желания вглядываться в кого-то. Именно поэтому кажется, что его окружают статисты и по ту, и по другую сторону. Именно поэтому его ситуация кажется такой безвыходной.
Шум трамвая
Многие записи в дневнике полны такого отчаяния и тоски, такого неприятия окружающей его жизни, что возникает вопрос — во что верит их автор? Ведь он был членом партии, воевал в Красной Армии, и его никак нельзя назвать противником советской власти. Чистяков несколько раз упоминает в дневнике имена советских партийных деятелей (Ворошилова, Кагановича), актуальные политические события. Но главным образом в связи с тем, что он обязан проводить среди своих стрелков политинформацию по материалам газет. Он читает им речь Михаила Калинина о проекте новой советской Конституции, рассказывает о строительстве московского метро, о международном положении (упоминая Гитлера). Однако сам он, по видимому, над смыслом этих событий не слишком задумывается — хотя бы над тем, как фальшиво в условиях Бамлага, которые он сам описывает, звучит само это слово — «конституция». Когда Чистяков в издевательском тоне пишет о проходящем в столовой митинге в поддержку начинающегося процесса над троцкистско-зиновьевским блоком, насмешку у него вызывает не сам показательный процесс над политической оппозицией, а безграмотные и глупые выступления чекистов, «не умеющих воодушевить, направить мысли слушателя».
Но у Чистякова нет и фанатичной веры в коммунизм, нет особого энтузиазма по поводу «великих строек». Он знает, что он и такие, как он, — всего лишь фундамент этого сталинского «котлована». Кроме того, как человек неглупый и думающий, он не может не видеть, как отличается реальность БАМА от того, что пишут советские газеты, о чем постоянно твердит сталинская пропаганда:
«Пишут там — то, там — то, а у нас? У нас тоже то одно и то одно и то, побеги и побеги, аресты ревтриб. Вот радость и утешение».
Применительно к БАМу ему кажутся фальшивыми слова самого Сталина:
«Сижу весь день и читаю газеты. Жить стало лучше, жить стало веселей! Где это? — спрашиваю я. Уж не у нас ли в БАМе? У нас доедаем последнюю сушеную картошку. Мы пока что живем теоретически газетным материалом. Попробуй, скажи истинное положение вещей, всыпят, закашляешься. Скорей бы сдали перегон. Все же лучше не читать газет, иначе можно сойти с ума. Но почему же? Почему меня выбрали для БАМа?»
Чистяков — типичный маленький человек ранней советской эпохи, он хочет быть лояльным гражданином. И мечты у него скромные, ему просто хочется жить нормальными человеческими радостями:
«Я хочу заниматься спортом, радио, хочу работать по специальности, учиться, следить и проверять на практике технологию металлов, вращаться в культурном обществе, хочу театра и кино, лекций и музеев, выставок, хочу рисовать. Ездить на мотоцикле, а может быть продать мотоцикл и купить аэроплан резиновый, летать…»
Но ничего этого у него больше никогда не будет — в такое время он живет. Советская власть не оставит ему даже минимальной возможности обрести хотя бы маленькую личную свободу, и эту безвыходность своего положения он ощущает на БАМе уже с самого первого дня:
«Я и вся ВОХРа участники великой стройки. Отдаем свою жизнь на построение социалистического общества, а чем все это отметится, да ничем. Могут отметить Ревтрибом…»
Он чувствует, что даже той скромной жизни москвича 1930-х годов, которую он прежде вел, пришел конец. Москва первой половины 1930-х — на самом деле серый город с коммунальными квартирами, переполненными трамваями, очередями, продовольственными карточками и плохо одетыми людьми — кажется Чистякову самым прекрасным местом на Земле. Его мучает такая тяжелая тоска по этому городу, что куда там стремящимся в Москву чеховским трем сестрам:
«Представилась Каретно-Садовая, шум трамвая, улицы, пешеходы, оттепель и дворники скребками чистят тротуар. Представляется до боли в висках. В жизни осталось пробыть меньшую половину. Но эта половина скомкана БАМом. И никому до моей жизни нет дела. Чем обрести право распоряжаться своим временем и жизнью… Даже паршивый забор Московской окраины кажется дорогим и близким».
С точки зрения сегодняшнего дня это чувство тоски и обреченности кажется странным, почти болезненным, ведь призвали Чистякова формально всего на год, вот-вот закончится этот злосчастный год, и он вернется домой. Но он-то хорошо понимает, где оказался, понимает, что бессилен перед властью, которая может сделать с ним все что угодно. Поэтому он постепенно превращается в героя Кафки, господина К., которому уже никуда не деться от БАМа. А самое главное — он чувствует, как тонка грань, которая отделяет его от тех, кого он вынужден охранять. Один из наиболее часто повторяющихся мотивов в дневнике — постоянное ожидание собственного ареста. Он, несомненно, осознает, что вся его жизнь на БАМе устроена так, что не миновать ему превращения из командира вооруженной охраны в заключенного. Эта угроза ареста ходит за ним буквально по пятам. Трибунал, которым постоянно грозит ему начальство за непредотвращенные побеги, за срыв плана, который невозможно выполнить, да и за все остальное, что легко подвести под статью «халатность», и в самом деле может осудить его и оставить в ГУЛАГе на многие годы.
Под удар Чистякова в атмосфере доносов, взаимной слежки, царящей среди чекистов в Бамлаге, ставит практически все. Он «классово чуждый», он с высшим образованием, он вычищен из партии, критикует начальство, пренебрежительно относится к приказам и т. д. И то, что он отгораживается от остальных, не пьянствует вместе со всеми, что-то постоянно пишет, рисует, вызывает настороженное и подозрительное отношение к нему чекистов:
«Живешь затерянный в Д. В. К.[16] как белая ворона. И чувствуешь, что если вернешься в гражданское общество, будешь отсталым и диким. Будешь чувствовать свое ничтожество».
И Чистяков постепенно смиряется с мыслью о будущем аресте, он даже уговаривает себя, что, может быть, срок ему дадут небольшой, и тогда, отсидев свое, он хоть таким образом сможет вернуться к прежней жизни:
«Придется все же получить срок и уехать. Ведь не один же я буду с судимостью в СССР. Живут же люди и будут жить. Так перевоспитал меня БАМ. Так исправил мои мысли. Сделал преступника. Я сейчас уже преступник теоретически. Потихоньку сижу себе среди путеармейцев. Готовлю себя и свыкаюсь с будущим… А может быть шлепнусь?»
«Схожу с ума…»
Но, возможно, тоска и отчаяние, которые в течение этого года на БАМе все больше ощущает Иван Чистяков, многократно усиливаются тем, что любая другая жизнь представляется ему теперь миражом, и весь мир уже кажется сплошным Бамлагом. Варлам Шаламов напишет, сформулировав то, что пытается высказать в своем дневнике командир взвода ВОХР Иван Чистяков:
«И еще я понял другое: лагерь не противопоставление ада раю, а слепок нашей жизни и ничем другим быть не может. Почему лагерь — это слепок мира? Лагерь же — мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве, социальном и духовном. Лагерные идеи только повторяют переданные по приказу начальства идеи воли. Ни одно общественное движение, кампания, малейший поворот на воле не остаются без немедленного отражения, следа в лагере. Лагерь отражает не только борьбу политических клик, сменяющих друг друга у власти, но культуру этих людей, их тайные стремления, вкусы, привычки, подавленные желания. Лагерь — слепок еще и потому, что там все как на воле, и кровь так же кровава, и работают на полный ход сексот и стукач, заводят новые дела, собираются характеристики, ведутся допросы, аресты, кого-то выпускают, кого-то ловят. Чужими судьбами в лагере еще легче распоряжаться, чем на воле. Все каждый день работают, как на воле, трудовое отличие — единственный путь к освобождению, и, как на воле, легенды эти оказываются ложными и не приводят к освобождению… В лагере ежечасно повторяется надпись на воротах зоны: „Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства“. Делают доклады о текущем моменте, подписываются на займы, ходят на собрания… Люди там болеют теми же болезнями, что и на воле, лежат в больницах, поправляются, умирают. При всех обстоятельствах кровь, смерть отнюдь не иллюзорны. Кровь-то и делает реальностью этот слепок».
И в самом деле, постепенно чувство одиночества, обреченности и страха так сильно овладевает автором дневника, что возможная смерть кажется уже почти спасением. У него все чаще возникают мысли о самоубийстве. Самоубийство, после страшных катаклизмов революции и Гражданской войны ставшее чуть ли не модой тех лет, порою кажется многим современникам Чистякова едва ли не самым простым выбором. И Чистяков, сообщая о чьем-то самоубийстве в лагере, пишет об этом как о возможном выходе и для себя:
«Застрелился стрелок з/к,[17] в приказе — боязнь получить новый срок, а истинное положение, наверное, другое. Приказ нужен для моральной обработки. Что напишут, если я шлепнусь? Схожу с ума. Жизнь так дорога и так бесценно, бесполезно дешево пропадает».
И чем дальше, тем мысль о самоубийстве становится для Чистякова все более реальной и простой, почти обыденной:
«Вынул наган, подставил к горлу. Так просто можно нажать крючок, и... А дальше я не буду чувствовать ничего. Как просто можно все это сделать. Так просто, как будто шутя. И ничего страшного, ничего сверхъестественного нет. Как будто съел ложку супу. Не знаю, что меня удержало нажать. Все так реально, все естественно. И не дрожит рука».
Когда Чистяков пишет о самоубийстве, он намеренно снижает пафос и трагизм этого решения — недаром он несколько раз употребляет для этого жаргонное слово, ставшее употребительным в Гражданскую войну, — «шлепнуться».
И все же, хотя местами дневник его кажется почти дневником самоубийцы, он не кончает с собой. В этом мире, который для Чистякова сузился до пространства лагеря, у него все же есть точки опоры, которые его удерживают. Это природа Дальнего Востока, тайга, сопки, которые он описывает, пейзажи, которые он рисует, — это то, что противостоит для него ужасу бамлаговской жизни.
Но главное, что удерживает его, что дает ему силы и возможность выжить на БАМе, — это дневник. Чем дольше мы его читаем, тем становится очевиднее, что это не просто записи, фиксирующие повседневную жизнь автора. Чистяков пытается создать важное свидетельство. Недаром он пишет:
«Богат будет материал».
А то, что это свидетельство правдиво, еще больше подчеркивается попыткой автора написать на бамовском материале очерки в духе знаменитой писательской книги о Беломорканале, то есть о том, как благодаря ударному труду происходит превращение бывших уголовниц в стахановок. Но в оправдание Чистякова можно сказать, что эти очерки не были ни закончены, ни отосланы. Записи в дневнике — полная противоположность этой мифологической картине «перековки». Такой дневник вести было опасно: в нем нарисована столь страшная картина, он полон такого отчаяния и таких описаний Бамлага, что едва ли не каждая строчка могла служить доказательством антисоветских настроений Чистякова и быть поводом для ареста. Иногда он прямо говорит об этом:
«Что если прочитает 3-я часть или политчасть эти строки? Они поймут со своей точки зрения».
Но не делать своих записей он не может:
«В дневнике моя жизнь».
Иван Чистяков — маленький человек, и он много раз сам об этом говорит, но осознание своего бесправия приводит его к тому, что на страницах дневника он (пусть лишь на этих страницах) начинает не только роптать, но и бунтовать против заглатывающей его системы. И в этом осознании поднимается порой до трагического пафоса. Он пишет:
«Да, здесь дни тоски и гнева, печали и стыда».
Чистяков приходит к почти кафкианскому пониманию своего бессилия перед бесчеловечной государственной машиной, стирающей грань между свободой и несвободой. И даже до трагического сарказма, когда пишет об исторической необходимости лагерей:
«Путь крушений, тоски и гнева. Путь еще большего ничтожества и унижения человека. Но иногда вступает в силу холодный анализ, и многое за недостатком горючего потухает. В истории всегда были тюрьмы, и почему же, ха-ха-ха, не должен в них сидеть я, а только другие. Эта лагерная жизнь необходима для некоторых исторических условий, ну значит и для меня…»
Конечно, это только дневник, но Чистяков — бамовский охранник, который, пусть и не желая этого, все же стал винтиком огромной репрессивной машины, — в дневнике отстаивает свое право хотя бы на эти записи. Пусть только шепотом, пусть тайно, Чистяков произносит такую страшную и такую ключевую для России фразу:
«В системе государства человек ничтожество, как человек».
Дальнейшая судьба автора дневника, по-видимому, разворачивалась так, как он ее предсказывал. В 1937 году Ивана Чистякова арестовывали, но, вероятно, он был осужден «за халатность», понижен в должности и оставлен на БАМе еще на несколько лет, но не на очень большой срок, иначе в 1941-м он не смог бы попасть на фронт и погибнуть — в 300 километрах от своей любимой Москвы, которую ему вряд ли довелось еще раз увидеть (если мы можем доверять надписи на фотографии). Чудо, что дневник Чистякова, записи в котором оборвались, вероятно, с его арестом, каким-то образом сохранился, не попал в руки сотрудников НКВД, не был выброшен и уничтожен, что его удалось послать в Москву. Благодаря этому до нас дошел еще один голос одинокого человека, жившего в страшную эпоху.
Мы не знаем, где был Иван Чистяков в 1939 году, когда по железной дороге, уже построенной руками заключенных, которых он в 1935–1936 годах охранял, шли на БАМ длинные эшелоны с новыми заключенными. Среди них был и один из лучших поэтов ХХ века Николай Заболоцкий. Спустя годы он описал БАМ так, как, наверное, хотел бы это сделать Иван Чистяков:
«Два с лишним месяца тянулся наш скорбный поезд по Сибирской магистрали. Два маленьких заледенелых оконца под потолком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную, занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантастические отвесные скалы байкальского побережья… Нас везли все дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света… В первых числах февраля прибыли мы в Хабаровск. Долго стояли здесь. Потом вдруг потянулись обратно, доехали до Волочаевки и повернули с магистрали к северу по новой железнодорожной ветке. По обе стороны дороги замелькали колонны лагерей с их караульными вышками и поселки из новеньких пряничных домиков, построенных по одному образцу. Царство БАМА встречало нас, своих новых поселенцев. Поезд остановился, загрохотали засовы, и мы вышли из своих убежищ в этот новый мир, залитый солнцем, закованный в пятидесятиградусный холод, окруженный видениями тонких, уходящих в самое небо дальневосточных берез»[18].
Ирина Щербакова
ДНЕВНИК ИВАНА ЧИСТЯКОВА
9/Х 35 г.
Новый этап в моей жизни.
22 часа, г. Свободный. Темно и сыро. Грязь и снова грязь. Камера хранения ручного багажа. Низко и прокурено. Провисший потолок подперт столбом, а на полу вповалку — люди. Смешение рваных ватных пиджаков и цветных заплат. Трудно найти два разных лица. У всех один и тот же взгляд, подозрительный и беглый, и какой-то странный отпечаток на лице. Небритые и с волосами под машинку. Котомки и сундуки. Тоска и скука. Сибирь, Сибирь.
Город вполне оправдывает свое старорусское название. Заборы и заборы или пустое место. Редко-редко попадется дом. Да и у того окна закрыты ставнями снаружи. Неприветливо и жутко, тяжело и безотрадно. Первый, кто попался навстречу, — это не красноармеец, чистый и подтянутый, а какой-то партизан. Шинель 3-го срока б/петлиц, такие же сапоги, фуражка-блин и за спиной винтовка. Гостиница горкомхоза. Деревенский дом, разделенный перегородками на комнатки в 0,5 сажени. Жарко и сплошной храп.
10 [октября]
Утро. Идем по Советской улице. Ни мостовой, ни тротуара. Снова заборы и свиньи, лужи, навоз и гуси. Уж не Миргород ли это. Б. А. М.
Двухэтажное кирпичное здание. Клумбы и электрочасы, три автознака, два светящихся треугольника и 30 км/ч. Грязь та же. Штаб. Барак-общежитие. Снова грязь.
Первую в жизни ночь кормлю клопов. Холод. У штаб. работников никакой дисциплины. Сплошной мат. «Пантелей Ив [анов]! Ты что ж, долго будешь симулировать? Это чем же пахнет?»
Одной статьей пахнет, чем же еще.
Сплошной тридцатиэтажный мат. Такой мат, что в него можно топор воткнуть.
Помещение ВОХР. Топчаны, цветные одеяла, безграмотные лозунги и кто в летней, кто в зимней гимнастерке, кто в своем пиджаке, кто в ватнике, подпоясаны кто веревочкой, кто ремнем, кто брезентовым поясом. Курят, лежа на постели. Двое схватились и, образовав клубок, катаются, один, задрав кверху ноги, смеется, смеется неистово, надрывно. Лежит и пилит на гармошке страдания. Горланит: «Мы работы не боимся, а на работу не пойдем». Чистят оружие, бреются, играют в шашки, один ухитрился что-то читать.
— Кто у вас дежурный? — задаю вопрос.
— Я, — отвечает вставший от печки и бросивший мешать угли партизан.
Ватные шаровары, летняя гимнастерка, валенки и на голове какая-то арестантская шапка надета ухом вперед, из-под шапки торчит рыжий вихор волос. А на поясе брезентовый патронташ. Начинает заправляться, неловко переминаясь с ноги на ногу и не зная, что делать. Позже узнаю, что дежурный в армии не служил, а на БАМе прошел месячные курсы. Вот Аника-воин. И такие почти все.
Куда, думаю, я попал? И стыдно стало мне за свой кубик, за то, что я командир, за то, что я живу в 1935 г., за то, что напротив 2-е пути с громким названием, за то, что высится железобетонный красавец-мост.
21 [октября]
Стоит гора, кругом дыра — это Архара. Поселок. У подножия трехглавой сопки две сотни домишек. Покосившиеся, подслеповатые. Окон почти нет. От подножия сопки, из которой берут песок, по грунтовой дороге ездят грузавто с песком на станцию. Пусто и одиноко.
22 [октября]
Ночь провел в казарме-бараке. Холодно. Убил вошь. Встречаю комвзвода. Впечатление малоразвитого и пр. Ухожу по линии ж-д.
Мысли что вихрь, мысли что листы книги — перекладываются, накладываются одна на другую, комкаются, свертываются, что бумага на огне. Сумбур и грусть, одиночество.
Всего лишь двадцать дней назад я был в Москве. Жил. Брал жизнь, а здесь? Здесь взять нечего. Высоты неба не поймешь, и бесконечности сопок и пустоты не схватишь. За сопкой сопка, за сопкой сопка и так на тысячи километров. Дико и непостижимо. Жизнь становится ничтожной и ненужной.
Москва! Москва! Как далека и недосягаема.
Мороз. Надеешься на то, что скоро кончат земляные работы моста и прочее. Перебросят куда-нибудь. И в этом находишь утешение. Не сознавая и не учитывая того, что в другом месте может быть хуже.
23 [октября]
Ночь проспал в тепле. Отрадно и уютно, когда спишь, легко укрывшись.
День встречает ветром. Иду вдоль линии. Работают з/к. Кубометрами земли и метрами рельс завоевывают себе свободу. А чем завоюю я демобилизацию? Сегодня не умывался, нет воды, а завтра? Завтра может быть тоже так же. О бане приходится мечтать, баня доставляет радость, баня — праздник.
24 [октября]
Утром у начальника отряда. Похож на Махно. Также как и (все) многие. Занесло меня.
Разве я когда-либо думал шататься по сопкам Архары? Я даже не знал существования таковых.
Широко и необъятно. Пустынно, дико. Как мал и ничтожен человек в мире, как слаб его ум в познании времени. Наши мысли охватывают два-три месяца вперед и не более, дальше сумбур, все комкается и упирается во что-то непонятное.
Кругом осень. Стога сена и первый лед на Архаре. Коричнево кругом. Над дальними сопками дымка. Дымка сливается с горизонтом. Неба и не разберешь — что там: вершина сопки или тучка.
Однообразно ровно тянет ветер, а в такт ему уныло и монотонно шумит лист на дубе. Солнце хотя и светит, но бледно-холодно. Можно легко смотреть на него, как на никелированный диск. Неужели я для этого родился, чтобы служить в БАМлаге комвзводом? Как все это просто делается. Вызвали — и поезжай. За партийцев треугольник ходит, просит. Глядишь, и остался Базаров в Москве.
За нас же, беспартийных — никто.
25 [октября]
Наша жизнь, что велосипед. Крутишь педали, едешь и направляешь, но не всегда куда хочется. То грязь, то яма, то острый камень. Того и гляди, проколешь шину. Кончил крутить — велосипед набок.
В казарме сплошной мат. Ругаются все, бойцы и командиры.
26 [октября]
Бешеный ветер низко гонит тучи. Осень, осень. Бурый откос сопки с каждым днем пропадает, делается обрывистым, обнажая геологические пласты. Подходят и через минуту уходят авто. Они в своем непрерывном беге кажутся челноками, снующими от сопки к станции и обратно. А люди, как муравьи, терпеливо и упорно разрушают сопку, превращая ее горб в плац будущей станции. Выемка становится больше и больше. 1500 человек кажутся горсточкой в ее зеве. Лом и лопата делают свое дело. Люди считают кубометры, завоевывая право на жизнь, на свободу. Здесь не хватает времени. Здесь не считаются с погодой. Здесь желание работать, работать и работать.
Здесь цифры, цифры и цифры.
Дни, кубометры и километры.
Если бы силы не расходовались, то работали бы день и ночь.
Здесь десятидневка.
Страна ждет 2-е пути Д. В. К. Ждет товаров.
2-е пути ускорят освоение края, ускорят его развитие и пр.
27/28 [октября]
Хожу и принимаю подразделения-фаланги.
Общее впечатление — заключенная администрация живет лучше, чем ВОХР.
На ходу вскочишь на товарный, на ходу соскочишь. Жизнь на колесах, но бывает и жизнь на ногах. Километров тридцать пехом.
29 [октября]
Дождь и слякоть, суглинок превратился в месиво, идти трудно. Сегодня жизнь на ногах, двадцать километров на 13.
Обедать пригласил отдельком.
Заходим в деревню. Громадная изба по-украински обмазана из нутра глиной и выбелена. Иконы с вышитыми на концах полотенцами. Кровать из топчана покрыта ажурным покрывалом, а подушки в серых ситцевых наволочках. Не вяжется все. Одни рамы местами без стекол, заткнутые тряпкой, русская печь, иконы, постель и пр. Обед и тот оригинальный. Борщ с убитой накануне козой, а на второе — молочная лапша с белыми коврижками своего печения на масле. Украинцы живут [здесь] третий год, свое хозяйство — корова, три свиньи, десять курей. Балуются иногда медом. Так и живут.
Паршиво настроенные из-за плохой пищи бойцы.
— Готовятся к празднику, продукты экономят, а мы жиры не получаем.
У лагерной администрации есть все — мясо масло и пр.
Сообщение о побеге, и все кругом. Вечер. Иду по линии ж. дороги, да какой! Уссурийской. Тихо. Солнце повисло на вершине сопки. Последние лучи скользят по коричнево-бурой листве леса, создавая фантастические цвета вперемешку с такими же тенями. Непривычный для европейца ландшафт — дубовый низкорослый лес, сопки одна выше другой, одна за другой — двугорбые, вычурные и пр. Стога сена кажутся шлемами вросших в землю богатырей.
2-е пути кончают строить. Только вчера здесь был обрыв, зубчатый, неуклюжий с корявыми кустами, а сегодня? Сегодня была бригада женщин з/к, и сегодня здесь ровный откос двухэтажной высоты радует глаз правильными линиями гладкой поверхностью на протяжении 150 м.
Сопки разрезают выемкой, болота осушают и насыпают насыпи, перекладывают мосты, укрощая речушки бетонной трубой. Бетон, железо и труд человека. Труд упорный, настойчивый ударный труд.
А кругом тайга, тайга. Как много в этом слове. Сколько неизведанного, неизвестного и непонятного таит в себе это слово. Сколько человеческих трагедий, сколько жизней скрыло в себе это слово. Дрожь пробегает по телу. Сибирский тракт, ссылки, централы. Вот дер. Петропавловка. Эх, деревня, жуть, бедность наложила свой отпечаток на постройки, но жизнь в колхозе зажиточна.
30 [октября]
Ходил в баню. Чудо баня. Деревянный сарай, оцементированный из нутра, но щелей можно отбавить с полсотни и еще столько же останется. На полу слой грязи, большой котел вмазан в печку. Сейчас тепло, как зимой — не знаю. С потолка течет. Но все же вымылся, да как хорошо — после 20 дней.
Все же вспомнил баню Москвы. Хорошо бы после бани спокойно поспать ночку, но наши условия — работа. Нам ночь приносит беспокойство, побеги, убийства. Осенняя ночь, выручай, будь узнику ты хоть защитой, родная. Так и сегодня убежали двое. Допрос, погоня, докладные, штаб, 3-я часть, и вместо отдыха ночь приносит волнение и кошмар.
31 [октября]
Не записал, а на другой день не помнил ничего. Дни идут в бешеном темпе. Дни как спираль скручиваются, сокращая свой бег к концу жизни. Но наша спираль в БАМе ржавая, может оборваться в любой момент. Наша спираль корявая.
I/ХI
Вот отказчики. Они ничем не отличаются от всей массы и от людей. Так же переживают потерю Красного Знамени, как и все. Так же плачут тяжело и горько. Психика человека, отбывающего срок, психика тяжелых дум, тяжелого труда, плохих условий, надежд на будущее. Вера в то, что и они будут свободны, психика крушений новых надежд, отчаяний и душевных потрясений. Надо на психику бить, надо тонко подойти, ласково. Ласка заключенному — второе солнце. Здесь соревнование грубое, здесь неполадка с учетом может вызвать даже убийство, побег и т. п. Администрирование не поможет, наган и пуля тоже. Пуля только оборвет жизнь, но это не выход. З/к, умирая, может сделать много отрицательного. Раненый з/к — зверь.
4–5 [ноября]
(3-го числа) Стук дежурного в дверь.
— Ну что?
— Телефонограмма!
Читаю:
Под вашу ответственность разгрузить 50 вагонов шпал.
Нач. охраны, подпись.
— Сколько время?
— 3 часа, тов. командир!
— Разгрузку начать с рассветом.
Надо вставать. 1,5 километра на разъезд, поднять бригаду, распределить, расставить и пр.
Денек весенний, хожу раздевшись. После обеда потянуло с запада, ну, зима будет. Быстро идут укладчики шпал, за ними укладчики рельс. Эй, раз, эй, два, на восток еще разок. Давайте, давайте!! Мерным тактом, вразвалку идут. А за ними костыльщики:
— А-а-х, стук, а-а-х, стук.
После обеда потянуло холодом и снегом, 16° мороз. Еду на фалангу за 25 км, а обратно пехом. Держусь ничего, даже не устал после ходьбы.
За двое суток спал пять часов. За ночь выпал снег, мороз, зима, 5 часов утра, шум, стук. Слышу, дежурный докладывает помнач ВОХР, еще не легче. Холодно в комнате, что на улице.
Пошли по баракам. Эх, жизнь! Зачем ты смеешься над людьми? Голые нары, везде щели, снег на спящих, дров нет. (З/к спят.) Скопище шевелящихся людей. Разумных, мыслящих, специалистов. Лохмотья, грязь от грунта. Да, судьба играет человеком, а человек — ничтожество в судьбе.
Ночь не спят, день на работе, зачастую в худых ботинках, в лаптях, без рукавиц, на холодной пище, в карьере. Вечером в бараке снова холод, снова ночью бред. Поневоле вспомнишь дом и тепло. Поневоле все и всё будут виноваты, а это, пожалуй, верно. Лагерная администрация не заботится о з/к. Результат — отказы. В результате — мнение обо всех, з/к правы, ведь они просят минимум — минимум, который мы должны дать, обязаны. На это отпущены средства. Но наше авось, разгильдяйство, наше нежелание — или черт знает что еще — работать, отнимают минимум.
6 [ноября]
Морозец вступает в свои права. 18°. Надел валенки. Все же хорошая вещь. Очередная комедия. Сделать обыск у з/к, отобрать ножи и прочее. Конечно, негодование сплошное. Надо же людям резать хлеб, чистить картошку, нарубить дров надо. Если з/к и держат что-либо, то конечно не в бараке. 35-ца Будникова возмутилась правильно, по существу. Я так же бы сделал.
Делаю доклад на вечере. Сухо, с опаской принимают каждое слово, есть натянутость к нам. Я решил уйти. Остались у Будниковой старые жесты капризно сбросить туфли. Их мечта — сапоги. Поглядывают на мое кожпальто со словами: хороши бы были сапожки.
«Для тебя из ларька пудрю чулочки, и скажи ты мне, да или нет», — затягивает блатным мотивом ребяческий облик.
7 [ноября]
Сбились с ног. З/к должны быть в зоне. Но один за молоком, другой завхоз, третий туда, четвертый сюда. У каждого свои причины, причины человеческие, причины мелочные, но имеющие большое значение. Думают з/к.
— Даже такой пустячины, как молоко, и то на праздник лишили нас, сволочи.
11 часов ночи, подают балласт, надо выгружать. Идем. Тут задержка, там неполадка, а мы мерзни. Всегда найдется такой тип, который устроит провокацию.
8 [ноября]
Драка.
Дерутся з/к. Бьют плотника женщины, бросая поленьями. Уняли. Унять можно. Голос, голос, где нужно — суровый и властный, где — мягкий и сладенький. Все женщины, прежде всего женщины.
9 [ноября]
На трассе. 50 километров пешком. Бредем по Уссурийке у черта на рогах.
10 [ноября]
Жизнь кочевая, холодная, временная, неустроенная. Привыкаем на авось. Нудно пилит гармошка, подчеркивая общую пустоту. Холодно щелкает затвор винтовки. Ветер за окном. Сны и поземка. Надрывается гармошка. Отбивают такт ноги. От буржуйки тянет теплом, но как один бок греет, [так] другой мерзнет. Проскакивает мысль: неужели так надолго. Неужели наша жизнь — шалман. Почему? Хочется плюнуть на все и поддаться течению. Но дадут, пожалуй, срок. Думай, голова, картуз куплю. Да, здесь дни тоски и гнева, печали и стыда. Беспечность и авось. Так и опускаются люди. Никто о нас как о людях не знает, знают как командира взвода и только. При случае упоминают, что ты представитель советской власти. Пережитого стало мне жаль. Лишний раз сказал себе: дурак. Вывертывайся, думай и изобретай.
11 [ноября]
День командирской учебы. Обучаю комотдел, весь день «дома» в тепле, пока топят. Так себе. Поют ребята, как много дум наводит он. Да, много дум. Посмотрел я с ж. д. моста на свой ковчек и усмехнулся. Затеряны где-то в тайге, живем, строим, переживаем, занимаемся геометрией. Да, всюду жизнь, но какая.
12 [ноября]
Прибыли «огоньки» — малолетние преступники. Проверяем — пять лишних. Снова проверяем — пять лишних. Еще проверяем — десять лишних, а знаем, что пять убежало. Усиленный конвой, работают тридцать человек, уйти некуда, считаем — двадцать девять. Закопают в песок или снег, уйдут, а он тягу. Три человека ночью убежало.
Посылают главаря.
— Найдешь?
— Найду!
Нашел — эти больше не уйдут. Оказывается, сам послал, попьянствовали и вернулись. Завтра другие так же.
Выпустил оправиться мужчину — пропал. Стоит женщина. Выпустила забранную в брюки юбку, накинула платок и точка.
«Продает баба мясо быка, а я сидел да считал, сколько она получает, сам просил милостыню, потом спер сумку и пошел. Набили барахлом один мешок, опять мусором. Продали, получаем деньги, держа мешок между ног, один заменит, и все в порядке».
13 [ноября]
С утра пешком в Архару. Пройти 20 километров у нас не считают ни за что. Свои производственные разговоры: тут убили, там убили. В 3-м взводе медведь содрал скальп с охотника, изломав всю винтовку. Заколот штыками.
Купил мороженых яблок. Они кажутся прелестью, испытываешь особое ощущение, когда ешь. Весь день проболтался на станции и как будто так надо. Ничего не сделаешь, не идут поезда, ну и тупеешь.
14 [ноября]
Идем с политруком проверять шпалы, рельсы и т. п. Занимаемся производством. Наше это дело или нет, так и не узнаешь. Трудно провести разницу или границу. Встретившийся уполномоченный радует:
— Шпалы Уссурийки брали? Жгли?
Мы-то знаем, жгли или нет. Только я-то в каком положении: если дров не будет, то люди и холодные, и голодные работать не пойдут — я виноват; если дрова будут, люди сыты и обогреты — тоже я виноват. Решаю быть виноватым один раз. А вообще в жизни — воруй, но не попадайся.
15 [ноября]
День угасает медленно. Кажется бесконечно длинным. Встанешь в 5 ч. да ляжешь в 11. Западный ветер нагнал барашки туч. Заходящее солнце последними лучами, купаясь в этих барашках, создало сказочную картину на небе. Серый фон неба с изумительно далеким горизонтом. Небосклон залит палевым светом, а розовые тучки с ярко-красными краями кажутся цветами мака. Красная полоса горизонта разгорается все ярче и ярче и, достигнув предела, как бы разливается, расплываясь по небу, окрашивая все в пурпур. Солнце, ослепительно красное, начинает опускаться за горизонт. Пурпур пропадает, уступая место зеленовато-желтым тонам, эти в свою очередь уступают место фиолетово-синим. Низ сопок покрывается туманом, а вершина с буро-коричневой травой отливает золотом, потом начинает темнеть, темнеть. Мрак подбирается и снизу, и сверху. Пропадает последняя красная полоска на горизонте; становясь прежде низкой, а потом, просуществовав некоторое время в воображении, умирает. Скользнул запоздавший луч, как бы догоняя солнце и убегая, подарил улыбку, так же как девушка, распрощавшись и отойдя 15–20 метров, оглянулась и улыбнулась.
Ночь. За окном мрак. Только разве что зная ощущаешь 30-метровую насыпь в 50 метрах. С грохотом, рассыпая снопы искр, проносится по мосту товарный поезд. Теплушка дымит маленькой трубой буржуйки. Едут призывники. Смотрят, наверное, на нас и думают: живут и здесь люди. Да, живет и здесь шалман — цыганский табор.
Годы впечатлений оставят свой след.
16 [ноября]
Двадцатишестиградусный мороз и ураганный ветер. Холодно. Холодно на улице и в помещении. Дом построен так, что в нем больше вентиляции, чем материалу. Вошедший завхоз сообщает:
— Ничего, ребята, не смущайтесь такого мороза, будет в два раза холодней.
Порадовал.
Как вредна нераспорядительность человеческая. Не сделали до морозов земляное полотно, теперь мучают людей, срубая 30-сантиметровый слой вязкой, как олово, мороженой глины.
Дни за днями катятся, а впереди? Я не имею желания служить в армии, да тем более в БАМе. Но что делать? Было бы хоть тепло в помещении, где можно отдохнуть. И этого нет. Один бок греет буржуйка, а другой мерзнет. Развивается какая-то беспечность: ладно, как-нибудь. А каждый прожитый день — кусок жизни, который можно бы прожить, а не прозябать. Здесь не с кем молвить слово, с з/к нельзя, со стрелками тоже, сживешься — уже не командир. Мы, простая кобылка, по окончании строительства незаметно сойдем с арены. Вся или большая тяжесть строительства лежит на нас, т. е. на стрелках команд и комвзводах.
17 [ноября]
12 часов ночи. Дежурный вызывает стрелков для охраны на разгрузку балласта. Иду и я. Шалман. Вертушки нет и неизвестно когда будет. Люди мерзнут на 35° морозе. По существу я бы так не делал. Проложил бы второй путь, и по нему балласт и засыпку. Были вы ночью в тайге?
Так слушайте. Может быть, 300-летние дубы, оголены их ветки, как руки великанов, как щупальца, как лапы, как клювы допотопных чудовищ направлены куда-то в пространство, готовые схватить, смять всех, кто попадет.
Вы сидите у костра, и тени, покачиваясь, создают впечатление, что все эти конечности шевелятся, дышат, воодушевлены, живы. Тихий шелест оставшейся листвы, удары сука об сук еще больше наводят на мысли о циклопах и пр., и кажется, что вы слышите какую-то непонятную для вас разговорную речь. Вы слышите вопросы и ответы на них.
Вы слышите мелодию и ритм. Пламя костра на какие-нибудь 3–5 метров пробивает темноту, а искры, наподобие длинных светящихся червяков, летают в воздухе, кружась, сталкиваясь и обгоняя друг друга. Лицо вашего товарища, сидящего напротив, ярко освещенное костром на темном фоне ночи с бегающими тенями от носа, от козырька шлема — театрально. Нет желания и как-то неудобно громко разговаривать. Хочется сидеть, дремать и слушать шепот леса.
18 [ноября]
С утра еду на 13-ю ф-гу верхом.
Прислали малолеток — вшивые, грязные, раздетые. Нет бани, нет, потому что нельзя перерасходовать 60 руб. Что выйдет по 1 коп. на человека. Говорят о борьбе с побегами. Ищут причины, применяют оружие, не видя этих причин в самих себе. Что тут — косность, бюрократизм или вредительство? Люди босы, раздеты, а на складе имеется все. Не дают и таким, которые хотят и будут работать, ссылаясь на то, что промотают. Так не проматывают и не работают, а бегут.
19 [ноября]
Какой-то пустой день. Апатия и безразличие. На политзанятиях, на вопрос «Кто такой Блюхер?» ухитрились ответить: «Бывший комиссар 2-х путей!»
20 [ноября]
Сегодня побег. Убежал К. Р. 58–8. Унес же черт. Холод, без денег. На что надеется? Другое дело рецидив, тот добудет.
Пусто. Может быть, в дальнейшем так пусто всегда будет. Привыкнешь, и все будет казаться обычным, нормальным.
Собираемся на завтра на охоту, что же будет.
Политрук обещает найти коз. Посмотрим.
21 [ноября]
5,15 ч. утра слышно, как по мосту идет поезд и, наверное, стучит тормозная колодка. Только задремал, дежурный сообщает:
— На 752-ом крушение!
— Какого поезда?
— Не знаю.
Вскакиваешь, забыв все.
— Командир отделения! Четыре человека на аварию, остальные завтракать, позавтракают, пришлете смену.
— Есть, т. командир!
Последний скат платформы, груженной лесом, вылетел на мосту, и упавшая платформа поломала все брусья. Как не свалились вагоны, не знаю. Протащившись еще километр, часть поезда с разбитой платформой оторвалась, загромоздив путь. Машинист, проехав до станции с 0,5 километра, принял жезл и на проход. Остановили у выходного семафора. Раскидали бревна, подняли один конец платформы на вагонетку и на разъезд.
Сорвалась охота, но все же пошли. Завхоз и я. Если посмотришь на сопку, то снега не увидишь. Трава выше роста человека. Болото. Много следов коз. Кажется вот, вот, рядом сопка, а до нее 5 километров. Страшно все же в дубовом лесу зимой. Непривычно для человека из России. Я даже не видал, как проскакали две козы. Завхоз видел, но стрелять нельзя — боялся, что убьет меня.
Хочется спать.
22 [ноября]
Жизнь на колесах. Собрались ехать в Архару. Ехать — это надо, конечно, понимать относительно.
Так и на сей раз. Предварительно — 5 километров пехом до подъема, где поезд идет тихо и можно вскочить на ходу. Оставшиеся 12 км на «Экспрессе», что возит дрова и лес, с ветерком. Политрук вспоминает Соловки. Власть «Соловецкую, а не Совецкую». […]
Бывает же дурацкое положение, и никакой устав не подберешь.
Я приехал в «абиссинке» и, наверное, хорош, потому что начальник спрашивает:
— Что это такое?
Собрались смотреть помполит, адъютант и весь штаб. Тут еще пом. нач. ВОХР по политчасти. Что ответишь? Взяли с писаря штаба шлем и надели на меня. У парня в этом шлеме было утешение, и этим сглаживалась его жизнь. А тут так просто и легко разрушилась одна из утех и радостей. Мое положение как командира. Я бы так не сделал.
23 [ноября]
Еще один день списан с жизни без цели благодаря военной дисциплине. Что, если прочитает 3-я часть или политчасть эти строки? Они поймут со своей точки зрения.
Иду по производству, работают женщины. Ругаются и малым и большим загибом и сибирской трелью. Черт возьми, до чего может опуститься женщина. Они площадную ругань считают за шик, за ухарство. Испытываешь отвращение как к женщине. Здесь и Соловецкая власть уместна.
А природа чарует своей красотой, своей дикостью. Необъятно далеко уходит склон сопки, теряясь в лиловой дали. Дрожь пробегает по телу, чувствуя этот простор, эту малонаселенность, эту не тронутую еще человеком природу. За ближней сопкой — сопки, дальше еще сопки, еще и еще и, насколько хватает воображения, до самого Ледовитого океана. Чувствуешь, что ты хозяин всего этого. Хочешь — селись и живи, сей, паши, коси, сколько хочешь, сколько можешь, без предела и без края.
24 [ноября]
Знаете вы восход солнца в сопках?
Мрак пропадает сразу, как-то неожиданно смотришь в одну сторону, темно, повернулся, закрыл на мгновение глаза — и сразу день. Как будто свет подстерегал вас, ждал, когда вы откроете дверь, и он войдет, перламутрово-переливчатый. Солнца еще нет, а небо пылает не только на горизонте, а все. Небо горит, колеблется небо, как сцена театра под опытной рукой мастера, по ходу действия окрашивается во все цвета. Взрываются ракеты, стреляя лучами света из-за вершины сопки. Тишина, торжественная тишина, такая, как будто сейчас произойдет священнодействие, как будто сейчас совершится что-то такое, что не случится без тишины. Тишина все нарастает, а небо достигает наибольшей красочности, апогея. Общий свет не прибавляется. И… сразу из-за сопки выплыл огненный шар солнца, лучезарно теплый, а навстречу ему грянул птичий хор.
День наступил. Начался день, а с ним все подлости. Одна из подлостей: на ф-ге драка, дерутся бабы. Бьют бывшую н-цу ф-ги и убивают. Мы бессильны помочь, нам на ф-ге применять оружие запрещено. Мы не имеем права ходить с оружием. Все они 35-цы, но все же жалко человека. Эх, дорвемся, попадут, где мы правы, раскаются. Накипевшее прорвется. Черт знает что, а не третья часть, нас жмут, дают срока, правильно или неправильно применено оружие, а з/к за убийство — ничего. Ну уж ладно, пускай з/к сами себя бьют, нам не пачкаться в ихней крови.
25 [ноября]
После производства прошелся по сопкам. Следов много, а коз ни одной. Приехал нач. отряда. Как будто все в порядке, но нельзя же похвалить.
26 [ноября]
Второй день устаю здорово. На охоте в сопках.
Долго ходим и ничего не видим, кроме следов. Поднимаемся по тропинке на сопку. Слышу шорох сухих листьев, оглядываюсь — скачут две козы. «Смотри», — говорю сзади стоящему стрелку. Козы услыхали и в сторону. Я прикладываюсь, мажу. Второй раз тоже. Он тоже мажет. Первый раз вижу и стреляю по живым диким козам.
В общежитии стрелка Сигитова [неразборчиво] разыгрывают:
— Умирать в Архару убежали, место искать! Ты бы им скомандовал — ложись! А потом стрелял!
27 [ноября]
Так вот и живем. 4 м комната, топчан с сенным матрасом, казенное одеяло, стол на трех ножках да одна скрипучая табуретка, у которой каждый деть приходится кирпичом заколачивать выезжающие гвозди. Керосиновая лампа с разбитым стеклом и бумажным, из газеты, абажуром. Полка из куска доски обтянута газетой. Стены частью голые, частью оклеены бумагой от цемента. Всегда сыпется с потолка песок, и щели в оконных рамах, в двери и пазах стен. Буржуйка. Пока топят, то одному боку тепло. Что к печке — то на южном полюсе, что от печки — то на северном. Столько, сколько сжигаем дров за сутки в здоровом помещении — была бы баня, а у нас даже не прибанник. Выбросят как не нужного, не соответствующего. А за что, спрашивается, я должен стать жертвой, как многие? Отупеешь, одичаешь, осолдатишься и т. д. Прогресса ни как командира, ни как человека, не чувствуешь. Ну и живи.
28 [ноября]
На улице и в помещении холодно. Холодно и безрадостно на душе. Что это за служба, когда никакого желания, никакого стремления к ней нет. А почему? Да потому что ни бытовых условий, ни культурных нет. Нет даже и разговоров среди начальства о них. Сегодня стоим перед фактом неимения дров. Приходится приказывать, зачем мне все это? Почему так получается?
Коченеют руки. Где забота о командире, где громкие слова. Если бы хотя в сотой доле от сказанного Ворошиловым мы в БАМе получали, то и это бы давало надежду. Вторая пятилетка, Максим Горький, Клим Ворошилов и т. д. Самолеты — уникумы, а у нас нет минимума. Эх. Одна отрада, что на фронте хуже было. Утешеньице. Ложимся спать под два одеяла, под кожпальто да под полушубок.
Я никак не могу найти свое место в системе БАМ и думаю, что нет такого. Для крестьянина другое дело. Он кое-что почерпнет, узнает, научится. Хотя я тоже почерпну безалаберности, научусь относиться аховски ко всему. Научусь не попадать впросак.
29 [ноября]
Вот она пустота. Записать и отметить нечего. Да и само настроение пустое. Все безразлично: даже если будет побег, то не поеду, черт с ним, в конце концов. Не волнует сноровистая работа женской бригады на балласте. Не волнует стремительный бег поезда на поворотах с клубами дыма. Не волнует даже лиса, не возбуждая охотничьего азарта. Равнодушен к режущим ухо неверным нотам игры на балалайке. Что это, в конце концов?
30 [ноября]
Южный ветер принес тепло, всего 16°. На небе облака. Идем с политруком на охоту. До ближайшей сопки кажется рукой подать, но пока идешь, нагреешься, километров пять.
И так целый день. С сопки на сопку, из пади в падь, заманчиво. Следы коз витками — узоры на снегу. Тут петли, зигзаги и треугольники, все переплелось, перепуталось, иногда образуя какой-то восточный орнамент, иногда как бы надгробную надпись эфиопского царя. Ходим часа три, то поднимаясь на круги сопок, то пробираясь по мелколесью, то опускаясь в пади. Иногда попадет место величиной с решето с растаявшим снегом, это лежала коза. Но самих коз нет. Хотя бы в насмешку одна пробежала.
Как-то сразу из-за выступа сопки появилась землянка, а за ней и избушка на курьих ножках. Кругом штук сто ульев, пасека. Подходим. На двери не только нет замка, а даже ничем не завязано. Часть имущества лежит под навесом. Тут столярный инструмент, крышки ульев, бидоны, хозпосуда и т. д. В избе тепло. Штук пятьдесят бидонов с медом, весы, домашняя утварь, продукты. Заходи и ешь. Вот они, сибирские обычаи и честность. А кругом тайга. Дубы. Сломанные бурей, спиленные, упавшие от старости, полусгнившие, вросшие в землю. Приволье и простор. Еще четырехчасовое хождение безрезультатно.
Устали. Политрук едва дошел. Обед и отдых.
Приходит завхоз и радует: «Можно в баню». Это у нас праздник, это радость.
31 [ноября]
Сегодня выходной. Иду снова на охоту. И снова пустой. Даже стрельнуть не во что. Холодно, 29°, ветер обжигает лицо и руки. Красивы деревья в инее. Телеграфные провода обледенели и на солнце кажутся огненными нитями. Никаких дум. Правда, промелькнула одна: когда-нибудь и я приеду в Москву.
Да, хотя бы надежда остается, хорошо.
1.2.3/XII
Не брался за дневник, некогда. Два дня ездил по отделениям. То побеги, то еще хуже, на одной ф-ге сделали взрыв.
4 [декабря]
Не успел встать — снова побег. Надо завтра ехать. Пришить бы человека три на ф-ге и ша, не побежали бы. Побеги закрывают все, всю жизнь. Вот собачья служба — ищи, как ищейка, да крути всех и вся. Сунул одному сутки ареста.
5–6 [декабря]
5-го в разъезде. Если дальше так пойдет, до чего это дойдет. Ну, получишь срок, скорей демобилизуешься.
Зорька загоралась над вершиной сопки, Обещая радостный денек. Небо голубое, что глаза у милой, А заря — румянец алых щек.Но прислали сводку… Эх!!!!
[…] Да.
Злобой омрачается радостное чувство, Желчью обольется, заболит душа.
7 [декабря]
Все же я врастаю в БАМ. Незаметно обстановка, обычаи, жизнь, засасывает. Да, пожалуй, иначе не может и быть.
Занялся, было, ленинизмом, но во вред, потому что резко подчеркиваются наши условия. Чем заняться, чтобы дало пользу? Нечем. Полученные знания, не преломленные на практике, не нужны. А у меня нет человека, с кем можно поговорить, пошутить, поспорить. Плохо чувствовать себя выше всех среди низших. Хорошо чувствовать себя выше всех среди равных.
Там ты борешься, добиваешься, стараешься удержаться на положении. Тебя поджимают, погоняют, ну и держись. Через год на меня будут смотреть так, как я сейчас смотрю. Жутко, это факт, но какой выход?
8 [декабря]
33°. Мороз, ветер и снег. Буржуйка, наше спасение, буржуйка, южный полюс. Как странно во второй пятилетке употреблять такое слово, да еще жить, употребляя само устройство, «механизм». Потухает, ну и тепло пропадает. Чудно, сидишь в полушубке, одетом на одну руку, на один бок, тот, что к двери. А бок, что к печке, горит, потеет. Может быть после, дома, и интересно будет вспоминать, но сейчас, мерзко.
Над сопками вихрь, пурга. Молочно бело все. Силуэты деревьев как будто ходят. Это потому что то там, то здесь пурга редеет. Но снова шквал, снова языки сухого колючего снега. Впиваются тысячами, миллионами змеиных жал. Сучья, толщиной в руку и больше, на морозе ломаются легко и свободно. Спишь крепко, сон освежающий, воздух чист и морозен, даже иногда со снежком. Замечаешь, как колышется учебная программа на стене. К обеду натянуло 40°. Хватает за каждую обнаженную часть тела. С каким вожделением глядишь на поленья, дрова, ища в них радость жизни — тепло. В комнате холодно до того, что мокрая рука пристает к ручке двери. Мыло не мылится. В начале тает от тепла руки, а потом мылится. Дым от паровоза не расходится, а долго висит клубами как вата. Перемешиваясь с паром, образует хлопья снега, сплошную пелену, которая наподобие марли застилает окно.
А ребята устроили джаз. Дудки, сопелки, балалайки, трещотки. Музыка тоже согревает в прямом смысле.
А з/к бегут. Свобода. Свобода даже в голоде и холоде дорога и незаменима. Хоть день, но не в лагере. Да и я тоже не против хоть день провести вне службы.
9 [декабря]
Ночью 42°. Но тихо-тихо. Воздух стеклянно звонкий. Сухо хрустнул выстрел. Кажется, расколется воздух как стакан, развалится, рассыплется вдребезги. Земля дала трещины, местами шириной с ладонь. Холодно так, что даже рельсы и те лопаются. Сухой треск — такой, который сравнить не с чем.
Селектор и сообщение дежурному по станции:
— Т. дежур., лопнул рельс на 755, задержите поезда!
Кипит и спорится работа. Привычна аварийная бригада. Молча и уверенно каждый делает свое дело, а люди в поездах и не знают, что их жизнь просто и спокойно, деловито, без пафоса, сохранила бригада. А так во многом люди, делая обычное дело буднично просто, являются героями.
Прошелся до Журавлей. Холодно убийственно. Полушубок не гнется на морозе. Валенки, как деревянные колодки. Ни единой птицы.
10 [декабря]
Вода в помещении замерзла. Умыться нечем. В один глаз плеснешь из кружки, другой сам откроется. 45°. Поезда идут тихо. Лишь луна, надсмехаясь над нами, величаво спокойно скользит…
Взошла над сопками луна, двурогая и бледная, Подтверждая лишний раз что холодно и ветрено. Качаются столетние дубы, ломая с треском сучья. Зверье запряталось по норам, суровый холод чуя.Весь день в помещении, но одевши. Печки и те не осиливают холода. Замерзли чернила. Спишь в рейтузах и трениров. гимнастерке-рубашке. Волосы на голове примерзли к холодному поту на лбу.
Ничего себе удовольствие. Хватит, довольно.
11 [декабря]
Ну, вот и 47°. Что-то вздулась одна щека, да и на лбу около глаза припухает. С такого мороза весь вспухнешь. З/к работают, скалывая часть насыпи. Все же блат — великое дело. Как с ним бороться, да и надо ли? Без блата я, может быть, получил бы воспаление легких и даже хуже, а в блате есть спасение.
Подшили валенки, хорошо и быстро. Это все хорошо, а впереди три с половиной м-ца холодов. Никакого выхода. Нечем, да и достать обшивки для стен негде. Нет и пакли.
Получил письмо из ДУВРа. Люди не дорожат жизнью, находясь в гражданских условиях. Когда дома и на работе тепло, когда человек сыт, все идет по порядку. Знает, что он сам себе хозяин, тогда стремиться не к чему, ну и скучает. А когда думаешь, скоро ли кончится все это, когда же отдых, где домашний минимум, когда же я хоть временно буду сам планировать свое время, когда не будет тяготеть над головой меч Ревтрибунала? Когда я могу пойти и купить, в любой час что хочу, ну, [хоть] белого хлеба. Будешь дорожить жизнью. Знаешь, что каждый прожитый день сейчас потерян в жизни.
12 [декабря]
Ночь проспал в тепле. […] День провел в ходьбе.
45 километров. Подшитые валенки два дня назад после ходьбы худые. Спать лег в 4 часа утра.
13 [декабря]
Снова на трассе. Еду в Домикан верхом. Эх, Аника-воин.
Нач. ф-ги хочет, чтобы мы ему подчинялись. Странно. Может быть, он захочет, чтобы прокурор ему подчинился. Стрелок поет «Мурку», приятный баритон. Берет за сердце.
Бессонная ночь сказывается, клонит ко сну. Глаза форменным образом слипаются. А тут — то посадить одну, то неясное дело с побегом, то конфликт с нач. ф-ги, то на ф-ге порезались, то сделали какой-то укол, умирает. Вот, черт возьми, чтобы их взорвало! А жизнь не ждет, жизнь идет, и прошедший день не вернуть. Что я получил за сегодняшний день? Ничего, верней — потери. Нет, для многих лагеря не исправительные. Бухгалтер ф-ги имеет срок пять лет, а туфтит, на что надеется, чего ждет? Дождется.
14 [декабря]
Светел, радостен, солнечный денек. А морозец знатный, 34°. Скоро зеленый прокурор придет! Такие разговорчики уже появляются. Плохо вы сделали без мужиков.
15 [декабря]
Протяжный гудок бамовского паровоза. Стоп. Остановился странного вида поезд. Товарные вагоны обшиты вторым рядом досок, в люках стекла, на крыше труба, дымит, что твой паровоз. На тормозах чего только нет. Колеса походной кухни, кипятильные бочки, кипы сена, брезент, ведра и котлы. По вагонам человеческие голоса, лошадиное ржание, хрюканье свиней и коровье мычание. Люди в бушлатах в полушубках, люди в валенках и абиссинках, все мужчины на вид, но много женских голосов. В чем же дело?
Вот в чем — все женщины, одеты по-мужски. В первую очередь на земле кипятильник и котлы. Рогатки костры, и готов чай. Звон котелков и мисок, звон ложек, кружек, ведер. И смешно, и чудно кажется, как это люди приехали, остановились среди поля и чувствуют себя, что дома. Раздается песня, бесшабашно веселая. А в другом конце поезда гремят лопаты, ломы, кирки. Кузнец уже раздувает походное горно.
Повар с картошкой на спине, прачка с бельем, конюхи с сеном, с ведрами. Режут близстоящие деревья, колют. Умываются, выколачивают сенные матрасы, вытрясают одежду. Кто просто разглядывает местность, кто выбирает деревцо посуше на дрова, а кто, может быть, думает о родине, вспоминая знакомые места, кое-кто может быть о побеге мечтает, разные люди, разные мысли.
Группа стоит и курит, группа о чем-то спорит. Один убедительно что-то доказывает, размахивая руками, ежеминутно поправляя сбивающуюся шапку. Смачно сплевывают в сторону, кряхтят и покашливают. Три человека уходят вдоль линии, что-то разглядывают, топают по земле ногой, показывают то на насыпь, то на рельсы старого пути. Показывают шестом далеко и кругом. Люди провожают глазами руку, поворачиваются, что-то соображают, записывают.
Так начинает свою жизнь ф-га.
Через день в нескольких метрах от ж. д. будут палатки, бараки, землянки, целый походный город. Оживая по утрам, затихая на день и снова оживая вечером. Не смотрят и не говорят, что здесь лучше или хуже, везде одинаково. 3–5 месяцев проживем, а там дальше перезимуем, летом каждый кустик пустит.
— Мама! Мама!! — слышится крик.
Это не дочь или сын зовет мать, нет. Это тридцатипятники так величают бригадиршу. Среди мужчин нет такого коллектива, нет спайки всей бригады. У женщин другое дело, но только у 35-ых. Тут воровской коллектив, тут воровские обычаи и порядки, тут бригадир — атаман, пахан, мама. Мама заправляет всем и всеми, мама бьет, мама милует, мама не пускает на работу, мама кормит или заставляет голодать. Мама все.
Мужчины держатся особняком, редко вдвоем. Карты, выигрыш или проигрыш, чувство собственности ставится выше дружбы. Карты делаются в течение 10 минут. Поэтому хоть отбирай, хоть нет, результат один. Проигрывают все. Проигрывают склады. Значит, жди ограбления, проигрывают сказать начальству похабщину, проигрывают части своего тела, пальцы рук и ног, руки. Проиграв, рубят при всех палец или руку и бросают на стол со словами: «Пейте мою кровь, паразиты!»
16 [декабря]
Уезжает 10-я авто. Нач. отряда приказал присутствовать при отъезде. Топай 13 километров туда, да обратно 13.
Д. Черниговка. Серенький зимний день. Небо низко. То там, то тут дымят трубы домашних печей. Дым спокойно-спокойно столбом уходит в небо, сливаясь с фоном. На улице ни души. Тишина. Журавль колодца высоко над хатами поднял шею, стараясь заглянуть за деревню и предупредить всякого: «Не шуми!» Какой-то особенный запах дыма, запах простых горячих щей и тепло хаты, неторопливый разговор хозяина, создают покой на душе. А тут — шагай по шпалам. Неужели я так просто лишен даже такого «счастья» жизни.
Вот как мелочны становятся наши стремления и желания. И верно, что мы республика на колесах, что мы фронт, что мы пока не имеем права, не можем жить достижениями 1-й и 3-й пятил., свободной торговли и т. д. Сколько еще строительств? Сколько преступников? Необъятен сибирский край, работы хватит.
Многие нач. отрядов пьянствуют, думая этим получить увольнение. Что ж, они правы, я думаю. Что-то я буду изобретать после года службы.
17 [декабря]
Разговоры и разговорчики, то едем на восток, то на Волго-Дон, то на Алдан. Нечем отметить день.
Пустота, пустота, а не покой.
18 [декабря]
День командирских занятий. То вызывает 3-я часть, то штаб отряда. Обменял коняку. Говорят — огонь монгольский. Правда, нескладен на вид, да на ходу ладен. Попробуем иноходца. Вращаешься, кружишься среди людей, за делом и не видать время. У селектора в конторе ф-ги. Прокопчено керосином, прокурено, пахнет потом. Лениво, нехотя поворачиваются плотники, чинящие перегородку. Вот она, бесплатная работа.
19 [декабря]
Оказалось что конек — огонек. 36 километров рысью. Ночь и холод. Еду верхом по обочине сопки, темно. Силуэты кустов, телеграфные столбы, встречный поезд и мороз. Мерзнут колени. Воротник полушубка заиндевел, смерзаются веки. Ночь в инее. Вскидывает голову, храпит, ведет ушами. Мороз забирается в рукава. Перчатки в инее от тепла рук. Не хочется ни ворочаться, ни шевелить руками. Всякое движение нарушает тепло тела.
1 ч. 30 мин. ночи. Я «дома». Кружка чая с блинами, да, с блинами, и спать. Сон в первую очередь. Со сном забываешь всех и вся. Холодно раздеваться. Холодно ложиться. Бывает холодно и ночью. Греются ночи от стоящей печки, приятно.
20 [декабря]
Провал в памяти.
21 [декабря]
С час канителились, чтобы сбить намерзший навоз с копыт коня, не дается, бьет и задом и передом, вот черт монгольский. В седле и понес. До Журавлей и обратно рысью и галопом. Догонял пом. по КВР, но ничего не вышло, сел его высокий рысак.
Вторая половина дня в разъезде по отделениям. Празднуют в центре годовщину ВЧК […] а мы тоже празднуем, надо кончать вторые пути, скорей-скорей и не до праздника, даже нет выходного. Я не чекист и не претендую на звание, но дайте мне простые гражданские условия. Отобрал колоду карт и всю типографию, да 20 км пешком — вот и весь праздник.
Как и вчера, день безалаберный. «Дома». Сшибло поездом бригадира, отрезав ухо и мякоть бедра. А путь доделывается, скоро и нам сматываться куда-то. Конечно, хорошо бы в Россию. Довольно интереса, довольно Дальнего Востока, хватит.
23 [декабря]
Весь день делаю бильярд. Есть побег на 29 ф-ге, но не еду, будь что будет. Назначили мне помкомвзвода. Посмотрим, наверно…
24 [декабря]
Приехал пом. Как будто ничего, раскусим. Дам, что могу. Пусть учится, мне легче, а, может быть, смена. Сходил на 13-й с ним, сходил на Улетуй. Приходит и незавидная на вид з/к.
— Отпусти в Архару.
Не пускаю. Сразу пропадает ангельский голосок. Сразу зверь.
— Не пустите! Отрежу кому-нибудь голову и принесу вам. Стреляйте.
Что ж, надо будет — расстреляем.
25 [декабря]
Побег, да какой, групповой — семь человек. Ну и черт с ними. О путеармейцах больше заботятся, чем о нас. Как будто я большой спец и мне не нужна помощь и руководство. Пожалуй, и не нужна помощь, но надо же как-то интересоваться командирами. Удивляются, что отпускники пьянствуют. А что можно делать? Ни дома отдыха, ни даже ночлежного дома. Примерно, приехал я в Свободный, где остановился на 2–3 дня. Где повидаться с товарищами? Надо мне разрядиться. Надо мне просто пошутить, поржать настоящим животным смехом, подурачится, рассказать анекдот. Где все это сделать? Где свой круг командиров? Нельзя же так вести себя с бойцами, потому что мы, командиры, и стрелки, смотрим на вещи разными глазами.
Вот приказ начотряда. Халатность и т. д. Что ж, я сам хочу себе статью заработать, что ж, я сам себе враг, что ж, мне не хочется быть спокойным?
Ну, допустим, что халатность, а почему? По-видимому потому, что не чувствуешь общей целеустремленности, не чувствуешь и не имеешь стимула, потому что вся организация ВОХР — черт знает что. Не разберешь что делать, как делать, почему делать. Иногда ты абсолютно прав, иногда ты в точно таком же поступке абсолютно виноват. Хочется и хорошо служить, но в тоже время думаешь — будешь пожизненно в БАМе, к черту это дело.
Одни газеты изведут. Пишут там — то, там — то, а у нас? У нас тоже то одно, и то одно, и то, побеги, и побеги, аресты, Ревтриб. Вот радость и утешение.
26 [декабря]
Приехал вчера в два часа ночи. Мороз, ветер, а в помещении, эх, лучше и не говорить. Утром доделываю бильярд, а с обеда на 13 ф-ге на Журавлях. Накачивай — жми. Да какой брехун стал. Здорово получается как.
Едешь на коне, а путеармейцы идут. Идут сотни. Дежурный по производству один. Ну, решат уйти 10–20 ч[еловек]. Что сделаешь? Нападает отчаяние, тоска, безнадежность. Кажется счастьем, мечтой лучезарной побыть в деревне, даже не в Москве.
Забыться обо всех 59–3, 58 [неразборчиво] […] и т. д.
27 [декабря]
Уполномоченный 3-й части Морозов. Что может сделать, какие дать указания, не зная обстановки, не имея представления о положении, о проведенных мероприятиях, не зная того, что мы перепробовали все, что мы не враги же себе и не хотим зарабатывать ни нарядов, ни арестов. Всякий только ругается, всякий только наказывает. Уполномоченный ругается, помполит ругается, нач. отряда ругается, нач. 3-й части ругается. Все ругаются. Но кто же должен посоветовать, разъяснить, помочь? Некому. Делай — и только.
Вот руководство, чекистское. С обеда и до 1 ч. ночи пехом на 14-ю. 26 километров. Теплый ветер и редкий мокрый снег. Теплый по-нашему, 27°. Вынутая из перчатки рука коченеет. По пути прихватили художника. Без шапки. Пьяный. Просит сам довести на ф-гу 7. Что ж, доведем и посадим.
28 [декабря]
С утра ждешь к. о. на занятия. До обеда нет. Два часа тактики и геометрии.
На ф-ге шум и драка. Иду. Сажают двоих, за рукав, в охапку да в камеру. Ударили по глазу Осипову и здорово, жаль, что не мне, шлепнуть бы одного, присмирели бы. Вот нач. отряда «наверно» не видит и не знает, что и как. Поработай, узнаешь. Руководить все умеют, плохо ли хорошо ли, а умеют. Спрашивать же — все хорошо спрашивают.
Как же все-таки избавиться от БАМа? Думай голова, картуз куплю. Но и думать-то некогда. Все же придумаю, избавиться надо. Запьянствовать — отпадает, в 1-е отделение попадешь. Как бы, чтобы по несоответствию уволили. Нет случаев увольнения к. в., если будут, подберем себе. Скомбинируем.
29 [декабря]
Во всяком деле большое значение имеет случай и настроение человека, от которого зависит успех того или иного дела. У меня пока что нет случая, пожалуй, рано ему быть, но — случай, прежде всего, случай.
Если попадет, то, пускай рано, — воспользуемся.
Постепенно сворачиваются ф-ги. З/к едут домой. Я представляю себе их настроение. Каким глубоким сном, чудовищным и диким кажется им лагерь. Так же он кажется и мне. Я до сего времени никак не могу представить себе, что я в лагере. Здесь ни знаний, ни общего развития не надо. Нет побегов, ну и все в порядке. Приехал в Архару. Дыра так дырой и есть. Приедешь, негде побыть 1–2 часа. Холодно, 37°.
30 [декабря]
Ночью холодно. Вставать не хочется. Гальюн на улице. А на улице мороз 45°. Греемся чаем, но он мало помогает. Коченеют руки, коченеют до того, что не напишешь ничего. Забылось, что послезавтра новый год. Что-то в городах у людей? Да, через два дня будут желать другим счастья, успеха и т. д. Нам никто и ничего не пожелает, разве ареста суток на десять или Ревтриба. Не хотят понимать з/к человеческого отношения, ну хорошо! Скорей хотя бы тепло. Тогда одна невзгода, холод, сгладилась бы. Шестьдесят дней прожить надо. Плохо или хорошо, проживем. Но здоровье уходит, и жизнь тоже уходит ни за что.
Посидели с политруком, покалякали. Бедлам и среди командования. Все оборачивается против нас самих. Дело с Майхером. Так может быть и со мной, не груби начальству. Подождем, что-то мне скажут. Я принял расхлябанный взвод и в боевой, и в политико-моральной подготовке. Встал на путь демобилизации. Майхер сам хочет служить, потому что он в гражданских условиях — шляпа.
31 [декабря]
Кроме мороза в 42° отметить нечего. Было крушение вертушки, завалились платформа и вагон.
Может быть и неумышленно, а может быть и умышленно подсунули вагонетку. Работа по подъему вагонов явно преступная. Канителятся, суетятся, ругают и ругаются, но для виду, бестолково и беспорядочно.
Взялся я. Не прошло и часа, вагоны на месте. Даже команда, голос и тот управляет людьми. Нет команды, и работа не ладится. Пустяками, мелочью, а дело тормозят. Хорошо, что не заняли Уссурийского пути, не расхлебались бы.
Плохо спалось ночью, холодно. Холодно под двумя одеялами, под кожпальто и полушубком. Сказывается ревматизм, ноют голени, сводит ноги.
1/I 36 г.
Новый год. Выходной. Иду с помкомвзводом на охоту. Промазал в козу. Устал порядком. Передумаешь много, но все мысли направлены на то, как бы демобилизоваться, как бы избавиться от петлиц, от БАМа. Неосуществимая мечта — даже кадровая часть. Я и вся ВОХРа — участники великой стройки. Отдаем свою жизнь на построение социалистического общества, а чем все это отметится, да ничем. Могут отметить Ревтрибом.
15 дней не был в бане — и не предвидится. Здорово, нечего сказать.
2 [января]
40°. Простужен насквозь. Ломают з/к зону. Надо же и им топить, греться, варить. Сколько говорилось, говорится и будут говорить теплых красивых слов, и ни полена привезенных дров. Время военного коммунизма кончилось, и чекист должен быть другим. Больше заботы о людях, так сказал Сталин, должно примениться сейчас во всей полноте. А у нас? У нас я боюсь даже подумать, что слова Сталина применяют. Пожалуй, каждый сам для себя применяет. Да, такая установка есть. Говорят, что сам виноват, если что-либо не сделали. В общем, в БАМе шалман. Часовые на зоне кладут на снег з/к. Сигитов распоряжается так:
— Будешь стоять, стой четыре часа, сидеть два часа, лежать один час. Выбирай.
[…]
3/I
Ну, вот и 52°. Люто. Хватаешь воздух, как рыба, вытащенная из воды. Ветер, как кипяток, обжигает. Еду в Архару, вызывает нач. отряда. Понимаешь, так сказать…
Зашел в магазин, ну ни шиша нет. Даже сахару нет, не говоря о масле. С утра не евши, а пообедать негде. Есть буфет на станции, но и тот закрыли до 8 ч. вечера. Поезда нет, а когда будет — неизвестно. Дождался буфета. Обед 5.40. Суп, наверно, вчерашний, а карась так дня четыре [как] был зажарен.
В 10 ч. сел на товарняк-экспресс. Ух. Дыхание спирает.
В 11 ч. на квартире. Надо спать.
4/I
Иду на 13. Зовет на охоту ком. отд. Идем. Я, к. о. химич. и нач. станции. Ничего не видали. Ухожу домой, отдав винтовку и, как нарочно, две козы. Был бы дрын, варилось бы мясо.
А природа чарует своей красотой. Дико, угрюмо кругом.
Край пустынный, безмолвный, голодный.
Нет ни птицы, ни зверя и тихо безлюдно кругом.
5 [января]
Холодно. З/к не работают, ну, значит, и мы отдыхаем. Читаю ребятам астрономию. Увлекаются. Вечером в баню. Ха-ха-ха, баня. 5° холода. Лед на полу, лед на стенах и потолке. Вода чуть теплая. Разделись, так зуб на зуб не попадает. Политрук говорит, что угорел. Я его поздравляю с легким паром. Помыли ноги, туловище. Голову мочить нельзя, обмерзнет. Да и на теле образовываются чешуйки льда. Вот это баня.
6 [января]
Еду по ф-гам. На 35-е. Все же после 40 километров — слаб.
Дурацкое настроение, ничего не волнует. Пустота и безразличие.
7 [января]
Иду на охоту с помкомвзвода и Романенко.
Следов уйма, а коз — ни одной. Да и сама охота на коз — дело случая. Наткнешься удобно — убьешь, не наткнешься — не убьешь.
Заявляется оперативник с такой справкой, ох, черт возьми. Туфта, да какая. Ну, проверили, обыскали, да в 3-ю.
На разъезде сбежали было. Моментально переоделись с другим з/к. И — я не я.
— Я еду, только с поезда и знать не знаю, что вы привязались?
Посмотрим, что будет. Взяли Васильева. Жил на ф-ге семь дней. 15 ходит в юбке, на груди полотенце для полноты. Все же взяли.
Болит левый висок, болит от холода. Не было бы менингита. Мерзнут ночью ноги, мерзнут плечи. На пол встать невозможно, холодней, чем лед. Раздеваться и одеваться — самоубийство. Ложишься вечером и думаешь. Думаешь до боли в голове, взорвут или сожгут мост.
8/I
Началось с ночи. Заявляется Батоногов, сообщает, что не едут задержанные. Беспокойная ночь, довезут или нет. Утро, и не довезли. Один ушел, выставив окно. Ушел, делая скачки по снегу в разные стороны. Черт знает что, гадай и думай, то ли просто туфта, то ли из… один из многих. Задержали еще двоих. Называются одним фамилием? Даешь в 3-ю часть, пускай разбираются.
День командирской учебы. Нет одного — баба на конюшне, нет другого — дивизионом командует. […] Пятиэтажный дом для комсостава. «Наверно, для нас»? Да, для нас землянка и… и сам сделаешь.
Расписаний занятий нет, руководства нет, пособий нет. Глупо и смешно сказать, что помощи нет. Кто ее дает? Чин не дает знаний. Чин — это не руководство. Кой-кого чин приучил к жестам. Кажется кой-кому, что жесты хороши и говорят за высокий класс знаний. А на деле, как глуп и невежествен кажется человек.
Начинают топить печь углем, вроде теплей. Теплей может быть потому, что на улице тепло. Есть мороженые яблоки [по] 4,50, и это хорошо. Фрукты, фрукты!!! Достаю и масла. У нас и это достижение, доставать — пригодится, пойти и купить — этого мы не понимаем, до этого мы не дошли.
9/I
Топят каменным углем. Пыль ложится на все толстым слоем. Стало вроде потеплей, да и привычка. Но все же северный и южный полюс в комнате существуют. Жжем шпалы. Иначе никакого выхода. Ни уполномоченный 3-й части, ни нач. ф-ги никаких мер не принимают. За два года первый раз начинают заниматься со средним комсост. Посмотрим начальника в роли командира.
Завтра сдаем перегон Журавли — Улетуй. Обнадеживаешь себя разговорами, предположениями, и это в утешение. Получил из пошивки шинель. Обрастаю военным имуществом. А интереса к жизни никакого, в данных условиях, конечно. Научился я уже многому, т. е. отношусь так себе к приказам и побегам и к подготовке стрелков и мл. командиров. Занимаешься потому, чтобы самому не отстать, вспомнить кое-что. Наверно, я чуден и в обращении, и в обхождении. Начинает появляться отпечаток на лице. Отпечаток тупости, односторонности и какого-то глупого выражения.
Вспомнил про белый воротничок. Декорация в наших условиях, конечно. Месяц в бане не был, а воротничок ослепителен. Руки не отмываются, за что ни возьми — грязь, пыль и копоть.
10/I
Какое-то паршивое чувство. Ждешь чего-то плохого и нехорошего. Что может быть хуже БАМа. Если разденут — это, пожалуй, лучше, скорей уедешь. Значит паршивое настроение, если человек идет на это. Стрелки разговор ведут, когда кто домой поедет. Они сейчас, пожалуй, счастливее нас.
11 [января]
Прошло всего три месяца, как я из Москвы, а кажется как будто целый год. Писарь взвода Лещук едет домой и не хочет. Удивительно. Я бы в худших условиях согласился жить, но не в БАМе. Человек говорит, ехать некуда. Странно. На участке моего взвода и из моего подразделения организуют совхоз. Может быть, будет полегче. Но больше возможностей остаться здесь, чего я не хочу. Представилась Каретно-Садовая, шум трамвая, улицы, пешеходы, оттепель и дворники скребками чистят тротуар. Представляется до боли в висках. В жизни осталось пробыть меньшую половину. Но эта половина скомкана БАМом. И никому до моей жизни нет дела. Чем обрести право распоряжаться своим временем и жизнью?
12 [января]
Еду на 13-ю по всем подкомандировкам. Красная Горка, Антоновка, Ключи, Низменное. Может, попадет дичь. Ничего. Ходит местный охотник по следам волка. Козий полушубок, такие же торбаза и шапка, пятизарядный бердан. Сивуха рассказывает, как делали тревогу:
— Приезжаю на Ключи ночью. Стрелки спят, дежурный ходит по ф-ге. Выставил стеклышко, отщипнул крючок, взял все винтовки и боепатроны. Спят. Сажусь за углом, жух! Спят. Еще, жух! Слышу: «В ружье!» — «Ребя, нет винтовок! Обезоружили». Жух, жух!!! «Пуля!» — «Где?» — «Во!» — «Лезь под койку!» Жух, жух! Прибежал дежурный. «В ружье!» — «Чего в ружье? Лезь под койку, нет винтовок». Вышел. Стоит Суфмис на коленях, руки как у Иисуса на груди и ни слова, очумел. Урок на всю жизнь.
Могла бы банда китайская разоружить и перестрелять.
13 [января]
Получил письмо от Лауденбаха, письмо у нас радость. Весь день пишу ответ. Вчера промазали пазы глиной, стало теплей. Но ночью простыли бока, как будто на мне пахали. Просидел дома весь день.
Везут шпалы, надо топить, но черта с два, здесь им не дом отдыха. Все приказывают: проводите массовую работу, шефствуйте, а они в нос, в рот кровососа и т. д. Что бы я стал заниматься, пусть занимаются разные начи и т. д. Чужими руками жар загребать — извините. Михайлов устроился и уехал. Нороходов жил с з/к и что же? Сняли, ну пошлют в другое место. Начальству все можно и все простительно. Члены партии; ну ошиблись, поправим, а мы беспартийные! Осколки общества? Где и у кого получим защиту, помощь? Ну, беспартийный, что это?! Стоит только добавить, отброс. Каптер и нач. ф-ги пьянствуют, откуда берут деньги? Продают продукты. Путеармейцы, курвы, хуже едят из-за этого, а сами защищают. 3-я часть либеральничает, ну черт с ними, жаль только все же госимущества.
14 [января]
Пусто до того, что Торичелева пустота кажется живым миром. Правда, разной работы много. То переброски, то пополнения, то 3-я часть, то [учеба] то уполномоченные. Потихоньку сматываемся на восток. Деньги делают все. Деньги загнали сюда стрелков в/н. Ну поживут, узнают. Беспорядки всюду. Дров нет, люди на работу не идут, каптеры продают и пропивают продукты. Лагадминистрация на нас зла, путеармейцы злы. Вот члены бесклассового общества.
А дорогу то мы все же построили!?
С каждым днем желудочная ненормальность увеличивается.
15 [января]
Каждый день становится похожим один на другой, как две капли воды. Снова побеги прорвались. Надо ехать жать. Нажму. Начальство нянчится со стахановцами (стакановцы), расписывает пирожки да то, да се, а они бегут. Если не описывать погоду, то и писать нечего. (Постыло.) Опротивело до мерзости. Иногда не хочется браться за дневник. Грязь, дикость. А в дневнике моя жизнь. У кабинетных работников высокие материи, перспективные идеи. Энтузиазм, пафос, а у нас?
Над нами меч Ревтрибунала. Нам ни пирожков, ни всех остальных прелестей центра (нашего) не надо. Дайте только паек, дров, да не гнилой и мороженой картошки. Сходил в баню на Улетуй. Как будто вновь родился. Не мылся месяц, а теперь в тепле даже с паром, правда, пол холодный, но и это роскошь. Часик поблаженствовал. Бегут с оперпоста, вот изоляция.
16 [января]
На Колустай. До Домикана доехал на вертушке, а дальше пехом. Ветер режет что бритва. Посидел с ребятами, рассказал кое-что. Для них и мой рассказ интересен. Этим жизнь их скрашивается, развлекаются. Обратно пешком. Молочная муть. Силуэты кустов расплывчаты и не разборчивы. Идешь, не видя впереди себя дальше 10 метров. Всяких мыслей набежит за 42 километра пути, все передумаешь. Летит, стуча на стыках, поезд. Блестят огнями окна, колышутся занавески. Люди тоже мыслят. Что бы эти мысли переложить на бумагу. Сколько трагедий, радостей, отчаяний и надежд. Сколько разбитых жизней. Сколько пережитых волнений, стремлений и апатий. Мне пока что надо отвлечься от мира, ото всех его радостей. Мне приходится быть частью человека, потому что многое недоступно. И все же — не лезь напролом, хитри, верти и изощряйся. Везде и всюду прямая дорога пагубна в жизни. Да и дипломатия в этом, пожалуй, и есть, кто кого перехитрит. Испытаю и я себя на этом поприще. Поп. п.п.р.р.р. оообщем.
17 [января]
Иду с отделькомом на 13-ю. Вагон-лавка. Но что купить? Нечего. Хочется хоть на день забыться от всего. Но где и как? Будет тепло, тогда можно лечь на сопке и разобраться в мыслях, а сейчас? Бойцы смущаются мной, я тоже не желал бы, чтобы они многого видели и слышали.
18 [января]
Сходил с отделькомом на охоту. Стрелял по бегущей козе, но мимо. Не хочется идти домой. Тесно. В комнате можно только или сидеть на табуретке, или неподвижно стоять. Уходят стрелки в отпуск. Я даже рад за них. Когда-то я пойду, не в отпуск, конечно, а совсем? Пролетела ворона, а за ней моя мысль. Да, только птицы свободны. А человек, разумнейшее существо, стесняет себя хитрейшими законами, ограничивает правами, обычаями. И многим другим. Форма, фасон.
19 [января]
Стахановские методы — говорят здорово, в том числе и я, а что конкретно делают? Я узко практичный человек. Сделай из большого дела маленькое дело, но так, чтобы можно было сказать: «Вот, сделано образцово и показательно».
20 [января]
Получил гонку по селектору от нач. отряда за ком. отд. Кривошеева. Мат и мат. Съездил в Архару.
21 [января]
Прорвалось. Напился сукин сын Осипов. Будет буря с начальником. Зарычит, залается. А польза какая? Никакой, кроме озлобления. Идем с политруком на Журавли, идем и разговариваем, вспоминая начотряда, вспоминая порядки БАМа и прошлые времена.
Начальник выгоняет из кабинета, рычит. Не научит, не посоветует, да и может ли? Парторганизация не воздействует. За членов партии парторганизация может встать, а за нас, беспартийных? Едят друг друга. Случай с помполитом Молчановым с К. В. Майхером, все обращается против низов. Надо бы обрезать начальника, но будет ли лучше? Едва ли.
Небо, небо. Вся красота и величие, все высокие чувства топчутся грязью БАМа. Но, любуясь восходом, забываешься. Эх, жизнь, жизнь!!!!! А что если… Нет, не надо. Надо жить. Неужели я хуже других? Я привык продвигаться в один-два месяца, а здесь, пожалуй, не надо продвижений, иначе не уедешь. Получил паспорт с постоянным место жительством в Архаре, ничего себе радость?
Только январь, а солнце пригревает, как будто теплей. Березки бурым фоном туманным весенним кажутся на белом снегу.
Оживет, проснется природа, и люди за ней. Встретят радостью, светлой улыбкой, а мы? Думаешь сейчас. И паршиво становится на душе. Есть же гады люди, их ни срок, ни изоляция не страшат и не волнуют. И неглупые люди, с умом и изобретательны, а творят безобразия, лишаясь многого. Осипов напился, ну и иди на общие работы. Долби и мерзни. Ешь баланду и корми вшей. Зарабатывай зачет. Не сознают люди, сами отталкивают наши блага, тепло, питание, легкий, по сравнению с общими работами, труд. Человеческое авось пагубно и бесцельно, не приносящее пользы мероприятие. Вот век живи и весь век учись. А, пожалуй, верно, что дураком умрешь.
Все же начальник порадовал! Чтоб его громом расшибло, продвижение началось. Премирует, ну служить как медному котелку. Как же вывернутся?
Что изобресть? Я всего три месяца, из них два абсолютно один. Новый человек на незнакомой работе. Взяли в отпуск политрука. Работай и изобретай, крутись и выкручивайся, никакой существенной и несущественной помощи.
Вот работка! Но ведь не легендарный же был Лоуренс. Начну и я. Вечером приехал помполит. Зарядка, накручивание. Прорезались до 4-х часов утра в бильярд и уехали. Что же, у нас и это развлечение, лучшего не сыщешь. Заработать БАМ что ль? Глупо, это самый легкий выход. Все же с весной еще тяжелей будет. Для меня свобода — больше 80 % жизни. 38° холода, ветер. Поворачиваешься то одним, то другим боком к печке, а к жизни пока имеем право повернуться только одним боком.
22 [января]
Посмотрел в окно и подумал. Тюрьмы нет, но какая разница, кругом пусто, пойти некуда. Холодно и ветрено. Идти не хочется, да и некуда. Сегодня выходной, но на душе неспокойно, а если так, то какой отдых. Зимовать придется по плану здесь, но мы [неразборчиво] приказ и поехали.
23 [января]
Бредешь по колено в снегу по тайге на 14 подкомандировку и ни о чем не думаешь, а только об увольнении. Даже инцидент с огоньками — и тот не волнует. Вот же сорванцы, не хотят идти на ф-гу и только. Раздеваются догола на 40° мороза и со станции на ф-гу бегом. Не мерзнут же черти. А что за удовольствие в этом, не знаю. Никак не идут в штрафное помещение бабы. Пошли на хитрость. Садится на вахту стрелок вновь прибывший, с карандашом и бумагой. Вызывают, допрашивают, потом сажают, говоря: подождите, и так следующих.
Принес 10 кило яблок моченых. Как хорошо поесть кисленького. Под койкой ледник, яблоки замерзают. Вот это жизнь. Прошелся до Улетуя вечером, в шинели. Забирает. Моргает керосиновая лампа, коптит. Наверно я после БАМа буду с удивлением смотреть на электро. Январь проходит, а там февраль — март. Весна и лето пролетят. Куда торопимся? Почему спешим жить? Не знаю! Торопишься, ждешь лучшего, а за ожиданием смотрим — жизнь-то и пролетела. Интересует меня и премия, но и не хочется продвинуться; но как будто становлюсь медным котелком.
24 [января]
Хотя скорей бы тепло. Вопрос дров, вопрос жизни и конца строительства. Вопрос осложнений охраны с з/к. Жгут шпалы, возят возами. Здесь немного, там немного, а в общем уничтожают тысячи, уничтожают столько, что страшно подумать. Начальство или не хочет, или не может додуматься, что дрова нужны и что шпалы обойдутся и обходятся дороже. Наверное, всем, как и мне, служить в БАМе не хочется. Поэтому не обращают внимания ни на что. Крупные чины, члены партии, старые чекисты делают и работают на авось, махнув на все рукой. Чего же, спрашивается, надо мне? Демобилизоваться сейчас не удастся, значит надо продвигаться, но будь начеку. Тут еще бойцы, черт бы их съел, куклы какие-то. Состав з/к — лишь бы отбыть срок, состав в/н идет в БАМ кому некуда больше деться. […] Манекены, живые куски мяса. Ну, хотя бы несли службу хорошо, нет же и этого. Вся дисциплина держится на Ревтрибунале, на страхе. Приходится быть артистом. Надо ли продвинуться? Лучше ли нач. отряда?
25 [января]
Как-то радостней и легче работается, когда имеешь помощь — совет — инструктаж со стороны начальства. И многие невзгоды становятся не так тяжелы. Вечная натянутость, разница в чинах, крутить и крутить, вот армия. Замерз ночью основательно. Чихаешь, и насморк как фонтан из буровой скважины. Дни становятся длиннее, солнечнее, но не радостней. Наша радость будет чиста и полноценна, искренна тогда, когда уволимся из БАМа.
Просидел весь день со стенгазетой.
Что нужно человеку из имущества? Три пары белья нательного и постельного, три пары портянок и носков, валенки, сапоги, три носплатка, верхнее обмундирование, одеяло, подушка и все. Еще маленькую кучку денег и все в порядке. Бедна наша жизнь в БАМе.
27 [января]
На проход до Буреи. Это значит девять километров до 29-й да 28-й, до дому. На мосту не пропускают. Что я за командир НКВД. Наши же части нас же и знать не хотят. Надоело писать о шалмане. Пара коз подбежала к ф-ге на 300 м, пока за винтовкой туда да сюда, замелькали хвосты. Одна набралась смелости, пробежала под мост. Пришел в 5 ч. утра. Спать, конечно, холодно. Нагружаешь на себя черт знает сколько, тяжело, но холодно. Напало какое-то бездельное настроение. А впереди ничего отрадного. Уполномоченный 3-й части Морозов так же безнадежно отзывается об увольнении. Поживем — увидим, не может быть того, чтобы не было выхода.
28 [января]
Как все уставное относительно и особенно у нас. Отправляем этап. Часть приняли, проверили, часть не поехали. Уполномоченный ругается, мы протестуем. Уполном. прав и мы правы. На случай чего-либо мы будем виноваты, если не отправим людей, тоже мы виноваты. Как-нибудь. Тут еще план, черт бы его затащил в пекло. БАМ — ссылка всем вольным и невольным. Вчерашняя усталость сказывается и сегодня. Было бы отдельное помещение, ушел бы от ребят и лег с семи часов. Здесь же как то неудобно.
Надо же придумать — из матраса сшить юбку, вот и ищи, куда дела и где продала. Надо домой написать. Но что писать? Хочется спать.
29 [января]
Простыла шея. Ни согнуться, ни повернуться. Болит голова и насморк. Съездил на 13-ю и 14-ю подкомандировки. К. о. Сивуха гонит галопом своего серого, а мой черт не дает выйти вперед, храпит, ведет ушами и рвется. А на душе так пусто, что самому жутко.
Кажется, что кругом не живой нормальный мир, а что-то странное, неземное, где я хотя и живу, могу мыслить, но не выражать вслух свои мысли. Двигаюсь, но все это ограничено. Надо всеми моими деяниями тяготеет меч Ревтрибунала. Всегда связан морально: то нельзя, другое нельзя, и чувствуешь себя вместе с обществом душевно, но отделен непреодолимой, хотя и хрупкой перегородкой. Чувствуешь свою силу и в тоже время бессилен и слаб — ничтожен. Безнадежность и апатия, почти отчаяние неосуществимости многого. Ходишь по тропам этого мира вслепую, не зная, что можно и чего нельзя. А мысль что бурав сверлит мозг: «Надолго это? Неужели на всю жизнь? Впереди десять лет жизни, и их не дают прожить по-человечески. Неужели отчаяние?» Приходится бороться за мелочи: баня, сахар, спички, чистое белье и многое-многое другое. А тепло, дрова — это достается чуть ли не ценой жизни. Мы же, охрана, бессильны.
30 [января]
Проходит чистка стрелков. Лучших оставляют.
На этом примере надо учиться. Надоело писать о безобразиях и о плохом. Но что хорошего можно отметить? Разве привезенную политруком белую булку? Составляешь месячный отчет, отчет бамовский, не без туфты. Как будто и дела особого нет, а за делом весь день. К вечеру что-то знобит. Сидишь в шинели у буржуйки, а голова налита свинцом. На случай болезни ни врача, ни медикаментов. Пока да что.
31 [января]
Январь кончился безрадостно и горько. Так же кончатся февраль, март и т. д. Так кончится вся жизнь в БАМе. Сегодня солнце порадовало теплом. Немного пригревает, ну и хорошо. Кашель и головная боль. Постараюсь пересилить. Надо бы сходить на охоту, но как позволит самочувствие? С калужанки скинули тюк з/к. Ну и что ж, ничего не будет. А они пропьют мешок крупы, сахару или еще чего.
Спасибо и на этом скажут, не забывает власть советская нас и здесь.
1/II
Сравнительно тепло. Результат генповерки — нет одного человека; куда делся и когда, не известно.
Поднимают в час ночи, встречайте нач. 3-го отдела. Иду со стрелком на Улетуй. Тихо, без шума прошел поезд. Сижу весь день и читаю газеты. Жить стало лучше, жить стало веселей! «Где это? — спрашиваю я. — Уж не у нас ли в БАМе?» У нас доедаем последнюю сушеную картошку. Мы пока что живем теоретически газетным материалом. Попробуй, скажи истинное положение вещей, всыпят, закашляешься. Скорей бы сдали перегон. Все же лучше не читать газет, иначе можно сойти с ума. Но почему же? Почему меня выбрали для БАМа? Почему Доронина?
День заметно прибавился. Скорей бы тепло! Буду рисовать, может быть, забудусь.
2 [февраля]
Ждем с утра пешеходов БАМа. Идут из Свободного во Владивосток в противогазе, с ними собака Джим. Идут в валенках. В спортивном мире давно установлено, что валенки абсолютно не спорт. обувь. Меня мало интересует это мероприятие, когда личная жизнь не жизнь, а жестянка.
Дал им несколько советов полезных, проводил до Журавлей, но все же позавидовал, потому что они все же на много дней избавлены и от набегов, и от БАМа, а разве это плохо?
3 [февраля]
Два стрелка клюнули. Ну и что же, так, пожалуй, и надо. Ведь все мы в целом ни в чем не видим отрады. Да и нет ничего. Сеченая крупа да мясо. Кто находит развлечение в театре, которого у нас нет. Кто еще в чем. А кто и в вине, благо его покупай, сколько хочешь. Поневоле запьешь. Может быть, мне только кажется, но как будто стало теплей, да и солнце ярче. Иду с политруком на Журавли, а он откровенно жалуется на жизнь. Я его вполне понимаю и сочувствую. Скрывать тут нечего, плохо так плохо. Ну, мало денег, у нас можно послужить годика три. Подзаработаешь деньжат, да и домой, женись после армии. Справить можешь кое-что. А нам? Нам жить надо. Пока в голове один способ уволиться. Заявление с описанием всех прелестей.
Но время покажет. Может быть, и случай подвернется, а он бывает всегда, везде и для всех. День стал заметно длинней.
4 [февраля]
Лает ночью собака неистово, посылаю дежурного. Слышу:
— Что за люди? Стой!
Вбегает.
— Товарищ командир взвода, спрашивают вас, знают фамилие.
Надо вставать. Лыжники в шлемах, с маузерами. Входят, рассаживаются у печки, греясь. Вроде ничего ребята, но черт их знает, надо разоружить.
Наган в руку, дежурный дрын на изготовку.
— Снять оружие!!
— В чем дело, тов.! Почему?
— Давайте оружие!
Взял.
— Документы.
Есть и все в порядке. У селектора деж. по 3-й части.
— Как дело, есть сведения?
— Нет!
— Отпустить?
Погрелись, дал по яблоку, отдал оружие, пошли пешим ходом. Проводил до Журавлей, а там еще одного зажали. Строптивый, ну ничего. Молодежь. Пошли на Архару. Неорганизованно, ни питания, ни ночлега. Вот как работают спорт. организации. Вот на что натыкается энтузиазм. А отсюда делай вывод. Много еще надо работать, много надо сломать косности и бюрократизма.
5 [февраля]
Солнце ласковее греет, даже припекает. И днем уже тепло, 15–18°. Дождемся и мы лета и побегов. Но гнетет недохватка продуктов, недохватка обуви и белья. Обещают все, а в центре — так там считают, что у нас рай. Мы же живем теоретически. Теоретической крупой, жирами и обмундированием. Живем теоретической заботой о себе из центра, и говорят, что это помогает. А мне что-то не верится. Может быть, я человек не такой. Мне дайте самым простым образом, без пафоса и самое необходимое. Сегодня галушки и самодельная лапша. Завтра лапша и галушки и т. д. без конца уже в течение месяца, но это не…
Придется пройти 40 километров. Сколько раз не хотел, но приходится. Обошлось без ходьбы. Правда, прошелся до моста, где не пустили, охрана права, но наше начальство, нежелание или косность, бюрократизм, волокита или, наверно, проще всего, бессилие. Ну да ладно, одно слово — БАМ. На 29-й в 5 [км] грязь, грязь. Надо удивляться, что охрана еще держится. Одним лучше, чем на общих работах, другим надо денег подзаработать, а над некоторыми меч Ревтрибунала. Так и живут. А вот вам культура. У всех по одной простыне, по одному полотенцу. Найдите выход. Надо каждый день умываться и спать на простыне. Стрелки в/н уже раскаялись, раскаялись горько и злорадно. Есть и такие, что меня удивляют. Работали на Беломорканале, на Турксибе, а сейчас в БАМе. Что за люди? Дураки, идиоты или ни на что больше неспособные и не могущие приспособиться в жизни.
Хочет уволиться Шатахин и уехать в Ростов. Может быть хорош и Ростов. Привычка с детства или воспоминания о лучших днях жизни, прошедших в каком-нибудь месте, заставляют стремиться. Я так хочу жить в самом захудалом уголке Москвы, чем в центре Ленинграда. Партийцев оставляют силой, иначе [говоря], в порядке партдисциплины, а беспартийных на основе какого-то постановления правительства, приказа, которого не только никто не читал, но даже и не видал.
6 [февраля]
На 14-й уперся монгольский черт, расставил ноги и ни с места. Били, тащили в поводу, никак. Подхватил галопом 8 километров. На обратном пути попал нач. 13 ф-ги Осмачко. Пары добрых коней быстро мчат санки. А мой черт рвет галопом и весь обратный путь. В мыле весь, вертит головой, храпит. Ну, черт. Чувствуется, что завтра оттепель будет. Ночь провел в тепле, какая радость и как приятно.
7 [февраля]
Начал выводить людей на зарядку утром. Стали хоть не такие сонные. Тепло и пасмурно. Воздух влажен и сиз. Не холодно в кожаных сапогах. Посмотришь, верно, и наша жизнь арестантская. Стрелок с 7 утра и до 6 вечера дежурит на производстве. Заботься о курвах, а их 300 человек. Пришел — надо же отдохнуть, а тут занятия, у него глаза слипаются, а ему караулы, начальники [неразборчиво]. Вот и скажи, кто свободней чувствует себя: з/к или мы.
Снова тепло. Ночью так даже жарко. Потихоньку приступают к строительству моста. Но есть разговор, что нас скоро на восток. День прибавляется заметно.
И достаточно тепло. Хожу в шинели и в кожаных сапогах. А на душе что-то неспокойно. Знаешь, что за побеги, ну, посадят суток на десять и только, но все же на кой черт мне это все. Уполномоченный 3-й части Морозов, тот учился на это дело. Чего же удивляться, ведь идут же в нормальные школы.
Но я, простите за грубость, не могу быть дураком. Даже паршивый забор Московской окраины кажется дорогим и близким. Но ведь никто моего настроения не поймет, да и никому оно не нужно. Сидишь весь вечер на своих 3 м³ и балдеешь. Можно стать идиотом. Надо же выдержать все это.
В ста метрах лагерь. Поста нет, иди сколько хочешь и куда хочешь. За побеги тянут. Как вот здесь выйти из положения? Лучше все же иметь квартиру отдельно от команды. Ушел и делай что хочешь. Не на чем и негде забыться. Летом будем уходить в сопки. Но до лета надо дожить.
9 [февраля]
Оттепель держится, хорошо.
Седлаю черта, не идет никак, вдруг подхватил галопом, не удержишь. На 13-й и обратно даже весь в мыле. Попробовал без стремени, получается, только на поворотах держись, вылетишь.
Солнце, солнце, сколько радости ты приносишь людям. Как живительны твои лучи. Даже и несчастья иногда забываются. Насколько же милей ты на свободе. Или там про тебя забывают? Нет, я всегда относился к тебе как к богу. Ты даруешь жизнь природе, ты людей миришь и делаешь их ласковей и веселей. Ты вдохновляешь и приносишь радость. Ты источник жизни. Ты единственная радость для меня. Многие самые близкие друзья не пишут, забывают, но ты нет. Ты каждый день утром и вечером питаешь мою душу красотой. И днем, когда твой лучезарный диск высок в небе, я в тебя влюблен, твой луч, ласкающий и теплый, так радостно играет на щеке, я оживаю. Я полон сил. Уезжает 14-я — ну и хорошо, но надо ехать самому грузить. Посылаю помкомвзвода, ему нужна практика.
Мозг сверлит одна мысль, сверлит до боли. Я что-то знал, стремился, давал пользу, был педагогом, был книгой для других. А теперь эта книга, страницы зачеркнуты. Что я? Для чего я? Так и не пойму. Как командира меня не признают даже стрелки Кр. Арм. Охрана моста — она конечно права: не ходи без пропуска, но относиться надо как к командиру.
Живешь затерянный в Д. В. К. как белая ворона. И чувствуешь, что если вернешься в гражданское общество, будешь отсталым и диким. Будешь чувствовать свое ничтожество. Можно конечно служить, хотя я не намерен, в охране, когда достаточно стрелков, когда имеются права, когда тебя ценят и ты удовлетворен, хоть необходимым. Но я лучше буду терпеть недостатки, нежели служить в БАМе. Какое может быть качество службы, когда даже политрук, а может быть не он один, тоже не хотят служить. Плюс ко всему приходится зависеть от з/к нач. ф-ги. Как это хорошо, ну прямо прелестно.
Вечер. Кроваво-красным диском взошла луна. Багряным делается дым, попадающий между мной и луной. Грохочут поезда. Едут люди, едут свободно. А мы когда поедем так?
Накручиваю ребят. А дальше? Дальше ужин, а дальше? Дальше сиди и балдей. Читать нечего, пойти некуда, поговорить, пошутить не с кем. Держи себя напряженно, стрелки кругом.
10 [февраля]
Ну и денек! Началось с ночи. Только лег — к селектору. В час ночи снова. В три часа на станцию. В шесть туда же. Измотался. Вот так Каганович. Один приносит столько беспокойства многим людям. А тепло радует. Трудно что-либо записать, голова дурная. Зеваешь до боли в скулах. Плохо, когда умничает начальство. Изобретает, выдумывает, а мы отдувайся. Предстоят большие переброски. Куда-то забросят меня. В армии уют, быт, культура, забота о бойце, забота о человеке, о его не останавливающемся развитии. О прогрессе, о новом человеке. А у нас? У нас всеми признанная глушь, регресс. Хочется задать вопрос, хотя и смешно: почему у нас шалман? Почему мы и за что все же… Почему нет заботы о нас, почему мы хуже других? И чем я отличаюсь, хорошим или плохим, от всей массы?
11 [февраля]
Потихоньку шутя, издалека, помполит намекает о шефстве. О хозрасчете. Если больше выполнено ф-гой плана, больше получает комвзвод. Я конечно на эту удочку не поймаюсь. Как можно быть стахановцем, когда я не хочу работать в БАМе больше года. Прояви себя, тогда не вылезешь. Во всяком порядочном деле могут быть беспорядки, но у нас больше беспорядков, чем порядков. Нажимают на охрану, намекают на хозрасчет, а не бьют прямо по цели. Разные там воспитатели К. В. Ч. лодырничают, пьянствуют, безобразничают, а охрана веди за них работу. Начальники фаланг против охраны. Восстанавливают з/к, а мы как будто должны играть в куклы. Укротите начальников и не подрывайте нашего авторитета. Увольте меня сейчас без зарплаты за месяц, соглашусь. Соглашусь сам уплатить за месяц. Какая может быть работа при таком настроении? Все же меня интересует, куда девают людей с образованием, которые могли бы быть нач. ф-ги, воспитателями и т. д.
12 [февраля]
Солнце вступает в свои права. После обеда с крыши течет. Радостней становится на душе. Но эта радость еще больше подчеркивает наши черные стороны. До сего времени не нашел средства, способа уволиться. Напротив окна готовят точки, готовятся к разборке и строительству моста. Стучат топоры, и сколько в этом стуке воспоминаний о свободе. Сегодня выходной в Москве. Ехал бы я на трамвае домой, планируя вечер.
Побыл вчера на 14-й подкомандировке, рассказал ребятам о происхождении мира и человека. Часть поняли, часть нет. Все же слабо развиты. 20 километров пешком и как будто так и надо. Зло берет на 3-ю часть за то, что нач. ф-ги распоряжается, хотят делают, хотят нет, для охраны что-либо. Не оборудует Старикова ВОХРе вагон, да и только. Психует. Приедет политрук, узнаем, в чем дело, да и напишем декларацию.
13 [февраля]
Сопки, тайга да мысли. Все это в какой-то пустоте. Причем пустота ограничена. Заграница — другой мир, знаешь о его существовании, но пребывать там не можешь.
14 [февраля]
Пертурбация. Но мне от нее что-то того. Принимаю 5-й взвод. Прибавилось еще 10 километров.
Ну и шалман. Никакой дисциплины. На обратном пути зашел в ОЛП Бурея Мост. Живут же люди — тепло, чисто, светло и просторно. Электричество и радио. Канцелярия — целая квартира. В канцелярии, даже смешно, вывеска нач. охраны, помполит, делопроизводитель. А я живу! Надо ли вспоминать? Лучше не расстраиваться.
На Кулустае наколбасили. Пролетели закрытый семафор, наши и врезались в мотовоз. Два паровоза на кладбище, да мотовоз, три вагона туда же. Вот же сволочи, имеют статью за вредительство на транспорте и все же напились, стервы, да на паровозе. Будет вам. Морозов, Морозов! Вот уполномоченный, ну да он человек тоже. Ударят за Стариковой. Передали, что прислали посылку. Долго думаю, кто бы, и что бы могло быть. Еще можно сказать радость, телефонограмма выехать за премвознаграждением. За что не знаю и даже странно. Но как-то получается у меня, лезу вверх. Я не хочу, но что делать? Не премировали ни одного командира взвода и политрука из старых, а меня выделили, чудно. Утешительного в этом мало. Не хватает стрелков, что делать, как изворачиваться. […] почему убираем?
15 [февраля]
Ну, сам сатана не разберет что и как.
Начальство уехало принимать отряд. Уезжают ф-ги, забирают стрелков. Бедлам, да какой. Еду в штаб отряда получать премию. Выдали 250 рублей, за что не знаю, но догадываюсь. Все же я выше многих комвзводов, а может быть, метят меня повысить? Узнали бы, что я думаю, так сказали бы ласковое слово. Получил и посылку. Хотелось долго не [в] скрывать, хотелось отгадать, что бы могло быть. Но вскрыл и… Яблоки с мандаринами. Хахаха. Не ожидал и никогда бы не додумался.
16 [февраля]
Серенький день. Падает снежок. Скоротать время иду на 13-ю, так с глаз долой. Рядом шагает писарь штаба Савчук. Вспоминает Ленинград, вспоминает Беломорканал, вспоминает туфту. Не было бы туфты и аммонала, не было бы и Беломорканала. Нет групповозов, з/к не дают проводить политзанятия. А есть сильные ребята, сильней в/н и пользы дадут больше, но что сделаешь? Нельзя! Надо все же мне перебраться куда либо на частную квартиру. Иногда хоть выспаться хорошо. Собраться с мыслями.
17 [февраля]
Снова солнце, но восточный ветер холоден. И нет от мыслей мне покоя. Их не удержишь и не запрешь. Эх мысли, мысли, это что-то такое Чего не остановишь и не возьмешь. Москва, завод, стук молотков и визг пилы, Станочный грохот, цех в пыли. Луч солнца сквозь двойные рамы Так ласково играет на стене Идут ко мне, и я иду ко многим. Работа здесь кипит и спорится, в огне. А только дверь за мной затворится из цеха Вздыхаю я глубоко и свободно… А предо мною лицо. Трамвайный грохот шум авто. Гудки, сирены и светофора красный глаз Топтанье ног по тротуару, И как в угаре, спешит, спешит народ. У всех свои дела, свои переживанья. Один в театр, другие на собранье. И я средь всех спешу на стадион. Таких как я, быть может миллион? Жизнь города так многогранна Так скучна, но в то же время так отрадна Что иногда так хочется уйти сквозь землю провалиться, И иногда готов хоть слиться вот с этой шумною толпой. Идти кружиться, окунувшись в омут с головой. А здесь? в тайге! Такая тишь вокруг, покой и прочее Лишь слышны дятла стук да речь сорочья. Один я без друзей, с душей встревоженной. Бреду как берендей тропой нехоженой. Мосты депо, пути вторые, трасса. Слова и речи громкие. Все это нужно, нужен пафос И без туфты и аммонала не построили бы Беломорканала, так говорят у нас. И без туфты без амонала, да без нас б…… вам не построить бы вторых путей. Свирепый холод, сопки. Преступный мир. Лопаты, кирки, аммонал. Приказы, сводки о побегах и шалман, шалман. Все перепуталось, переплелось, сумбур какой-то, И не поймешь, не разберешь что здесь такое. Не знаешь, где ты прав, где виноват! А иногда не знаешь, что ты должен делать. Не надо забывать и про людей, про командиров. Все говорят, что в вас ведь сила. Вы представители советской власти. Но ведь не в этом счастье. Мы люди мелкого пошиба и размаха Было бы самое необходимое, тепло, ну чистая рубаха Квартира, чтоб отдельно от телят, свиней! И больше ничего, ей-ей. Не претендуем мы на белый хлеб на масло. Не претендуем на театры на кино. Нам было бы одно. Хоть ночь проспать спокойно, Иль день использовать бы выходной. Ну и мечта заветная избавится от БАМа, Уехать бы домой.18 [февраля]
День командирской учебы. Но приехать во взвод, надо обладать для этого многими качествами. А первое из них — быть тупоумным. Т. е. прийти на станцию часов в 5 утра и ждать, когда пройдет экспресс. Прошел, но на проход. Значит надо зайти за семафор с километр и сидеть в чистом поле на подъеме. Второй вариант проще — пройти пешком 40 километров. Накачиваем. Командиры слушают, верят или нет? Принимают во внимание или нет? Черт их знает. Человеческая душа — темный лес. Занимаешься и думаешь: командиры здесь, не случилось бы чего в отделении? Но зарядка все же действует. Ложишься спать и думаешь: вызовут к селектору или еще куда? Вот и усни и отдохни. Скорей бы кончилась переброска фаланги. Скорей бы все стабилизировалось! Снежок потихоньку подсыпает. Пасмурно. Пасмурно на улице и на душе.
19 [февраля]
Хочется многое записать, вложить в перо все думы. Но не выходит ничего. Решил проветриться на 10-ую верхом. Летит галопом огонек. Серый ком. отдел отстает. Поют ребята вечером, поют здорово. И я бы подпел, да неудобно прерывать своим приходом их веселья. Гложет душу побег. Только и думаешь: ну, начнут тикать, срываться.
Тут еще аммонал лежит в коридоре 250 кило, ну взорвется. Убрать в ларь. Надо ставить пост, а где люди. Ограбили ларек на 30-й. Что же им привыкать что ль грабить.
20 [февраля]
Выходной. Холодно. Отдыхаю.
21 [февраля]
Пусто. Редактирую стенгазету. Как безграмотен Романенко, командир взвода. Вот таким можно служить в БАМе. Больше им, пожалуй, и нет места. Я бы в гражданских условиях на работе побоялся сказать, что это комвзвода, стыдно не за него, а за себя. Где-то простыл. Болит спина. Тянет за душу гармоника, рвотный порошок. Можно посмотреть на карту Д. В. К. Пойти в Бурею и просто сказать: «Вот здесь», но не так просто прожить здесь хотя бы одну зиму.
В системе государства человек — ничтожество как человек, используют, как специалиста, а на личные желания наплевать.
22 [февраля]
Ушел с утра в тайгу, чтобы хотя немного забыться. Иду сибирским трактом. Попалась пара тетеревов.
Стрелять не успел. Не хочется идти домой. Хорошо, что нет побегов. Все же надо устраиваться как-то отдельно от стрелков. Тогда хоть вечер можно отдохнуть. Заглох наш мост. Из 220 з/к на работу выходят 80, остальные сидят по баракам. Кормят их, как и всех, чего же, спрашивается, им работать? Начальник отделения знает, но ничего не предпринимает. Ну а мне что ж, больше всех надо? Многие скажут: «Что ты все про себя пишешь? Написал бы про быт з/к».
Можно конечно и про з/к писать, только тогда, когда своя жизнь устроена и ты спокоен. Когда ты удовлетворен хотя бы самым необходимым. Можно тогда интересоваться жизнью других. Можно восхищаться стройкой и трудом, созерцая из вагона поезда и особенно тогда, когда едешь домой. Не будучи конечно работником БАМа.
Нравится политруку езда по отделениям. Успевает на два-три дня. Что за удовольствие.
В 10 часов вечера получаю приказ. Сдать и отбыть. Что-то впереди. Как-нибудь устроимся, в БАМе ничего нельзя — и все можно.
23 [февраля]
День Красной армии. Сдаю 5-й взвод да готовлю к сдаче 4-й. Что-то впереди, где-то и как-то я буду. Беспокоит переезд. Таскайся с вещами. Устраивайся. Пожалуй, жаль и 4-й взвод, как бы он плох не был.
24 [февраля]
В Архаре да сдача взвода.
25/26 [февраля]
В Завитой. Бессонная ночь на калужанке. Дурной весь день. Вызывает начальник и назначает комдивизиона. Попался медный котелок. Сижу у Савчука, патефон тревожит душу.
Получаю удостов. Начинаю формировать штаб дивизиона. Увидался с москвичами. У кого-то длинный язык и ухо. Нач. отряда намекает о демобилизационном настроении. После тайги населенный пункт кажется странным, надо привыкать. В общем, я ненормален, бессонные ночи сказываются.
И радость, бурная кипящая радость, которая вывела меня из равновесия. Телеграмма с поздравлением ко дню Р. К. К. А. Войду в […]. А скрипка рвет в клочья душу. И некому слова сказать. Некому задать вопроса.
Я не могу, не в силах.
Тупо мое перо.
Оборвалось на полуслове.
27–28 [февраля]
Как и январь, также прошел февраль. Сдвинули, хотя временно, с комвзвода. Но если задвинут, то будет разговоров. Отдыхаю. Может быть, начну с 1/III, но едва ли. Пусто, пусто. Получил еще телеграмму.
1/III
Отдыхаю. Нет начальства. Приедет, наверно, гонка будет. Пока что не устроился. Играю с помполитом в шахматы. Идем обедать, где — интересный момент. Зав столовой спрашивает:
— Будете сдавать аттестат? Если будете, то какая ваша категория?
Я ответил, что не знаю пока что, но не выше 8.
Помполит посмотрел и скривился. Наверно, думает: «Ишь, куда лезет». Оборвали мысли и запись.
2/III
Носишься, как угорелый. С ума сходишь. Неполадки, ругается, жмет начальство. Некогда написать письмо. Никак еще не устроюсь. Хорошо на улице днем, тепло и приветливо.
3 [марта]
Три побега. Началось. Бегаешь и крутишь. Крутишь исподтишка. Вызывает нач. отряда. Тоже закрутка. Надо налаживать. Вчера на собрании курсантов сказанул. Почему-то я пользуюсь авторитетом. Слушают с вниманием, устремив на меня глаза. Дни летят в вихре. Многим кажется, что чем выше пост, тем легче, но как раз наоборот. Нет личной жизни никакой.
4 [марта]
Стал поспокойней. Жить негде и топить нечем. Дров или угля даже не купишь.
Кончают перегоны. Кончают ценой ревматизма, гриппа и других заболеваний. Сводит ноги у меня. Помещение не топлено восемь дней. Заболел комвзвод 3. Жены нет, ну и заботиться о нем некому. Хожу, тормошу помпохоза: «Дайте дров!» Радуют хоть солнечные дни. Крутишь, и крутят меня. Никак не сосредоточишься. Никак не войдешь даже в нашу колею. Не делают ремонт. То ли не хотят, то ли не могут получить законно материал. В таком шалмане надо бы пользоваться. Я пока не огляделся, огляжусь — сделаем.
5/6 [марта]
Два дня идет совещание. Говорим много, но по-бамовски. Вспоминают мою абиссинку со смехом. Напали (критикуют) политрука Голодняка. Он вскакивает, заявляя, что не перенесет и застрелится, хватаясь за наган, но у него отнимают. Думай и делай вывод. Чем вызвано, где корни? Не продолжение ли Майхеровской истории и взаимоотношений нач. отр. с комполитсоставом. Мне завидуют в моем положении. Карманьчук советует: будь во всех делах бамовцем. Я так и делаю. Все же дар речи — большое дело. Мое выступление слушают внимательно. Боюсь, засосет меня БАМ. Надо быть настороже.
7–8–9 [марта]
Жизнь никак не налаживается, конечно, по-бамовски. Радует погода, лужи и живительное солнце.
Ни событий, ни случаев. Устается только здорово. Не налажен дивизион. Надо проводить занятия в учебном взводе. Намекнул нач. отряда о том, почему я не еду на периферию, но так благородно:
— Сколько раз я вам говорил, выезжайте.
— Нельзя бросить уч. взвод.
И все. Все неопределенно и неизвестно, но за занятиями не замечаешь так остро всей пустоты одиночества. Всей расхлябанности и беспорядков БАМа. Получишь письмо и переживаешь. Как же далека Москва, а все же она ближе, чем Завитая, в которой я живу.
10 [марта]
Плохое политико-моральное состояние курсантов, жалуются на недостатки. Правы. Кто захочет обедать стоя? Я бы не хотел. Говорят, что, как правило, грамотных людей в охрану не дают, весело.
Вспомнилось почему-то, скольким я увеличил срок. Как ни стараешься быть спокойным, но иногда прорвет. Кому-нибудь и дашь арест. Помполит советует занять частную квартиру. Если будет удобная, я не против. Может быть, зайдет ко мне побалакать. Я желал бы быть в учебном взводе. Наше зло, побеги, свалились бы с меня.
Как все же недалеки взгляды жителей Завитой. Хата, хотя и с комнатами, но с какими. Дощатые перегородки делались, по-видимому, не для того, чтобы скрыть от взоров посторонних жильца, а потому, что надо же было затратить куда-нибудь доски. И получилось больше щелей, чем материала. Деревенские взгляды. Узкий кругозор, не дальше Завитой по площади и не дальше двух групп по общему развитию. Ничего их не интересует и не волнует. Родились, женились, обзавелись детьми, состарились и умерли. Что отметить в жизни кроме указанных моментов?
Нечего. Наша жизнь, что дым из трубы. В начале тонкая струя, но густая, сочная, потом расплывается, редеет и пропадает никому не нужной и незамеченной.
Относит ветер в одну сторону, относит в другую, разбрасывает…
Сидим с политруком у помполита и крепимся, но чины, чины, разница сказывается.
11 [марта]
Выходной. Что-то похолодало. Восточный ветер. Бледное солнце. Собираюсь с начбоепитом в тир постукать из мелкокалиберной. Не упустить бы момент. Надо бы отдохнуть. Поваляться в казарме неудобно. Вчера что-то устал здорово, чувствуется общая утомленность.
Стреляем из мелкокалиберки с политруком и начбоепитом. Я от них не отстаю. Правда, из нагана вопрос спорный. Попал в семерку, но как-то неуверенно. Пригласил помполит к себе сыграть в шахматы.
Надо устроиться на квартиру. Там, глядишь, в бильярдишко сыграем, соберутся. Мне развлечение, да и другим тоже. Побалакаем. Время проведем. Не надо будет как сегодня бродить по линии бесцельно и бесполезно. Выйдет ли что?
12 [марта]
Лужи стали внушительные.
Прерывают. Вышел командир дивизиона. Значит, я буду избавлен от побегов, если останусь на учебном взводе. Комнаты все еще нет и не предвидится. Начальство, конечно, наплевало на нас.
13 [марта]
Пасмурно и ветрено. Не знаешь куда деться. К себе идти не хочется. Ни заняться, ни отдохнуть нельзя, холодно и мешают стрелки. Наверно, ко мне прикрепили Нечепуренко для выявления политико-морального состояния и обработки для вступления в партию. Посмотрим, кто кого проведет! Как-нибудь добьем до тепла да прослужим лето, а там видно будет. Бамовский шалман везде, даже в занимаемых должностях. Политрук взвода комсомолец. Как такие вещи допускают? Редко попадет кадровый командир, все вриды.
Даже командиры отделений командуют взводами. Везде и всюду в первую очередь партийцы и комсомольцы, дураки ли они, могут ли работать, дадут ли пользу? Не важно.
Побыл вчера в бане, в настоящей, где никто не говорит, что много выльем воды. Тепло, свободно и чисто и не торопят. Посмотрю я на жизнь комсостава и подумаю, как живут и что делают? Ни пойти никуда, ни развлечься. Корпят дома и дичают. У отделкомов — деревня, а у начальства — большие чины, так и не к кому сходить. Становишься истуканом.
14 [марта]
Холодно убийственно. Ветер пронизывает до мозга костей. Записать нечего. Нечего, потому что жизнь пуста.
15 [марта]
Как будто потеплело. Занимаюсь с к. о. Ну и командиры. Кончили полковые школы, а ни черта не знают. Говорят, что я — белая ворона. Да это, пожалуй, так и есть. Дико мне среди такого комсостава, некультурны, невежественны, малограмотны и т. д. Но чины, что же поделаешь. Чем объяснить, не знаю, а ремонт мне все же не делают. Можно бы нажать, по-моему, но внутренний голос благоразумия говорит: нельзя.
Так вот и перебиваешься… Приехал помком дивизиона. Я хотя и молодой лагерник, но он кажется птенцом. Тяжело и дико ему. Подбодрил. Мирись дружок, партдисциплина. Привыкнешь. А Нечепуренко — тоже осведомитель помполита. Выявляет политико-моральное состояние. Ну, пускай стараются.
Сидишь в штабе, и не хочется идти домой, ну и уходит попусту время, жизнь. Считает Пахомов дни, а нам считать можно? Наверно можно, потому что затевают какой-то профсоюз. А раз так, то извините. Послужим год, а там всего хорошего.
16 [марта]
Что-то память изменяет, или еще что, только вчерашний день не помню. Вечером в 11,30 в штабе с помполитом сыграл в шахматы. А комнату все же не ремонтируют. Начальнику, тому достанут и материал, и рабочих, а нам нельзя, мы мелкие сошки. Да и как дать людей, ведь это преступление, надо кончать пути. Жить комсоставу без крыши — это не преступление. Не заботиться, не помогать нам — это не преступление. У нач. 3-й части кабинет разделан под лак, а кому это надо. Конечно, нач. Мне, так простую комнату теплую и больше ничего.
17 [марта]
Прорываемся с дисциплиной даже у партийцев.
Не считаются с исключением из ВКП (б). Ставят вопрос о квартире, доходя до бюро, а мы б/п куда пойдем? Новиков бузит, что перебрасывают, что не дают жилплощадь. А я не имел ее с приезда. Не имею и сейчас. 50 шт. горбылей для крыши и отепления выписать — преступление, нельзя. Нач. отделения сжечь эти горбыли можно. Спрашивается, кто же теряет свою жизнь в БАМе? Мы, живущие в конурах на холоде, или начальство, которое обеспечено всем?
Удивляюсь и не могу отгадать, почему нач. отряда благоволит ко мне.
18.19.20 [марта]
Ни личной жизни, ни переживаний. Эти дни пустотой, провалом так и останутся в жизни. Тяжело и безотрадно. Даже надежд на то, что в ближайший месяц лучше будет с квартирой, [нет]. Что я буду на месте. Как-то умышленно не хотят сделать перегородку в 1 метр и навесить дверь. Верно, что у нас [неразборчиво].
21 [марта]
Выходной. Весна вполне. Лужи и ручьи. Весна и красоты природы. Чувства. Но все поганит БАМ. Играю в шахматы с нач. отр. Узнаю подробность. Если проиграешь, то нач. весел и доволен. Если выиграешь, жди бури. Выигрываю две из трех — нач. идет на подлости. Берет фигуру как бы для хода, ставит ее на пятно, потом снимает, говоря: «Там стояла», — подставляя с расчетом взять что-либо, и берет. Низость.
Помполит приглашает к себе, но я увертываюсь. Чины и люди, разница. Чувствовать напряженно я не намерен. Чувствовать и делать вид, что я глупее их, не хочу. Квартира делает человека — окружающая грязь, переброски, временность распускают человека, не хочется, да и нельзя иногда гигиенично по-человечески умыться, одеться и т. п.
Богат будет материал, этот дневник.
Нет крыши над бараком. В помещение сыпятся опилки, мусор. Конюшня, а не комната. Приказываешь, носишь оружие, получаешь взыскания, значит, живешь, но что это за жизнь, которая укладывается в вышеуказанное. У всех разговоры вертятся вокруг увольнения. Партийцы решают оставить билет и уволиться. Есть распоряжение насчет профсоюза с разъяснением, что мы вольнонаемные. Вывод ясен. Помполит переделывает, скрывает, говоря:
— Если узнают, то, знаете, что у нас начнется?!
Понятно.
22 [марта]
Мерзость, а не погода. Ураганный ветер, снег, слякоть.
В комнате гуляет ветер. Сидишь в шинели.
Фронт. Негде посидеть, забыться, отдохнуть. Хорошо, что меня побеги не расстраивают. Все же чины раздаются не по знаниям. Можно быть пешкой, но около короля. И дело в шляпе.
Снова Огурцов заводит разговор об увольнении. Это больное место у всех. Скоро начальник уезжает в отпуск, намекая, чтобы я переселился в его квартиру. Ну что ж, поживем. Хотя временно, но хорошо. Мучает меня выигрыш у нач. в шахматы. Надо ему проиграть. Пускай успокоится. Думай — и дипломатия.
Придется померзнуть сегодня ночью.
А за что спрашивается! За громкие слова, чекисты, инженеры душ! Нет, спасибо, я вышел из возраста, когда прельщаются словами. За 400 руб. тоже не хочу. За эти деньги в Москве я в уюте, в тепле и культуре, а самое главное, спокоен и свободен.
Стрелки шляпы какие-то, пни. Удивляют они меня и раздражают до бешенства. Подбираются командиры по стрелкам и стрелки по командирам. Помполит 1-го д-на был командиром отделения в армии. А сейчас ему дико, наверно, самому за четыре куба. У нас чин определяется зарплатой до БАМа. Узнаю, что нач. отряда кавалерист.
Крутит поземка. Мрачно на душе. Но не распускаю себя. Вывернемся.
23 [марта]
Сугробы снега. Слякоть. А такое начальство везде в БАМе: малограмотное и некультурное. Но какие организаторы — дисциплина. Для меня такие начальники — куклы, которые от времени до времени выкрикивают: «Выговор! Арестую!! Посажу!!!» Как может мной руководить такое начальство. Но ведь он знает хорошо политику!? Я не занимаюсь и тоже знаю. Если буду заниматься, то берегитесь.
Зашел комдив вечером, делится впечатлениями, задает больные вопросы, как бы ища сочувствия и совета. Я дипломатически уклоняюсь от ответа. Скоро кончаются курсы, куда-то перебросят меня? Скорей бы тепло, тогда и кочевать будет легче.
Рассуждаем с Савчуком о философской пропедевтике, о логике. Стоит рядом комдив, да хлопает ушами, ничего не понимает, да и не поймет. Начинает появляться отвращение к стрелкам. Живые существа, разумные животные. Верней, последнее, животные. Ничем не интересуются, ничего не знают. Пни. Балдеют вечер, пять вечеров, месяцы, годы. Ни учиться, ни двигаться вперед не хотят.
24 [марта]
Снова зима. Выпал снег, и мороз.
Комнаты все нет и нет. Характерно. Освободилась одна, хотели вселить политрука, но комдив занимает сам. За наш счет делают ремонт у нач. отряда, проводят как для охраны.
25–26 [марта]
Сходил посмотреть комнату. Хорошая квартира. Чисто тепло, на стене ковер. Показалось дико. Как можно жить так, неудобно даже и занимать комнату. Культурные условия меня пугают. Вот до чего дожил.
Читаю докладную политрука, безграмотна, вот это работник для БАМа. Поблаженствовал в бане. А ночью холод. Ревматизм сказывается.
Распустило. Грязь по уши. Месиво из снега и глины. Где бы командиры ни сошлись, о чем бы разговор ни вели, сводят к увольнению, и партийцы, и беспарт.
Кончаются курсы младших командиров, куда-то направят меня. В комнате потоп. Где спать?
Иногда начальство и сказанет. «Мы из вас московскую прыть выгоним». Будем ждать, когда будут выгонять, мы меры примем.
27 [марта]
Мокрый насквозь от выхода в поле. Письма 3-я часть проверяет, вскрыли да штамп поставили, проверено.
Новиков, политрук, тоже не ладит с нач. отряда.
Попов судить, на то черти есть. Пускай они разбираются. Странная погода, днем тает, а ветер убийственный, холодный. Болят колени, ноют, и нет выхода. Обсушиться негде. Память изменяет. Голова пухнет от мыслей, сумбур.
28 [марта]
День встречает лучом солнца на стене сквозь щель. Первый миг радостен, как луч, но сразу БАМ обрушится на все, и еще больше подчеркивается вся наша жизнь. Жизнь неизвестности и… не придумать названия, потому что все плохое здесь.
Разложилось 1-е отделение, ничего нет удивительного. Где-то в тайге, без условий человеческого существования, т. е. без пищи для души и ума, без общения с культурным миром, а только пищи для желудка, будешь как животное. Волки и те собираются, играют. А мы? У нас запрещено двум одинаковым по развитию командирам служить вместе. Что за политика. Гоняют с места на место, говоря, сжились. Сумасбродство начальства, которое не может и не умеет разбираться в психике людей, действует разлагающе. До осени я продержусь. А в конце сентября амба. Или свобода, или срок. Все же пока один выход для увольнения — рапорт или выступление на собрании. За семь месяцев что либо изобретем. Да надо посмотреть лето на Д. В. К, буду знать весь год.
Быстрыкин — к. в., больной туберкулезом, а уволиться не хочет. Почему? Потому что это ему жизнь и хлеб. А мне — хахаха.
Приехал Голодняк. Почему начальство перевело сюда его? Милость ли или боязнь? В столовой разговорились с врачом, узнаю интересную особенность. Есть у нас врач, по формуляру он бухгалтер, но, видите ли, понимает в болезнях. Веселая история.
29 [марта]
Долго не могли расколоть взятого с паровоза. Устроился же на раме под котлом, где никогда и не увидишь. Второй, найдя бланк, путевку машиниста, приходил к дежурному по станции, как только тот уходил, ставил штамп, расписывался и дальше. Ехал за отставшего машиниста. Привели на ф-гу.
— А, здорово!
— Я тебя не знаю.
— Брось кантоваться!!
— Скурвились!
Нечепуренко заходит каждый день, задавая вопрос: «Почему я не хочу служить в БАМе?»
Узнаю, что меня назначают в комендант. взвод, укрепить дисциплину. Так будут гонять из взвода во взвод. Только наладишь, а тебя хлоп в другое место. Приятно.
Душевно отдыхаю второй день. Сидим в штабе и вспоминаем фаланги, да похождения з/к. Где кашу через трубу уперли, где зону подкопали и т. д. Солнце теплое, но ветер холодный.
Поигрываем в шахматы с Савчуком. Трепимся, разреш… [неразбрчиво]
30 [марта]
Рассказывает Голодняк про художества комдв-на Азарова. За это срок надо давать, но в БАМе в порядке вещей. Выпрашивает у взводного завхоза продукты и меняет их на золото. Отбирает половину огорода стрелков, а, уезжая, взамен огорода берет пару поросят. Это считают в порядке вещей. И новый комдв-на (Афанасьев), по словам писарей, пьет совместно. Карьеристы, но партийцы, им можно доверить и с них спросить.
И Голодняк хочет уволиться. Вот политико-моральное состояние политсостава. Подавал рапорт, вызывали нач. и помполит, погоняли, пугнули чем-либо. Ну, парню некуда деться, поэтому и остается. А так с мыслями об увольнении служат все, может быть и нач. с помполитом? Может быть, нет, может быть, служба в БАМе для них поприще проявления власти?
31 [марта]
Идут поверочные испытания. Ни в политике, ни в остальном. Ну и ком. отдел кадров частей. Мелют, вода кругом да около. Да и ком. дв-на знает так себе, по выражению Голодняка. Чувствуется мое преимущество во всех дисциплинах.
Нач. отряда уклонился от экзамена, дабы не подорвать свой авторитет незнанием. Хренков хотя и говорит, что делал выпуски школ, но у него нет педагогических знаний и навыков. Может быть, и выпускал, партиец, сидел, хлопал или давал немыслимые вопросы, на которые давали немыслимые ответы. Кончили в 2 ч. А денек прекрасен — тепло. Тает быстро, грязь…
1/IV
Так легко и просто приказали, и Савчук в 1-м отделении.
Так жарко шпарит солнце, ядреный лапоть. Играю с нач. о. в шахматы. Испытываю. Оказалось верным предсказания С. Нач. не игрок, а младенец, называет же меня игрочишкой. Мелочна твоя душа, и чувства низки и пакостны.
Грязища — не пролезем, один идет в валенках, шлепая, другой в лаптях, и так все кажется нормально. Бреду по линии и думы, думы.
На выпуске курсов к. о. нач. отделения произносит речь?!?! Набор общих фраз пустых и зачастую неуместных. Командиры, командиры. Жить все так же негде. Но надо до осени держаться в Завитой. Все равно летом охотиться нельзя. Осенью даешь Москву.
Пьянствуют стрелки убийственно. Пьют и сотрудники 3-й части.
Какое-то непонятное чувство ожидания. Теплее с каждым днем. В голове разброд, не вяжутся мысли. А в Москве живут, в Москве так, между прочим, говорят про БАМ. Не зная истины и слыша громкие фразы. Вечером Нечепуренко сообщает, что курсанты говорят обо мне: ком. взвода не в БАМе быть, попал он сюда по недоразумению. Это верно. Надо недоразумение исправить.
2/IV
Абсолютно нечего делать. Была бы комната, тогда другое дело. То один, то другой уезжают, приезжают в отпуск.
Не знаешь, куда деться. Можно сходить только вдоль линии. Весна разгорается все сильней, но грязь не убывает. Странный ветер, дует второй месяц в одном направлении. Все же комдв-на, пожалуй, не оправдывает шпалы, а отсюда руководство и продукция. Врид комвзвода 2 Безяев, помкомвзвод из полка. Малограмотен, неразвит, никакого руководства стрелками. Все или комсомольцы, или партийцы — буду придерживаться их принципов работы. Но стрелки меня бесят. Как может существовать человек, когда не может пары слов сказать связанно. Единственно, что делают без ошибок, это ругаются. Вот Сонков. Верзила с низким лбом. Глядит глупо куда-то в пустоту. Нескладен до того, что кажется, не обезьяна ли это — орангутанг. Стоит в штабе в полушубке, руки в карманах. Спрашивают:
— Ты куда пришел?
— А ш-ш-о?
Передернулся, ремень сполз, живот как у беременной бабы. Смыгает носом, вытирая ладонью начиная с губ снизу вверх, фыркая на весь штаб.
— Вынь руки из карманов.
— Ш-ш-шо тебе мои руки помешали?
— Стрелок ты или нет!?
— Ну и стрелок, ну и чево причепились?
Начинает счищать грязь с сапог и запихивать ее ногой под стол. Перекосил рот, оттопырил нижнюю челюсть. Перетаптывается с ноги на ногу.
— Ну что же ты стоишь? Что надо?
— А я вот иду, по делу пришел, чего напустились?
Какой черт я буду перевоспитывать этих коблов, тратить силу и здоровье, трепать нервы, когда они не понимают человеческой речи. Не интересуются. Кого ни спросишь, все попали в охрану полуофициальным путем. Странные методы у ГУЛага вербовать себе работников.
К 15/IV вторые пути до Хабаровска должны сдать, а потом не в 1-е ли отделение? А годы бегут, унося за собою недолгую жизнь. Надо бороться, надо дерзать, надо стремиться.
Тиха Завитая, в поселке грязь непролазная, лужи да свиньи. Как, интересно, живут поселяне? Или как все [на] ж. д.?
В чем их отрада, где их стремления и цели? Растет молодежь.
Возьмешь иногда газету, ну хотя бы «Красную Звезду» 9/II № 32/3279/, да прочитаешь: «В страну науки», и сделаешь выводы.
Сидят люди в дивизионе, составляют методики и ни бельмеса в этом деле не понимают или не хотят делать. А иногда и подумаешь. Работают люди партийцы, доверяют им и считают, что все в порядке. Я же или дурак, или еще хуже — идиот, из кожи лезу, чтобы провести занятия образцово-показательно.
Приехал Лилин из Москвы, и лучше бы не говорил. Щемит сердце. За 300 руб. в БАМе положим 0,5 жизни, живешь на собачьих правах, когда в Москве можно существовать по-человечески. Да я и не стал бы работать за три сотни в одном месте. Лилин, хитрец, подбивая меня просить нач. отряда перевестись на периферию, с расчетом самому остаться в Завитой. Ну, посмотрим, кто кого перехитрит? Все же он молодец, соображая такие вещи. Из наших едва ли кто додумается.
— Дежурный! — слышится голос, — воды нет, не на чем готовить завтрак, и повариха спит!
— Разбудите ее!
— Зачем же ее будить, коль нет воды?
Хотя не умывайся, вот жизнь. Ушел без чая, приятно, восхитительно. Хорошо бы так лет пять.
3/IV
Чего-то нач. отряда думает, не назначая меня никуда. Ладно, пока что подождем. Пухов: что такое стахановское движение? А это — жить стало веселей, вот! Ветер свищет, продувая мою комнату насквозь.
4.5.6 [апреля]
Приезжает секретарь парткома БАМа. Прорыв по сдаче двух путей, ну начальство и взбеленилось, ругается. Пугают, говоря, что тормозящие работу люди — враги, и наши законы имеют противодействия. Пассивно относящиеся — вдвойне враги. На них надеются, знают, что есть человек, а он не работает. Кружит кругом да около, а прямо сказать не может, сделайте так или этак. Дают цифры погрузки балласта, не учтя технических возможностей. Это называется крутить гайку. Беру карандаш и считаю, никак не выходит 250 вагонов. К карьеру прикрепили нач. отр., а он уполномочил меня. Мне на руку, дольше не пошлет на взвод, а я отдохну.
Новость, да какая! Путеармейцам будут платить поразрядно от 2 р. 24 к до 6 р. 40 к. Работай и получай. Ты как в/н, только в виде наказания должен отработать там, где нам хочется. Если так, глядишь, и уволят меня. Но пока что наметился один путь к увольнению, рапорт с последующим разговором.
Какое значение имеет платье. Моя кожанка вызывает уважение, несмотря на кубари на петлицах. Зовут и уполномоченным с уважением, и агентом ГПУ. Говорят много, говорят здорово о з/к, а о нас ну ни гу-гу. Люди не сознают, что домашний уют повышает производительность труда. Две ночи не сплю. В карьере и на линии. Это я за нач. отр. отдуваюсь. Но мне же лучше. Потихоньку я его, как говорят у нас в БАМе, покупаю. Продолжаю проигрывать в шахматы, льстя тщеславию начальства. Он не додумывается, не его головы дело, что в какое низкое положение ставит себя. Имеет одну установку: не так сделали! Стараешься признать себя виновным, стараешься показать, что прав нач., а в душе смеешься ехидно и думаешь: «Эх, и балда же ты». В механизме экскаватора или простой стрелки ему никогда не разобраться, одно слово — парень от сохи. Вот ее-то он знает, «механизьму». Гоняет меня по карьеру, то поди посмотри, чего задергивают вертушку. А она стоит там, где ей и надо стоять. То почему маневров. паровоз дергает? Как не дернуть, если 40 вагонов с песком, а паровозик [неразборчиво] да передвинуть надо на 1 метр.
И у нас живут ничего отв. раб. Звонят по телефону:
— Дайте такого-то!
— Говорит такой-то, пришлите мне то-то!
А мы что скажем: говорит комвзвода?
Рассмеются или знают, а не знают, так спросят, кто вы? Мы не популярны. Городят в штабе кабинеты, найдя тес. Мне же жить все-таки негде. Ночую у штабников в палатке, а день скитаюсь. Погода черт знает что. На солнце 15° тепла, в тени -15°. Ветер с Севера пронизывает до костей. А вот вам стахановские дела. В К. В. Ч. стахановцев утверждают на собрании, а иногда и выбирают. В БАМе все возможно.
7 [апреля]
На небе появляются летние облачка. Жаворонки заливаются. Но все же холодно. Сходил в карьер. Вертушек нет, ушли вечером в Иркуп. Пришел в свою халупу, холодно. Набрал щеп, гнилья, затопил. Бездельничаю, пишу эти строчки. Не показывайся начальнику на глаза, и все в порядке. Назначения все еще нет. Разбирают помполит и кладовщик сетки волейбольные, футбольные. Откопали какую-то, определить не могут. Помполит ко мне: что за сетка? Говорю: масксетка. Соглашаются.
8/IV
Приехал мой военком, так в шутку зовут политрука с 7 ф-ги, рассказывает:
— Начальство проявляет себя, секретарь парткома БАМ Бочевский творит. Начальнику фал-ги наговорила, что проводник собаки принуждал ее к сожительству, что стрелки бьют з/к, что это городовые и т. д.
Бочевский устроил суд. Допрашивает в присутствии нач. ф-ги, а та распинается:
— Помнишь, приходила твоя жена, плакала и ругалась со мной за мужа?
— Ну, тогда понятно! — говорит Бочевский.
Его ли дело вести следствие, да не зная как, не имея основания, подрывая авторитет стрелка в/н, смазывая охрану. Вот и говори после этого о побегах. Что ж поделаешь, власть. Надо же чем-нибудь и где-нибудь проявлять себя. А может быть он хочет уволиться.
Приехал адъютант Камушкин. Спрашиваю, как в России? Здорово! Уезжать не хочется!! В/н прораб лишний раз подтверждает общее мнение:
— Если скажут, можно уволиться, то первый подам заявление. Хотя я и партиец, а работать в БАМе, спаси-и-ибо. Хватит, мне своя жизнь дороже.
Стало теплее, пора. Назначают в 3-й командирский взвод. Но что-то все же скрывают. Может быть, и нет ничего, но все делается с таинственным видом. Во взводе шалман. Кругом партийцы, но… работать не хотят. Будем и мы придерживаться их установки.
У Инюшкина болезнь, не вылазит из дома. И все сходит. Бастрыкин за 45 дней ни разу не был на ф-гах. А стрелки? Вот-же уроды!?!? Комдив спрашивает у дневального:
— Кто вы?
— Дневальный!
— Большая шишка!
— А вы кто такой?
— Комдивизиона!
— Тоже большая шишка!
Отвертывается и ни звука. Выбрали меня заочно в члены ревизионной комиссии профорганизации. Дотянем до осени, посмотрим лето Д. В. К., порисуем и ходу. Нач. отр. дает мне на отпуск комнату. А пока черт знает что, живу по-собачьи.
9/IV
Принимаю 3-й взвод. Бедлам, шалман. Сменилось три комвзвода, никто не сдавал, никто не принимал. Беспорядок хаотический, все сходило, все считалось нормальным. Я также пошел по этому пути. Сам замечаю разницу в себе. Как принимал 4-й взвод в 35 г. и как сейчас 3-й взвод в 36 г. Теперь я старый спец, ушлый лагерник.
На улице тепло. Правда, северный ветер не перестает, но не такой уже холодный. Сидим в кабинете нач. отряда с Голодняком и помполитом да рассуждаем о бренности службы в БАМе. Затронули происшествие на 7 ф-ге с Банским. Голодняк говорит:
— Пусть меня выгонят, а я дело передам, куда следует.
На что помполит, не стесняясь, откровенничает:
— А Голодняк будет жалеть?
Рапорт Голодняка, как документ поступков и деяний начальства и как документ безграмотности и общего уровня политсостава, приклеиваю. Да, Голодняку за нач. отряда и многим за охр [ану] держатся надо. Нач. о. получает 700 руб., на воле ему цена 150–120 р., так судите сами.
10 [апреля]
Тупеет взгляд и понимание жизни. Пресекает их БАМ. И будит скрипка старое, болит душа и рвется. Как тяжело как скорбно. А небо, голубое небо. Заря вечерняя. Простор и мощь природы, и ты, ничтожный червь. Может быть, придется кончить жизнь. Будут осуждать, но не понять чужой души, ведь никому да и нет дела до переживаний. Куда бы скрыться, где и в чем забыться. Эх, скрипка, скрипка, рвешь ты в клочья душу. И рад я, и беснуюсь. Гогочут штабники, им не понять всей глубины музыки. Мелки их души, да и жизнь.
Камушкин тоже за увольнение, Камушкин против нач. о. Камушкин не прочь сменить его. Его старые ухватки, его партизанский дух. А я готов сменить шинель на пальто. Пугает Камушкин, что по увольнении из БАМа не возьмут нигде работать, туфта, но надо учесть и это. Москвич нач. боепитания Лавров. Тяжело ему, я чувствую, но привыкнет.
Вынул наган, подставил к горлу. Так просто можно нажать крючок и… А дальше я не буду чувствовать ничего. Как просто можно все это сделать. Так просто, как будто шутя. И ничего страшного, ничего сверхъестественного нет. Как будто съел ложку супу. Не знаю, что меня удержало нажать. Все так реально, все естественно. И не дрожит рука. Эх, жизнь. Бывают такие минуты, что и внутренний голос молчит. Голос дежурного по штабу:
— Дайте 42 ф-гу!
— Кто у телефона?
— Портной!
— А сапожника нет?
— Нет!
— Жаль!..
Так вот, мне нужно дежурного по ф-ге а не портного.
И некому руку пожать.
Драпанули два с 11.59 и 7/8 — 10 лет. Шуму большой воз и маленькая тележка. А дела по существу ничего, никакого. Ну, расставили силы, назначили участки и район, а выполнить нельзя, нет стрелков. Вызывает зам нач. 3-й части, гонка, соображения. Я же думаю: надо делом заниматься и конкретно, а не разговорами. У нас не было ни одного методсовещания, нет руководства. Нет знаний, сведений об общей работе с о/группой. У человека глупая физиономия, и еще глупей делается, когда он старается сделать ее умной и дать кажущийся умный приказ. Прервали все совещанием, которое началось по обыкновению так. Начальство 3-й части ночь сидело, утром решило выспаться, а нас подняло. Совещание началось в 12 ч. Голова налита свинцом, трудно запоминать, соображать и записывать.
11/IV
Политико-моральное состояние ни к черту у всех. Поэтому нежелание работать, отсюда побеги. Отсюда, когда положение угрожающе, — апрель за 10 дней — 28 побегов, начинают крутить, пугать Ревтрибом. Громят нас. Помполит вставляет:
— По вопросу побега с 11 надо было поднять тревогу, выйти всем.
Я хотел бы знать, а кто же будет охранять большую часть, кто сменит посты, кто будет конвоировать? Те же стрелки. Ну да, стрелок, собака, выходит так. Поэтому он и служит по-собачьи, день прошел, ну и черт с ним. Все громко кричат: вам доверили!! А обеспечили нас хотя минимумом? Вы, чекисты, коммунисты и т. д. Нет, спасибо за добрые слова, но такой, даже денежной милости на Д. В. К. не надо. И выходит политико-мор. состояние укрепляют подкручиванием, не зная сути и пользы от этого. Помполиту придут в кабинет, примеряют воротничок чинно с уважением, а нам даже иногда сшить нельзя. Разговоры о побегах, разговоры о нежелании, неумении работать ВОХР, а опергруппа задержала? Нет! Так значит и опергруппа не работает.
Дешево расценивают жизнь стрелка, и вот почему. В армии убей бойца — там траур, командование не знает, что сделать, как отвечать. А у нас. Стрелок ежесекундно подвергается опасности, рискует, и побег не допустил, и не убей, да оглядывайся, как бы не прирезали, оружие не отобрали. Ценить и учитывать этого не хотят. Надо стальные нервы. Везет ф-га шпалы жечь. Охрана за шпалы отвечает. Охрана отбирает, произведя выстрел над головой, от которого падает в обморок нач-ца ф-ги. Виновата охрана, потревожившая курву. Вот заколдованный круг. Хорошо все это обсуждать, сидя в кабинете и по-кабинетному думать. Попробуй угадать мысли 3-й части. Помполит острит:
— Устали от работы комвзводов, от занятий, ну и не ведут разъяснений.
Приятные шуточки. Командиры и стрелки — не люди, не должны уставать.
Зажимают совсем охрану. То, что мы должны делать в порядке общественной работы, теперь чуть ли не приказывают. А где воспитатели К. В. Ч? И тут охрана не помогает. Не помогает опергруппе. А опергруппа помогает охране? Бегут з/к от плохих бытовых условий. О них говорят. Интересно было бы, если я убежал бы от бытовых условий.
Сам кривой черт не разберет. Одни говорят — снимите конвой с 59-й, и они будут работать. Другие орут: что вы делаете! Бандитов без конвоя выпускаете.
А все же по делу Бачевского остался виноват Голодняк. Нач. 3-й части упоминает мое воспитание, а Бачевский — сильную политподготовку. Голова в лобной впадине болит. Разложился 1-й отряд; разложился 10-й и намекают на Гридина, что он Чапаев-партизан. В такой обстановке все разложатся. А я? Я тоже. Никому же не хочется служить в БАМе.
12/IV
Погода цимис. Безветренно и парит, жарко даже в шинели. В Москве сегодня выходной, и на стадионе, если там такая же погода, оживление, смех, радость. А у меня пьяный повар испортил завтрак, оставив всех не евши. Ну, сам съел пять суток и квартал зачетов.
Быстро делают в БАМе начальство. Был помполит отряда Циганков без партдокументов, теперь отдельком. Помполит 1-го дивизиона наоборот из ком. отделом в помполиты. Первая весна не в Москве, за исключением Кр. Арм. Освобождаются пачками, к 15/IV должны уехать 500 человек. Нас когда освободят?
13 [апреля]
Оголили взвод до того, что помкомвзвод дежурит ночь. Переводят, перебрасывают з/к, а нам конвоируй. Нач. отделения звонит: дай конвой, 3-я часть: дай конвой, дивизион: дай конвой и т. д. Хоть роди, а дай.
Родит жена политрука Лыкова, просит лошадь для перевозки в больницу. Надо быстрей, а у нас не знают, можно послать или нет, как взглянет начальство. Человек хоть умирай, нужно сохранить устав и все инстанции.
Влетает в штаб отр. уборщица с кухни и раскричалась:
— Что такое, охр. матом ругается, что за работа, что мы не люди? — и пошла, и пошла, в пылу сама запустила.
Обижаются, стервы. Нам же, когда они лаются, приходится терпеть. Да еще вздрючку получишь на случай нетактичного обращения.
14 [апреля]
Что ни день, то чудачество. Но такое, за что надо греть. Нач. отряда проявляет свою власть. В первой половине дня не выходил на работу, спал. Во второй сидит до 12, не уходит, сидят писаря. Час не уходит, в 2 часа вышел из кабинета да говорит адъютанту:
— Кто работает не за страх, может уходить!
Тайсумов плохо разбирается в русских пословицах, переспрашивает:
— Что сказал нач-к?
— Сказал, надо работать за совесть, а не за страх.
С перепугу парень кричит:
— Я за страх! За страх!
Поднажал на помпохоза с комнатой, завертелся юлой. Я да я, да мы, да сделаем, вы сами видите, какая работа. Работа же такая, что нач. отр. карточки семьи не готовы, то полки адъютанту, то нач. отр. квартиру побелить.
Пробуждается природа. Несутся гуси к северу. Грачи на нивах, жаворонки. Паук бежит, бежит, торопится. Зу-у-у-уммм — от мухи шум. В шинели жарко. А над горизонтом марево. Не помню больше ничего.
Да вот еще. Нач ф-ги 11 пишет заявление нач. отделения и Бачевскому: охрана безобразничает, не пускает нас на производство, меня и воспитателя, и т. д., срывают, мы горим желанием и пр. Выясняем. Воспитатель имеет подконвойное хождение, а остальные шли через зону. Что ж часовой, попка что ль? Он обязан остановить. Нас остановит, да еще положит, на то у него и дрын в руках. Как все же нач. отделения быстро реагирует на заявление з/к. Срочно расследовать и доложить. А о нас хотя бы заикнулись, нет. Ну, подберем материал.
15 [апреля]
Снимаю схему аммонального склада. А солнце шпарит так жарко. И думается мне, и кажется, что я в Москве, в Сокольниках. На стадионе тренировка и я среди всех по обыкновению. Говорят, что москвичами укрепляют дисциплину, но это как раз наоборот.
Разве легко нам из шума столицы в такой дыре как Д. В. К.? Спрашивают много, работаем по 18 часов в сутки, живем в собачьих условиях, а платят меньше чем в Р. К. К. А. Возможностей получить срок больше, чем где-либо. За что же спрашивается все это. И Николенко туда же, куда и все — долой из БАМа. Партийцы, где ваш долг?
Николенко подтверждает, что помполит не против сам уволиться. Вот вам политико-моральное состояние. А раскричится, черт, на нас, так куда там. Служака.
16/IV
Темень непроглядная, глаза болят от напряжения.
3,30. В ружье! С 11 побег четверых из-под обстрела. Беру пять желающих и цепью по полю, по болоту, на воде. 15 километров ускоренным шагом, нагрелись. Безрезультатно. Взяли беглецов в Завитой.
Вызывает нач. 3-й части и пошел. Говорит спокойно, деликатно, но нет-нет, да пустит вдоль и поперек. Считают меня членом партии, да обещают как партийцу всыпать. А как командира отдать под суд. Хотел сказануть нач. 3-й ч., что побег-то произошел после вашей беседы через 2 часа, да удержался. Надо быть дипломатом, и незачем накрикивать на себя беды. Днем снимаю. Жарко. Вьется жаворонок звонкий. Свободно льется трель. Поет, поет и радуется солнцу, радуется весне и жизни. А я не рад жизни. Так влачишь существование, теряешь ни за что, за 300 руб. Снова к телефону.
— Т. Чистяков! Когда у вас наконец прекратятся безобразия? Завели людей в вокзал и сами дремлят! Надо выбрать боевых!!
Люди-стрелки не мои, причем тут я? Где взять боевых? Когда и таких-то нет. 3-я часть сама старается работу свалить на нас. На обработке этапа никого. Есть тогда, когда нас гонят.
17 [апреля]
Иду на 7-ю за 15 к. пешком. За разъездом ж. д. резко изменяется. С крутым поворотом уходит в сопки. Вьется по склонам в узкой лощине. Насыпь то прорезает сопку, то идет как бы по террасе влево-вправо. С одной стороны обрыв, с другой — песчаные оползни выемки. Пласты разноцветного песку, корни деревьев, кустарники, овраги и телеграфные столбы, на которые, если посмотреть с высоты и вдоль, то получается впечатление громадной пилы. И ко всему этому вальдшнепы тянут тучей, подняв сплошной базар в воздухе.
На 7-й. Чистое и светлое помещение. Уютно и тепло. И знаменитая нач. ф-ги Вьюга. Заперли Шакову в шкаф и держали там двое суток. Послали стрелка с людьми на Бурею с туфтовым нарядом, а днем приехала, раскричались:
— Охрана меня зажимает, охраны я боюсь, охрана меня убьет.
Еще случаец. К. о. Захаров в охране получил туберкулез и стал не нужен, увольняют. Здоров — служи, болен — лети на все четыре.
Болит нога, намял, ну и испортилось самочувствие. Помылся в бане, как в раю побыл. После бани спать бы и спать, а тут сиди, хотя и дела нет. Оборвались мысли, верней, оборвали. Переправляем этап освободившихся на 9-ю.
18 [апреля]
Сходил на 11-ю, и в голове сумбур такой, что не хочу ничего записать. Пасмурно.
19/IV
С 11-й бегут. Сегодня два челов. и никаких мер с 3-й части. Зона и фонари не сделаны. Ни мы, ни 3-я часть ни заставить, ни приказать не можем. Чего же ради я буду расписываться в своем бессилии. Кому-то дороже стоит сделать зону и дешевле упустить несколько человек. Не хватает стрелков людей выводить на работу, составляют акт на охрану за невывоз в виду отсутствия конвоя. Ну и козел отпущения — охрана.
А как отвечает за побег лагерная администрация? Никак, это ее не касается; наше дело бежать, ваше ловить! Наше дело оскорблять охрану, а ваше дело не обижаться. Рычит нач. о. на Инюшкина, а тот хоть бы что. Придерживается своей политики, посиживает дома.
20–21 [апреля]
Заболел живот. Мутит. Иду в сопки с Лавровым. Пасмурно. Жалею, что не взял ружье, взлетает пара тетеревов из-под носа. С чего бы не начинали разговор, кончают о способе увольнения из БАМа. О нежелании служить. Собирают шумовой оркестр, а когда играть, репетировать, когда день с 9 утра до 4 дня загружен до ушей, с 4 до 8 перерыв, а там до 2 ночи. Начальник заявляет, чтоб 21 к 10 утра волейбольная площадка была готова, приду играть.
— Что вы, тов. нач., так рано?
— А что же я буду делать?
22 [апреля]
Хочется забыться. Ну, поговоришь с адъютантом, потрепешься, вроде полегче станет. Вспоминаем к случаю работу телеграфа.
Помполит телеграфирует: «В четверг дочь, благополучно!» Получают: «В четверг дождь в Облучье». Так и выходит, что еще день жизни отмечен только этим событием. Нач. 3-й части звонит помполиту.
— Надо задержать увольняющихся стрелков всеми силами.
Отвечают сами стрелки:
— Судите, а служить не будем.
Многим думается, что служить в БАМе — счастье жизни и радость. Недалеки у них мысли.
Сводит ноги, руки. В «комнате», что на улице. Вечная временность и кочевье, вечно неустроенно. Ложась спать, думать, что поднимут по тревоге среди ночи — красота. Идет град. Неужели так надолго, неужели на всю жизнь. Волосы шевелятся на голове.
23–24 [апреля]
Дни бегут, оставляя нехороший след в памяти. Дни до того похожи один на другой. Знаешь, что завтра машинка также завертится: побеги, аресты, хвоста подкрутка. Не знаешь, куда деться в нескладный четырехчасовой обеденный перерыв. Грязь и холод. Сыгрывается доморощенный джаз, в котором больше шуму, чем мотива и художественного произведения. Никто не руководит, поэтому кто где вздумает на свой взгляд бьет в бубень, трещит, звонит и т. д. Сплошная какофония. На душе то же самое. Забудешься немного, но тут же с новой силой врежется БАМ острым клином в мозг. Потрепешься с Лавровым. Есть с кем перекинуться парой слов.
Моя игра в шахматы с нач. отряда прерывается телефонными звонками и матом начальника.
25 [апреля]
Приехал на 1-й Лубочкин и начинает грозить:
— За побег под суд отдам!
Ребята нервничают, злятся. Психуют.
Будешь больным поневоле. Стрелять и бить насмерть нельзя. Не стрелять тоже нельзя. А каждый урка так и смотрит, как бы убежать. За ночь замерз хуже, чем зимой. Живешь за страх, как бы не сперли барахло. Живешь, и не рад своей жизни. Не рад ничему. Живешь, дожидаясь обеда, перерыва да ночи. Ждешь чего-то неизвестного и неопределенного. Но одна мечта, которая терзает душу, — это избавиться от БАМа, от петлиц. Готовятся к 1 Мая, но никакого торжественного чувства нет. Нет побегов — и хорошо. Весь обед дирижирую оркестром. Смешно, конечно, но что делать. Вечером, прямо скажу, балдел. Правда, нач. дал внушение:
— Почему не знаешь, что делается на 7-й?
Отбрехался:
— Был полумрак, и сказали, что расформировывается, но когда и куда, никто не знает.
Помело снегом. Как спать ночь? В помещении зуб на зуб не попадает. Даже спать не хочется. Сижу в стройчасти у печки, запасаясь теплом на ночь.
— Как у вас в комнате? — спрашивает адъютант.
Отвечаю:
— У нач. отдел. тепло, ну, значит, и у нас так должно быть.
Смеются. У адъютанта тоже не холодно, ему смеяться можно.
26 [апреля]
Дела как будто нет, а день намотаешься.
— Дайте конвой!
Посылаешь.
— Нет, через час!
И так весь день.
Совещание с участием Калашникова. Выплывают на сцену всякие японские банды и диверсанты. Все же понятно, что это моральная зарядка, и очень грубо сделанная.
Потому что приметы какие-то несуразные. Такие, что они есть у всякого человека. Один оказался похожим на помполита, другой на меня. Вот и лови тут. Кто-то занимается провокацией, а нач. отряда, не разобрав в чем дело, лается. Напустился на меня:
— Вот у тебя на 7-й хозяйничают разные Тарские, ставят стрелков на посты, что за работа? Научили вы своих командиров работать? Нет! Надо будет, буду сажать!!!
Помполит поддакивает, дрожа за свою шкуру. Я попробовал возразить, но нач. обрезал:
— Молчать!!! Не разговаривать!!!!
Ладно, думаю. В серию включите и меня: Майхер, Голодняк, Новиков и я. Возможно, что к нач. отр. никто не обращался, потому что нач. такой. Если сам сообщает так: «Бью я вас и ничего не выбью», — то что же он держит в уме?
Пожалуй, кроме как бить ничего и не сумеет сделать, потому что не может. Комсостав плохо работает, потому что с ним никто не работает. А присланных командиров из Москвы все равно что отдают под суд, посылая в БАМ.
Наш нач. посажен нажимать кнопки, сидя на месте, но он нажимает все время одну плохую кнопку. Интересные сведения о начальнике дает Карманчук. На совещании в Свободном Гридин считался самым плохим, и курсы не проводились потому, что некому было провести, таков комсостав у Гридина. С гридинским методом работы можно только восстановить против себя комсостав. Вот работа:
— Немедленно отправиться на 7-ю.
— Нет поездов.
— Пешком иди.
Иду для того, чтобы подтвердить своим посещением об уезде ф-ги. Считает это дело нормальным. И о моем уходе справляется пять раз. Коснулись и Инюшкина. Оказывается, был комвзвода в резерве полка на саперном отделении.
27 [апреля]
Иду ночью. По пути проверяю посты 11-й ф-ги. Много красивых мест. Но не до них. Обратно с Буреи на 43-ю. Едут люди, ни о чем не думают. Едут, и не тревожит их побег. Едут, строят свою жизнь. А нам строить нельзя. Нам вещи кажутся совершенно другими, чем людям без петлиц.
Застрелился стрелок з/к, в приказе — боязнь получить новый срок, а истинное положение, наверное, другое. Приказ нужен для моральной обработки. Что напишут, если я шлепнусь. Схожу с ума. Жизнь так дорога и так бесценно, бесполезно, дешево пропадает.
28–29–30 [апреля]
Некогда записать. Рвут и таскают ежеминутно в штаб. Готовимся к празднику. Начальник меня ест. Рвет и мечет:
— Дать схемы расстановки постов на Май! Сделать через 0,5 часа!!!
Сделал. Подвернулся ком. отдел без ремня. За этого еще:
— Вот! Как комвзвод, так и подчиненные! Посадить на сутки!!
Напустился на курьера Сленина:
— Ты что ж рот разинул?
Сленин после рассказывает:
— Крикнул на меня, а я брысь да тягу!
Делаю оформление. Кипит в груди и злость, и горечь. Сознаешь свое ничтожество. И смотрят на тебя как на человека с кубарем. Приравнивают ко всем. И говорят: «Такой же тип!» Нападает тупоумие. Смотришь на вещи по-другому. Примерно так: вечер, постановка, стою у двери в форме, прислонившись к косяку. Нач. отдел. спрашивает, входя:
— Давно началось?
Отвечаю:
— Нет, т. нач.
А в голове мысль: похоже, наверно, на солдата с взглядом куда-то в потолок, с выправкой в струнку. Эх, когда же это кончится?
А публика?! Ей нравятся пошлости из «Чужого ребенка», она никак не переживает и не понимает смысла. Разговаривают и ходят, хлопают дверями. Безвкусно пестро одеты. Дорогие вещи, но не умеют их использовать с эффектом. Да могут ли они? Нет. Меня интересует, чем они заняты дома, какой их взгляд на жизнь? У начальника отряда бессонница, не уходит до 2 ч. ночи, ну а мы причем? У меня так бессонницы нет.
1/V
И так ни за что, бесполезно, бестолку проходит жизнь. Сегодня праздник, но не у нас. У нас сутолока, бестолковщина, все на казарменном положении. Ни пойти, ни заняться чем-либо. Сыграли в волейбол во дворе. Эх, чубуки! Стрелять не умеют, в волейбол играть не умеют. День теплый.
Скоро совсем будешь балда, потому что голова забита побегами да мыслью об увольнении, и никакого больше развития.
2 [мая]
Придется все же получить срок и уехать. Ведь не один же я буду с судимостью в СССР. Живут же люди и будут жить. Так перевоспитал меня БАМ. Так исправил мои мысли, сделав преступника. Я сейчас уже преступник теоретически. Потихоньку сижу себе среди путеармейцев. Готовлю себя и свыкаюсь с будущим. А, может быть, шлепнусь? Прошли месяцы службы, пройдут еще так же, как и первые, в тоске и угнетении. А впереди все то же самое. Вот работа, которая ведет к преступлению.
Рвется на части душа и щемит с болью сердце. Мне прошлое кажется сном. И даже не верится, неужели я жил в Москве и на свободе? Строил жизнь, планировал.
Второй день Мая кончился. Хотя и праздник, но свободы не чувствуешь, уйти нельзя, казарменное положение. Шатаешься по линии со своими мыслями, и ничто их не разгонит. Нечем отвлечься и негде забыться. Рука так и тянется, тянется за наганом. Смерть, так хоть моментальная, а не неспешное умирание. Не лучше ли ускорить естественный ход событий? Нач. отряда наверно страдает бессонницей, торчит до 2 ночи, но причем же тут мы. Я так на бессонницу не обижаюсь.
Не пишет еще никто, что-то? Хотя я и сам не пишу…
3–4–5–6 [мая]
С этого каждый день приходится начинать, потому что дни такие и есть на самом деле: каждый день является надгробным памятником над жизнью.
Отправляем 177-ю на восток. Бестолковщина, беспорядок, безобразие. Вагонов нет, материала для оборудования нет, инструмента нет, ответственного за отправку нет. Рвут охрану. Давай конвой для бани в 12 ночи, иначе жаловаться будем. Куда грузить людей, когда никто не знает и знать не хочет. Каждый старается спихнуть с себя, а дальше хотя сгори. Только охране больше всех надо. Охрана о людях заботься, охрана о культуре беспокойся, охрана воспитанием занимайся, охрана в промфинплане участие принимай. Комвзвода на побег, на пожар, на конвой, всюду комвзвод, вот почетная должность. З/к ф-ги 177, садясь в вагоны с навозом, вправе замечать и негодовать, что скот возят чище и лучше. Нач. лается и с причиной, и без причины.
— Как у вас, к. о. Пасенко женат или нет?
— Узнаю, т. нач.
И понес:
— Людей не знаете, что за работа, что за командир? Учить вас надо.
Интересно, знает ли нач. мое положение? Больше чем уверен, [что] нет. Уволили одного политрука, продержав под следствием шесть месяцев. Хотели приписать саботаж 58/14. Но ничего не получилось. Парень не растерялся, отвечает:
— Загнали в тайгу, а я жить хочу и т. д.
Быстрыкин откровенничает:
— Что вы работаете, службисты!! Я так поступал: взглянешь на взвод издали да обратно.
Такое положение объясняет тем, что из него вымотали все нервы, поэтому он сейчас спокоен, остался без нервов. Снова обласкал нач.
Связь с ф-гами паршивая, да и той не добьешься, а сообщать надо. Приехать не на чем, поезда не останавливаются, а 40 килом. пешком — удовольствие паршивое, да с вещами и не придешь. А нач. бесится:
— Где ваши люди? Сидите на месте, ни черта не делаете!
Больших трудов стоит мне сдерживаться, но все же сорвусь и, наверно, скоро. Хорошо, хоть с Лавровым поговоришь. Шутим и смеемся, а на душе тигры скребут. Зашел Нечепуренко и распинается, что жить в БАМе хорошо, что дальше и больше желать нечего, что я служить буду еще пять лет и больше. Я в БАМе вырос.
Это все верно, что ты вырос, но по-бамовски. Ты жизни не знаешь, да и грамоты тоже. Отделываешься общими фразами вроде: «Те кадры хороши, что не боятся трудностей. Мы должны жертвовать своей жизнью. Партия и соввласть знают, что диктуют».
А нач. свирепствует. «Что у вас за связь, как хотите, а чтоб мне завтра утром был Безродный, сами идите и найдите». Вот же человек, бывает ли он в хорошем настроении? Как можно так существовать? И как можно не понять того, что авторитета не создашь. Что никто из подчиненных к тебе не пойдет.
Боятся, не боятся, а ненавидят и стараются избегать встреч.
Но почему помполит нашей жизнью не интересуется? Почему не интересуется нашим политико-моральным состоянием? Меня ни разу не вызывал и не спрашивал. Сам я не пойду. Черт его знает, как встретит. Вот взаимоотношеньица комсостава, подчиненных с начальством. Это советские партийные передовые люди. Это влияние руководящих. Э-э-эх!!!
7 [мая]
Разошлись тучи, и сразу тепло. Идя проверять аммонал-склад, посидел на линии. Весна кругом, но на душе метель и бесы. Нет, невесело! На гауптвахте сидит уполн. 3-й части Роговенко. За пьянку и обещание застрелиться. Это явление принимает массовый характер: Майхер, Голодняк, я, Роговенко и многие не выявленные. Не с хорошего, по-видимому, люди приходят к таким решениям. Да, жизнь не веселит. Стоит ли жить. Надеждами я не живу, это дело не по мне. Здесь, в БАМе, пожалуй, одно только место, где все по уставу — это Ревтрибунал. Сунут статью на основании того-то и того-то. Законно и будь здоров.
8 [мая]
Что ни день, то вскрываются истины. Одна из них: стахановская бригада ф-ги 4, заработав за 12 суток 2000 р., потребовала культурных бытовых условий, пищи и пр. Отделение ответило:
— Как-нибудь уладите сами.
Что можно после этого сказать. Это относится к нам. У стахановцев сегодня выходной и официально. Для охраны выходных нет. Охрана работает с нагрузкой в 18 часов, а платят? Нет! Какая может быть заинтересованность? Те, кто нанимался сам, несут наказание за свою ошибку, а я? Нет воды. Надо со скандалом просить, приказать и потребовать нельзя. Безалаберщина, неразбериха. Привели з/к с 6-й на 4-ю по наряду УРЧ. Людей не принимают, конвой стоит, люди здесь не нужны. Что за чертовщина, никто не знает. Вредительство какое-то. Дергают целый день, дергают как ручку звонка у глухого хозяина. Надо делать конец. Подал заявление мастер дорожный, ответили, что до конца строительства вы все закреплены здесь.
Есть луч надежды, но будем и свои меры принимать. Ну и комсорг? Самоучка, ходил в сельскую школу три мес., а дальше так доходит. Еще спрашивают, почему нет комсомольской работы? Да и Голодняк в финансовой политике как бык в аптеке. Мне приходится ему разъяснять.
9 [мая]
День крутишься, стараясь не заметить время, ждешь вечера. Замучаешься, вечером скорей спать. Так и уходит день за днем. Помполит на мой ответ «Нет учета за Январь, Февраль и Март» отвечает:
— Я-то пишу туфту, пишите и вы.
Напишем. Сходил пострелять […] с нач. боем.
Пацаны лет по 12 собирают гильзы, смеясь и бегая. Скатываясь с откосов и песчаных обрывов карьера клубком. Вот она, беззаботная юность, хотел бы я с ними так же покататься.
Расцвели подснежники.
2 часа ночи. Звонок из 3-й части:
— Дайте стрелка!
Послал политрук. Минут через 15 стрелок вернулся. Только снял сапоги, снова вызывают. Подходит к телефону политрук:
— Что у вас за шалман? Гоняете людей, что за беспорядок.
Дело дошло до нач. 3-й. Вызывает дежурного. Но у телефона политрук:
— Я требую дежурного, передайте ему трубку.
— Так я же политрук, я выше дежурного, говорите, в чем дело!
— Я вам говорю, дайте дежурного!
— А со мной вы что, разговаривать не хотите?
— Нет!!
— Ну и я с вами нет!! Явитесь сейчас ко мне!
— Не могу!
— Почему?
— Нога болит!
— Освобождение есть?
— Я не хочу гулять, поэтому по возможности работаю!
— Чтоб завтра было освобождение.
10 [мая]
Утром у нас произошел такой разговор:
— Виноват, военком, довольно спать. Сейчас встану да пойду в дом отдыха на 3-е суток, нач. 3-й части пообещал.
— За что?
— За то, что я не хотел с ним разговаривать.
— Эх, ты глупый, ты должен за счастье считать, когда с тобой начальник разговаривает.
— Он не разговаривал, а ругался.
— Так наше начальство так и должно ругаться, иначе, что ж оно за начальство.
— Он нач. 3-й части, пусть у себя ругается, а я нач. во взводе. Значит, мы оба начальники. Я умею лучше его ругаться, а не сказал ему ни слова.
Погода мерзость. Дождь и холод, а вместе с этим грязь по колено. Идем с начбоем по Завитой, шлепая, не выбирая, везде одинаково, да рассуждаем. А в Москве не так сыро, наверно, и кто это нас надумал сюда загнать. Почему не спросили?
1-е майские премии прошли, отметив и командиров, и стрелков. Меня нет, и хорошо. Нач. выехал на участок в Архару. […] А дивизион подобрался на славу. Комдив малограмотный, по нем комвзводов и политрука. Доронин, Карпенко… Сергеев… Соловьев…
Один из ком. отделений, другие из стрелков. Весело.
11 [мая]
Что ни день, то чудо. Сегодня должен быть выходной, но нач. делать нечего дома. Трется в штабе. Вызывает:
— Что у вас на 11-й? Сидите, ни черта не делается, и сами не делаете! Сейчас же выехать! Долго я вас учить буду? Когда вы будете работать оперативно? Вот комдив сам ездит по ф-гам, устраивает.
Еле сдерживаюсь, но как-нибудь сорвусь, будет стычка.
Вот и получился выходной, топай 34 километра пешком.
А з/к отдыхают. Испортил нач. отр. день. Ни в кино, ни в баню сходить не удалось. Наверно у Гридина бессонница и нет аппетита, если не полается.
А на улице дождь, грязь, мерзость. Привыкли мы жить в сарае, ко всему временному, эх, лучше не вспоминать. А так во всех лагерях в ВОХРе. А стрелки, те как заведенные, через шесть часов на пост. В/н. так 2 г., а з/к весь срок.
Ведь теперь у нас есть свои академики, и партизаны не нужны, все же держат разных Гридиных. Военком ехидничает:
— Гридин думает — радуются сволочи, что меня в отпуск пустили!
Радуемся, поживем. Уедет еще помполит, ну совсем лафа. Голодняка за Хренкова, а Чистякова за Гридина оставим. Ну и жизнь настанет — сразу метров на пять к социализму пододвинемся.
— Мы вместе строим социализм, а почему Гридин обижается на меня? — негодует военком.
— Утеряли первомайский приказ, утеряли секретный приказ о Довбыше, утеряли с/приказ о формировании ВОХР. Что у вас делается? Вы не умеете сплотить вокруг себя командиров. Это нарыв, который прорвется. Почему мне билет задержали на 12 суток у нач. отряда? Что за порядочки?
12 [мая]
С каждым днем открываются все новые и новые жуткие, но правдивые моменты. Карманчук рассказывает:
— Ехал я с Шишовым, с Гридиным на совещание. Гридин рассуждает: «Мне бы дали хороших командиров отделений, сделал бы я их вридами и работали бы они. А разные там комвзводы — это все ненужное дело. Носись с ними».
Вот она, правда. Нежелание, неумение руководить нами создают и собачьи условия существования, и взаимоотношения. Еще раз коснулись убийств. Убьют стрелка в Р. К. К. А., там не знают, как за него отчитаться. А у нас? Убили, составили акт о смерти, и черт с тобой. Ты сам нанимался сюда, ну и терпи. Еще момент. Инструктируешь, заставляй расписаться. Вся вина с тебя сваливается. Ты становишься прав формально, а там как хотите. Отдали стрелка под суд, дали срок, неважно, что у него семья и прочее. Нанялся, значит должен все взвалить на себя. И нехватку стрелков, в силу чего надо работать по 18 часов и водить одному по 30 человек, а на случай побега лишайся зачетов или иди под суд.
Чувствую, как ломит мозг. Дрожь пробегает по телу. Чувство отчаяния. Но как? Как уволиться? Надо заработать срок после года службы. Как оденешься утром и — до ночи. Каждый день не знаешь, куда деться. Каждый день приносит новые муки, подчеркивая твое ничтожество и пустоту.
Начнешь перебирать дни — и нечего вспомнить! Все мерзость. А в чем же найти утешение? Не в чем. Четыре месяца как-нибудь дотянем.
Снова всплыл Азаров. Будет суд, но чем докажешь, что он брал продукты? В чем и где зафиксирована недостача. Вот положение, если Азаров на суде откажется от всего. Ну, скомпрометировал себя перед стрелками и только. Переведут в другое место. Такому в БАМе только и служить. Он не захочет сам увольняться, будет просить, чтобы оставили. Но я — нет.
13 [мая]
Даже Павленко-самоучка и тот понял, что за развитие и перевоспитание получил в БАМе. Растет, называется, учится, просвещается и подает рапорт об увольнении с оговоркой: «Буду действовать помимо нач. отряда».
Вспоминают о нас тогда, когда есть побег. И вспоминают так. Есть там такой стерва, хочет уволиться, ну, подожди, загоним тебя в 1-е отделение. Запоешь. Посажу! Арестую! Под суд отдам!!! Вот и вся забота о командире. Радуйся и веселись.
14–15–16 [мая]
Строю бильярд. 15-го после обеда чапаю на 7–11-е. По пути попадаются консервные банки. Расстреливаю из мелкокалиберной. Днем тепло, а ночь холодная до того, что руки мерзнут. Ноги болят убийственно, сводит, хоть кричи. Так еще год и калека, никому не нужен будешь. Но за что, спрашивается, я теряю свое здоровье? За 400 руб. Дешево. Да и за 1500–2000 р. здесь я не согласен. Бильярд вчерне готов, желающих играть хоть отбавляй. Адъютант, оставшийся за нач., не против погонять и выиграть после 8 в рабочее время. Дождь, дождь и дождь.
17–18 [мая]
Снова на 11-й. Ухитрился, стерва, отобрать самых бандитов — Цуладзе и др. Отпустил за молоком Иванов. Ну и ходят они, пьют молоко, и мы сбились с ног. Иду в розыск с Ляшенко. Лазаем по сопкам, темно, болото, грязь. Завалился в яму, наверно, растянул стопу, но ничего. Лазаем по воде, по таким местам, где днем никогда не решишься. 2 часа ночи, ложимся спать, ноги мокрые, болят и сводит. Посушится негде. Снова в розыск, беру централку, но не попадает ничего. Еле плетешься. Каждый день по 40–50 километров топать — сказывается. Взял коня начальника, помполит лается. Для них конь дороже побега. Надо записать много, но голова кругом.
19 [мая]
Больной весь. Грудь ноет, ни согнуться, ни вздохнуть, по признакам — плеврит. Любители военной службы гонятся даже за бамовскими чинами. Нацепят шпалы и ходят да мнят себя выше всех и вся. Довольны и горды. Подкатился Голодняк. «Как уволиться?» Тоже, наверное, осведом. Ну да я, думаю, не проговорюсь, что я соображаю об увольнении. Рвут стрелков на части, иду к комполиту, показывая наряд. Ни черта в нем не разбирается.
20 [мая]
Зеленый луг весь в цветах! Весь в цветах!! Денек летний. Свод неба синь и глубок. На сизом от дымки фоне сопок зеленой лентой дорога. Жаворонки с невидимой высоты льют трели. Воздух спокоен и чист, только мухи своим жужжанием нарушают его тишину. Белым парусом на горизонте, кажется стена хаты. Дым костра, не колышась, поднимается кверху и тает, пропадая. А цветы — желтые, лиловые, голубые, темно-пунцовые. Цветы рады солнцу. Птицы рады солнцу. Рады солнцу коровы, вытягивая шеи, лениво помахивают хвостами. Пес пастуха раскинулся, жмурясь, язык набок. В стороне на ж. д. работают путеармейцы. Одного взгляда достаточно, чтобы пробудить в себе ненависть к стройке. Сразу чувствуется твоя никчемность здесь и пустота жизни. Тревожит тишину тяжелый вздох паровоза и протяжный гудок. Напрашивается мысль, да так и есть на самом деле, — отняли у меня все.
21 [мая]
Выходной. Первый раз рисую маслом. Но провести весь день по-своему не дают. Устроили совещание, да какое. Работники отделения не справляются с работой. Тут прорыв, там прорыв. План не выполняется, срывается стройка. Ну, решили устроить стахановский декадник и, конечно, силами ВОХР. Потому что ВОХР — козел отпущения, лодыри и т. п. Назначают нас, командиров и политруков, уполномоченными по фалангам. Работай за других да смотри: «Ваша работа покажет ваше отношение к стахановскому движению. Можете заработать срок».
За саботаж, надо понимать. Голодняк язвит, расшифровывая О. Г. П. У: «О, Господи, Помоги Убежать». Это расшифровка з/к, а расшифровка наша: «Убежишь — Поймаю, Голову Оторву».
22 [мая]
Бытовые условия, культурный отдых, питание и все прочее. Но не расстраивайтесь, это разговор не о нас, а о з/к, так что можете успокоиться. Расстановка рабсилы, отсутствие материалов — все это заставляет перебрасывать людей, срывает план, невыполнение норм. А отделение ничего не делает. Тянут ВОХР. Уполномочивают комвзводов. Ошибки руководства отделения должны устранять мы. Вот порядочки. Нач. отделения признает: суточные задания неправильны, интенсивность не проставлена, на мерзлоту на земработах время расчета не дали. Весело? Какую же ответственность несут люди? Никакой! Нажал нач. строительства — зашевелились. Но вся тяжесть работы падает на нас. Опыты перевоспитания продолжаются. Куролесила Вьюга, теперь куролесит Архипова, и считают нормальным. Ком. взвод Огурцов во всеуслышание отвечает, что Новиков не пришел потому, что уехал к жинке, соскучился. Да и не работает ничего. Павленко откровенничает:
— На меня как закричит нач. отряда: «Да знаешь ли ты обстановку на Дальнем Востоке? Никакого отпуска!» А сам уехал на все лето.
23 [мая]
Блат во все времена и у всех народов решает все: и у нас тоже. Нач. отр. помполит комдив-на, помполиту выписывают разъездные, а нам? Мимо. Кто из нас больше разъезжает, я начинаю не понимать. По-моему, задача решается так: всяк должен получать за свои разъезды. Не хотят стрелки работать в охране з/к на трассе, получают 250–300 р., а в охране 15 — разница.
Дубровин чудачит. В вагоне поезда стрелок спрашивает:
— Куда едете, т. политрук?
— В Абиссинию!
— А далеко это?
— Нет, проедем километров 100, да еще 50, да еще столько, ну и как раз!
— А зачем вы туда?
— Мне надо видеть туземного короля!
Стрелок верит.
24 [мая]
Снова и тот же Дубровин: «Открываю отмычкой вагон № 1. Тут кондуктор:
— Куда?
— А ты знаешь, с кем говоришь? Я командир комсомольского полка Д. В. К. и нач. вооруженных сил Тамарчукана, отойди подальше, подальше.
Вхожу в ресторан, сижу, потягиваю ликерчик, а напротив Хоперский. Я стаканчик за занавеску, а сам за кофе».
Курсы. На утреннюю зарядку не ходит один. А отсиживается в уборной, приглашая Дубровина. Дубровин вечером на собрание по этому поводу высказывается, меня на этом деле не проведешь, я 40 минут нюхать вонь вместо чистого воздуха, не хочу.
25 [мая]
Кричат на нас, заставляют кричать: «Стахановцы и стахановцы», — а на ф-ге нет махорки, которая ценится здесь на вес золота и дороже. Ее считают по крупинке, окурков не найдено.
26 [мая]
Дождь, слякоть, тьма. Чапаю с 11-й в Завитую. Ночь.
27 [мая]
Ушел с начбоем на 24-ю, уселись на сопке рисовать и писать письма. Вечером смотрел «Бесприданницу». В театр хоть не ходи, вспоминается прошлая жизнь, и злишься, нервничаешь, расстраиваешься.
Все же разлагается, верней, разложилась охрана. Вот приказ от 14/V — самоубийства, пьянство, никто не работает, а почему? Потому что мы жили лучше, и каждый стремится к хорошему, а БАМ, чтоб его черт утащил. Я решился поступать так же как все те: лето, дача. Не спрашивают — все в порядке, спросят — сделаем.
28/V-3/VI
Объявляют стахановский декадник, но как. Я, может быть, не понимаю истинного положения и установок. Но понял так. Загребают жар чужими руками. Вы разъезжайте, работайте, а мы, пятерка, будем вас проверять. И Ершов туда же. В деле ни бум-бум. Не обдумав, не разобрав, кричит, распоряжается, кабинетный работник. Я стараюсь помалкивать, если вижу, что работничек ни слушать, ни разобраться не хочет и не поймет ничего. Чего с ним время терять. Это люди, которые проявляют свою власть над подчиненными и авторитетны только у ниже себя стоящих. У равных они […]. В/н состав отделения с работой не справляется, ну и решили бросить охрану, а для продуктивности припугнуть сроком. Охрану можно и в Р. Т. стащить, а в/н — тем ничего. Вызывает помполит, спрашивает:
— Почему не на 11-й?
Отвечаю:
— Если будете заниматься провокацией, говорят, что я был на 11-й только 6 ч., да пугают сроком, то совсем работать не буду.
Это дело общественное, поэтому хочу работаю, хочу нет. Зашел к нач. 3-й [части] о снятии конвоя, а он приглашает Калашникова, да очень глупо, заметно что-то, что ни к селу, ни к городу. Подозрительно. Еще какой-то тип, путеармеец, вваливается запросто, усаживается на диване.
А неотвязная мысль сверлит мозг: когда же? Когда? Я буду на свободе? Даже партийцы Огурцов, Нечепуренко, и те формально отнеслись к смотру, их пуганули телеграммой Крылова, но кажется туфтовой. Пугать, критиковать, ругаться все умеют, а учить помогать нет никого. Это установка бамработников.
Снова чапаю с 11-й пешком, ночь тепла и лунна. В Москве сейчас с 7 вечера идут, гуляют, и ни побеги, ни з/к их не волнуют. Они не знают о нашем существовании и даже могут посмеяться над нами. Нет, не могу писать, душа рвется на части, я сумасшедший. Эх, жизнь!?!
Разгулялась погодка сегодня, и радостней стало и легче. Но жизнь, жизнь… Ускорить естественный ход событий? Съел декадник всю личную жизнь. Поиграешь в волейбол, забудешься. А после со всей яркостью встанет наша жизнь, шалман. И резко отразится гражданская жизнь. У нас все бамовцы погрязли в побегах, в тупоумии, во зле на условия работы одни, и другие — в найденном поприще работы и примерами своего Я, ну и живут.
Оригинальны нравы в Завитой. В палисаднике дома на завалинке сидят жители, дамы. Ведут разговор пикантный, а около похаживают и стоят мужи в нижнем белье, заложив руки назад или скрестив по-наполеоновски. Тоже отпускают шуточки вроде:
— Ну и сшила тебе жена порты? Мотня-то какая! А? Это про запас, на случай получишь килу.
Раскололся Нечепуренко, сказав:
— Я не знал, что нач. отр. такой отпуск мой задержал, и уволить не уволили, а я старался. Теперь так не буду.
А вечер бархатный, теплый и розовый. Зелень в соку, изумрудна, свежа и густа. Единственное развлечение жителей и молодежи — сходить на станцию к приходу поезда, потолкаться.
Но что же все-таки сделать, чтобы уволили? Пожалуй, хватит смотреть лето Д. В. К. Ничего замечательного и незамечательного. Пустота и неприглядность. Выезжает правительственная комиссия принимать 2-е пути. Доживем до Октября, а там, там что-нибудь должно случиться. Или со мной, или с БАМом. Но терпенье ждать, боюсь, лопнет раньше. Хорошо бы к лучшему. Уезжает Голодняк на восток в 19-ю.
4/VI
Сегодня лето. Жарко. А Азарова все же только уволили, и дело конец. Сидит нач. и регистрирует побеги.
Зимой отсиживался в помещении от холода. Летом от жары, а если прохладно, то выйдет на солнце погреться. Проиграл вчера в бильярд до 2,30 и сегодня проспал до 10. Сходил, порисовал в карьер. На 11-й побег. Ну и черт с ним. Так подумаешь, что за день сделал, увязал, согласовал, выяснил, как будто все так тихо и благородно. Морально же убит. Вот бамовский закон, уволили [Азарова] после месячной службы и ни гроша. Своя власть — свое правление.
5/6/VI
Вот дни, даже записать нечего. Правда, в общий выходной сходил на т. называемую площадку райотдела НКВД на соревнование. Ну, расстроился.
В трусах, в майке да в туфлях с шипами вспомнился стадион, вспомнилась жизнь. Нет, лучше не вспоминать. Сказал Камушкину, что служу до осени или пойду под суд. Сергеев снова у меня. Тоже спрашивает: как со службой? Говорю, до осени. Отвечает, что уволят, держать не станут. Насколько, что, правда, не знаю, но все же утешаюсь немного.
7/VI
И руководят вот такими как Пахомов. Пахомов — нянька у нач. отр., подлиза. Ему надо получать ударные зачеты и скорей домой. А начальство гордится: «Вот как я их в бараний рог гну!»
Присылают «Красный спорт», расстраивая. Вот жизнь, ну нечего отметить. Зашел в [изолятор] с Сергеевым. Играют в карты. Зол до бешенства. Приедет скоро садист Г. А пока надо пользоваться временем. Камушкин и Хренков — эти не особенно радеют к службе, приходя в 11–12 часов. Да что делать? Нечего! Я тоже научился относиться по-чекистски, как говорится. Но 3-я часть — стерва. Вяжет дело Огурцову из-за того, что сообщили о Баранове, что жил месяц у стрелков, ел пил и не платил.
Неужели живут люди на воле? Хотя и дорогой ценой, а завоюю свободу. Будет меня какой-нибудь групповод политграмоте учить. Смех. Ха-Ха-Ха.
8/VI
Забота о нас проскальзывает всюду. Ну, хотя бы в столовой. Относятся пренебрежительно. Если начнешь спрашивать что-либо, тогда пропал совсем. Не подадут час или больше. Не только выбора блюд, а даже двух нет. Сегодня пилав, рис засушен. Можешь ли, хочешь ли есть, твое дело. Хочешь бери, хочешь нет. О белом хлебе можешь подумать. Кто же должен позаботиться? Оказывается некому. Работники столовой не заинтересованы, поэтому ничего и нет. Нет даже коммерческих товаров. Если ты не наелся одной порцией, то другой не дадут. Может быть, вы хотите мороженого или клюквенного напитка? Да что вы? С ума сошли! Насчет очереди тоже благополучно, простоишь час или больше, потому что время твоего отдыха ты можешь сам использовать как хочешь и куда хочешь.
9 [июня]
Таким служить можно и надо:
— Приехал я, 2,000 привез. Вся деревня прибежала. Девчата. Я сразу 3 четверти водки на стол. Бабы на меня смотрят, а я на них ни-ни. Хожу на другой день по полю, руки в карман, кто не видал, спрашивает: «Что это?» Комиссар чтоль из полит. отдела? А я пройду как директор. Каждый день в доску. Подумал я остаться в деревне, но что делать? Грошей не заработать, в земле ковыряться! Нет, поеду. И вот я здесь.
А штаб, смотрю, заседает, решают, постановляют, делают выводы, будут объявлять образцовую работу кой-кого или «отдавать под суд». Николенко подъезжает ко мне: «Как со службой?» Отвечаю: «Прямо до Октября, а там мотаю или под суд».
Как все же я привык к мысли, что пойду под суд. Ночью побег из 3-й части. Дали вести Горячеву 10 чел. в ИЗО. Темно, ну и мотают. Кругом дома, стрелять нельзя. Не бьют, боятся получить срок.
Погода мерзкая. 1–2 дня тепло, а 5–6 дней дождь, курорт Д. В. К.
10–11–12 [июня]
Чувства, настроения и т. д. притупились, оставив одно преступное. Иногда вспыхнет огонек жизни, но никто здесь не может раздуть огонька в пожар и направить мысли в ту или иную сторону. Все это превращает человека в бесплотное существо. Но чувства все же заявляют о своем существовании и требуют себе нормальной пищи. Хочется сравнить охрану так: монастырь это или гроб? Пожалуй, все вместе. Монастырь потому, что ничего культурно-советского, а гроб потому, что человек потихоньку умирает, а с ним вся жизнь, кроме побегов. Но у меня кровь еще пульсирует, а с ней мысли роятся быстро, то, нахлынув общим потоком и перебивая друг друга, лезут, лезут в сознание беспорядочными толпами, то примут определенный ход, и начинается спокойное обдумывание положения. Прежняя жизнь становится исторической, как бы чужой.
Так постепенно уходит в вечность день за днем, и внутренний мир становится как бы на точке замерзания. Начинаешь верить, что могут довести тебя до бесстрастия. И все-таки что ни день, то к свободе ближе. Только через какой путь? Путь крушений, тоски и гнева. Путь еще большего ничтожества и унижения человека. Но иногда вступает в силу холодный анализ, и многое за недостатком горючего потухает. В истории всегда были тюрьмы и почему же, ха-ха-ха, не должен в них сидеть я, а только другие. Эта лагерная жизнь необходима для некоторых исторических условий, ну, значит, и для меня. И с течением времени воспоминания о другой жизни, которую ведут все люди за исключением лагерников или меня, в будущем не будут причинять боли. Можно будет всматриваться в нее.
Заставят всматриваться путем лишения зачетов и т. д. Буду ходить по пескам и по сопкам, по болотам и вечной мерзлоте, по Сибирской тайге и по топям, мы везде. А жизнь бьет везде ключом. Будешь обращаться и к законам жизни, и к отдельным частям. Видеть живых людей, их действия, самому становиться среди них, словом, жить в их среде, хотя и воображением. Но реальность!!! Мысли оборвались, и где права на жизнь? Но что же я сделал, что я за преступник? Неужели? Да может быть так надо. Может быть я и не должен жить своей жизнью. И все станет понятно. Здесь тебя представили самому себе — что раньше приобретено, тем и живи.
13 [июня]
А верно, пожалуй, изобрели карательное средство для людей, когда заставляют при полном сознании жить другим. С исторической точки зрения ты ничтожество, сиди и молчи. Но на то она и наука, чтобы быть объективной, а на то я и субъект, чтобы чувствовать. Легко отринуться от всего на миг, бросившись за ужасающим. А каково отрекаться ежечасно, ежесекундно и на долгие годы? И приходится ставить вопрос, победить и умереть. Больше бывает минут, когда чувствуешь, что тебя заставляют жить и обставляют так, чтобы ты прочувствовал все свое ничтожество.
Вот он, политязык Ершова. Подготовка к 1 Мая прошла безобразно. Дано неверное определение стахановскому движению, началось сверху, а не снизу, что является политическ. минусом.
Есть недооценка смотра, компанейская работа уполномоченного. Нет руководства над ф-гой… […] Обязательства есть, а работа… […] Ну и помполит сформулировал:
— Дать слегка по зубам и выпроводить из Н. К. П. С.
А они и рады:
— Ваши отчеты — документ, характеризующий ваше общественное лицо. И надо сказать плохое.
Как не крутят, и все же ссылаются на общественность. Понятно, понятно!!!? Хотят убить морально, но… пусть. И результат — конец — работа уполномоченного была, но не зарегистрирована — съехал, ну-ну!!!! И фурор. Нач. 3-й, обойдя кругом да около, сказанул:
— Вам надо уходить из ВОХР?!!?!???
Ну что ж, я рад, хотя завтра.
— Вы из кадра?
— Нет, из ГУЛАГ.
— Ну, это трудней, будете до конца строительства.
Вот она, разгадка, на какой срок нас взяли. Случай! Надо его не упускать. У Николенко с шефством похуже, чем у меня. Вот член ВКП (б). Надо мотать, и чем скорей, тем лучше.
16–17 [июня]
Идут совещания два дня. 1-е снова о стахановцах, о уполномоч. Ну, конечно, и обо мне. Что ты срываешь, неверно понимаешь, искажаешь и т. д., стахановское движение. Терпим пока. Криворучка отказывается от шефства:
— Не моя работа, не справлюсь, да и не могу бросить основную. Я же только принял взвод! Людей не знаю, побеги.
Обрезают сразу.
— Не хотите работать? Говорите прямо.
Действуют на комсомольца, меня, не упоминая фамилии, жмут. Это уже послабление или моя победа. Наше совещание комполит. состава. Мое нервное состояние достигло предела. А после выступления помполита, который вставляет словечки при выступлении Камушкина:
— Не хватает стрелков.
Это поддержка морального состояния и заинтересованность в его укреплении. Да и насчет квартиры отговорились: «Нашли ему четыре неподходящих».
Утешил. Ну, уж тут я дошел до того, что хоть плачь. К нач. отр. идти незачем, к комполиту тоже и т. д. Поневоле пойдешь на преступление.
При бритье кровь брызжет из лица. Аппетит пропал, мутит. И с каждым днем все новые и новые художества. Огурцова премировали, и результат — пьянство, сочинительство, взял деньги у з/к стрелков и не отдал. А в этом наверно рука и помполита и Гридина. Есть стремление у Афанасьева служить в охре, ну он и лезет, выступая с речами по вкусу начальства и немножко критикуя себя. Все напряжены, но выступать боятся, это, пожалуй, дипломатично.
Все же путеармейцам больше веры, чем нам. Кто-нибудь капнет из з/к в 3-ю часть, ну нас и таскают. Освободилась одна стерва с кухни, да на Афанасьева говорит, что изнасиловал, ну и дело парню. А ее пользовали, пока была на кухне взвода, все. Помполит 1 див-на тоже на меня, говоря, что я сказал кое-что лишнее. Знаю то, что выбрасывают за борт беспартийных. Нас беспартийных в отряде трое. Сделали ли из нас большевиков? Нет. Порадовали, отметив Бренча, что он растет. Да, растет, из малограмотного сделали политрука, помполита д-на, а толку от этого??? Из меня бы кое-что сделали, ну тогда еще дело.
18 [июня]
А вот и радость, с 11-й пять человек оптом. Хочется шлепнуться. Но холодный рассудок говорит: подожди. Рано или поздно срок дадут, пусть лучше рано, скорей кончится срок. Да, я встал на путь открытой борьбы. На боевой взвод. Не хочет служить и Девяткин, отпуская без конвоя урок, несмотря на предупреждения.
Приехал на 1-ю. С производством не в порядке. Ершов говорит, пусть лучше сбегут пять, чем не пустить бригаду на работу. Дерн за 4 километра возить не на чем, пища ни к черту. Поневоле восстанешь. Паршиво чувствую себя, мысли путаются.
19 [июня]
Взвалили всю тяжесть на нас. Помполит не был на 11-й. Стрелки обижаются. Помполита не знает путеармейская масса как коммуниста, как помполита. Руководят из кабинета приказами проработать то-то и то-то. Сергеев подтверждает, что стрелки 11-й недовольны Хренковым. Заедает Сергеева и то, что дров ему не везут, что Пахомов нянчится с детьми начальника и больше ни черта.
20–21–22 [июня]
Так жизнь в норму и не войдет, потому что у нас ничего нет нормального. Болят ноги, ревматизм. Кормлю клопов ночью. Память начинает изменять, не помнишь, что было вчера, 21-го. Иду в театр. Очередной провинциальный №. Переодевание в течение 1–2 секунд. Сплошная белиберда и похабщина, принимают заказы на детские валенки из шерсти родителей, вызывает смех и бурные овации у завитинцев. Вот вам культура, вот вам взгляды на жизнь.
Камушкин старается восстановить наши взаимоотношения, спросив:
— Ну как, вы посадили пьяных портных, и оправдались мои предположения?
Я сухо ответил:
— Да.
Еще не легче: около театра я сел на завалинку, а Камушкин с женой уставились напротив, ведя разговор с Лавровым. Да еще он замечает вслух:
— Ну, он долго не выдержит.
Это по моему адресу. Посмотрим.
А с 11-й бегут, и никто из начальства кроме разговоров ничего не делает, не обращает внимание. Неофициальная сторона дела такова. Жинка помполита проговорилась:
— Мы с мужем к 7 ноября в Москве должны быть.
Вот она, правда, а явь какова? Хренков: за ударные темпы! Хренков: за все мероприятия лагеря. Это, иначе говоря, волк в овечьей шкуре.
Только очень устаешь, а то скрыться бы от начальства в разъездах на ф-ги. Эх, покой, покой! Каким раем ты кажешься!!!
23 [июня]
Еду на 11-ю, по 44-й протащил до Буреи. В оперпосту обласкали. С 6-й драпанули девять человек [со статьями] 56/17–59/31. Все вверх дном. 3-я часть, опергруппа, мы все в разные стороны, вот положение. Выбирай две ямы. Одна сроком называется, другая могилой (стреляйся).
Полуторатонка по проселку. Кидает так, что кроме как лежать, нельзя принять ни одного положения. Жара убийственная, пыль набивается под белье. Перемешанная с потом, толстым слоем лежит на лице, стягивая кожу. Забрались наверх сопок. Крутимся во все стороны, дико. Пить хочется до тошноты, но негде. Ручей приносит облегчение. Ссадили двух опер., Касумова и второго, не знаю фамилии. Родионовка.
Едим хлеб с молоком. Морозов обратно на машине. Два операт. в розыск, я тоже, но один.
Дикие обгорелые деревья. Заимка, 2-я, 3-я, 4-я, отошли два человека, но вернулись и сели. Подхожу. Оперативники. Дорога должна идти на Тюкан, но расходится в две стор., по какой идти?
Колхоз «Блюхер». Китайские фанзы, труба от печи идет под землей и в сухое дерево, обмазанное глиной на 10 метров от фанзы. В фанзе верх печки в половину помещения служит столом, кроватью и всем, чем хочешь. В левом углу яма с топкой для печи. Кружек нет. Вся посуда — универсальные миски.
Начинается дождь, а до Тюкана 12 километров, да плюс вечер, 10 часов. Мокрые насквозь, но идем сильно и поэтому жарко. Зло на все, если попадут, то шлепну. Вышли, но куда? Между Иркуном и Тюканом 6 километров + 45, а дождь такой, кажется, размочит кости. Тюкан. Семафор открыт. Эх, не опоздать бы на поезд — но встал бы, или хоть на ходу, но сесть. На платформе горит уголь, будут тушить. Слышу разговор в кустах, шепотом.
Значит наши. Пойти взять, разбегутся, не увидишь, темно, хоть глаз выколи. Ищу вагон. Есть. Открытый с углем. Забираюсь, прислушиваясь. Свисток. Лезет один, другой, третий. Молчу. Ну, теперь давай выше и наган наружу. Осветил внутри фонарем стрелок, вижу наши, не с 6-й ли?
Значит, ночь не спать. Ноги сводит, ноют. Вымазался в угле, чувствую, что угольная пыль врезается в поры. З/к спят похрапывая, а ты дежурь. Вылезаю в Завитой черный, как черт. Оперпост и туфта с фамилиями 6-й ф-ги. А время 4 утра. Это удовольствие из-за 3-й части. Получилось так.
Нач. ф-ги просит разрешения на переброску с 17-й на 6-й, дает список. Сотрудник стола дознания Торяев санкционирует, Епифанов утверждает. Ну и пошли бандиты на бесконвойную. Мы, 3-я часть, перевоспитала, а вот результат. Десять капнуло. Мне от этого не легче. А ведь я предупреждал накануне ком. д-на о контингенте. Что предпринял по этому? Ничего.
24–25 [июня]
Полдня на станции ждешь экспресс, что возит дрова и лес. На 11-ю. Иду, по пути снимая местность. У ф-ги встречается нач. отделения. Потом нач. отряда. Полдня ходим по баракам. Много болтологии. Много шуму и трескотни. Много блестящих идей и надежд. А з/к текут. Камушкин с уговором старается меня убедить. Доказывает, что я неправ, думая, что на меня все ополчились и восстали. Что я не должен смотреть на всех волком. И, уезжая, жмет крепко руку, выражая свое внимание, и добавляет: «Значит, по-хорошему».
Не высыпаешься. Сегодня нет ни одного побега. Даже не верится. Это хорошо, но покоя нет моей душе. Срывается рисование. С 11-й пешком да в проливной дождь.
26 [июня]
Ноет сердце, болит. Все говорят о конце строительства. В/н состав потихоньку увольняется. Как им не завидовать. Камушкин удивляется, откуда я знаю, что пусть лучше уйдут 20 ч. без конвоя, чем записать простой за счет ВОХР.
Ну и разговорчики у Торпана. Вспоминаем побеги и убийства.
Пошли мы в розыск по тайге, то тут, то там труп, кто убил? Когда убили, ничего неизвестно, что за люди? Разозлишься, ну и шлепнешь. Пусть валяется. Найдут — найдут, не найдут — душа из него вон. Вот примерчик:
— Пошел Бутаев в тайгу, приходит, ведет одного. Одного поймал, другого застрелил. А застреленный в грудь на вылет сам пришел за 35 км. Мы за ним не поехали, конечно, двенадцать дней гнил.
27 [июня]
Стрелки отпускают сами з/к, иногда говоря [неразборчиво] официально, что на общих работах я проживу лучше, заработаю больше. А начальство это никак не поймет или не может понять. У нас еще благодать в отряде, а в 12–13-й текут по 50–60 человек в день. Прочитаешь эти строки и скажешь: неужели в них вся прошедшая жизнь дня. Пожалуй, что да. Хорош закат, но он не для нас. Лишь только расстраивает. И красота его не на хорошие, а на плохие думы и размышления наводит. Хорошо, что боевой нач. одного со мной уровня и ему легче и мне. Иначе душа из нас вон.
28 [июня]
Чем отметить день? Разве этим великим событием — из камеры хранения переехал к начбою в комнату и странно, странно до боли в голове то, что я в комнате, в настоящей, где не течет, где есть уют. Никак не верится, что так можно жить.
Но на душе мерзко, и комната подчеркивает всю пакость службы и жизни в БАМе.
На улице дождь и грязь по колено. Глина липнет к сапогам, еле поднимаешь ноги. Вот прожит день, ну еще отметить, что не было ужина. А стрелки тоже поговаривают, что строительство кончится лет через 20. […] Камушкин сообщил через начбоя, что мне нашли комнату. Наверно очередная неподходящая.
1/VII
Кому выходной, а я — уполномоченный, топай на 11-ю. Трепись каждый раз одно и то же. Люди не слушают, огрызаются, замкнуты, да и я таков же, все осточертело. Везде моральное воздействие, а реальной помощи никакой. Одни и те же ошибки и недостатки повторяются из года в год и ничего с места не сдвинулось.
Болит сердце, ноет. Устаем до изнеможения, с начальством в штыки.
2/VII
Хотя бы погода разгулялась. Хмуро, как осенью, ночью холодно. Лето проходит незамеченное, так же как жизнь в БАМе. Дни пусты, работой заполнить пустоту, работой бамовской — нет, простите. Желать самому то, чего видеть и слышать не хочется, надо быть идиотом.
В столовой очереди. Сегодня 45 минут ушло на ожидание. Какой-нибудь Ершов подошел вне очереди, взял и, пожалуйста, вам все услуги. Передернуло Ходьзко, когда я спросил:
— Кто записывает в очередь?
Гурко потихоньку делает и делает то чемоданы, то кровать. Наверно, начальству. Ну и скажи что-нибудь.
3/VII
Ну, уж это анекдот. Цветков, секретарь АКО делится впечатлениями о работе уполномоченного:
— На ф-ге 4 все стахановцы, только работают по 17 часов в сутки, а еще оригинальней ф-га 18, родственная 4-й. На 18-й экономии несколько тысяч, себестоимость малая, план выполнен на 107–140 %, но стахановцев 30 чел. 5-ка бьет за это уполномоченного. На 4-й перерасход, высокая себестоимость, невыполнение плана, но стахановцев много, значит хорошо. Прораб ф-ги № 4, татарин, учел такое положение. Попался навстречу Цветкову и на вопрос, куда торопишься, ответил: «За невыполнение ничего, а за стахановцев бьют, бегу больше их делать, все будут стахановцы».
Снова с 11-й четверо сорвались. Ком. д-на от имени нач. отр. приказал жить на ф-ге. Ну, это мы пошлем его. Не хочет Девяткин служить, сознательно тормозит, да и нач. отр. не лишает зачетов з/к, боясь показать истинную картину отряда нач. охраны.
Есть разговоры, что пробудем до Мая 1937 г. Приятственно. А жинка Хренкова дольше.
4 [июля]
Нет света. Сидим со свечкой.
Появились слухи, что останемся до Мая 1937 г. А на 11-й шалман. Прораб объекта работы не знает, рабсилу гоняет без толку. 3/VI послал на Тюкан 29 ч., там оказалось делать нечего. А на дерновке дерна резать некому, люди простаивают. Прораб Гусаров пьянствует. Сознательно срывают стахановское движение. В протоколе не написали о желании выполнить июльский план. Людей заедают клопы. Санчасть ничего не делает. А Ершов что-то съехал со своего тона.
Уело Камушкина взятым бильярдом до того, что через Лаврова передает:
— Теперь я узнаю истинное лицо Чистякова, что это за собственнические мысли и поступки у него, делал из бамовского материала, пользовался мастерской и все бесплатно.
[…] Обратно приехал на пионерке. Быстро мчит машина, нагоняя товарный поезд. Приятно продувает ветерком. 20 минут езды отвлекли, но ненадолго. И в этот короткий промежуток мысли больше направлены на то, как бы уволиться. Вот жизнь.
5 [июля]
«Убил» Пасенко, помполит дивизиона Бренч объяснил слово «агрегат» так: «Это начальник всех механиков-комбайнеров».
С таким определением групповоды уехали по отделениям, объясняя ересь бойцам. Балалаечник агитбригады вызывает восторг у Афанасьева исполнением «Светит месяц» с ударами по кузову и выкручиванием:
— Такого музыканта я в жизни не видал!
Где тебе видеть, разве на ярмарке в деревне раз в год. Вот культ. уровень и развитие комдивов и помполитов. […]
А в столовой? Камушкин, стараясь говорить громко, чтобы услышал я, обращается к Ершову:
— Не хочет работать, надо убрать.
Написал рапорт об увольнении, посмотрим что будет.
За Лавровым прислали на квартиру для игры в волейбол. Скучает Лавров по жинке. Не сообщает о себе она ничего уже месяц. Возможно, что и не сообщит. Поездка на Д. В. К. ее не льстит, а замуж снова выйти сумеет. Ну, начались разговоры о моем рапорте:
— Хочет в Москву! — говорит Камушкин. — Будет там зарабатывать 300 руб. и развлекаться.
На что Паскевич ответил:
— Пригласили бы играть его в волейбол! Он член партии?
Помполит вставляет:
— Выгнали его из партии.
6 [июля]
Сегодня на исповедь. Помполит с Камушкиным взялись гонять, но как. Помполит:
— Что это? Очередной номер!
Я, не понимая, ответил, что не знаю, о чем разговор.
— Вот ваше заявление об увольнении. То премию назвали взяткой, то среди стрелков говорите, что лучше пойдете под суд, а служить в БАМе не будете, это выявляется ваше классовое лицо, смотрю я на него и вижу — плохое классовое лицо у вас.
И Камушкин туда же:
— Вы пренебрежительно относитесь к начальству. Облокотившись на стол, при моем приказе даже не встали.
Нач. 3-й части отказался от слов, что «я ему предлагал уволиться».
Что-то Лавров вертит, намекая, что я многие вещи преувеличиваю. Наверно с ними ведут разговоры о моей обработке. Да и словечки комполита:
— Вы обрабатываете Лаврова в своем же духе.
А окончательный ответ на рапорт такой: вас призвали в армию. Если бы не взяли в охрану, то взяли бы в кадровую часть. Поэтому мы вас не уволим, и вы в Москву не поедете.
Сергеев с обеда в Завитой, но во взвод не приходит, ссылаясь на 11-ю ф-гу. Но какой стукач сообщает теперь помполиту? Возможно Сергеев, конечно, Пасенко — волевой командир или еще какой-нибудь. А может быть Лавров! Настроение хоть стреляйся, башка трещит. Еще ревматизм мучает. Погода дьявольская, дождь, грязь. Черт знает что.
Но какой же стерва Ходзько! Отказался от своих слов о моем увольнении.
7/VII
С 11-й снова двое сорвались. Когда кончится все это? Если на всю жизнь, то единственный выход — пойти под суд. Нач. отряда сменил часть стрелков на 11-й, а побеги ни черта не прекращаются. Хожу с Николенко, принимаю 3-ю и 25-ю ф-ги. Этот тоже с вопросом: «Как дела?» Больной весь. После обеда надо топать, разбирать, узнавать. Надо крутить, а стрелки, может быть, смеются над нами, зная, что ни черта не будет.
8/VII
Ну, наверное, все же придется, хочешь или не хочешь, а с жизнью расстаться самому. На 11-й семеро ушли. Весь день в розыске. Нервы напряжены до такой степени, что не ощущаешь ни дождя, ни ударов веток по лицу. Все кажется несуществующим, в том числе и своя жизнь. Дни уходят в нечеловеческом напряжении, в ожидании только одного нехорошего. Устал как сукин сын, пройдя километров 50. А в штабе начальство радует. Помполит вызывает, да спрашивает:
— Вы знаете, что у вас на 11-й? Что вы здесь делаете?! Сейчас же обратно.
Ночь, 11 часов, дождь, я устал психически, расспросы. Как прыгать на ходу с поезда в темноте. Ломать себе конечности, калечиться, нет. Отвечаю, что сейчас не поеду. Стоящий рядом ком. дв-на вставляет:
— Я только с 6-й, и там такое же настроение, все говорят, что нас под суд скоро отдадут.
Это влияние комвзвода. Помполит приказывает ехать на 11-ю к Инюшкину. Этот ночью тоже не соглашается. А по моему адресу так:
— Не воспитываете стрелков, не ведете работы.
Что же, спрашивается, делает политрук, почему он не воспитывает? Зашелся до того, что с сердцем вроде схватки, не хочется ни ужинать, ни спать. А как общий итог дня — это сообщение в штаб охраны: комвзвод классово чуждый, не выполняет распоряжение и т. д., вот свидетели, ком. див-на Инюшкин, помполит д-на Родионов. Юридически так, так будет смотреть суд.
9 [июля]
Хочешь ли, нет ли! Надо ли, нет ли, а на 11-ю отправляйся. Ну и едешь. Дождь, холод. Ком. див-на, политрук, я, всей оравой. Меня вызывают в Завитую в ОШС, что-то там будет трепаться Инюшкин? Провожаю политрука на Тюкан и слышу:
— Я вот коммунист, а ты думаешь, мне интересно служить в охране? Все вы так, а коснись увольнения, куда пойдете? На что способны?
10 [июля]
Совещания без конца. Назначили в 9 утра, а из-за приезда, верней, проезда Френкеля задержали до 1 часу дня. Нотации и политический язык.
После обеда тоже совещание и кино, «Закройщик из Торжка».
Но!? Эх, тихий ужас, картина имеет больше обрывов, чем [неразборчиво] Это Орлов постарался для актива. Я прошу и похоронный марш сыграть картине и говорю, что при солнечном затмении снимали, и что закройщик свою картину сам раскроил. Ничего не помогает. Все, облегченно вздохнув, сказали «наконец-то!», когда дали свет.
11 [июля]
Выходной делаешь сам себе, иначе не дадут. Рисую в карьере, а на душе мрак и мерзость.
После обеда в комнату заходит помполит д-на 1 Родионов. Эх, подходец, посол. Ну ладно, узнайте кое-что, узнаете ли. Обрабатывает насчет — надо кончить вторые пути, тогда уедешь:
— Будешь в Москве, сходишь в кино и Парк культуры.
Чего бы не проговориться, мы его так и встречаем словами: удивительно, что помполит пришел к командирам.
Не собирает ли материал против меня. Вот жизнь — сплошные подозрения. Поневоле выйдешь из колеи и сойдешь с ума. Все путается в голове. Сумбур.
12 [июля]
Читаю вчера в «Известиях» о педологических ошибках в работе школы, окружающие командиры потихоньку расходятся, не понимая, о чем идет речь, эх, командиры.
Тоже у Родионова в статье «Невежество», многое касается его непосредственно. А Ершов сам признает, что виноват, не вскрывая ящиков жалоб в течении двух месяцев.
Да! И будут командиры отделений всю жизнь отделькомами. Все же много еще мест в СССР таких, где условия работы отталкивают молодых специалистов, где никто не хочет работать. Почему же все-таки политрук взвода, помполит дивизиона, помполит отряда не воспитали стрелков 11-й?
13 [июля]
Выбрали же место для штрафной ф-ги. Поезда идут тихо на подъем, садись на ходу сколько хочешь, а поезд не остановится. Остановившись, не возьмет. Например, в волейбол, болит все, нужен бы отдых, а тут топай на 11-ю, сапоги продержались 0,5 месяца и худые. Помполит 1-го Родионов едет вместе на товарном и делится мнениями:
— Писал и Крылову, и Шедвиду, и в центр об отношении к нам, обо всех безобразиях.
Сам же интересуется: скоро ли закончим? Это, говорит за то, что он ничего не знает о положении с концом строительства.
А фраза «Наверно, кончим к ноябрю», обнадеживает.
Тоже хочет в Москву.
Глупая принципиальность политрука Сергеева:
— Или я играю сейчас в волейбол, или никогда не играю. Что это ставят вместо меня стрелка Тищенко?
А сам мажет черт знает как.
14 [июля]
Так и определяют людей: «Послушен, беспрекословно исполнителен, смирен как теля», — ну, значит и хорош командир, а если еще добавить, что до боязни чтит начальство…
15–16 [июля]
Забывается все и все. Голова пухнет от побегов, от шалмана. Еду на 6-ю. А с Бурей пешком на 8-ю, да обратно. Болят ноги. Следят везде и всюду за мной. Проговаривается Безродный, политрук спрашивает, когда был комвзвода, какие проводил занятия и т. д.?
Ну, следите, следите.
Мокрый вдрызг. Как-то создается мнение, что отряд разваливается. Стрелки разлагаются и з/к, и в/н, а моральные прививки действуют недолго. Раздели Чайку, раздели Циркуневича. [неразборчиво] Сидит Жусов, у Пахомова на 10 тысяч по разговорам не хватает обмундирования. И начальство не обошлось без отметки.
В «На страже БАМа» отметили Хренкова, что благодушествует. В какую газету не взглянешь, что не прочитаешь, везде учеба, интерес, жизнь. А у нас? У нас подобраны черт знает кто, безграмотные, ну, отсюда и руководство. Подбирают против меня материал. А с ф-г бегут. Ни нач. отр., ни ком. д-на ни черта не смогли сделать. Я так свыкся с мыслью суда, я на ф-ге, что кажется все это естественным и неизбежным.
17–18 [июля]
На подкомандировке 11-й провожу читку речи Калинина о Конституции. Никакого желания у з/к и возгласы:
— Не дают отдохнуть, то собрания, то совещания. Получают зарплату по 200–250 р.
Стрелки з/к смотрят, завидуя. А иногда и высказываясь:
— Лучше быть на общих, чем ходить с дрыном, там и спокойней, и ответственности нет.
Совещание у ком. д-на. Смотришь на комполит. состав и думаешь, вспоминая слова Мешкова [неразборчиво].
— Эх! Куда пойти!? Пойду в охрану.
Больше вам и некуда деться. Потому что в базарный день вам цена — сто рублей.
Вот картина парикмахерской БАМ. Бреют с одеколоном, брызнув в нос и на одну половину лица, дали почувствовать запах — ну и хорошо. Стрелок Ведерников в 1-м взводе тоже заявляет:
— Да чтобы я служил в охране? Отдайте под суд, а служить не буду.
Вечером снова на 11-й.
Народ все не глупый, а забит, запуган адм. тех. персоналом, то % срежут, то зачетов не дадут, и из человека стало живое существо, не более. Начальство ко мне не обращается. Что-нибудь придумают, но только бы поскорей.
Болят ноги, ревматизм. Каждый день не менее 15 километров исходишь. Дико подумать о том, что так на всю жизнь или даже на один год. Бежать, бежать и любой ценой, но не оставаться в охране. «На страже БАМа» — лишнее подтверждение работы Хренкова — благодушествует.
19–20 [июля]
Нет, надо все же кончать эту жизнь, и чем скорей, тем лучше. Вечное нервное напряжение, вечная пустота и пониженное до инвалидности, пребывание в ОХРе выше сумасшествия. Инквизиторски, медленно убивать себя надо оставить, надо кончить сразу. Дошел же стрелок Вознюк, хотя и з/к, до того, что на глазах у всех бьет прикладом. Слишком много нянчатся с з/к. Слишком высокие материи у воспитателей, которые путеармейскую массу изучают и воспитывают в кабинете. Не зная самой жизни.
Вот мнение — слова Вальи:
— Ваш комсостав — это выдвиженцы из отделькомов, которые дальше устава ничего не видят, ничего не знают, да и устав-то они трактуют по-своему, по-топорному.
Неудивительно, если у меня будет тихое помешательство раньше времени, а, может быть, и бурное. Взяли в охрану пожарников и поручили обучать помкомвзвода Хоменке. Мне начальство ни звука. Разогнали опергруппу, переведя ко мне и забрав в/н стрелков, сослались на приказ как будто 3-го Отдела, а Торпан проговорился, что Марзляка и др. хотят посадить в ИЗО. Вот вам и приказ.
21 [июля]
Идет оперативное совещание, очередная проработка приказа с напоминанием, последний раз. Очередная прививка.
И характерная особенность, меня ни разу как комвзвода не тронули, все обращения направлены к Сергееву. Камушкин: так т. Сергеев, верно т. Сергеев и т. д.
Правда, самый первый вопрос был направлен ко мне нач. 3-ей:
— Почему опоздали? Что вам, т. Чистяков, особое приглашение нужно?
Ответил, что как позвонили, так мы и пришли! Я был с Лавровым. Комедия достойна только старой армии. Бренч в выступлении говорит:
— Как только мы уйдем с собрания, так и забудем обо всем, что здесь говорили.
Ходзько подтверждает:
— Вот за это ты, Бренч, молодец, верно, что как только уйдете, так и забудете.
Слова прямо из «Капитального ремонта». Подсудимого матроса офицеры спрашивают: «Верно говорили, что бить вас надо, офицеров (сволочей), так сказали?» Ответ: «Так точно вашскородь, так и сказали, бить вас надо, сволочей!»
Еще номер! Помполит обвиняет меня в том, что я занимаюсь рисованием, фотографией и т. д. Что я гастролирую на ф-ги, утром уеду, а вечером обратно, да за это время еще рисую, и снимаю, значит, я не работаю!
Везде борются за всестороннего командира, а тут, пожалуйте. Погрязли в тупости и односторонности и думают, что все должны быть такими. Ну, нашел Хренков свое место в жизни и живи, а для меня БАМ — не место, да и вся охрана тоже, где бы она ни была. Односторонний командир — это флюс, который надо удалять.
Лавров подъезжает:
— Если тебе предложат, будь хорошим командиром до конца строительства, а потом мы тебя уволим, согласился бы ты?
Отвечаю, что нет.
Ночью свело ноги так, что хоть умирай. Дожди каждый день, грязь и слякоть.
22 [июля]
На 11-ю еду с уп. 3-ей Мединцевым на пионерке, рассказывает:
— Посадил я на ф-ге 28 в кандей одного зимой, да продержал без следствия три месяца на 300 гр. [хлеба], а иногда и без воды. Да приказал дежурному — ты выпускай его пореже, смотри, чтоб спал поменьше и поменьше дров брал. Ему здесь не курорт!.. Ну, мне и приписано было кое-что, потому что довел я его до ручки, кожа да кости, и ни в нос ни в рот, еле-еле мама выговаривает.
23 [июля]
На 6-й Торпан тоже не из последних:
— Был я на ф-ге у нач. ф. Сивуха. Ну и расправлялся иногда по-своему. Дашь прямо в морду при всех, аж кровь хлынет. И не обижались, и не продавали урки. Завели следствие, приехали, вызывают одного: «Бил тебя дежурный?» — «Что? Бил? Нет! Да он пальцем не тронет!» И так все. Надо вывесть на работу, захожу и прямо на верхние нары: «Ну, вы, глоты, пойдете на работу?» Все как один: «Пойдем!» А на Сивуху с доской бросаются.
На 6-й встречается Морозов. И никакой политработы признавать не хочет. Я стрелкам внушаю — конец строительства, считанные дни, приказы, а он прямо:
— Чтобы Гришакова ни говорила, не снимут, как работала, так и будет работать.
Ругается матом и старается показать, что охр. ничто.
— Сколько бы вы не писали, все равно ничего не будет Гришаковой. Не ваше это дело и не наше.
Не говорят обо мне, стараясь не упоминать, умышленно или еще почему, но выражаются так, намекая на меня.
Камушкин:
— Плохо у Криворучка, или еще у кого и т. д. Руководят из кабинета и никакой практической помощи.
Пример. В присутствии Камушкина стрелок стреляет в убегающего через зону, а з/к кричит: «Мимо, еще раз!» Спросишь, что же предпринял Камушкин? Молчит, о себе ни слова, и изменился сразу тон на милостивый, когда поставили вопрос резко о применении оружия.
Ходзько так и заявил:
— Надо изъять обрез, а то побьют народу черт знает сколько!
Мне хочется хоть раз услышать ваше руководство, начальники над нами, не в виде приказа о дисциплинарном взыскании и обещании Ревтриба, а оперативное занятие. Всякие меры воздействия, т. е. политязык и здесь: «Вы, каждый, будете не забыты с концом строительства».
Я думаю, что так и будет, кого выгонят, кого в другие лагеря. И в виде добавления: «Кое-кто из вас плохо, преступно относится к строительству».
Я пришел к заключению, что как ни веди дело, конец один и плохой, лучше надо скорей кончать. План по отделению не выполняется четыре м-ца подряд. Это, по-видимому, вызвано хорошим руководством? Родионов-помполит дремлет и получает замечания от нач. 3-ей.
И все же сейчас нач. 3-ей сознается, что Москвин и Голубев колбасили, увлекшись кубиками, и из-под конвоя выпускали и перебрасывали рецидив на безконвойные ф-ги в виде поощрения.
Снова наседают на меня за побеги с 11-й. Так и говорят, что это за счет Чистякова, и его надо отдать под суд. Потом следуют слова: «Вы сами осудите его», — и удар рукой по столу. «Это отношение к делу. Эти цифры дойдут до 3-го отдела, и выводы будут. Не хочет человек работать и все, в чем тут дело? Вам, тов. Камушкин, придется объясняться за 11-ю ф-гу. Не включились в работу, не хотите создать, умышленно это или нет, не знаю, но будут отдельные жертвы!»
Таким, как Криворучко-Сергеев, достаточно сказать, «что вы проявляете бдительность», так они чувствуют себя на седьмом небе.
Так весь разговор и идет, то за проведение в жизнь одного мероприятия, то против, и ни черта не поймешь, что правильно, что нет.
Бренч… за свою шкуру, выгонят еще, сваливает все на меня, стараясь продвинуться и показать себя идейным.
— Комвзвода не живет на 11-й и относится с холодком к работе.
На ф-ге № 19 новых людей принимает [неразборчиво] гимнастерках.
Ходзько:
— Сержанты.
Криворучка:
— В 1-м взводе стрелки ходят в тапочках. Разуты и будут отказниками.
Выяснилась и роль посещения нас на квартире Родионова. Хренков проговаривается:
— Чистяков рисует, ходит с палитрой на ф-ги, на что тратит половину времени. Фотографир.
Плуг:
— Надо признаться, что лагерь разложился, я проехал от Урульги до Тамарчукана и нигде, как у нас, безобразий не видел.
На что Ходзько отвечает, что Плуг — это оппортунизм на практике.
24–25 [июля]
Поднимают ночью в 2 ч. 30 м, на 11-й завалился барак и придавил людей. На пионерку и туда. Шуму наделало, а из-за пустяков, поцарапало одного, да и то чуть-чуть. Не держится в голове, путается.
26–27 [июля]
На 11-й удивительно, что 3-й день нет побегов. Провел занятия по подготовке винтовки к стрельбе и новый закон о сельхозналоге.
Прошел по трассе от Тюкана до Деи, уезжаю в Завитую и радость, с 11-й сбежали 11 человек, 8 у Жусмана. Уснул на трассе. Если бы хотели уйти все, то ушли бы, и винтовку отобрали.
Нет ли в этом деле и такого: дали ему 100 руб, ну и пустил.
Вызывает нач. 3-й и, конечно, сразу лается. Я больной — нервно до того, что расстроился живот. Попросился сесть. Разрешил.
— Давайте на ликвидацию побега, а потом зайдете, поговорим.
О чем нам говорить? Не знает, что у меня за настроение и желание или, может быть, через нач. 3-й узнать кое-что у меня, надо помалкивать.
Весь день в розыске, еле двигаются ноги. Без обеда и ужина. От Тюкана до Родионовки по тайге пешком сказывается. Одет, как урка, даже свои оперативники не узнают. Еду на товарняке с освобождающимся с 11-й. Этот, не узнав, рассказывает:
— Загнали нас сволочи и никуда не выпускают с ф-ги. Но зарабатываем мы хорошо. А урки, те еще подрабатывают, попросятся у командира в Завитую, приедут с кучей денег.
Спрашиваю:
— Как перепадает за то, что отпустил, командиру?
Уклончиво отвечает, что вольнонаемные, те получают по 204 р., а вот стр. з/к, солдатики бедствуют, что им там 14 р. перепадает, на махорку только-только.
— Мы все-таки и папирос хороших купим на 300 руб., можно кое-что пошамать. Дашь иногда и стр. ведь они тоже люди живые.
Надо хотя через суд, а избавляться. Получишь срок — будешь хоть определенно знать, сколько пробудешь.
4/VIII
Некогда записать. Гоняют, пугают, с 11-й бегут, смотр такой шалман, что представить нельзя.
28/VII в райотделе НКВД устраивают соревнование Завитинское, а потом районное. Подготовки никакой, ни спортсменов, ни стадиона. Уговаривают меня пробежать 100 — длину, и 1000. Эх, хорош я буду в сотне. Ни одной тренировки.
Едет Голубев мимо райотдела на извозчике и каков? Вдребезги. О, горе-спортсмены! Физспортработы в Завитой никакой, да и негде заняться, не только стадиона, а и площадки нет. Спартакиада не состоялась, где-то кто-то ночью отменил, играют в 8-й в волейбол, а я рву старты по глинистой и как каменной дорожке во дворе, попробовал на поле, гроб. Ямы, кирпичи, палки, поворотов нет, углы острые.
Цветков на вопрос: «Почему обижаете Голубева?» — отвечает:
— Начал колбасить: Ходзько посадит, он выпустит, на совещания не ходит, сидит как бирюк в кабинете, да отвечает, что «меня права голоса лишили». В отделении сплошной шалман, в УРЧ — кандейные дела. Подделали себе документы: зав. группой освобождения за подписью Ходзько и Цветкова да + еще на троих.
Лавров сообщает:
— Камушкин зовет Хренкова, пойдем на совещание по ОШС! Ответ: Не пойду, ну их с пятеркой!
Пришел только во второй половине. Мне снова Инюшкин приказывает выехать на 11-ю. Снова разговор «по душам». А Сергеев уже стучит помполиту, вот, опять не выполняет приказ.
Люди никак не додумаются, ну, я не подхожу — значит, надо заменить меня, перебросить в другой взвод или еще что-либо предпринять?
Какие же мероприятия провело начальство по устранению побегов? Никаких. Только и говорят: «Живи там, и все будет в порядке».
Приехал на 11-ю с ком. д-на, провожу беседу со стрелками. Инюшкин слушает и молчит, не может сказать слово.
1-го провожу смотровое собрание. Присутствующий Ходзько замечает:
— Хорошо ведешь!
Так я не понял, что он этим выразил: действительность или поощрение.
Снова в РОМ. Берут девчата старт, учит их инструктор: «Срываться надо, чтобы обе руки назад».
Эх, и горе-физкультурники.
Каждый день в столовой шалман. То часы по повару, то повар заболел, то буфетчицы нет, то собрание, кто-то заседает, а мы жди. Я все больше и больше дохожу, нервничаю и худею. Чем кончится, не знаю. Все считают дни до конца стройки. Все хотят смотаться, а где надо, не говорят.
Приехал Голодняк. Сообщает. Заявился с ромбом на смотр из штаба ВОХР и такую «речь» произнес, что я его забил, посадил в галошу.
Установилась погода, четыре дня нет дождя. Обрезаем Сергеева при Голодняке и Огурцове:
— Стучишь?
Отвечает, что я только ответил помполиту, почему комвзвод не выехал.
Где такие законы, что выходных в месяц три, работать должны 18 часов, а платить вам будет дядя? Что за республика?
5 [августа]
Снова на неизменной 11-й. Направляют этап 50 ч. на 12-ю. Будет поспокойней, но увидим. Конвоя нет. Беру двоих стрелков, проводника с/с, да сам вооружаюсь до зубов: дрын, наган, а в кармане пистолет. Дошли стервы до Тюкана и дальше не хотят. Ну ладно, будет вам ночевка без костра, а с комарами. Ночь холодная, хорошо, что луна, светло. Стоим на посту 3-й. Я не сплю, я без смены, а стрелки с проводником отдыхают по два часа.
Не останавливается ни один поезд. Да ночью и везти в Завитую опасно, будут прыгать на подъеме. Многое передумаешь. Поют з/к блатные песни, не лишенные и художественной лирики, и реалистичности. Характерный антисоветский образец.
Спрашивают китайца: «Как в русских лагерях?» Отвечает: «Кому нары хорошо, кому низа плохо».
«Я расскажу, как жизнь моя красна», — затягивает один, перебирая все невзгоды лагеря, пулю стрелка, холод и плохую пищу — баланду, тяжелый труд от восхода до захода.
Привезли этап в Завитую. Просят то хлеба купить, то булок, то то, то другое. Поступаешь по-человечески, разрешаешь брать. Взяли два пол-литра вина. Отобрать сейчас нельзя. Будут шухерить, устроим блат на перегоне. Заехали за Тюкан — место возможной остановки. Одна поллитровка летит на насыпь. Слежу за другими: выпивают. Отбираю с дракой, разливая. Бью посуду.
Бурея. Жарко. Усаживаются около станции с воплями: «Пить! Воды!» Пахан Борисов руководит всей группой. Выйдя в Малиновку, останавливается. Встает и вся группа.
— Дай, начальничек, купить вина, тогда пойду!
Иду на уступки с расчетом увести массу, а у Борисова разбить вино. Оставляю Гришицкого, сделанного временно оперативником из оружейного мастера. Настаивают идти вдоль реки. Ладно, думаю, дай вывести за поселок, там я вам дам жару. Костюченко-Седой бросает вещи на берег со словами:
— Стой! Давай купаться!
Я патрон в патронник. Пошли. Как стрелки быстро заряжают. Подождите! До ф-ги благополучно. Настаивают дать по приходе выкупаться. Соглашаюсь. А жара валит с ног, да после бессонной ночи. От пота мокрые все насквозь. Пересохло не только в горле, а и в желудке, скрипит пыль.
6 [августа]
Колбасит Довбыш. З/к приносят картофель, выкопанный на огороде вольных, принимает. Айзенберг говорит, что может быть Довбыш сам взял лапу и отпустил з/к. С питанием сплошное безобразие. Мясо тухлое, макароны затхлые. Начальство заботится только о себе. Гридин получал два пайка лишних из штаба, шил сапоги, неподходящие продавал, снова шил. Пахомов и Буров помогали, Пахомова взяли с сапогами на базаре. А где забота о стрелках, ходят в тапочках, разутые, спят на чердаках, рваные.
7 [августа]
С подкомандировки три побега. Довбыш купил краденые часы, отобрал деньги, а расписку положил в карман. Минков передает слова Шусмана: «Я когда-нибудь отпущу всех в баню, пусть разбегутся, разграбят белье, да побьют кого-нибудь».
Огурцов передает:
— Ты смотри, готовься, тебя хотят отдать под суд. Настаивает Хренков, а Ходзько колеблется и за тебя, и против.
В чем тут дело? То ли моральное воздействие на меня, то ли Огурцов, чувствуя свое неустойчивое положение в партии, хочет использовать меня? Таким, как Сленин, не хочется уходить из БАМа: «Что я буду делать? Воровать? Куда я пойду? Нет уж, лучше я буду в лагерях, пусть меня пошлют учиться играть на баяне».
Получил коллективное письмо от ЦДКА и снова с нечеловеческой силой подчеркнулась моя жизнь в БАМе. Сленину некуда стремиться, его цель жизни — баян, до лагеря он пел хуже.
Такими, как Сленин, будут восторгаться: «Лагерь дал жизнь человеку, направил на путь!» и т. д.
На какой путь направил меня БАМ? На путь преступника?! Отчаяние вошло в привычку, вся жизнь в лагере — отчаяние, и не верится, что есть другая жизнь.
8 [августа]
Перебралась 11-я на старое место. Теперь поближе, должно бы быть лучше, но больше разговоров и обещаний. Фонари где-то когда-то будут делаться. Ночи темные и чреваты побегами. О чем думает начальство и чем думает? Можно свалить все на комвзвода.
Дивизион просит характеристики на Девяткина. Отвечаю, что мы не можем, не имеем прав на это.
— Давайте!
Это говорит, что дивизион не знает комсостава.
До позднего вечера на 11-й. Ложимся без ужина, болит все. Снова дождь. Не видали лета ни в хорошей погоде, ни в овощах и фруктах. Да жизнь, жизнь!
Я хочу заниматься спортом, радио, хочу работать по специальности, учиться, следить и проверять на практике технологию металлов. Вращаться в культурном обществе, хочу театра и кино, лекций и музеев, выставок, хочу рисовать. Ездить на мотоцикле, а, может быть, продать мотоцикл и купить аэроплан резиновый, летать.
Пусть ВОХРа останется Хренкову и подобным маньякам. Не описать всех желаний, чем хочешь заняться. Возможно ли здесь? Нет. Кровью, здоровьем, куском жизни и самым драгоценным придется завоевать свободу. Через срок, через преступление — из ВОХР. Пока что нет другого выхода.
9–10–11 [августа]
То на 11-й, то на 6-й. На 11-й ни кухни для стрелков, ни помещения. Посуда общая, а среди лагерников есть сифилитики. Это еще одна прелесть, которую можно получить в БАМе. На 6-ю еду с инструктором собаководом. Рассказывает про помполита Жилу. Такая же вопиющая безграмотность. Вспоминает и «Кирпичики» по-китайски. Вспоминает и ответ китайца на вопрос: как в лагере, хорошо или нет? «Коммунары хорошо, комуниза плохо».
От разговоров о досрочном освобождении перешли к делу. Есть телеграмма о подаче заявлений отбывшим 0,5 срока. Ну а нам что? Я в/н получаю 300, испытываю прелести лагеря, морально разбит, лишен всего в жизни, какая разница от з/к?
12–13–14–15 [августа]
Вошло в колею, в нашу, конечно. Мероприятия по досрочному освобождению воздействовали на з/к. Побегов нет. Но мне не легче. Гнетущее состояние так и остается.
Некоторые подробности обо мне: начальство написало в штаб охраны обо мне. Случай: не сообщил и не снял своевременно Жусмана, в результате — побег восьми человек. Не хочет работать, саботирует и все прочее.
Возлагая большие надежды на себя, начальство думало отдать меня под суд, но результат получился неожиданный: «Дайте выговор, обойдясь своими силами».
Вот и ходит теперь начальство, дуется. Даже Ходзько, и тот не стал разговаривать. Замашки помещика, старого барина подчеркивают у Гридина и его невежество и некультурность. Звонит в штаб в 11 вечера.
— Попросите Пахомова! Достаньте мне папирос!
Старый приспешник, стараясь угодить начальству, летит во все концы, угождая. Жусов нелестно отзывается о Камушкине: «Это баба трепливая, шушукаются с помполитом и все про вас, т. командир. Но не хватает у них в голове чего-нибудь. Получили ответ и обожглись».
А сзади на ряд в театре сидит Гридин и слушает. Сегодня 15/VIII жена Хренкова, попав случайно по дороге в столовую, откровенничает:
— Бить вас надо за то, что все пишете.
По-видимому, есть разговоры с мужем обо мне?
Занимаюсь геометрией с Хоменко, а рядом сидят Инюшкин и собачий инструктор. Вышли, да рассуждают: что за командир? Да какое у него образование, да откуда он, да как попал в БАМ?
Вошедший инструктор говорит:
— Хорошо иметь такого командира взвода.
Вставляет политрук:
— Ему бы не в БАМе быть.
Написал письмо Крылову, посмотрим, каков будет ответ?
16 [августа]
Дождь. А с ним еще больший мрак на душе. Вечером на 11-й ужин и сон с клопами. Чего-то ждешь, а мысли всегда упираются в два места: или уволят, что будет лучшим счастьем, или отдадут под суд. Ценой лишения свободы завоюешь свободу.
17 [августа]
Сидит ком. д-на. Разговорились о Гридине. И Инюшкин, и Сергеев теперь отзываются плохо. Плохо же отзываются и о Хренкове. […] Инюшкин так сказал:
— Хренков попал под влияние Гридина.
Раньше молчали, боясь за свою шкуру! Эх, партийцы! Политрук появится во взводе в 10–11 часов, в 2 уйдет обедать, ну вечерком зайдет часа на 2–3. Ему не предъявляют саботаж и т. д.
Нашелся, идиот. Работал стрелком, уволился. Прожил два месяца в Ново-Сибирске и приехал, нанимается в отделение комендантом. На воле оказался абсолютно, по-видимому, непригодным. Бесят меня такие люди, и кроме отвращения к ним ничего не испытываю. Жаль жизни, но что сделать? Кажется, срок — единственный выход. Не уволят — уеду в отпуск и не приеду.
Зарплаты хватает только на питание.
18 [августа]
О чудо?! У нас шестидневка и сегодня первый человеческий выходной. Даже как-то не по себе. Идем с начбоем «за город». Полежали на берегу лужи, называемой здесь озером. А в пути ведем разговоры об увольнении. Приходим к такому выводу. Или служить бесконечно, или заработать срок как выход из положения и уволиться. Логические рассуждения говорят: ждать, когда тебя уволят? Да уволят ли?! Можно получить срок 2–3 года и освободят — верное средство.
У здешних командиров, у которых цели в жизни сходятся на лейтенанте БАМа, ни стремлений, ни желаний уволиться нет. Ну и прозябают — живут.
19 [августа]
С каждой мелочью нашей жизни связаны разговоры о сроке пребывания. Начали ремонтировать квартиры — значит, зимовать будем. Прислали приказ о новой форме — значит, можно увольняться. Паскевич рассуждает:
— Я — член профсоюза, дай 8 час. раб. день. Поболтаюсь до 4, а там всего хорошего.
Не дают нам сапоги, кончая стройку. Придется увольнять 30 % состава, так надо избежать лишних расходов. Тоже, по-видимому, и с новой формой. Я не только не желал бы ее получить, а и видеть не хочу, только увольте.
24 километра с 11-й подкомандировки, пешком. Ночь, темень, кувыркаешься по шпалам, проклиная все и вся. Не евши с утра и до утра. На фаланге нечего варить, уехали за продуктами, а привезут или нет? Временное и частичное успокоение нарушает селектор. С ИЗО 11-й групповой побег. Надо их, сволочей, стрелять изредка для острастки, а у нас нянчатся. Всякие нач. ф-ги ни черта не делают и всю работу свалили на ВОХР. Гусаров на 11-ю подкомандир. не заходит даже на ф-гу. Свалился как убитый и спит без просыпа.
20 [августа]
Хороший осенний день, но после ночного дождя грязь по уши. Снова разговоры о новой форме. Черная с голубыми петлицами. Вместо знаков военного образца — круглые пуговицы да решетки, а на фуражку кокарда.
Попробуй нас удержать и не уволить? Ботинки-краги или обмотки. Вот воинство-то. Даешь Москву!!!!
21–22 [августа]
Приехавший на ОШС москвич, политрук Борисов, не скрывает своих мыслей.
— Кончается к 7 ноября строительство, я подаю рапорт об увольнении. Нас ведь не мобилизовали в Р. К. К. А., а командировали на строительство, поэтому извольте уволить.
В столовой митинг о троцкистско-зиновьевском блоке. Голубев несет какую-то чушь. Собравшиеся обедают, да думают: «Кончай скорей!» Орлов, читая по записке, ляпнул:
— Да покарает их рука закона!
Общий смех, по-видимому, каждый подумал: «Да покарает тебя господь бог!»
Сергеев тоже, выступая, несет чушь, стараясь сделать умное лицо, вытаращив глаза и придав голосу особый тон. А Бренч записал что-то но, по-видимому, не зная с чего начать, встал и сел.
Ни одной зажигательной речи! Никто не может вести за собой массу, воодушевить, направить мысли слушателя. Могут ли люди владеть массой?
23–30 [августа]
Странные дела в дивизионе. Нет ламп, поэтому вечером начальство не бывает. Считают нормальным такое дело. Сажают з/к в вагон 98. Один набрасывается с финкой на стрелков. Внесли на руках, да Бутаев выдал не так тихо. Скрутили руки. Рычит, что зверь, лается, а ты терпи, ты кипишь, но, видите ли, з/к надо перевоспитывать, закона такого нет, чтоб на него ругаться. И закона нет, защищающего нас. Тебя могут и ударить, терпи.
В штабе устроили пьянку писаря. Начальство ничего не предпринимает, лишив условно зачетов.
Приказы штаба ВОХР становятся оригинальными, отобрать все вещи казенные по армейским книжкам у комсостава. Надо сдавать матрас, а на чем спать, когда нет материала на пошивку и не купишь?
Ждут все конца. Начальство не так жмет, перейдя на увещевания. Нач. отделения, встретив меня на перроне, спрашивает подозрительно о моей специальности. Интересно. Надо поиметь в виду, может быть, смотаюсь из ВОХР. В кабинете Москвин делает внушение мне, допытываясь, был ли я в партии? За что исключили?
— Ты считаешь себя здесь обиженным, да, тебе присуще срывы производства и подготовки кадров. Ты политически грамотней многих наших командиров и т. д.
Бренч, проторчав в д-не вечер, всего и сделал, что похвалился стрелкам часами:
— Сколько, вы думаете, стоят?
— Рублей 150!
— Нет, поди, купи! Три сотенки встанут.
Посмотришь на такой комполитсостав, да и подумаешь: программа жалкая его, не делать ничего. В деревне жить они не хотят, пахать надо, ну и довольны армией. Все же кое-что узнают, деньгу получают и ничего не делают. Стремлений в жизни никаких. Что ему еще надо, да что он и может делать? Ничего!
Приехал начштаба ВОХР Сапожников, разъяснил, что ОШС — дело добровольное, общественное. Наши умы согласились, затаивают новую установку. Куда начальство, туда и они. Проявить свою инициативу, узнать, они раньше не могли. Безвольны и двурушны.
31 [августа]
Полдня стреляет комсостав. А с обеда на охоту с Заборским. Идем полем с мелким кустарником, ни одного большого дерева. Кричат перепела, на которых я решил истратить несколько зарядов. Все равно больше никакой дичи. Первый взлетевший убит. Наступает мрак, надо ночевать. Идем к стогу. Ночи уже холодные. Костер разжечь не из чего, ни сучьев, ни дров. Одна «корейская» береза. Всплывают картины охоты в России.
Мечется смятенная душа, и, кажется, лопнет грудь. Утро дало еще одного перепела, и вся охота. Вот край-то благодатный. Ни дров, ни зверя, ни птицы, ни ягод. И ни капли воды.
1 [сентября]
Выходной. Сегодня МЮД. У нас нет различия будней и выходных.
Нач. 3-й звонит во все телефоны, ищет меня ехать на 11-ю. По-видимому, проводить смотровое собрание. И в выходной не дают покоя.
2 [сентября]
Один день так похож на другой, что можно сойти с ума. Нечем разнообразить. Инюшкин тоже насчет увольнения не прочь. Идет к Поцелуйке с ревматизмом.
День пуст как торичеллиева пустота. Лодырничают все, но я не могу, какая от этого польза? Никакой! Хорошо, что погода хорошая, не так гнетет.
Живет в отряде Сапожников втихаря. Посмотрим, что скажет после обеда подразделений.
Готовятся к зиме, а работы не хватает, ф-ги бросают с места на место, подбирая остатки. Если не уволят в ноябре, придется решиться на крайность, уехать в отпуск и не приехать. Вот жизнь!!! Хренков не просится в отпуск, по-видимому, думает с концом уволиться. Я понимаю так!
6/IХ
Должен бы быть выходной, но устроили день командирской учебы. Что за день?!. Камушкин читает по курсу стрельб 1-ю задачу, ну и все. Я и сам мог бы прочитать, даже лучше его. Борисов в своем обещании о подъеме в работе говорит:
— Вторые пути кончим, что ж, тут осталось 2 м-ца, а там видно будет.
Оказывается, что и у Борисова нет категории, Камушкин тоже самоучка. А вот его слова, показывающие, каковы у него знания и желание работать:
— Этот день застал меня врасплох, я не подготовился (день комучебы). Я самоучка, поэтому проводить занятия, как должно быть, не могу.
Спрашивается, как могут руководить такие начальники и [как] хватает у них нахальства проводить занятия. Разбирая дислокацию 5-й взв. отряда, меня назначают в 1-й взвод. Сергеев вставляет:
— Чистякова на запад, поближе к Москве.
Я отвечаю:
— Я-то поеду в Москву, ты-то поедешь ли?
Реплика Камушкина:
— Я пять лет работаю в лагерях, хочу уехать в Ленинград, да никак не уеду.
По-видимому, работает так себе, с прохладцем, ни о чем не думает, прозябает. Идет время бесцельно, ну и ладно. Не стремится ни к чему. А потом, по-видимому, судимость тянет назад, надо заработать, чтобы ее сняли.
Камушкин высказывается против Гридина:
— Ничего не сделал по ком. учебе, а Хренков три месяца не был в отряде.
Двухдневным совещанием думали зажечь энтузиазм у нас, но что-то не горит. Прививка перед концом, чем-нибудь надо отвлечь внимание от увольнения, решили учебой. Вечером сходил с Лавровым в поле на перепелов, но ни одного не видали. Стрелок з/к Кожедуб напился пьяным в Бурее с опер. ст. Чечулиным и потерял винтовку.
7 [сентября]
Сдаю потихоньку взвод Николенко. Идем на 11-ю подкомандировку. Николенко рассказывает о Лилине. Был у него стр. з/к Борисов, который занимался воровством, Лилин знал, но укрывал. Как-то Борисов приносит полну цибарку, сотни 2–3 яиц, ставит Лилину под стол, тот пьет и все. Угостил меня, я спрашиваю: «Откуда яйца?» Отвечает: «Ты ешь! Откуда!» Спросил у Борисова, тот говорит, что отобрал. Был приказ Лилина, что Борисова кроме командировок никуда в наряд не назначать. Сам Лилин обменял сапоги в каптерке старые на новые. Я с Плугом знал эти проделки Лилина, но не доносили.
8 [сентября]
На Кагановичах, с глаз долой от начальства. Со мной же политруком Бренча, которому не хочется, да и обидно, помполита 1-й и ком. д-на сделали инспекторами (что за должность, не знаю), а его снизили.
Дали же мне участочек, как опальному Поздеевка — Завитая, 80 килом. Отчаиваться нечего, надо что-нибудь придумывать. Ну хотя бы сократить участок до моста между Тур — Троебратка. Врид комвзвода Кравец недоволен, на взводе два года, а все вридом. Хочет писать рапорт об увольнении с 1/I 37. Перебросили меня на новое место, квартиры нет, дров нет, ничего нет и никому никакой заботы. Живи, как хочешь. Болит грудь, ждешь чего-то плохого, тяжело и горько на душе. 11-я ф-га снова у меня, нач. 3-ей расконвоировал 10 чел. 59/3 — 10 л. Сами отпускаем, беги бандиты.
11 [сентября]
Перевели на Кагановичи в 1-й взвод, с глаз долой от начальства. Со мной же политруком Бренча, которому не хочется, да наверно обиделся, что из помполитов поперли. На это у него нахальства хватит.
Я понимаю это так: бесконвойные — мне легче, мне меньше ответственности, но не промахнись, смотри, Петрович! Скорей бы шли дни, да скорей бы Октябрь. А там и дело к какому-нибудь концу.
Москва иногда так ясно представляется, что мучительно станет, до боли в голове.
12 [сентября]
Выходной, но что из этого, чем его отметишь? Нечем!
Пришел Заборский, сгоняли в бильярдишко, сыграли, спели, ну и все.
13–14 [сентября]
Ночую на 11-й. Паршиво, а стрелки примирились, так притупляются желания людей, и их стремления становятся маленькими и ничтожными.
Комвзвод Васильев — москвич, задумав уволиться, пьянствует, ну и уволили, дав ему 10 суток ареста. Наверно, он недоволен?
Какое-то неопределенное положение. То день все данные говорят за окончание к ноябрю, то день — останемся на зимовку. У меня какое-то самомнение, что меня вот-вот должны уволить. Провел начальство, сократив участок взвода на 15 кил., да на 28-ю ф-гу.
15 [сентября]
Выспался после бессонной ночи. Лезут мысли в голову, вот одна из них: «Живут ВОХРовцы в/н и не тяготятся отсутствием всего человеческого, культурного, художественного, литературного, спортивного, технического и т. д. и т. п. Не тяготятся своей слабостью во всем. Их не влечет общество, мелко-мещанские взгляды на жизнь. „Самовар и клетка с канарейкой“ — вот их счастье».
Как дико, но неужели факт, что единственное спасение для тебя — уничтожение? Можно ли с этим жить?
Невесело сознаться, но я с этим прожил больше года!
А впереди? Что думает Хренков, говоря: «Вот сяду скоро на лавочке и ничего не буду делать».
16–19 [сентября]
Никак не наладится жизнь наша, конечно, бамовская.
Ходишь по ф-гам. Прошел 50 километров на 9-ю, с 9-й на 11-ю, и во взвод на Кагановичи. Дождь, слякоть. Мокрый. Сводит ноги, ноет правая рука. Ни обсушиться, ни обогреться. Скоро, наверно, сойду с ума.
На 11-й групповой побег. Гиренко то ли отпустил за орехами, то ли, по его словам, растерялся, а шесть чел. смылись. На 35-й четыре з/к смылись. Ну хоть стреляйся. Я даже сейчас не могу понять, почему меня взяли в ОХР?
Провел на 3-ей занятия, то же на 11-й. Дал нагоняй.
Иду по линии, взлетает из карьера кулик: бах!
Мертв.
Иду брать, взлетает чирок: бах! Мертвый. Ну, значит, суп с дичью.
Пять суток спишь со стрелками, не раздеваясь. Приехал Камушкин и Калашников. Иду встречать на станцию. Рапортую Камушкину, здоровается за руку первый. С чего бы? Да и за побеги не читает нотации. Едет какое-то начальство, надо выезжать на линию. Зашел разговор об охоте и о сапогах. В розмаге есть охотничьи. Прошу у Камушкина. Отвечает, что для кого другого, а для вас сделаем. Чудно что-то?! Ну да ладно, были бы сапоги.
Снова 25 кил. пешком. А ноги еще не просыхали. Отдохнуть тоже негде. Вот жизнь. Чтоб она сгорела. Тут еще политрук Новиков приехал из Москвы. И странно, человек сам не хочет жить в Москве. Что за люди? Говорит, что все дорого, но ведь живут же в Москве и стремятся все или большинство туда. Говорит, что уволиться беспартийному можно.
Имеем в виду. Как-нибудь октябрь дослужим. Эх, свобода, свобода!!!! А кругом осень. «И золотит уж осень клены, осыпался с березы лист, и как ковер устлал дорогу». Приятный теплый осенний день. Пряный запах загнивающих листьев. На душе благодушно, спокойно, тихо, но… Это один миг, один момент. А ведь можно покой получить с увольнением. Неужели? Неужели не получу увольнения? Бреду по сопкам с ружьем и вспоминаю охоту осенью в деревне. Радость, хотя и мгновенная, но как она хороша. Рвется, мечется душа.
Ну, устроюсь на квартиру, может быть, немного успокоюсь, забудусь, оставаясь один, порисую, попишу. Выходной, а использовать его не приходится. Что за выходной, коль кроме помещения охр. и трассы никуда не денешься. Паршиво и с питанием. Скорей бы конец стройки.
20 [сентября]
И все же как-то странно, через месяц годовщина Октября, через месяц сдаем строительство, и никакой подготовки, сплошная сонная тишь. Гнилой какой-то пруд, подернувшийся тиной, а под ней не видать ничего хорошего. 35-я ф-га нач. Макарова. За все время ее руководства на всех ф-гах есть только плохое. Так вот и интересно, как отразилось на ней трудовоспитание.
И все же устав — это забор, который отделяет нас от настоящего мира. Надо оторвать 1–2 доски для того, чтобы пролезть в мир.
21 [сентября]
Что бы я хотел записать сюда — это конец; конец записей работы в БАМе. Но дни идут, наполняя душу побегами, грабежами, порезами. Иду на 11-ю — 18 кил. пешком. Усталость от каждодневной ходьбы сказывается. Да и чувствуется общая усталость организма. На 11-й радость — побег. Иду в розыск, кончив занятия о правилах стрельбы. В пути сажусь на балластный поезд — и до Кагановичей.
Во взводе Камушкин. Напряженное отношение понемногу разрешается. Он первый заговаривает о сапогах, сообщая что:
— Сапог нам не дали из розмага, но я выписал 14 пар, и вам одни обеспечу.
А [неразборчиво] ограбили багажный 97-й. Придешь, негде отдохнуть, живешь со стрелками.
22 [сентября]
День встречает дождем и холодом.
Вчера вечером рассказал стрелкам о времени года и суток. Таких простых вещей не знают. Вчера же сходил с Солдатовым вечерком к луже, которую называют здесь озером. Вспугнули одну утку и больше ничего. Жизнь Москвы с каждым днем все ярче и болезненней вспоминается. Мокрая погода заставляет задумываться о сапогах, а взять их негде.
Скорей бы, скорей бы Ноябрь, скорей увольнение. Провожу беседу о международном положении, присутствуют жены стрелков и командиров. Та же безграмотность и аполитичность. Мещанство, мещанство. Сидеть бы дома и чтоб никто и никуда не звал и не тревожил. Идут поезда на запад. Грохочет 1-я, считают пассажиры километры и часы до Москвы, а я, крепясь, сдерживаю боль.
23–24 [сентября]
С обеда уехал на выходной в Завитую. Там в столовой хоть по-человечески питаться можно. Дождь и слякоть. Сапоги не сапоги. В них больше дыр, чем материала. Вместе с водой, попадающей в сапоги, пропадает и здоровье.
Вызывает нач. 3-й. Душевная беседа, начавшаяся со слов: «На улице пакостно, так же и на душе».
Начали с побега Гершевича [неразборчиво] с 35-й, а перешли на меня, на мое настроение, на охоту.
— Ну, как ваше настроение?
— Плохое, т. нач.!
Объясняю о своей специальности, о взглядах на здешних командиров:
— Люди не тяготятся своей слабостью во всем, не умеют работать ни политруки, ни командиры, потому что безграмотны, а если и держится подразделение, то только за страх. Как может политрук провести художественное чтение, беседу на общеобразовательную тему и т. д., когда Бренч, Сергеев, Михайлов и многие другие малограмотные сами?
Отдохнул как будто, конечно, относительно, два дня. Забылся немного.
Нач. 3-й утешает:
— Скоро уедем, т. Чистяков!
Думаю, это скоро мы давно слышали. Удивляет меня следующее. Кажется, надо кончать пути скорей, а безалаберщины больше, чем работы.
25–26 [сентября]
Дни так же пусты, как пуст чистый лист бумаги. У меня как будто наступает идиотский период.
Никаких мыслей, как будто все человеческое атрофируется. Доволен тем, что кормят как-нибудь и чем-нибудь, спишь, лаются на тебя и ничего больше. Это же почти животное, а не человек.
Политрук продолжает жить где-то и делать что-то. Работает по какому-то заданию парткома, а своя непосредственная работа? Спрашиваю:
— Будешь переезжать во взвод?
Отвечает:
— Нет, чего переезжать из-за месяца.
По приказу нач. отд. 423 на ф-гах устанавливаются разные премии, а для стр. з/к? Нет! По охране, видите ли, лимитов нет и пр. Стрелки зарплату не получали два м-ца, курить нечего. Поневоле будешь просить у путеармейцев. Прошел на подконвойную 35-ю и обратно 32 километра, провел беседу о конце стройки, проверил знания.
Еле плетешься, а за что, спрашивается, что, много платят, есть заинтересованность? Нет ни черта. Пробыл сутки Бренч, ни занятий, ни беседы не провел. Вот работа.
27–29 [сентября]
Беседую со стрелками и их женами о речи Гитлера и Ворошилова.
Шухер на 9-й ф-ге. Зарезали овцу, украли два ружья, шинель и пр. кое-что. Галкин направляет в Завитую, они не идут. Мучились три дня. Я на 11-й по поводу побегов. В/н стр. Ночаев не хочет служить, отпуская з/к, отказывается идти на пост и в конвой. Да и все остальные не против уйти с 11-й.
Карданец заявил:
— Уйду в розыск и дней пятнадцать не явлюсь, проживу где-нибудь в деревне.
Васильченко с Грибенко так поговаривают:
— Пора бы нас сменить, послать на бесконвойную, отдохнуть.
Топаешь пешком каждый день по 40–50 километров. Попадает дичь по пути, прикладывааюсь, четыре штуки сразу, галок.
30 [сентября]
Выходной, но у нас самая работа. Думал накануне съездить на охоту, но приехал Голубев.
Штаб ф-ги, стахановский декадник и т. д. Приехал Лавров. Нач. б/п. Чем встретишь? Как провести выходной, когда первый день на частной квартире ничего не устроено, не налажено. Сходили, погуляли на сопки. Буро-коричнево кругом. В отделении шалман. Снимают Голубева. Сняли Ершова.
Голубев ездил по трассе и сообщал, что везде все в порядке, а план отделения выполнило только на 80 %. Ершов не обеспечил стах. движение. Прораб ф-ги 35 Романов тоже работает аховски, задерживает производственные планы, нет прикрепления бригад к объектам. Заходит нач. ф-ги Макарова и сообщает:
— Послала за прорабом, а он отвечает: «Я лег поспать!».
Голубев ни словом не обмолвился о конце строительства к Октябрьской годовщине, сказав лишь, что надо сделать подарок к празднику. Работы почти нет, но и конца не видать. Ковыряются.
1–2 [октября]
Какая-то стерва занимается туфтой. Сообщают о групповом побеге в четырнадцать человек, оказалось, нет ничего. Сообщают об этапе с 11-й на 47-ю, нет ничего. Кругом и всюду стараются вредить, срывать, подкалывать. Идем в розыск, всю ночь на ногах. Написал Камушкину, что по примеру вашему провел один командирский день. Как он поймет, не знаю. Написал рапорт об увольнении. Написал и Крылову. Что-то в штаб [неразборчиво].
Политрук ездит где-то, делает что-то. Писанул и на него. Это партийцы, энтузиасты. Воспитатели. Проводники культуры, организаторы.
Хорошо, что хорошая погода, что нет грязи, иначе пропадешь. Сапоги худые, ноги болят. Сходил, порисовал, отвел душу от дум. Но Москва отдельными моментами вспыхивает, взрывается в памяти.
Говорят, что у меня плохие младшие командиры, что таков и я. Но почему у хорошего нач. отряда плохой командир взвода? Это никто не говорит. Провел пятнадцать бесед на разные темы: о метро, о положении на Западе и Востоке, речи Ворошилова и Гитлера, сотворение Земли, сотворение человека, образование сопок и гор. Стрелки и жены довольны.
Только жена Кравец на приглашение отвечает:
— Я дура, мне учиться нечего, пускай там умные учатся.
Общая усталость утомленность умственная, появляется забывчивость — притупление памяти.
Старушка-старость шаг за шаг, придет Яга с клюкой и сядет, как на суше рак, хоть бабка репку рой …А холода наступают. По утрам мороз. Дров же нет. И никакого законного права заставить ф-гу привести нет. З/к нарочно стараются причинить больше вреда ВОХРе.
3 [октября]
Вечером на 11-й. нач. адм. части проявляет себя. В охране раскричался на Безродного, к. о., за то, что он не хочет переводить з/к на 8-ю подкомандировку из-за отсутствия конвоя:
— Я тебя под конвоем отправлю! Срывает стахановскую декаду, вредительством занимается!
Айзенберг вертится как волчок. Почитав приказ об аресте Безродного, заявляет, что съел одного, шляпу, пустоголового, съем и другого. Читает приказ путеармейцам, подрывая авторитет охраны. О себе не читает ни одного приказа.
Приписали Безродному регулярный срыв выгрузки балласта. Почему же, спрашивается, терпели столько время?
На подкомандировке. Спрашиваю человека в военной форме:
— Кто вы есть?
— Я комвзвода!
— Бамовский?
— Да, я нач. адм [неразборчиво] части, а почему вы кричите?
— Я не кричу, а разговариваю!
— Таким тоном?
— Так вам тон мой не нравится?
Бараки-палатки в дырах, дождь льет. Ну и черт с ними. Но для охраны тоже ничего не сделано. Про охрану забывают, охрана — враг всем и вся.
Айзенберг наседает:
— Вот шел состав в девяносто вагонов, а мы не можем разгрузить!
Я чувствую, что врет, тоже вру, отвечая, что не все вагоны нам. Комедия.
Сказал Мозговому:
— Я бы так не сделал, не сказал бы Безродному, что отправлю вас под конвоем. Во-первых, мы подчиняемся нач. отряда, а во-вторых, командира может вести только командир.
— Что вы мне мораль читаете? Я сам работник 3-го Отдела.
Ночь холод, дождь, вода замерзает. Помещение охраны течет, дует. А над кухней Мозговой даже ухитрился снять палатку с крыши. Течет в суп.
Спишь неспокойно, холодно. Сводит ноги и руки. Надо положить конец всему. Здоровье можно потерять в один день. Иду утром домой. Коченеют руки. В карьере попадают утки. Падает один чирок, шесть штук поднимаются и снова садятся в 300–400 метр. Подхожу, плавает одна. Бах! Падает. Будет суп.
И все же у нас право начальника, право сильного, власти.
Нет ни дров, ни керосина, и ф-га не везет. Приказать я не могу и не имею права. Сергеев хочет избавиться от ОШС. Написал Крылову, Бренч тоже написал рапорт, посылает по почте. Значит, в штаб ВОХР. Ставлю точку на службе, начинаю добиваться решительно увольнения.
4/Х
С утра в штабе отряда в Завитой. С людьми равными себе по мировоззрению можно поговорить и душу отвести. Пообедаешь по-человечески. А морозец знатный, вода замерзла в умывальн. Начинается старая прошлогодняя история, в один глаз плеснем, другой сам откроется. Снова в нетопленном помещении будешь терять свое здоровье, геройства в этом никакого, а ревматизм усугубить можно. Зашел к Камушкину, подняв вопрос об увольнении. Отвечает:
— Сапожников вам сказал — с концом строительства.
Разговаривает, намекая на наши взаимоотношения, хочет узнать, почему я так поставил?
Рыбак рыбака видит издалека. Так же и охотники.
Разговорились со старшим топографом Шишовым, оказался охотник. Собрались на выходной на коз.
Что-то будет? Нач. отряда на мой вопрос, что конец строительства будет 8 Мая, а я ждать не намерен с увольнением, ответил:
— Конец — 8 Ноября. Мы разные доделки делать не будем.
Разговоров о конце никаких. Даже и те, что были, замолкли. Может быть, умышленно ничего не говорят, чтобы не создавать демобилизационного настроения? Сижу на перроне в Завитой с Пархоменко и калякаю о делах.
Оказывается, Архаринский мост сделали выше проекта на 2 мт., а земполотно пришлось подсыпать после. Перерасход, изменение профиля и т. д., дела-делишки.
5/Х
Завтра выходной. Думаю пойти на охоту. Но дождь, дождь. Болит сердце. На душе потемки, мрак и неизвестность. Удивительная вещь — во всех моментах жизни есть, не теряется надежда, а у нас даже в надежду не верится.
Просидел дома весь день. Вечером впотьмах, нет керосина. Даже чтения, и того лишен человек. Помпотруду ф-ги 35 задает вопрос:
— Почему вы, человек с высшим образованием, а служите в охране ком. взвода?
Я сам удивляюсь, почему? Злая шутка.
На ф-ге 35 делают овощехранилище на зиму, и сам черт не разберет, что творится с концом стройки. А с 11-й бегут. Нач. отряда вместо того, чтобы приказным порядком откомандировать стрелков на 11-ю, сказал просто, они и едут трое суток. На 35-й подконвойке Родак и Сагер напились пьяные, надебоширили. Может быть, это вызвано и плохим положением. Нет табаку, нечего закурить стрелку, путеармеец получает, у него и просят. А начальство хоть бы хны. Писал, говорил — ничего не помогает. Вот дела, что тут такое, не разберешь!? Пишу в темноте, жалея остатки керосина в лампе. В моей комнате лампы нет.
6/Х
Выходной радует побегом с непобедимой 11-й. Надо ли ехать? Топаю пешком. Приехал на ф-гу политрук Сергеев налаживать быт путеармейцев.
Что за чертовщина? О з/к забота, разговоры, уполномоченные, шефы и т. д., а о ВОХР ни полслова. Помещение стрелков до сего времени не отеплено, дров нет, Айзенберг с прямой нескрываемой враждебностью относится к охране. Мой политрук, приехав во взвод, спрашивает:
— Ты писал в штаб о том, что я не бываю во взводе и т. д.?
Отвечаю, что, конечно, нет!
— Мне даже лучше без тебя, все некому будет стукнуть помполиту.
Смеется и на то, что я подал рапорт о увольнении, Кравец тоже, политрук тоже, вот собралось командование.
Сидим без света и без дров, и ни на какие запросы в штаб отряда ответов нет. Дождь пополам со снегом. Мерзко. Никто тебя не заметит, что ты хорошо работаешь. Идет стахановский декадник, а что-то не особенно заметно. Потянуло запахом варящегося асфальта на улице Москвы, и дрожь пробегает по телу. Надо действовать и решительно.
Что ни день, то ближе к холоду, к лишней заботе. Хочется скрыться куда-нибудь на весь день, но некуда. Были бы здоровые сапоги, то ушел бы на охоту. Но сапог нет. Пройдет день.
17/Х
События последних дней хаосом пронеслись. У Крылова в Свободном. Разбор писем.
Вечером в штабе с Лощининым вспомнили политзанятия Сергеева со штабниками. Политрук сказанул, что в Хибинах новый вид топлива — Апатиты. Очередной агрегат. Не верят, что я в отпуск, подозревают во мне что-то. И с уважением, и с лаской, и с шуткой относятся помполит и Камушкин. Разные толки о том, что я говорил, что на днях еду в Москву, что я обещал только год быть в БАМе. Все совпало. А на улице зима. Холод в помещении. Ни дров, ни угля. Лавров обращается к Камушкину.
— Т. начальник! Надо бы мне в кабинет печку натопить!
И ответец:
— А я может быть умышленно не ставлю чтобы вы не засиживались?!
ПРИЛОЖЕНИЯ
Отказчики
В природе день начинался обычно. А на фаланге 7 день начался не как всегда. С сегодня объявлен Стахановский декадник, но узнали о нем только вечером. Значит, никакой подготовки. Умышленно это сделано или нет и кем, узнать не удалось.
Черная доска с показателями процентов выработки бригад, висящая около вахты, была вымыта, рядом стояло красное знамя фаланги, которое было гордостью бригады Самохваловой. Это знамя знало, что такое ударники, знало, что такое ударный стахановский труд, знало, на что способна женщина.
Были дни начала стройки ж. д. моста. Был март 1934 г. Реченка Улетуй была еще скована льдом. Морозы еще держались у 25 гр., но 2-е пути и мост на них ждать не могли. Надо было до разлива вырыть котлованы и сделать кладку, иначе к осенним холодам перекрытия между пролетами не будут готовы. А это равносильно срыву.
Пока шла подготовка, отсыпка дамбы, были разговоры среди женщин: кто полезет в котлованы? Маловеры пугали трудностями. Затопит — не вылезешь, схватишь малярию, ревматизм. Находились и такие, которые утверждали, что от холода цинга будет у всех. Посидите в мокрой яме, так узнаете. Лезьте, кому жить не охота, еще затопит. Попьете водички вдоволь. Им что! Это относилось к работникам НКВД. Разъезжают в собственных поездах да смотрят, как тут ишачат. А посадить бы на баланду. Вот сапог резиновых не дадут и рукавиц тоже. Начальнички, им последние соки отдай.
Кровью харкаю, и смачный плевок летел на снег. Сосы! Не полезем, бабы! Не полезем! Не полезем!!
И больше всех кричала Самохвалова, бригадир рецидивисток.
— Да вы что, очертенели? Да чтобы мы в яму! Не наше это, не бабье дело!! Я скорей сдохну, но не полезу. Мужиков давай на эту работу. Ишь, выдумали, женской фаланге бетонный мост строить. Живьем людей похоронить хотят, ироды. Вот что, бабоньки, говорят, завтра приступать надо, то если назначат. Я…
— Все не пойдем, — отвечала хором бригада. — Что мы, дуры что ль!
Но мост строить все же надо. Перебрасывать 7-ю фалангу куда-либо, а на ее место снимать с работы мужскую слишком дорогое дело.
Надо обрабатывать женщин. И в первую очередь бригаду Самохваловой, потому что это лучшая бригада, дающая на кюветах, на траншеях по 200 %. Здоровый, слаженный коллектив, дисциплинированный в производственном отношении.
Вечер. Время, когда съеденный обед начинает вместе с отдыхом восстанавливать силы. И в голову лезут всякие мысли. Кто считает дни до освобождения, вспоминая былую жизнь. Кто, может быть, семью и т. д. А кто и о побеге подумывает, всякое бывает. Чинят свое барахло. В сотый раз перечитывают письма.
В бараке тихо. Каждый погружен в свои дела и думы. Каждому только до себя.
Скрипнула дверь, вытирая на полу полукруг своей нижней стороной. Входит командир ВОХР. Кто поднял глаза, а кто и нет. К посещениям охраны так привыкли, что считают ненормальным, если вечером никто не зайдет. Вошедший сел, не произнеся ни одного слова, оглядывая женщин. Так продолжалось с полчаса.
Тишину нарушила Самохвалова:
— Ну, что ты сел и сидишь как немой! Наверно, пришел уговаривать в котлован лезть?
— Нет! Чего мне вас уговаривать.
Взгляды всех уперлись в сторону разговаривающих.
— Брось туфтить-то!
— Мы в вашу яму не полезем, — раздалось откуда-то с верхних нар.
Самохвалова подняла голову и бросила:
— Что за всех отвечаешь? Кто тебя выбирал, или бригадира у вас нет? А ты, — обратилась она к сидящему, — давай, сматывай. Можешь идти к Финогеновой, те лошади, а не люди.
— Какие же они лошади?
— Такие, работают черт знает по сколько, не отгонишь!
— Но ведь вы-то больше работаете, у вас больше процентов, значит вы…
— Что мы, лошади, что ль?
— Да нет, я этого-то как раз и не хотел сказать. Я хотел сказать, что вы-то и есть те люди, которые дороги в Советском Союзе. Поэтому я и не пошел к Финогеновой, а пошел к вам.
— Ну, лей, лей!
— Лить я не буду, а сказать скажу. Я пришел с вами поговорить как с лучшей бригадой. Выслушать вы меня можете, от этого вас не убудет, а там как знаете. Дело ваше. Вы не дети, и я не сказку вам собираюсь рассказывать.
— Знаешь что! Брось ты трепаться! На мосту мы ишачим [неразборчиво].
— Знаешь что, Самохвалова. Я часто думаю. Все мы люди, разумные существа, и в голове у нас не мусор, а мозг. Думаем, соображаем. Ты вот, как и все, считаешь, скоро ли кончится стройка, скоро ли льготы и освобождение, а не задумалась над тем, что конец стройки от вас всех и от тебя лично зависит. Прикинь-ка, сколько ты, ну хоть за месяц, кубиков дала. Уложи эти кубики в штабель да посмотри: гора горой. А у всей бригады! Ну и посуди, надо с тобой разговаривать или нет? Ты сейчас ругаешься — ВОХРа, растакие-сякие, а если надо чего-нибудь, конфликт с замером как с зачетами и т. п., то ведь к нам обращаешься. Скажи, хоть раз мы отказали? Нет! По-вашему мы враги, сосы, а что плохого сделала Охрана? Ничего! Только хорошее.
— Людей расстреливаете!!
— Да, это верно, бывает и убиваем, но не людей и даже не подобие человека, а фашистских выродков. Ты вот имеешь несколько мокрых дел, и многие говорят: расстрелять ее надо! Расстреливают тебя? Если ты работаешь, приносишь пользу государству, занимаясь честным трудом, то знай, никто пальцем тебя не тронет. Даже здесь, в лагере. Но если ты начинаешь делать нарушения, то уж тут прости… Привести к тебе, к твоей бригаде вольняшек, да сказать: вот эта Самохвалова имеет восемь лет за бандитизм, и вся бригада такие же, что скажут? В ужас придут, почему они у вас без конвоя, да они ограбят население и т. п. А я пришел к вам ведь не с такими словами и даже мыслями. Я пришел, как к передовой бригаде, к людям, честно, по-советски работающим. Должны же вы это понять.
— Все вы так поете, когда работать надо, а как дадут 3-й котел, если придешь поздно, когда задержишься на работе, то я не знаю, да. Я не знаю, как это получилось! Никому не надо.
— Нам надо, мы разбираемся и греем по заслугам. Но вы сами не общественны. Почему с вами не считается нач. ф-ги? Почему он не дорожит лучшей бригадой? Надо его заставить уважать себя. Надо заставить уважать себя не только на фаланге, а во всем БАМе. У нас людям все доступно, но через честный труд. Это право тебе даем. Большое право, ответственный участок, мост. Добейся уважения. Пусть тебя узнает весь БАМ. Я поговорю с бригадой Финогеновой, поговорю с другими. Если не все, то найдутся отдельные лица, желающие работать на мосту. Организуем новую бригаду, которая, может быть, просто не пустит тебя на мост. Я тебе даю право выбора, и решай. Штаб О. утверждает знамя рекордов моста.
— Ты к Финогеновой подожди ходить!
— Не могу, они обидятся и скажут: почему нам не предложили? Я просто не имею права не ходить. Если вы согласны на мост, то давайте так сделаем — поставим вас на восточный котлован, а другие — на западный, а там отвоевывайте знамя и право на средний котлован.
— Ладно! Только чтоб не затопило!
— Ну уж этого я от тебя не ожидал! В траншеях-то вас не затапливало? А теперь решайте сами.
Стоявшая тишина во время разговора нарушилась передвиганием скамеек, шарканьем ног и вздохами. Долго шел громкий разговор в бригаде, долго не ложились спать.
Что-то скажут другие, если Самохвалова выйдет на мост?
Утром бригада стояла у вахты и не шла первой на работу, это значило, что согласны.
Пошли к мосту. Проверили дамбу, не пропускает воду. Осмотрели разбивку. Потрогали деревянный сруб будущего котлована. Поглядели друг на друга и молча первые удары лома вонзились в мороженую землю.
— Скурвились! — слышалось из проходивших бригад.
— Самохвалова! Ты! Продалась!
Много дум промелькнуло в голове у бригады, пока проходили мимо Финогенова и др. [неразборчиво] И остановились некоторые, и не так уверенно держался лом, не попадая при ударе в одно и то же место.
Так продолжалось часа два, пока заготавливали бурки [неразборчиво] под аммонал.
Но вот произвели зарядку, все отошли и:
— А… Ах-х-х.
Клочья мороженой земли полетели в стороны, перемешавшись со снегом и дымом. А вместе с взрывом пришла и разрядка гнетущего состояния. Заработали быстро лопаты, расчищая место, легче и глубже пошел лом. Котлован принял очертания.
— Поздравляю с началом, с первыми кубиками, — бросил командир ВОХР. — С окончанием будет поздравлять вас нач. строительства, знакомые и родственники.
— Ладно, не мешай.
Первый день дал победу Самохваловой, и знамя крепко осело на мосту. Правда, иногда переходя в бригаду Финогеновой, которая встала на западный котлован. Учет соревнований был прост. Мерили рейкой глубину котлована от краев и переносили знамя на восток или на запад.
Средний котлован достался Самохваловой, а с ним и знамя укрепилось на одном месте до конца стройки моста.
А сегодня это знамя отобрано. И как отобрано: ни за что. Так вот взяли, и кончено.
Бригада насторожена, напряжена. Кажется, вот-вот прорвется напряженность, и кто знает, во что она выльется. Все будет зависеть от обстановки. Может вылиться в бурю негодования, зла и ненависти ко всему. Может — в энтузиазм, восторг и гордость. Сегодняшний день определит положение. Мы чувствовали напряженность, чувствовали, что вечером будет буря, знали, что бригада Самохваловой должна отдать знамя Финогеновой и даже может быть Будниковой, бригаде тридцатипятниц. Но помочь ничем не могли.
Женорг БАМ Шервид промахнулась, сделав старое знамя переходящим. Знали, что Самохвалова сегодня первый день на балласте и 250 % не даст. Посмотрим, что будет.
От Будниковой к Самохваловой приходит делегат посмотреть, как у них. От Финогеновой тоже. Ни одного слова ни от делегатов, ни от бригады. Все хмуро смотрели в землю. Вечер, вечер решит все. На контрольные замеры пошли стрелки. И для нас картина стала ясна. Но как объявить? Допустить туфту еще хуже. Пускай расхлебывается Шервид.
Знамя передается Будниковой…
Дальше ничего нельзя было разобрать.
Шум, хаос, выкрики, ругательства, смех, но какой. Смех надтреснутый, надрывный, смех, переходящий в шипение и хрипоту. Так смеялись самохваловцы.
— Бабоньки! Вон отсюда! Все, все, до одной, — покрывая общий шум, раздался голос Самохваловой.
И среди наступившей тишины бригада молча вышла из клуба.
Создалось какое-то неловкое молчание. Даже Будникова и та стала в нерешительности: брать знамя или нет. Так продолжалось с полчаса. Разрядка началась с того, что отдельные лица выходили на двор, где начинались разговоры. Таким порядком вышли все. А знамя осталось у стола президиума. Что дальше?
Завтра жди отказов. Не пойдет Самохвалова, не пойдет Будникова и много из других бригад.
Сбылось. Бригады Самохваловой на разводе нет целиком. Все остальные вышли, но работать будут не на рекорд, а на горбушку.
Если показаться сейчас в барак к Самохваловой, то в тебя полетят поленья, миски, доски, валенки, все, что попадет под руку, все, что может причинить человеку увечье. Все это будет приправлено водопадом ругательств, да таких, что никогда до них не додумаешься.
У Самохваловой слышен шум, визг и крики — то выпроваживают из бригады вошедшую Шервид. Отказ может длиться три-пять дней. Но строительство не может откладываться, строительство не может длиться бесконечно. Надо укладываться в срок. Решаемся с полдня попробовать поговорить. Я сам волнуюсь не меньше бригады. Вот же, черт возьми, бедлам.
— Входи, входи, сос! Входи!
— Дзинь! — загремела вылетевшая с верхних нар миска, ударившись о стойку с противоположной стороны.
— Куда кидаешь? — раздался возглас, который приостановил могущую возникнуть какофонию. — Здравствуйте, что ль!
Так поставленный вопрос продолжил начавшееся замешательство. Надо это замешательство использовать, иначе все пропало, придется уйти ни с чем.
— Ларечница у вас?
— Я! — отвечает женщина, мывшая в тазе голову.
— Да тебя и не узнаешь, растрепалась как русалка.
— Ну и русалка! Ведьма, — опровергает один голос.
— Ха-ха-ха, — заливается другой. — Ведьма с лысой горы!
— Не с лысой горы, а с Улетуя. Дайте ей веник. Черта ей хорошего надо. Оседлай начальничка. Не все на нас ездить, надо и на них.
— Я-то на вас не ездил и не езжу, да и не собираюсь.
— А поехал бы?
— Нет, не умею, на людях.
— А Шервид? Покажись, курва, разорвем.
— Паразит.
И град отборных ругательств наполнил воздух.
— Я-то причем?
— Причем, причем! Что ж, ты, против ее пойдешь? Все вы, чекисты, на нашей крови выросли.
— Ты вот много пролила крови?
— Больше твоего!
— Где?
— В лагере в вашем!
— Тебя что, резали? Как и где?
— Стрелочки-чекисты.
— Нет! Но все равно кровь портишь.
— Вы нам больше портите. Вас вот тридцать человек в бригаде, на фаланге триста, а нас четверо. Кто кому больше испортит? Напихаете и в нос, и в рот, не только пообедаешь и поужинаешь, да в запасе останется. Вы женщины очень вспыльчивы, горячитесь иногда по пустому и без толку. Если разобраться мирно, то вы правы во всех отношениях, а когда крик да шум, то никак толком не поймешь, что вы хотите, и может получиться обратное.
— Знаем, куда гнешь!? Уговаривай!
И двое затянули: «Мы работы не боимся, а на работу не пойдем».
— Все?
— Все!
— Разрешите проголосовать?
— Голосуй!!
— Долой орателя! Брось, начальничек! Не играй на нервах!!!
— Вы сами играете на своих.
— Лучше предоставим это дело решать бригадиру. Она, я вижу, сидит и думает. Плохое придумывать нечего. Наверно придумала хорошее.
— Я на работу не пойду!
— Сегодня! А завтра?
— Ты что допытываешься?
— Не допытываюсь, а интересуюсь, потому что болею за вашу бригаду.
— Болельщик нашелся.
— В грязь втоптали бригаду, а теперь разбираться взялись.
— Но ведь не топтал же я!
— Что ж ты, против Шервид?
— Да, я против! Поэтому и пришел. Давайте дело говорить, а не ругаться. Вы считаете, что Шервид не права, ладно. А вы правы?
— Правы!!!
— А отказ? Отказ только оправдывает Шервид и обвиняет вас. Лишний шанс, козырь в ее руки, лишний факт против вас. Ну, допустим, Шервид ошиблась, она виновата, зачем же вам ошибаться.
— Ты что, ее защищаешь?
— Что тебе надо от нас?
— Вы никогда нас не понимали и не поймете.
— Я вот эту фотографию и статью в «Строителе БАМа» своим здоровьем завоевала. Я, может быть, верить начала в невозможное. Я, может быть, стояла на пути честного труда, на пути разрыва с прошлым. Знамя в углу барака всегда напоминало мне, что я в труде — равноправный гражданин со всеми. Когда я работаю, я не преступник, преступники не могут идти на дело с Красным знаменем. С Красным знаменем можно быть только советским гражданином. Мне весь БАМ подражал, нач. строительства в пример ставил. Немного, пожалуй, найдется Самохваловых. А тут приехала фря, знамя передается Будниковой. За что? За день работы. А мы пять месяцев его удерживали. На нем не краска, а пот и кровь наша. Она бы привезла другое, мы, может быть, и его заработали. У, гадина, если покажется — убьем.
— Нам все равно, у нас жизнь поцарапана.
— Эти мысли вам придется выбросить из головы. Чем у вас больше рабочих дней, тем больше зачетов и тем скорей поедете домой. Без сегодняшнего дня отъезд оттянулся, там, глядишь, еще оттянется. Кто же в этом виноват? Я пришел с вами ваш и общегосударственный вопрос решить. Вы ведь в СССР живете и никуда больше не собираетесь. Скажите, поедете в Китай?
— Нет!
— Может быть, в Японию или в Германию?
— Тоже нет!
— Значит, для того чтобы жить в СССР, надо жить по-советски. Труд — дело славы, доблести и геройства. Кто не трудится, тот не ест. Это вам доказывать не надо. Завтра выходите на работу, отбираете знамя. А я добиваюсь в отделении нового. Завоевывайте и его. Так что ль?
Ударники
Перегон Улетуй — Журавли занимала ф-га 30, укладочная. Этот перегон фаланга решила уложить в рекордный срок, дать как подарок к 18-й годовщине Октября. До праздника три дня. От Улетуя до Журавлей 12 километров, выходит, по 4 к. на один день.
Таких темпов БАМ еще не знал, о них не говорили и не писали, значит, не было. Здесь так же, как и на ф-ге 7, о декаднике не знали. Руководство отделения, по-видимому, дало распоряжение о декаднике, потому-то на ф-гах никакой подготовки. Надо было работать, а тут только начались разговоры да обсуждения. Причем никаких установок из отделения, кроме вопросов, как у вас с декадником, не было. Приходилось изобретать: может быть, наша работа по проведению декадника шла в разрез с общим планом? Никто ничего не знал.
— Ребята! На перегон начали подавать балласт. Сегодня подают 50 вагонов шпал. Рельсы, костыли, болты и все остальное есть, дело только за вами. Образцов укладки и темпов, которые можно бы поставить в пример, не достаточно. Я, ребята, предлагаю вам стать застрельщиками новых показателей. Оставшиеся три дня до праздника надо сделать историческими в 1935 г. Вы двигаете историю строительства, так давайте так двинем, чтобы это движение нельзя было остановить. Проверим себя и узнаем, на что способен человек, на что способен каждый из вас. Наши советские герои, наши орденоносцы, они вышли из народа, в них наша кровь. Вы такие же люди, с такой же кровью, значит, каждый из вас может быть героем. Сейчас мы идем на разгрузку шпал и сегодня же начинаем укладку. Сдадим перегон как подарок к Октябрю. Я знаю, что некоторые не согласятся с темпами, но ударный ход сметет их, спихнет с дороги. Поэтому говорю сейчас: кто не хочет идти с нами, отойди в сторону. А теперь, ребята, на разгрузку, каждый знает, что надо взять, топор, крючок. Работа покажет кто за, кто против.
Вперед ударники Бамлага, И ярче солнышко свети. col1_0 алеют флаги Вторые мы сдаем пути.Ответом было гнетущее гробовое молчание. Согласием оно было или нет, определить трудно. Свисток паровоза оборвал размышления.
— По четыре человека на крытый вагон и по восемь на платформу, разгружаем на обе стороны. В нашем распоряжении 25 минут. Как, ребята, успеем?
— Чего спрашиваем? Иль не веришь?
— Значит, через час завтракаем и после — на укладку.
— Дельно! — выкрикнул кто-то из толпы.
Быстро расселись по вагонам, и сразу же за выходными стрелками разъезда с идущего поезда замелькали в воздухе новенькие шпалы, тройной нитью ложась на обочины пути. На фаланге остался старший стрелок Иванишин с задачей приготовить завтрак, проследить, чтобы сделали образцово.
Быстро бегут стрелки на часах, кажется, что чем ближе к концу данного срока, тем быстрей. Нет, не разгрузим! Разгрузим. Нет, не разгрузим. Да что я, в самом деле, конечно, разгрузим.
Пройти по всему составу нельзя, мешают крытые вагоны. Иду по платформам.
— Ну, ребята, сегодня, пожалуй, некому будет давать третий котел.
Все реже и реже мелькают в воздухе белые тела шпал, и многие уже закуривают, значит, разгрузили. Улетуй. Проверяю. Пусто, пусто, пусто. А это что? Четыре вагона закрыты.
Что-то меня передернуло, и мысль, как шпалой, ударила по голове. Неужели шпалы!
Открываю вагон: шпалы. Другой, третий: шпалы. В четвертом сидит один.
— Почему один?
— Гражданин командир, на ходу никак нельзя было влезть, я вот с крыши в люк, что мог выбросил, а больше никто не полез со мной.
— Давай, ребята, выгружай здесь. Нельзя, чтобы шпалы разъезжали взад вперед.
— Разгрузим.
К селектору. Вызываю вагон нач. охраны.
— Т. нач., ваше распоряжение выполнено. Включились в Стахановский декадник.
С Журавлей на Улетуй подвезла балластная вертушка. На 758 километре есть падь — гнилая насыпь. Сколько не укрепляли, ползет и ползет. Решили срыть эту насыпь и сделать ее из балласта. Срывала женская фаланга. На балласте работала она же. Подъехавшая вертушка, на которой, куря, сидели рабочие 30-й фаланги, вызвала недоумение и удивление.
— Гляди, девки! Кто это?
— Помощники нам!
— А что же они без лопат-то?
— Ну, значит, лодыри. Эй, вы! Что разъезжаете? Вертушку задергиваете! Расселись!
— А вы много поработали? Стахановцы!
— Много-много?! Ждем вот балласт.
— А мы завтракать едем.
— Как?
— Так! Видели шпалы по пути?
— Видим.
— Как думаете, откуда они взялись?
— Вот черт. Дайте-ка лопаты-то, мы вам подмогнем.
И балласт, переливаясь и блестя как золото, сплошным потоком обрушился в падь.
— Если вы нам к пятому числу не засыплете и задержите укладку, пеняйте на себя.
— Да разве вы дойдете сюда?
— После будете спрашивать, когда придем.
Пока очищали габарит, был импровизированный митинг. Х. стоял на платформе и держал речь к женщинам.
— Вы не считайте нас туфтачами и лодырями. Да подождите хвалиться своей Самохваловой. Самохвалова у вас одна, а в бригаде всего тридцать ч. Мы, сто двадцать ч., будем лучше Самохваловой. Пусть ее мост хорош! Мы по этому мосту пройдем с рекордом и союзным, и бамовским. Наш рекорд будет наверху!
— Что-то уж больно расхвалились. Эй, мужик, зайца продаешь?
Укладку начали после завтрака. Кажется, никаких нововведений не сделали.
Отобрали только хороший инструмент, а плохой оставили на ремонт. Прораб взял фаланговое знамя и унес его поставить на конечной точке сегодняшнего дня. Скрылось знамя за поворотами. От Улетуя до моста, что строила Самохвалова, полтора километра — этот отрезок надо уложить в два часа. На каждый рельс с двадцатью шпалами и сотней костылей приходится двенадцать с половиной минут.
Математика любит точность в расчетах, только тогда получается верное решение. Эта математическая точность должна быть и в работе. Но в работе есть еще кое-что, кроме сухой математики, — это соревнование, живое дело, энтузиазм. Фаланга разделилась на две части: левый рельс и правый. И соревнование захлестнуло обе стороны. Как только на левом рельсе костыльщик уходил на две-три шпалы вперед, так на правом слышался топот, и наоборот.
И через мост прошли в час пятьдесят минут.
На сером бетоне устоя углем написали: «Самохвалова, подтянись».
Не устояло знамя на месте, вынесли его на стык вперед. Левая бригада ушла на один рельс вперед и, чтобы выровнять, уложила один рельс на правой стороне. Соревнование разгоралось. А вечером, идя с работы на фалангу, самохваловцы удивлялись.
— Никак, бабоньки, рельсы?
— Ну да, рельсы!
К пади подошли в срок, но она оказалась не засыпанной, подъем карьера, да и Амурская дорога иногда тормозила с пропуском балластных вертушек. На пади поставили козлы и на них уложили рельсы. Включились в стрелку. Теперь вертушка может по второму пути подавать балласт без задержек.
[Без названия]
Эх, жизнь, зачем ты смеешься над людьми? Барак ф-ги 7. Кругом щели. Голые нары. З/к спят. Снег на стенах, на полу и на спящих. Дров нет. Пожалуй, в этом решете и дрова не помогут. Скопище живых существ, а не люди. Почему так? Лохмотья. Грязь! Спят одевшись, в бушлатах, в валенках, в шапках. Если взглянешь, то не сразу поймешь, что здесь такое. Склад старого ненужного обмундирования или свалка. Стоны, выкрики, храп с присвистом, ругань во сне, сплошной бред.
Разметался один, руки беспомощно повисли вниз, ноги в стороны. Общее впечатление: человек убит. На лице отпечаток мольбы, перемешанной с ужасом. Белый оскал зубов, перекошенный рот, беззвучный смех, на мгновение открытые и вновь закрытые глаза.
Ни одного радостного лица. Где они, счастливые сны и улыбки? Люди во сне продолжают переживать лагерь. Сон приносит не покой и отдых, а кошмар и бред.
День на работе. В дождь, снег, в грязь. Ночью снова бред. От таких условий поневоле будут мысли, что все виноваты. Лагерная администрация не заботится о заключенных, растрачивает, проматывает положенное по штату. А у путеармейцев мнение, что советская власть не дает ничего.
Полученное пропивают, проигрывают. Сверх штата, конечно, не выдают.
Драка
На фаланге шум. Надо идти. Шум несется из клуба. Ни одного звука человеческого голоса. Стук, треск, звон разбившихся стекол. Звон упавшей железной печи. Затишье на мгновение и снова — шум. […]
ФОТО
Иван Чистяков.
Фрагмент плаката «Помни приказ № 172» (о досрочном освобождении заключенных-ударников на БАМе).
Агитация в Бамлаге.
Обложка дневника Ивана Чистякова.
Страницы из дневника Ивана Чистякова.
На строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Чекисты — руководители лагеря и строительства БАМа.
Агитационный плакат.
Заключенные обедают на открытом воздухе.
Страницы из дневника Ивана Чистякова.
Расчистка леса для прокладки временной железнодорожной трассы.
Заключенные укладывают шпалы для временной железной дороги.
Заключенные выравнивают железнодорожную насыпь.
Заключенные проверяют, как уложены шпалы на железнодорожной трассе.
Страницы из дневника Ивана Чистякова.
Главные ворота лагерного пункта Янкан — будущей железнодорожной станции (36 км от станции Тында, столицы БАМа).
Один из руководителей Бамлага в президиуме лагерного слета заключенных-ударников.
Начальник Бамлага в 1933–1938 гг. дивизионный интендант Н. А. Френкель.
Рисунки из дневника Ивана Чистякова.
Женская бригада заключенных загружает вагоны грунтом для железнодорожной насыпи.
Начальник женской фаланги (бригады) заключенных Аксаметова.
Женская бригада работает на насыпи.
Женская бригада заключенных на разгрузке вагонов.
Рисунки из дневников Ивана Чистякова.
Обложка профессионального журнала для охранников Бамлага «Бюллетень консультационного бюро Штаба вооруженной охраны Бамлага НКВД».
Заключенный с киркой.
У доски с показателями выполнения производственного плана.
Обложка журнала для заключенных БАМа «Путеармеец».
.
Сноски
1
Статус автора дневника, вероятнее всего, — младший командир — одногодичник. В то время действовал Закон об обязательной военной службе, принятый ЦИК и СНК СССР 13 августа 1930 года. В разделе 10 закона регламентировались порядок и сроки службы для тех, кто окончил техникумы и институты. В момент написания дневника у автора не было персонального звания, и кубик в петлице указывал на его должность (командир взвода либо отделения). В дневнике он пишет, что он не чекист, т. е. он военнослужащий РККА, переданный для службы в НКВД на БАМ.
(обратно)2
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога, железнодорожная магистраль в Северо-Восточном Китае, проходившая по территории Маньчжурии (Китай) и соединявшая Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. Построена в 1897–1903 годах как южная ветка Транссибирской магистрали. Принадлежала России и обслуживалась ее подданными. В 1928-м из Китая были высланы все русские служащие КВЖД, в 1934-м дорога продана правительству Маньчжурии, в 1945-м возвращена СССР, в 1952-м передана Китаю.
(обратно)3
В 1940 году Френкель уже занимал пост начальника управления железнодорожного строительства ГУЛАГа НКВД СССР, т. е. распоряжался всеми железнодорожными лагерями в стране.
(обратно)4
Бытовиками в гулаговской системе называли людей, осужденных за бытовые преступления.
(обратно)5
Здесь и далее: В. Шаламов. Вишера. Антироман. М.: Книга, 1989.
(обратно)6
Стахановская норма — повышенная производственная норма. Термин появился в 1935 году и связан с именем забойщика шахты А. Стаханова, во много раз перевыполнившего норму выработки угля.
(обратно)7
Путеармейцы — пропагандистское энкавэдэшное название строителей железных дорог в первой половине 1930-х.
(обратно)8
Отказчики — заключенные, по каким-либо причинам отказывавшиеся выходить на работу.
(обратно)9
А. Солженицын. Арихипелаг ГУЛАГ. Т. 2. М.: Советский писатель, 1989.
(обратно)10
Соловецкий лагерь принудительных работ особого назначения, организован в 1923 году, закрыт в 1933-м.
(обратно)11
Чистяков вместо военного трибунала, суду которого он подлежал как военнослужащий, часто употребляет старый термин «Ревтрибунал» — Революционный трибунал, созданный в 1917 году и просуществовавший до 1922 года.
(обратно)12
В. Шаламов. Указ. соч.
(обратно)13
Конечно, такие люди в Бамлаге были — например, до 1934 года там находился осужденный на десять лет знаменитый ученый и философ отец Павел Флоренский, — но в дневнике Чистякова никто из заключенных, осужденных по политической статье, не упоминается.
(обратно)14
Статья 35 УК предусматривала наказание до пяти лет за нарушение паспортного режима для тех, кого числили под категорией СВЭ (социально вредный элемент), — бродяг, проституток и прочих мелких уголовных элементов.
(обратно)15
Все наложенные на заключенных взыскания могли лишить его права на досрочное освобождение.
(обратно)16
Дальневосточный край.
(обратно)17
Имеется в виду стрелок заключенный или бывший заключенный. В приказе по этому поводу сказано, что он застрелился от страха перед новым лагерным сроком.
(обратно)18
«Странная» поэзия и «странная» проза. Филологический сборник, посвященный 100-летию со дня рождения Н. А. Заболоцкого. М.: Пятая страна, 2003.
(обратно)



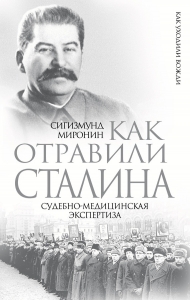




Комментарии к книге «Сибирской дальней стороной. Дневник охранника БАМа, 1935-1936», Иван Петрович Чистяков
Всего 0 комментариев