Владимир Набоков Взгляни на арлекинов!
Посвящается моей жене
Другие книги повествователя[1]
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
Тамара, 1925
Пешка берет королеву, 1927
Полнолуние, 1929
Камера люцида («Расправа под солнцем» в английском переводе), 1931
Красный цилиндр, 1934
Подарок отчизне, 1950[2]
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
See under Real («Подробнее см. „Истинная“»), 1939
Esmeralda and Her Parandrus («Эсмеральда и ее парандр»), 1941[3]
Dr. Olga Pepnin («Д-р Ольга Репнина»), 1946[4]
Exile from Mayda («Изгнание с Майды»), 1947[5]
A Kingdom by the Sea («Княжество у моря»), 1962
Ardis («Ардис»), 1970[6]
Часть первая
1
Первую из трех или четырех своих жен, сменявших одна другую, я встретил при довольно необычных обстоятельствах: события развивались, как неуклюжий тайный сговор, с никчемными подробностями и главным крамольником, не только не имевшим представления относительно его истинной цели, но еще настаивавшим на совершении бессмысленных действий, исключавших, казалось бы, малейшую возможность успеха. Вопреки этим ужасным промахам, ему каким-то чудом удалось сплести паутину (в которую я угодил из-за серии собственных ответных оплошностей) и тем самым исполнить предначертанное, в чем и состояла единственная цель того заговора.
Как-то во время весеннего триместра моего последнего года в Кембридже (1922) я согласился, «будучи русским», разъяснить кое-какие тонкости в устройстве гоголевского «Ревизора». Его готовила к постановке, в английском переводе, театральная группа «Светлячок», руководимая Айвором Блэком, талантливым актером-любителем. У нас был общий наставник в Тринити-колледже, и он едва не свел меня с ума, без конца изображая жеманные ужимки старика, — спектакль, продолжавшийся почти все время, что мы завтракали в «Питте»[7]. Короткая деловая часть разговора вышла еще менее приятной. Айвор Блэк намеревался облачить гоголевского Городничего в пижаму, поскольку «вся пьеса ведь не что иное, как дурной сон старого пройдохи, и разве ее русское название, „Ревизор“, не происходит от французского rêve, сон?». Я сказал, что, на мой взгляд, это кошмарная идея.
Если и были репетиции, они прошли без моего ведома. Собственно, как мне только что пришло в голову, я не уверен даже в том, что его постановка когда-либо предстала перед огнями рампы.
Вскоре после этого я встретился с Айвором Блэком во второй раз — на какой-то вечеринке, во время которой он пригласил меня и еще пятерых других человек провести лето на Лазурном Берегу в имении, которое, как он сказал, ему только что досталось в наследство от его престарелой тетки. Он тогда едва стоял на ногах и неделю спустя, накануне своего отъезда, выглядел весьма озадаченным, когда я напомнил ему о его дивном приглашении, каковое, как оказалось, лишь я один и принял. «Мы с тобой — двое никому не нужных сирот, — заметил я, — и нам лучше держаться вместе».
Болезнь заставила меня провести в Англии весь следующий месяц, и только в начале июля я послал Айвору Блэку вежливую открытку с извещением, что я могу прибыть в Канн или Ниццу в какой-либо из дней на следующей неделе. Я почти уверен, что упомянул субботу, вторую половину дня, как наиболее подходящее мне время приезда.
Попытки телефонировать со станции ни к чему не привели: линия непрерывно была занята, а я не из тех, кто упорствует в борьбе с дефектными абстракциями пространства. Однако мой полдень был испорчен, притом что полуденное время у меня любимый пункт в повестке дня. В начале своего долгого путешествия я убедил себя, что мне уже много лучше; теперь мое состояние было ужасным. День выдался не по сезону пасмурным и унылым. Пальмы же не раздражают только в миражах. По какой-то причине таксомоторов, как в дурном сне, было не сыскать. В конце концов я забрался в маленький, провонявший автокар из синей жести. Поднимаясь по петлистой дороге, со столькими же поворотами, сколько было и остановок «по требованию», штуковина на колесах дотащилась до моей цели за двадцать минут — и приблизительно за то же время я бы добрался туда пешком с побережья по легкому короткому пути, который я тем волшебным летом выучил наизусть: камень за камнем, ракитник за акатником. Было все, что угодно, кроме волшебства, во время этой угнетающей поездки! Я согласился приехать главным образом в надежде утихомирить в «лощеных волнах» (Беннетт[8]? Барбеллион[9]?) нервное расстройство, окаймлявшее безумие. Теперь же левая половина моей головы превратилась в кегельбан боли; с правой стороны, из-за спинки переднего кресла на меня поверх материнского плеча глазело тупое дитя. Я сидел рядом с покрытой бородавками женщиной в плотных черных одеждах и сглатывал тошноту, качаясь между зеленым морем и серой скалой. К тому времени, как мы наконец доехали до деревни Карнаво (облезлые стволы платанов, живописные лачуги, почта, церковь), все мои мысли сосредоточились на одном золотистом образе: бутылке виски в моем саквояже, которую я вез в подарок Айвору Блэку и которую я поклялся откупорить прежде, чем он заприметит ее. Шофер оставил без внимания мой вопрос, но похожий на черепаху маленький пастор с огромными ступнями, сходивший первым, указал, не глядя на меня, на боковую аллею. До виллы «Ирис», сказал он, три минуты ходьбы. Лишь только я взялся за два своих чемодана, чтобы двинуться по этому проулку к треугольнику неожиданно выглянувшего солнца, как на противоположном тротуаре показался мой предполагаемый хозяин. Помню — и это полвека спустя! — что я вдруг усомнился, а подходящие ли вещи я взял с собой? На нем были брюки гольф и грубые башмаки, но несообразно с этим недоставало чулок, и обнаженные части голеней были отчаянно-красными. Он шел на почту или сделал вид, будто идет на почту, чтобы послать мне телеграмму с просьбой отложить свой приезд до августа, когда служба, которую он только что получил в Каннице[10], не будет более препятствовать нашим увеселениям. Сверх того, он надеялся, что Себастьян — кем бы он ни был — все еще сможет приехать к сезону винограда или на бал лаванды. Бормоча все это себе под нос, он взял у меня меньшую часть моего багажа — небольшой чемодан, в котором были мои туалетные принадлежности, медикаменты и почти завершенный венок сонетов, посланный вскоре в один парижский эмигрантский журнал. Затем он схватил и саквояж, который я поставил, чтобы набить трубку. Полагаю, что такая повышенная внимательность к мелочам объясняется тем, что они случайно оказались в освещении передовых лучей грядущего великого события. Айвор нарушил молчание и, хмурясь, добавил, что он счастлив принимать меня в своем доме, но что он должен меня кое о чем предупредить — о чем следовало сказать еще в Кембридже. К концу недели я, должно быть, взвою от тоски из-за одного грустного обстоятельства. Его бывшая гувернантка, мисс Грант, бессердечная, но умная особа, любила повторять, что его младшая сестра никогда не сможет нарушить правило, гласящее, что «детей не должно быть слышно», да, собственно, никогда это правило и не услышит. Грустное обстоятельство состояло в том, что его сестра — впрочем, он лучше отложит изложение ее случая до тех пор, пока мы не доберемся с поклажей до дома.
2
«Что за детство было у тебя, Макнаб?» (Как Айвор упрямо продолжал меня называть[11], поскольку, как ему казалось, я имел внешнее сходство с одним болезненным, хотя и смазливым молодым актером, взявшим себе этот псевдоним в последние годы своей жизни, или, точнее, своей славы.)
Чудовищное, невыносимое. Должен существовать всепланетный, междупланетный закон против такого нечеловеческого зачина жизни. Если бы в возрасте девяти или десяти лет на смену моим патологическим страхам не пришли более абстрактные и избитые тревоги (проблемы бесконечности, вечности, личности и т. п.), я бы утратил рассудок задолго до того, как обрел свои рифмы. Я говорю не о темных комнатах, или однокрылых агонизирующих ангелах, или длинных коридорах, или кошмаре зеркал, с отражениями, стекающими грязными лужицами на пол, о нет, не такого рода опочивальня ужасов была у меня, но, проще и куда страшнее, мне не давала покоя некая тайная и прочная связь с иными состояньями бытия, не именно «предшествующими» или «грядущими», а вовсе вне границ и пределов, говоря языком смертных. Я узнал больше, много больше об этих ноющих сочлененьях только несколько десятилетий спустя, так что «не будем торопить события», как сказал приговоренный к смертной казни, отвергая засаленную наглазную повязку.
Услады юности даровали мне временное облегчение. Я был избавлен от угрюмого периода самоублажения. Будь благословенна моя первая незабвенная любовь, дитя в вертограде, пытливые забавы — и пять ее расставленных пальцев, с которых капают жемчужины изумления. Домашний учитель позволил мне разделить вместе с ним инженю из частного театра моего двоюродного деда. Две молодые развратные леди нарядили меня однажды в кружевную женскую сорочку и парик Лорелеи и, как в скабрезной новелле, уложили «маленькую стыдливую кузину» спать между собой, пока их мужья храпели в соседней комнате после кабаньей охоты. Усадьбы разных родичей, у которых я время от времени гащивал в своей ранней юности под палевыми летними небесами в той или иной губернии прежней России, предоставляли в мое распоряжение столько податливых горничных и светских кокеток, сколько чуланов и будуаров можно было испробовать двумя столетиями раньше. Словом, если годы моего отрочества могли бы послужить предметом для диссертации, способной принести какому-нибудь педопсихологу пожизненную славу, моя юность, с другой стороны, могла бы преподнести, и, в общем, преподнесла, урожай немалого числа эротических пассажей, рассыпанных здесь и там, как подгнившие сливы и потемневшие груши, в книгах стареющего романиста. Собственно, ценность настоящих мемуаров в значительной мере в том и состоит, что они являют собой catalogue raisonné источников и начал и своеобразных родовых каналов для многих тем и мотивов моих русских и особенно английских книг.
С родителями я видался редко. Они разводились, вновь женились и разводились столь стремительно, что, если бы хранители моего состояния были хоть чуточку менее бдительны, меня бы в конце концов спустили с молотка чете каких-нибудь неизвестных родственников по шведской или шотландской боковой линии — со скорбными мешочками под голодными глазками. Моя двоюродная бабка, баронесса Бредова, урожденная Толстая, женщина незаурядная, с лихвой заменяла мне более близкую родню. Ребенком семи или восьми лет, уже таившим в себе зачатки законченного безумца, я даже ей, которая сама была далека от нормы, казался чересчур уж мрачным и апатичным; на деле я, разумеется, вовсю предавался самым неистовым фантазиям.
«Будет тебе киснуть! — восклицала она бывало. — Взгляни на арлекинов!»
«Каких арлекинов? Где?»
«Ах, да повсюду. Вокруг тебя. Деревья — арлекины, слова — арлекины. А также числа и ситуации. Сложи вместе две вещи — курьезы, отраженья, — и ты получишь арлекинов втрое больше. Давай же! Играй! Создавай мир! Твори реальность!»
И я творил. Клянусь Богом, я творил. В память о своих первых фантазиях я сотворил эту свою двоюродную бабку, и теперь, сходя по мраморным ступеням парадного крыльца памяти, она медленно приближается, бочком, бочком, несчастная хромая дама, пробуя край каждой ступени резиновым наконечником своей черной трости.
(Когда она выкрикнула три этих слова — «Взгляни на арлекинов!», — они прозвучали стихотворной скороговоркой, слегка невнятно, и так, как если бы «зглянина», созвучная с «ангиной», нежно и вкрадчиво подготовляла появление этих задорных арлекинов, у которых ударная «ки», подчеркнутая ею в порыве вдохновенного убеждения, была как звонкая монетка среди конфетти безударных слогов.)
Мне было восемнадцать, когда грянула большевистская революция — глагол сильный и неуместный, согласен, примененный здесь исключительно ради ритма повествования. Рецидив моего детского нервического расстройства продержал меня в Императорской санатории в Царском большую часть зимы и весны. В июле 1918 года я оправлялся от болезни, уже находясь в замке своего дальнего родственника, польского землевладельца Мстислава Чарнецкого (1880–1919?). Как-то осенним вечером юная возлюбленная бедного Мстислава показала мне сказочную тропу, вьющуюся через дремучий лес, в котором первый из Чарнецких пронзил копьем последнего зубра при Яне III (Собеском). Я пустился в путь по этой тропе с рюкзаком за спиной и — почему не признаться? — с тревогой и муками раскаяния в юном сердце. Хорошо ли я поступил, бросив кузена в чернейший год черной русской истории?[12] Знал ли я, как прожить одному в чужой стороне? Был ли диплом, выданный мне особой комиссией (возглавляемой отцом Мстислава, почтенным и продажным математиком), спросившей меня по всем предметам того идеального лицея, в котором я во плоти ни разу не побывал, пригодным для принятия в Кембридж без всяких инфернальных вступительных экзаменов? Всю ночь я брел через лунный лабиринт, воображая шорохи вымерших зверей. Наконец лучи зари раскрасили киноварью мою древнюю карту. Когда я решил, что уже, должно быть, пересек границу, меня окликнул красноармеец с монгольским лицом и непокрытой головой, прямо у тропы обиравший кусты черники. «Эх, яблочко, куда ж ты котишься?[13] — окликнул он меня и, подхватывая с пенька фуражку, приказал: — Показывай-ка документики».
Я полез в карманы, выудил то, что было нужно, и застрелил его наповал, когда он ринулся ко мне; он упал навзничь, как сраженный солнечным ударом солдат на плацу — к ногам своего короля. Ничьи глаза из-за плотного ряда деревьев не видели того, что я сделал, и я бросился бежать, все еще сжимая в руке прелестный миниатюрный револьвер Дагмары. Только полчаса спустя, когда я вышел наконец на другую сторону леса, уже в более или менее приемлемой республике, только тогда поджилки у меня перестали трястись.
После периода праздного шатания по не задержавшимся в памяти немецким и голландским городам я перебрался в Англию. Моей следующей остановкой был маленький лондонский отель «Рембрандт». Несколько мелких бриллиантов, хранившихся у меня в замшевом мешочке, истаяли быстрее градин. В серый канун наступавшей нищеты автор, в ту пору добровольно покинувший родину юноша (переписываю из старого дневника), нежданно-негаданно обрел покровителя в лице графа Старова, важного старосветского масона, который во времена обширных международных сношений украшал собой несколько великих посольств, а с 1913 года осел в Лондоне. Он говорил на родном языке с педантической точностью, не пренебрегая случаем ввернуть звучное простонародное словцо. Чувство юмора у него отсутствовало напрочь. Прислуживал ему молодой мальтиец (терпеть не могу чай, а спросить бренди я не решился). По слухам, Никифор Никодимович, если воспользоваться именем, данным ему при крещении, вкупе со столь же неблагозвучным отчеством, годами вздыхал по моей матушке, эксцентричной красавице, о которой я имею представление главным образом из шаблонных описаний в анонимных мемуарах. Grande passion порой служит лишь удобной отговоркой; с другой стороны, одним только благородным почитанием ее памяти и можно объяснить, почему он взял на себя расходы по моей учебе в Англии и оставил мне после своей смерти в 1927 году[14] небольшое денежное пособие (большевицкий coup разорил его так же, как и все наше семейство). Должен отметить вместе с тем, что мне бывало не по себе от быстрых пламенных взглядов его обычно мертвенных глаз, помещавшихся на широком, сыром, благообразном лице того типа, который у русских писателей было принято определять как «тщательно выбритое» — несомненно, оттого, что призрачные патриархальные бороды все еще развевались в воображении читателей (теперь давно почивших). Я старался изо всех сил в своем стремлении применить эти портретные проблески к розыскам некоторых индивидуальных черт элегантной женщины, которой он как-то раз помог подняться в calèche и следом за которой, подождав, пока она устроится и раскроет парасоль, грузно взошел сам и сел рядом в этой рессорной коляске; в то же время я не мог запретить себе гадать, удалось ли моему дряхлому grandee избежать той формы разврата, что некогда была столь естественна в так называемых высших дипломатических кругах. Н. Н. сидел в покойном кресле, как герой многотомного романа, положив одну дородную длань на подлокотник, сделанный в виде грифона, другой же рукой с перстнем он вертел на турецком столике, стоявшем подле него, то, что можно было принять за серебряную табакерку, содержавшую, однако, не табак, а небольшой запас похожих на жемчужинки крохотных разноцветных пилюль от кашля — сиреневых, зеленых и, насколько помню, коралловых. Стоит прибавить, что кое-какие сведения, много позже полученные мной, открыли мне, как гнусно я заблуждался, приписывая ему что-то такое, что выходило за рамки его квазиотеческого внимания ко мне — как и к другому юноше, сыну одной скандально известной санкт-петербургской кокотки, которая calèche предпочитала электрический «брогáм»[15]; впрочем, довольно этого сахаристого бисера.
3
Вернемся в Карнаво, к моему багажу, к Айвору Блэку, с показным усердием несущему его, ворча что-то комично-невнятное из какой-то зачаточной роли.
Когда мы вошли в сад, отделенный от дороги сложенной из камней стеной и рядом кипарисов, солнце уже полностью восстановило свои права. Эмблематические ирисы окружали зеленый прудик, над которым восседала бронзовая лягушка. Из-под курчавого каменного дуба брала начало гравием посыпанная дорожка, бежавшая далее меж стволов двух апельсиновых деревьев. Стоявший на другом краю лужайки эвкалипт отбрасывал крапчатую тень на парусину шезлонга. Это не чванливость фотографической памяти, а попытка любовного воссоздания картины, основой для которой послужили пожелтевшие снимки из старой конфетной коробки с флорентийским ирисом на крышке.
Не стоит подниматься по трем ступеням парадного крыльца, «волоча две тонны камней», сказал Айвор Блэк: запасной ключ он прихватить забыл, прислуги, чтобы откликаться на дверные звонки по субботам, у него нет, а с его сестрой, как он уже объяснил, обычным манером снестись невозможно, хотя она должна быть где-то внутри, рыдает, наверное, у себя в спальне, как обычно, когда ожидаются гости, все равно какие, но особенно те любители «отдыха выходного дня», что приезжают на уик-энд, а потом околачиваются тут чуть не до вторника. И мы пошли кругом дома, обсаженного кустами опунции, цеплявшейся за висевший у меня на руке макинтош. Вдруг раздался страшный, нечеловеческий крик, и я взглянул на Айвора, но нахал только ухмыльнулся.
То был крупный лимонногрудый, индигово-синий ара с белыми, в полоску щечками, время от времени пронзительно вскрикивавший на своем насесте у безрадостного заднего крыльца. Айвор прозвал его Матой Хари[16], отчасти из-за его акцента, но главным образом из-за его политического прошлого. Покойная тетка Айвора, леди Вимберг, будучи уже немного гагой, году в четырнадцатом или пятнадцатом приютила эту трагическую старую птицу, которую, как рассказывали, бросил некий таинственный незнакомец со шрамами на лице и моноклем. Она могла сказать «алло», «Отто» и «па-па» — бедноватый словарь, наводивший отчего-то на мысли о небольшой беспокойной семье в жаркой стране, далеко от дома. Порой, когда я засиживаюсь за работой до позднего часа и тайные агенты рассудка прекращают транслировать сообщения, пущенное в ход неверное слово отзывается чем-то схожим с сухим бисквитом, зажатым в огромной медленной лапе попугая.
Не могу припомнить, видел ли я Айрис до обеда (хотя, возможно, я краем глаза заметил ее, стоявшую у витражного окна на лестнице, спиной ко мне, когда я, покинув salle d’eau с его запинающимся ватерклозетом, прошмыгнул обратно через лестничную площадку в свою убого обставленную комнату). Айвор предусмотрительно уведомил меня, что его сестра глухонемая и к тому же такая стыдливая, что даже теперь, в двадцать один год, не в силах заставить себя выучиться читать по мужским губам. Вот это показалось мне странным. Я всегда полагал, что физический недостаток, о котором шла речь, заключает пациента в абсолютно надежную оболочку, прозрачную и прочную, как небьющееся стекло, внутри которой ни притворство, ни потворство существовать не могут. Брат и сестра общались на языке знаков, пользуясь азбукой, придуманной ими еще в детстве и с тех пор выдержавшей несколько новых исправленных изданий. То, что было предъявлено мне, состояло из смехотворно-вычурных жестов того сорта барельефной пантомимы, которая скорее подражает вещам, чем отражает их. Я позволил себе встрять с некоторыми собственными гротескными дополнениями, но Айвор сурово остерег меня валять дурака: ее легко было обидеть. И все это (включая угрюмую служанку, старую канницианку, гремевшую посудой где-то за сценой) имело отношение к другой жизни, другой книге, к миру безотносительно кровосмесительных забав, за создание которого я еще сознательно не принимался.
Оба были молодыми людьми среднего роста и исключительно ладного сложения. Родственное сходство их было очевидным, хотя Айвор имел вполне обычную наружность, русоволосый, веснушчатый, а она была смуглой красавицей с черными, коротко остриженными волосами и глазами как прозрачный мед. Не могу вспомнить, какое именно на ней было платье в нашу первую встречу, но уверен, что ее тонкие руки были обнажены и больно терзали мои чувства, пока она рисовала в воздухе все эти пальмовые рощи и кишащие медузами острова, а Айвор передавал мне содержание ее узоров с идиотскими ремарками «в сторону». Я получил свой реванш после обеда. Айвор ушел за моим виски. Мы с Айрис стояли на веранде в безгрешных лучах заката. Я раскуривал трубку, а она оперлась бедром о балюстраду и указывала с русалочьей плавностью — предположительно изображая волны — на мерцание береговых огней вдоль склонов китайской тушью нарисованных холмов. В эту минуту за нашей спиной, в гостиной, загремел телефон, и она резко повернулась, но с восхитительным самообладанием превратила свой порыв в непринужденный «танец с шалью». Тем временем Айвор уже скользил по паркету к аппарату, чтобы послушать, что понадобилось Нине Лесерф[17] или кому-то еще из соседей. В закатную пору нашей близости мы с Айрис с удовольствием вспоминали эту сцену разоблачения — как Айвор принес нам стаканы и предложил тост за ее чудесное исцеление, как она, несмотря на присутствие брата, положила свою легкую ладонь на костяшки моих пальцев: я стоял, схватившись за балюстраду, преувеличенно негодуя, и не был достаточно поворотлив, бедный одураченный юноша, чтобы принять ее извинения, приложившись губами к этой ее кисти на континентальный манер.
4
Привычный симптом моего недуга, не самый грозный, но тот, что труднее всего одолевать после каждого нового повторения, относится к тому типу, который лондонский эксперт Муди[18] первым назвал синдромом «числового ореола». Описание моего заболевания недавно было переиздано в собрании его трудов. Там полным-полно смехотворных неточностей, и этот его «ореол» решительно ничего не значит. «Господин Н., русский аристократ» не выказывал никаких «признаков вырождения». Ему было не «32», а «22» года, когда он обратился к этой дутой знаменитости. Но самое глупое, это то, что Муди смешал меня с г-ном В. С., самозванцем, чей «случай» нельзя назвать даже постскриптумом к сокращенному описанию моего «ореола» и чьи ощущения мешаются с моими на всем протяжении этой «научной» статьи. И хотя описать упомянутый синдром нелегко, полагаю, у меня выйдет получше, чем у профессора Муди или моего вульгарного и болтливого собрата по несчастью.
Итак, вот что со мной происходило в худшем случае. Спустя час или около того, как я засыпал (обычно порядком за полночь и не без кроткой поддержки стаканчика-другого доброй медовухи или шартрёза), я вдруг просыпался (или, вернее, «рассыпался»), охваченный внезапным умоисступлением. Одного лишь намека на слабую световую полоску в поле моего зрения было довольно, чтобы спустить курок чудовищной боли, разрывавшей мне мозг. При этом не имело значения, насколько усердно я смыкал после старательной прислуги шторы и створки — неизбежно оставалась какая-нибудь чертова щелка, какой-нибудь атом или сумрачный лучик искусственного уличного или естественного лунного света, угрожавшего мне неописуемой бедой, когда я, жадно хватая воздух, выныривал из толщи удушливого сновидения. По всей длине тусклой щели с гнетуще осмысленными интервалами сочились более яркие точечки. Эти точки, возможно, соотносились с бешеным биеньем моего сердца или были оптически связаны с мерцанием в моих влажных веках, однако дело вовсе не в поиске разумных объяснений; их жуткое назначение состояло в том, чтобы я посреди беспомощной паники осознал, что уже глупейшим образом проморгал наступление припадка, что он теперь неминуемо захлестнет меня и что я могу спастись, лишь разрешив загадку их пророческой игры, которую, без сомнения, можно было решить, возьмись я за нее чуточку заранее или не будь я таким сонным и тупоумным в эту критическую минуту. Сама же задача относилась к разряду вычислительных: следовало высчитать определенные соответствия между мерцающими точками — в моем положении, скорее, угадать их, поскольку оцепенение не позволяло мне вдумчиво их сосчитать, не говоря уж о том, чтобы вывести спасительно-верную сумму. Ошибка означала немедленную казнь — отсечение головы великаном или что-то похлеще; правильный ответ, напротив, позволил бы мне бежать в зачарованный край, начинавшийся сразу за узкой брешью, через которую я должен был протиснуться в терниях сомнений. Этот край в своей идиллической отвлеченности напоминал те крохотные пейзажи, что гравировались в качестве многообещающих виньеток — берег, боскет — рядом с заглавными буквами устрашающей, звериной формы, вроде готической «Б», начинавшей главу в старинных книжках для пугливых детей. Как же я мог дознаться, ошеломленный, измученный, что в этом-то и состояло простое решение, что и берег, и бор, и близость безвременной Бездны, все они открываются начальной буквой Бытия?
Конечно, бывали и такие ночи, когда сознание тут же возвращалось ко мне, и я, поплотнее задернув шторы, вновь засыпал. Но в иные, более суровые времена, когда я был еще далек от исцеления и в полной мере страдал от своего аристократического ореола, мне требовалось несколько часов, чтобы избыть оптический спазм, который даже дневные лучи не могли рассеять. Не бывало такого случая, чтобы первая ночь на новом месте не оказалась ужасной и за нею не следовал бы отвратительный день. Меня терзала невралгия, я был раздражен, прыщеват и небрит, — и отказался пойти вместе с Блэками на пляжную вечеринку, на которую, как мне сказали, я тоже был приглашен. Впрочем, мои впечатления о тех первых днях на вилле «Ирис» так основательно исковерканы в моем дневнике и так расплывчаты в памяти, что я не могу утверждать, к примеру, что Айрис и Айвор не отсутствовали до середины недели. Вместе с тем я помню, что они были настолько любезны, что записали меня на прием к канницкому доктору. Я не мог упустить чудную возможность сопоставить некомпетентность лондонского корифея с невежеством местного светила.
Принимал меня профессор Юнкер[19], сдвоенный персонаж, состоявший из мужа и жены. Они практиковали вместе уже лет тридцать и каждое воскресенье в уединенном и оттого скорее грязноватом уголке пляжа подвергали анализу друг друга. Среди их пациентов считалось, что по понедельникам они бывали особенно прозорливы, но я таковым отнюдь не был, когда, отчаянно надравшись в паре попутных кабаков, добрался до невзрачного квартала, в котором, как я, помнится, заметил, кроме Юнкеров, обреталось немало других докторов. Парадное крыльцо, украшенное цветами и фруктами с рынка, было хоть куда, но вам еще предстоит увидеть заднюю дверь. Меня приняла женская составляющая дуэта — приземистое пожилое существо в брюках, что было очаровательной дерзостью в 1922 году. Эта тема находила продолжение сразу же за окном клозета (где мне полагалось наполнить абсурдный флакон, вполне вместительный для нужд доктора, но не для моих) в представлении, что морской бриз устроил на улице, как раз достаточно узкой, чтобы три пары длинных кальсон на веревке пересекли ее за столько же шагов или скачков. Я позволил себе сделать несколько замечаний об этом и о витраже в кабинете, изображавшем розово-лиловую даму — точь-в-точь как на лестнице виллы «Ирис». Миссис Юнкер спросила, кого я предпочитаю, мальчиков или девочек, и я, посмотрев по сторонам, осторожно ответил, что не знаю, кого она может мне предложить. Она не рассмеялась. Консультация прошла неудачно. Прежде чем заняться моей челюстной невралгией, ей требовалось, чтобы я посетил дантиста, когда протрезвею. Он принимает в доме напротив, сказала она. Точно знаю, что она по телефону записала меня к нему на прием, но не могу вспомнить, пошел ли я к этому дантисту в тот же день или на следующий. Его фамилия была Мольнар, и эта буква «н» была как зернышко в дупле зуба; сорок лет спустя он пригодился мне для «Княжества у моря».
Девица, принятая мною за ассистентку зубного врача (для которой она, впрочем, была слишком нарядно одета), сидела, скрестив ноги, в прихожей и говорила по телефону. Она не церемонясь указала мне на дверь папиросой, которую держала в пальцах, ни на секунду не прекращая своего занятия. Я оказался в обычной безмолвной комнате. Лучшие места были заняты. Больших размеров стандартная мазня над переполненной книжной полкой изображала стремительный альпийский поток с упавшим поперек него деревом. В более ранние часы приема несколько журналов переместились с полки на овальный стол, на котором имелся собственный скромный набор предметов: пустая цветочная ваза и casse-tête, размером с часики. То был крошечный круговой лабиринт с пятью серебристыми горошинами внутри, которые надлежало терпеливо залучить, осмотрительно вращая запястьем, в центр спирали. Для ожидающих детей.
Таковых не было. В угловом кресле помещался дородный парень с букетиком гвоздик на коленях. Две пожилые дамы, друг с другом не знакомые, судя по светскому промежутку между ними, сидели на коричневой софе. Фатально далекий от них интеллигентного вида молодой человек, вероятно писатель, сидел на мягком стуле с блокнотом в руках, занося в него отдельные записи — вероятно, описания различных предметов, по которым блуждал его взгляд: потолок, обои, картина на стене и гривастый затылок человека, который стоял у окна с сомкнутыми за спиной руками, беспечно всматриваясь поверх плещущих на ветру подштанников, поверх лилово-розового створного окна ватерклозета Юнкеров, поверх крыш и предгорий в далекую горную цепь, где, как мне беспечно думалось, та самая высохшая сосна все еще могла бы лежать мостком над живописным потоком.
Но тут дверь в другом конце комнаты со смехом распахнулась и вышел дантист, румяный, при бабочке, в плохо сидящем празднично-сером костюме и со скорее щегольской черной повязкой на рукаве. Последовали рукопожатия и поздравленья. Я принялся толковать ему, что записан на прием, но степенная пожилая женщина, в которой я узнал госпожу Юнкер, перебила меня, сказав, что это ее ошибка. Тем временем Миранда, дочь хозяина, которую я только что видел, втиснула длинные бледные стебли гвоздик, принесенные ее дядей, в узкое горло вазы на столе, который теперь волшебным образом облачился в скатерть. Под общие рукоплескания субретка поставила на него большой закатно-розовых тонов торт с цифрой 50 каллиграфическим кремом. «Какой очаровательный знак внимания!» — воскликнул вдовец. Принесли чай, одни уселись, другие остались стоять, держа бокалы в руках. Айрис жарким шепотом предупредила меня, что это сдобренный пряностями яблочный сок, не спиртное, и я, вскинув руки, отпрянул от подноса, который внес жених Миранды, человек, пойманный мною на том, что он, улучив момент, выверял некоторые пункты приданого. «Мы и не надеялись, что вы заглянете», — сказала Айрис — и проболталась, поскольку это не могла быть та partie de plaisir, на которую я был приглашен («У них чудный дом на утесе»). Нет, я полагаю, что большая часть приведенных здесь путаных впечатлений, относящихся к докторам и дантистам, должна быть отнесена к разряду онирического опыта[20] во время пьяной сиесты. Тому есть и письменные свидетельства. Просматривая самые старые свои дневниковые заметки в карманных записных книжках, в которых телефонные номера и фамилии идут вперемежку с отчетами о различных событиях, действительных или в той или иной мере вымышленных, я обратил внимание, что сновидения и другие отступления от «реальности» изложены особым, влево клонящимся почерком — во всяком случае, на первых порах, когда я еще не отбросил общепринятого разграничения. Многое, что относится к докембриджскому периоду, написано именно таким почерком (но солдат в самом деле пал на пути короля-беглеца).
5
Знаю, меня прозвали напыщенным прощелыгой, но грубые шутки вызывают у меня лишь отвращение, и я просто вне себя («Только люди, лишенные воображения, говорят так», — заметил однажды Айвор) от непрерывного потока игривых подначек и пошлых каламбуров («Он был вне себя от его отсебятины», — снова Айвор). Впрочем, Айвор был славный малый, и вовсе не желанием передохнуть от наших с ним пикировок объясняется то, что мне было приятно его отсутствие по будням. Он служил в агентстве путешествий под началом бывшего homme d’affaires его покойной тетки Бетти, на свой лад чудаковатого человека, посулившего Айвору за усердие премию в виде фаэтона «Икар».
Очень скоро мой почерк и здоровье пошли на поправку, и я начал наслаждаться югом. Мы с Айрис (на ней — черный купальный костюм, на мне — фланелевые брюки и спортивный пиджак) часами прохлаждались в саду, который я в первое время предпочитал неизбежному соблазну морских купаний, плотскому искушению пляжа. Я переложил для нее на английский язык несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова, перефразировав и подвзбив их ради пущего эффекта. Я поведал ей с драматическими подробностями историю моего бегства из России. Я упомянул имена великих изгнанников прошлого. Она внимала мне, как Дездемона.
«Я бы хотела выучить русский, — сказала она с вежливым вздохом сожаления, которым сопровождаются подобного рода признания. — Моя тетка родилась фактически в Киеве и в свои семьдесят пять все еще помнила несколько русских и румынских слов, но из меня никудышный лингвист. Как по-русски „eucalypt“?»
«Эвкалипт».
«О, из него может выйти славное имя для героя рассказа. „Ф. Клиптон“. Уэллс придумал „господина Снукса“, производное от „Seven Oaks“[21]. Обожаю Уэллса, а вы?»
Я сказал, что он величайший выдумщик и волшебник нашего времени, но что я не выношу его социологических бредней.
Она тоже не выносит. А помню ли я, что сказал Стивен в «Страстных друзьях[22]», когда он вышел из комнаты — обезличенной комнаты, где ему было позволено в последний раз увидеть свою возлюбленную?
«Да, помню. Мебель была покрыта чехлами, и он сказал: „Это от мух“».
«Точно! Замечательно, правда? Бросить что-нибудь, все равно что, только бы не разрыдаться. Это как у старых мастеров — муха на руке означает, что человек на картине уже умер».
Я сказал, что всегда предпочитаю прямое значение описания скрытому в нем символу. Не разделяя, по-видимому, этого убеждения, она задумчиво кивнула.
А кого из современных поэтов мы ставим выше всех? Может быть, Хаусмана?
Я видел его много раз[23] издалека и однажды — вблизи. Это было в библиотеке Тринити-колледжа. Он стоял с открытой книгой в руке, но смотрел в потолок, как бы что-то припоминая, возможно, как именно другой писатель перевел эту строку.
Она бы просто «умерла от волненья», быстро сказала Айрис, приблизив свое раскрасневшееся личико и убежденно качая им и своей глянцевитой челкой.
«Отчего же не умираете сейчас?! Ведь я-то здесь. Стоит лето 1922 года, вот дом вашего брата —»
«Нет, не его, — сказала она, меняя тему, и на этом резком повороте ее речи я почувствовал внезапный перехлест в текстуре времени[24], как если бы все это уже было когда-то или должно было повториться вновь. — Дом принадлежит мне. Тетя Бетти мне его завещала и еще некоторую сумму в придачу, но Айвор настолько глуп или горд, что не позволяет мне заплатить по его вопиющим долгам».
Тень укора в моих словах была больше, чем тень. Я действительно верил уже тогда, в свои двадцать с небольшим, что к середине столетия стану прославленным и свободным писателем, живущим в свободной, всеми почитаемой России, на Английской набережной Невы или в одном из своих великолепных поместий, сочиняя в прозе и стихах на бесконечно послушном мне языке своих предков, среди которых я насчитывал одну двоюродную бабку Толстого и двух собутыльников Пушкина. Предвкушение славы было столь же пьянящим, что и доброе вино ностальгии. Это было воспоминание вспять; величественный дуб на берегу озера так отчетливо отражался на кристально-чистой глади, что его зеркальные ветви казались приукрашенными корнями. Я ощущал эту будущую славу на подошвах своих ног, в кончиках своих пальцев, в волосах на голове, как иной чувствует озноб из-за наступающей грозы, из-за потухающей красы печального напева за миг до раската грома или от строчки в «Короле Лире». Отчего же слезы туманят стекла моих очков, когда я воскрешаю этого фантома славы, так искушавшего и терзавшего меня тогда, пять десятилетий тому назад? Его образ был чист, его образ был невинен, безупречен, и его отличие от того, что сталось на самом деле, разрывает мне сердце, как боль разлуки.
Ни тщеславие, ни почести не пятнали сказочной будущности. Президент Российской академии шел ко мне под звуки медленной музыки, неся венец на подушечке, — и, ворча, вынужденно ретировался, поскольку я отрицательно качал седеющей головой. Я видел себя правящим страницу гранок своего нового романа, которому суждено было изменить направление всей русской словесности на мое направление (ни восторга, ни самодовольства, ни удивления я при этом не испытывал), и правки столь обильно усеивали поля — где вдохновение находит свой сладчайший клевер, — что все приходилось набирать заново. А когда книга с запозданием наконец выходила в свет, я, слегка постаревший, мог бы с удовольствием принимать нескольких преданных и льстивых друзей в беседке своей любимой усадьбы в Марево (где я впервые «взглянул на арлекинов»), с ее аллеей фонтанов и переливчатым видом на часть нетронутой волжской степи. Вот как все должно было быть.
Лежа в своей хладной постели в Кембридже, я провидел целый период новой русской литературы. Я предвкушал освежительное внимание со стороны недружелюбных, но благовоспитанных критиков, бранящих меня со страниц санкт-петербургских литературных журналов за патологическое равнодушие к политике, значительным идеям незначительных умов и к таким животрепещущим проблемам, как перенаселенность современных городов. Не менее захватывающим занятием было воображать неизбежную свору плутов и дурней, поносящих улыбающийся мрамор, — измученных завистью, взбешенных собственной заурядностью, спешащих суетливыми стайками к участи леммингов[25] и тут же бегущих обратно, с другой стороны сцены, проморгав не только суть моей книги, но и свою грызуновую Гадару[26].
Стихи, что я начал сочинять после знакомства с Айрис, призваны были передать ее подлинные, лишь ей одной присущие черты — как собирался в складки ее лоб, когда она поднимала брови, ожидая, пока я оценю тонкость ее шутки, и совсем иной склад нежных морщин у нее на челе, когда она хмурилась над Таухницем[27] в поисках места, которое хотела прочитать мне. К сожалению, мой инструмент был еще очень груб и неповоротлив и не мог отразить дивных черт — ее глаза, ее волосы оставались безнадежно обобщенными в моих в прочем недурно скроенных строфах. Ни одна из тех описательных и, будем откровенны, пошловатых пьес не была настолько хороша (особенно в своем английском неглиже — ни рифм, ни мятежа[28]), чтобы предстать перед Айрис; да к тому же диковинная робость, которой я прежде никогда не испытывал, добиваясь взаимности во времена бойких прелиминарий своей чувственной юности, удерживала меня от предъявления Айрис перечня ее чар. Но вот как-то ночью, 20 июля, я сочинил более окольные, более метафизические стихи, которые решился прочитать ей за завтраком в своем дословном переводе на английский, отнявшем у меня больше времени, чем сам оригинал. Стихотворение было опубликовано в парижской эмигрантской газете (8 октября 1922 года — после нескольких напоминаний с моей стороны и одного требования отослать обратно) под названием «Влюбленность» (с тем же заглавием оно печаталось и перепечатывалось в различных сборниках и антологиях все последующие пятьдесят лет) — тот случай, когда в английском языке требуется три слова[29] для облечения их в ту же золотистую ореховую скорлупу.
Мы забываем что влюбленность Не просто поворот лица, А под купавами бездонность, Ночная паника пловца. Покуда снится, снись, влюбленность, Но пробуждением не мучь, И лучше недоговоренность, Чем эта щель и этот луч. Напоминаю что влюбленность Не явь, что метины не те, Что может-быть потусторонность Приотворилась в темноте.[30]«Очаровательно, — сказала Айрис. — Звучит как заклинание. О чем они?»
«Это вот здесь, на обороте. Итак. Мы забываем или, лучше сказать, склонны забывать, что влюбленность не зависит от поворота лица возлюбленного или возлюбленной, но она — бездонное место под купавами, ночная паника пловца (здесь мне удалось передать четырехстопный ямб оригинала[31]). Следующая строфа. Покуда сон продолжается — в значении „пока все идет своим чередом“, — оставайся в наших снах, влюбленность, но не мучай нас пробуждением или сообщением слишком многого: недосказанность лучше этой щели и этого лунного луча. Теперь третья, последняя строфа этого любовно-философского стихотворения».
«Какого?»
«Любовно-философского. Напоминаю тебе, что влюбленность — это не действительность, что отметины другие (полосатый от луны потолок, к примеру, не того же разбора реальность, что потолок при свете дня) и что, возможно, потусторонний мир приоткрылся во мраке. Voilà».
«Вашей девушке, — сказала Айрис, — должно быть страшно весело с вами. А вот и наш кормилец! Bonjour, Айвз. Боюсь, гренки мы все съели. Мы думали, ты давно ушел».
Она притронулась ладонью к бочку чайника, и это пошло в «Ардис», все это пошло в «Ардис», моя бедная мертвая любовь.
6
После пятидесяти летних сезонов, или десяти тысяч часов солнечных ванн, в разных странах, на пляжах, скамьях, крышах, скалах, палубах, уступах, лужайках, панелях и балконах, я бы навряд ли смог вспомнить искушение того лета в чувственных подробностях, если бы передо мной не лежали эти старые записки — сущая отрада для педантичного мемуариста, который так носится со своими хворями, женитьбами и всей своей литературной жизнью. Чудовищные порции Шейкерова кольдкрема втирались мне в спину воркующей, коленопреклоненной Айрис, пока я лежал ничком на шершавом полотенце под палящим солнцем пляжа. По исподу моих век, прижатых к кистям рук, плыли фиолетовые фотоматические фигуры[32]: «Сквозь прозу солнечных ожогов проникала поэзия ее прикосновений», — как записано в моем дневнике, но теперь я могу внести уточнения в свои юношеские изыски. Сквозь кожный зуд, сверх того, смешанное с этим зудом и восходящее вследствие этого до крайней остроты скорее несуразного наслаждения, прикосновения ее рук к моим лопаткам и вдоль позвоночника слишком уж походили на умышленные ласки, чтобы быть умышленной мимикрией, и я не мог сдержать тайного отклика на проворное скольжение этих пальчиков, когда они в заключительном порыве избыточной щедрости сбегали до самого моего копчика, перед тем как оставить меня совсем.
«Готово», — сказала Айрис совершенно с той же интонацией, к какой прибегала, завершив более специальную процедуру, одна из моих кембриджских зазноб, Виолетта Мак-Ди[33], искушенная и сердобольная девственница.
У нее, у Айрис, в прошлом уже было несколько любовников, и когда я открыл глаза и повернулся к ней, и увидел ее, и пляшущие бриллианты на подкладке каждой новой, каждой плещущей голубовато-зеленой волны, и влажную черную гальку лощеной кромки прибоя с мертвой пеной, ожидающей пену живую, — и ах, вот же они идут, волны с белыми гребнями, вновь бегущие рысью, совсем как ряд белых цирковых лошадей, — я вдруг осознал, оглядывая ее на фоне этого задника, сколько льстивого обожания, сколько стараний множества поклонников потребовалось, чтобы улучшить и довести до совершенства мою Айрис, с ее прекрасным цветом лица, с отсутствием какой бы то ни было нечеткости в очерке ее высоких скул, с этой изящной впадинкой под ними, с accroche-coeur[34] этой лощеной маленькой кокетки.
«Кстати, — сказала Айрис, опускаясь с колен в полулежачее положение с поджатыми под собою ногами, — кстати, я еще не извинилась за свое удручающее замечание о том стихотворении. Я перечитала ваших „Дольних блондинок[35]“ несчетное число раз — и по-английски ради содержания, и по-русски ради музыки, — и мне кажется, что это совершенно дивное произведение. Вы меня прощаете?»
Я потянулся губами, чтобы поцеловать ее коричневое, переливчатое колено, бывшее так близко от меня, но она остановила мое приближение, приложив мне ладонь ко лбу, как бы проверяя жар у ребенка.
«За нами следят, — сказала она. — Множество глаз, которые как будто смотрят в какую угодно сторону, только не в нашу. Те две хорошенькие английские учительницы справа от нас, шагах в двадцати отсюда, уже успели заметить мне, что ваше сходство с фотографией Руперта Брука, той, где у него обнажена шея[36], просто a-houri-sang — они немного говорят по-французски. Если вы еще раз попытаетесь поцеловать меня или мою ногу, я попрошу вас уйти. Мне в жизни часто делали больно».
Последовала пауза. Переливчатость происходила из-за приставших крупинок кварца. Если девушка начинает говорить фразами из бульварного романа, все, что вам требуется, — это немного терпения.
Отослал ли я уже стихотворение в ту эмигрантскую газету? Еще нет; сперва нужно послать венок сонетов. Те двое (я понизил голос), слева от меня, судя по кой-каким мелким признакам, мои соотечественники-экспатрианты.
«Да уж, — согласилась Айрис, — они буквально навострили уши, когда вы процитировали строки Пушкина о волнах, что с любовью ложатся к ее ногам. А какие еще признаки?»
«Он, глядя вдаль, очень медленно, сверху вниз поглаживает свою бородку, а она курит папиросу».
На пляже еще было дитя лет десяти, баюкавшее в голых руках большой желтый надувной мяч. Казалось, на ней ничего не было, кроме какой-то оборчатой упряжи и коротенькой плиссированной юбочки, не скрывавшей ее ладных ляжек. В более поздние времена знатоки назвали бы ее «нимфеткой». Поймав мой взгляд, она улыбнулась мне из-под рыжеватой челки и поверх нашего солнечного шара сладкой и похотливой улыбкой.
«Лет в одиннадцать-двенадцать, — сказала Айрис, — я была такой же прелестной девочкой, как и эта французская сирота. Это ее бабка, в трауре, сидит на расстеленной „Cannice-Matin“ и занимается вязанием[37]. Я позволяла дурнопахнущим мужчинам гладить себя. Я играла с Айвором во всякие бесстыдные игры, о нет, ничего особенного, к тому же он теперь доннам предпочитает донов[38], так он говорит, во всяком случае».
Она немного рассказала о своих родителях, которые по чудесному совпадению умерли в один день, всего два года тому назад, — она в семь часов утра в Нью-Йорке, он в полдень в Лондоне. Они расстались вскоре после войны. Она была американка и чудовище. Не следует так говорить о своей матери, но она действительно была ужасным человеком. Папа был вице-президентом цементной компании Сэмюэлей, когда умер. Он происходил из почтенной семьи и имел «хорошие связи». Я спросил, какие именно у Айвора претензии к «свету» и наоборот? Она неопределенно ответила, что он терпеть не может «своры охотников на лис» и «сборища яхтсменов». Я сказал, что все это отвратительные клише, которые в ходу лишь у обывателей. В моей среде, в моем мире, в изобильной России моего детства мы стояли настолько выше любых классовых понятий, что только смеялись или зевали, читая о «японских баронах» или «новоанглийских патрициях». Все же так странно, что Айвор переставал дурачиться и превращался в обычного серьезного человека, лишь когда он седлал своего старого, пегого, плешивого конька и принимался обличать английские «высшие классы» — в особенности их манеру изъясняться. А ведь их выговор, возражал я, превосходит по качеству наилучший парижский французский и даже петербургский русский: дивно модулированное негромкое ржанье, которому оба, Айвор и Айрис, довольно успешно, хотя, конечно, бессознательно, подражали в своем ежедневном общении, когда прекращали вышучивать ходульный или старомодный английский язык безобидного иностранца. Кстати, какую нацию представляет этот загорелый старик с седыми волосами на груди, выбирающийся вслед за своим мокрым взъерошенным псом из низкого прибоя, — мне его лицо как будто знакомо.
«Ах, это Каннер[39], — сказала она. — Великий пианист и знаток бабочек, его лицо и имя всюду на афишных тумбах. Она как раз пытается раздобыть билеты на два его концерта — по меньшей мере. А там, прямо на том месте, где отряхивается его собака, в июне, когда пляж почти пуст, проводило время семейство П. (она назвала знатный старинный род). Они совершенно проигнорировали Айвора, хотя он знавал молодого Л. П. по Тринити. Теперь они перебрались вон туда. Только для избранных. Видите ту оранжевую точку? Это их купальная кабина. У самой „Мирана Палас“[40]».
Я ничего не сказал на это, хотя тоже знавал молодого П. и недолюбливал его.
В тот же день. Столкнулся с ним в уборной «Мираны». Встречен с энтузиазмом. Желаю ли я познакомиться с его сестрой? Что у нас завтра? Суббота. Предложил прогулку к «Виктории» на другой день пополудни. Что-то вроде маленькой бухты справа от вас. Я там с друзьями. Вы, конечно, знаете Айвора Блэка. Молодой П. явился минута в минуту со своей очаровательной долголягой сестрой. Айвор — невозможно груб. «Идем, Айрис, ты забыла, что мы пьем чай с Рапалловичем и Чичерини?»[41] В таком духе. Дурацкие нападки. Лидия П. помирала со смеху.
Дойдя до стадии вареного омара и оценив пользу чудодейственного крема, я перешел со своих консервативных caleçon de bain на их более короткую разновидность (все еще бывшую в то время под запретом в парадизах построже). Запоздалое нововведение имело своим следствием причудливое наслоение загара. Помню, как я прокрался в комнату Айрис, чтобы осмотреть себя в большом зеркале, единственном в доме; тем утром она отправилась в косметический салон, куда я не преминул телефонировать, дабы удостовериться, что она в самом деле там, а не в объятиях любовника. Кроме мальчишки-провансальца, полировавшего перила, поблизости никого не было, и я решил предаться одному из своих давних и самых гадких удовольствий: бродить совершенно нагим по чужому дому[42].
Портрет в полный рост в целом не был удачен, вернее сказать, он содержал легкомысленную деталь, допустимую в зеркальных отражениях и средневековых рисунках диковинных тварей. Мое лицо было коричневым, тулово и руки — карамельными, карминовый экваториальный поясок, окаймлявший снизу карамель, далее переходил в белый, более или менее треугольный участок, заостренный к югу и ограниченный с двух сторон преизбытком кармина, а ноги мои (поскольку я целыми днями разгуливал в шортах) были того же коричневого цвета, что и лицо. В верховьях белизна живота оттеняла жуткую repoussé с никем еще не описанным уродством: мужской портативный зоосад, симметричная масса звериного довеска, слоновый хобот, чета морских ежей, кроха-горилла, вцепившаяся мне в пах спиной к зрителям.
Предупредительный спазм пронзил мою нервную систему. Бесы неизлечимого недуга, «освежеванного сознания», гнали прочь моих арлекинов. Я бросился искать неотложной помощи среди отвлекающих безделушек в пахнущей лавандой спальне своей возлюбленной: лиловый плюшевый медведь, занятный французский роман («Du côté de chez Swann»[43]), который я купил ей в подарок, аккуратная стопка свежего белья в корзине, цветная фотокарточка[44] двух девушек в изящной рамке, наклонно подписанная следующим образом: «Леди Крессида со своей милой Нелл[45], Кембридж, 1919»; первую я принял за Айрис в золотистом парике и розовом гриме, но, вглядевшись, распознал в ней Айвора в роли той весьма назойливой девицы, что егозит и резвится, к месту и не к месту, в неудачном фарсе Шекспира. Впрочем, хромодиаскоп[46] Мнемозины в конце концов тоже может наскучить.
Когда я, уже с меньшим рвением, продолжил свои бесстыдные блуждания, мальчишка в музыкальной гостиной занимался какофонической протиркой клавиш «Бехштайна». Он задал мне вопрос, прозвучавший как: «Hora?»[47], и я в ответ повертел туда-сюда кистью руки, на которой не было ничего, кроме бледного призрака часов и браслета. Совершенно неверно истолковав мой жест, он ушел, качая своей тупой головой. То было утро недоразумений и неудач.
Я направился в буфетную, чтобы выпить пару стаканов вина — лучший завтрак в пору невзгод. По пути я наступил на осколок фаянса (накануне мы слышали звон упавшей тарелки) и, кляня все и вся, заплясал на одной ноге, стараясь нащупать воображаемый порез в середине моей белой стопы.
Литр rouge, рисовавшийся в моем воображении, был на месте, а вот штопора я не смог отыскать ни в одном из ящиков. Гремя ими, я в промежутках слышал, как кричит о чем-то попугай, уныло и грубо. Пришел и ушел почтальон. Редактор «Новой зари» сомневался (ужасные трусы эти редакторы), что его «скромное эмигрантское начинание» в состоянии… и т. д. — это скомканное «и т. д.» последовало прямиком в мусорное ведро. Безвинный[48], рассерженный, с Айворовой «Таймс» под мышкой, я прошлепал по черной лестнице в свою убогую комнату. В голове начался бунт.
Тогда-то, отчаянно рыдая в подушку, я и принял решение предварить назначенное на завтра предложение руки и сердца признанием, которое могло сделать его неприемлемым для моей Айрис.
7
Если посмотреть из нашей садовой калитки в конец асфальтовой аллеи, ведущей сквозь леопардовую тень к деревне, находящейся на расстоянии двухсот шагов на восток, то увидишь розовый куб маленькой почтовой конторы, зеленую скамью у входа в нее и флаг над ней; все это вписано с немой яркостью прозрачных красок между последней пары платанов, завершающей два ряда колонн, шествующих по обе стороны дороги.
По правую (южную) сторону аллеи, за придорожной канавой, заросшей куманикой, промежутки между пятнистых стволов открывают лавандовые или люцерновые прогалины, а еще дальше — низкую белую стену кладбища, что тянется вдоль нашей улочки, как свойственно такого рода вещам. По левую (северную) сторону, через такие же сквознины можно бросить взгляд на ширь склона, виноградник, далекую ферму, сосновые куртины и контур горной гряды. На предпоследнем стволе дерева в этом ряду кто-то наклеил, а кто-то другой частично ободрал сбивчивое объявление.
По этой аллее мы с Айрис проходили чуть ли не каждое утро к деревенской площади и от нее по приятному короткому пути — в Канницу и к морю. Иногда она предпочитала возвращаться домой пешком, будучи одной из тех небольшого роста, но крепких девушек, что состязаются в беге с препятствиями, играют в хоккей, взбираются на скалы, а потом еще отплясывают шимми до «безумного бледного часа» (привожу строчку из моего первого стихотворения, посвященного ей). Обычно поверх узенького купального костюма она надевала свое «индийское» платье, разновидность полупрозрачного парео, и, когда я близко шел позади нее и ощущал уединенность, безопасность, вседозволенность сновидения, я испытывал в этом приапическом состоянии некоторое неудобство при ходьбе. По счастью, меня удерживало не понимание того, что уединенность наша была не такой уж надежной, а решимость нравственного рода признаться ей в чем-то очень важном, прежде чем мы предадимся любви.
С тех крутых склонов море внизу виделось лежащим в величественных складках, а вследствие отдаленности и высоты возвратная линия пенного прибоя наступала скорее с комичностью замедленных съемок, поскольку мы знали, как и само море, о дюжинной силе его поступи, а тут — такая сдержанность, такая важность…
Вдруг откуда-то из окружавших нас дебрей донесся вопль неземного блаженства.
«Боже мой! — воскликнула Айрис. — Очень надеюсь, что это не счастливый беглец из цирка Каннера». (Никакой связи с пианистом — во всяком случае, насколько можно судить.)
Мы продолжили путь, теперь бок о бок: наша тропа, после первого из полудюжины скрещений с главной петлистой дорогой, сделалась шире. В тот день, как обычно, я спорил с Айрис об английских названиях нескольких растений, которые я мог определить, — ладанник и цветущую гризельду, агавы (которые она называла «столетниками»), ракитник и молочай, мирт и земляничник. Крапчатые бабочки появлялись и исчезали, как быстрые солнечные пятна в образованных листвой туннелях, а потом огромное оливково-зеленое создание, показав розовые разводы где-то понизу, на миг опустилось на головку чертополоха. Я в бабочках не смыслю ни аза, мне, в общем-то, нет никакого дела и до тех, более пушистых тварей, что летают по ночам, и я бы не вынес прикосновения ни одних, ни других: даже самые прелестные из них вызывают во мне тошное содрогание, вроде как от парящих паучков или от той гадины, что встречается в ванных комнатах на Ривьере, — серебристой чешуйницы.
В тот день, который у нас сейчас в фокусе (памятный благодаря более значительному событию, но влачащий за собой различные синхронные мелочи, приставшие к нему, как репейники, или въевшиеся в него, как вкрапления у морских паразитов), мы заметили мелькание сачка среди заросших цветами скал, и тут же возник сам старик Каннер: его панама болтается на тесемке, прихваченной к пуговице рубашки, его седые локоны развеваются над багровым челом — и весь он еще сияет от восторга, эхо которого, без сомнения, мы слышали только что.
Айрис немедленно принялась описывать ему эффектное зеленое существо, но Каннер только отмахнулся, назвав ее «eine „Pandora“[49]» (так, во всяком случае, у меня записано) — обычная южная Falter (бабочка)[50]. «Aber (впрочем), — взревел он, вознося вверх указательный палец, — ежели вы желаете взглянуть на настоящую редкость, никогда не встречавшуюся западнее Нижней Австрии, то я могу показать вам, что я только что поймал».
Он прислонил сачок к скале (который тут же упал, и Айрис почтительно подняла его) и под аккомпанемент сходящих на нет выражений чрезмерной благодарности (Психее? Вельзевулу?[51] Айрис?) вынул из отделения своей наплечной сумки почтовый конвертик, из которого очень осмотрительно вытряхнул себе на ладонь сложившую крылья бабочку.
Едва взглянув на нее, Айрис сказала, что это просто маленькая, еще совсем юная капустница. (У нее была теория, что домашние мухи, к примеру, растут.)
«А теперь взгляните повнимательней! — сказал Каннер, игнорируя ее глупое замечание и указывая сжатым пинцетом на треугольное насекомое. — То, что вы видите, — это внутренняя часть крыльев: у левого Vorderflügel („переднего крыла“) — испод белый, а у левого Hinterflügel („заднего крыла“) — испод желтый. Не стану расправлять ей крылья, но, надеюсь, вы поверите мне на слово: на внешней стороне крыльев, которой вы не видите, у этого экземпляра, как и у его ближайших родственников — белянки репной и белянки Манна — обе здесь часто встречаются, — типические маленькие точки на переднем крыле, а именно: черная точка у самцов и черное Doppelpunkt („двоеточие“) у самок. У тех родственных бабочек пунктуация воспроизводится на нижней части крыла, и только у вида, сложенный образчик которого лежит на моей ладони, край крыла чист — типографический каприз природы! Ergo, это Эргана[52]».
У распростертой бабочки дрогнула одна из лапок.
«Ах, она живая!» — воскликнула Айрис.
«Нет, она не сможет улететь — одного сжатия довольно», — мягко возразил Каннер, опуская насекомое обратно в его прозрачный ад, после чего, победоносно подняв на прощание руку с сачком, он продолжил взбираться по склону.
«Чудовище!» — простонала Айрис. Ее поразила мысль о тысячах замученных им крохотных созданий, но несколько дней спустя, когда Айвор повел нас на его концерт (в высшей степени поэтичное исполнение сюиты Грюнберга[53] «Les Chateaux»), она была отчасти утешена пренебрежительным замечанием своего брата, что «вся эта докука с бабочками не более чем рекламная уловка». Увы, как собрат-сумасшедший, я был иного мнения.
Когда мы достигли нашего отрезка пляжа, все, что мне нужно было сделать, чтобы впитать солнце, — это скинуть рубашку, шорты и теннисные туфли. Айрис сбросила с себя парео и — голорукая и голоногая — легла рядом со мной на полотенце. Я прокручивал в голове приготовленную для нее речь. Собака пианиста сегодня была в обществе миловидной пожилой дамы, его четвертой жены. Двое юных болванов закапывали нимфетку в горячий песок. Русская дама читала эмигрантскую газету. Ее муж созерцал горизонт. Две англичанки плескались в сияющих волнах. Большое французское семейство слегка покрасневших от солнца альбиносов пыталось накачать воздух в резинового дельфина.
«Готова окунуться», — сказала Айрис.
Она вытащила из пляжной сумки, которую оставляла у консьержки в «Виктории», свой желтый купальный чепец, и мы перенесли наши полотенца и вещи в сравнительно тихое место на некоем подобии заброшенной пристани, где она предпочитала высыхать после того как.
Уже дважды за мою жизнь припадок всеохватной судороги — физический эквивалент молниеносного помешательства — едва не погубил меня посреди ужаса и мрака водяной бездны. Вижу себя пятнадцатилетним юношей, вместе со своим крепким кузеном переплывающим в сумерках узкую, но глубокую речку. Он начал было отрываться от меня, когда особенное усилие, сделанное мной, вызвало чувство несказанного блаженства, которое сулило как будто чудеса ускоренного скольжения, сказочные призы на воображаемых полках, но которое в момент его дьявольской кульминации оказалось замещено невыносимой судорогой, сковавшей сначала одну ногу, затем другую, а там — ребра и обе руки. В более поздние годы я не раз пробовал разъяснить начитанным и ироничным докторам то странное, жуткое, сегментарное свойство этой пульсирующей муки, превращающей меня в огромную гусеницу с членами, преобразованными в последовательные кольца агонии. По какой-то совершенно немыслимой случайности сразу позади меня плыл еще один человек, незнакомец, и он-то помог вытащить меня из клубка уходящих в бездну купав.
Второй раз это произошло год спустя на западном побережье Кавказа. Был прием по случаю именин сына местного губернатора, на котором я пил за его здоровье в компании дюжины приятелей постарше. Около полуночи удалой молодой англичанин Аллан Андовертон (коему суждено было стать в 1939 году моим первым британским издателем!) предложил выкупаться при свете луны. Пока я держался вблизи берега, ощущения были весьма приятными. Вода была теплой; луна благосклонно освещала накрахмаленную рубашку моего первого вечернего костюма, разложенного на пляжных голышах. Вокруг слышались веселые возгласы; Аллан, помнится, даже не подумал раздеваться и плескался в водных бликах с бутылкой шампанского; и вдруг все накрыла туча — большая волна подняла и опрокинула меня, и тут же все мои чувства оказались в таком беспорядке, что я не мог бы сказать, плыл ли я в сторону Ялты или Туапсе. Животный ужас выпустил на волю уже знакомый мне мучительный спазм, и я, конечно, тогда бы и сгинул, кабы следующий вал не подхватил и не вынес меня на берег, прямо к моим штанам.
Тень этих грозных и скорее бесцветных воспоминаний (смертельная опасность бесцветна) всегда примешивалась к моим «заплывам» и «всплескам» (это все ее словечки) с Айрис. Она быстро свыклась с моей привычкой оставаться в удобной близости от покатого ложа мелководья, покуда сама в отдалении изнуряла себя «кролем» (если эти взмахи и шлепки звались именно так в двадцатые годы); однако в то утро я едва не совершил непростительную глупость.
Я преспокойно плавал взад-вперед вдоль берега, поминутно удостоверяясь, что могу достать ступней до илистого, неприятного на ощупь, хотя, в общем, дружелюбно-травянистого дна, когда вдруг заметил, что морской пейзаж переменился. На втором плане появилась коричневая моторная лодка, управляемая молодым человеком, в котором я узнал Л. П. Описав пенистый полукруг, лодка остановилась рядом с Айрис. Она ухватилась за яркий кант, он что-то сказал ей, после чего сделал движение, будто собирается втащить ее в свою лодку, но она отцепилась, и он со смехом умчался прочь.
Все представленье продолжалось лишь пару минут, но стоило бы шельмецу с ястребиным профилем и в белом свитере грубой вязки помедлить всего несколько секунд или будь моя девушка похищена средь рева и брызг своим новым воздыхателем, я бы пропал: пока длилась эта сцена, некий мужественный инстинкт, более сильный, чем инстинкт самосохранения, заставил меня проплыть в их сторону несколько неосознанных ярдов, и когда я после этого принял вертикальное положение, чтобы отдышаться, ничего, кроме воды, у меня под ногами не было! Я развернулся и поплыл к берегу, уже ощущая зловещее зарево, дикое, никем еще не описанное предчувствие полного онемения, вкрадчиво обнимающего меня и заключающего убийственный пакт с силой земного притяжения. Внезапно мое колено уперлось в благословенный песок, и сквозь слабый отлив я на четвереньках выполз на берег.
8
«Я должен признаться, Айрис, в одной вещи, имеющей отношение к моему душевному здоровью».
«Погодите минутку. Хочу слущить эту противную лямку как можно ниже — настолько низко, насколько позволяют приличия».
Мы лежали на пристани: я навзничь, она ничком. Сняв резиновый чепчик, она теперь сражалась с бридочкой своего мокрого купальника, чтобы выставить на солнце спину целиком; вспомогательные действия развернулись с моей стороны, вблизи ее соболиной подмышки: безуспешные усилия не показать белизну маленькой груди в месте ее нежного слияния с ребрами. Лишь только она перестала извиваться, добившись приемлемого внешнего вида, она приподнялась, прижимая черный лиф к груди, и другой рукой принялась по-обезьяньи шустро рыться в сумке, совершая очаровательные мелкие движения, как обычно делают девицы, выуживая что-нибудь — в этот раз розово-лиловую пачку дешевых «Salammbôs» и дорогую зажигалку; затем она снова прижалась грудью к расстеленному полотенцу. Сквозь черные завитки эмансипированной «медузы», как этот вид прически назывался в начале 20-х годов, горела мочка ее уха. Лепка ее коричневой спины с крохотной родинкой пониже левой лопатки и длинной поясничной ложбинкой, искупавшей все погрешности животной эволюции, отчаянно мешала мне выполнить намеченное и предварить предложение руки особым, страшной важности признанием. Несколько аквамариновых капель воды все еще поблескивало на внутренней стороне ее загорелых бедер и на крепких коричневых лодыжках, и несколько зерен мокрой гальки пристало к ее розово-коричневым щиколоткам. Если я столь часто описывал в моих американских романах («Княжество у моря», «Ардис») нестерпимое очарование девичьей спины, то это главным образом из-за моей любви к Айрис. Ее плотные маленькие ягодицы — мучительнейший, изобильнейший и сладчайший бутон ее юной красы — были как неразвернутые подарки под рождественской елкой.
Вернувшись после этих мелких хлопот в прежнее положение, под ожидавшее солнце, Айрис выпятила полную нижнюю губу, выдыхая дым, и заметила: «По-моему, с душевным здоровьем у вас все в порядке. Вы бываете порой странным и хмурым, иногда глупым, но это в природе ce qu’on appelle гения[54]».
«А что, по-вашему, „гений“?»
«Ну, это умение видеть вещи, которых другие не видят. Или, точнее, невидимые связи вещей».
«Раз так, то я говорю о состоянии жалком, болезненном, ничего общего с гениальностью не имеющем. Давайте возьмем конкретный пример из реальной обстановки. Пожалуйста, закройте глаза на минуту. Теперь представьте себе аллею, что идет от почты к вашей вилле. Видите ли вы два ряда платанов, сходящихся в перспективе, и садовую калитку между последними двумя из них?»
«Нет, — ответила Айрис. — Вместо последнего дерева справа стоит фонарный столб. Этого не разглядеть с деревенской площади, но на самом деле это столб, заросший плющом».
«Пусть, не важно. Главное — представить, что мы глядим из деревни, отсюда, в сторону садовой калитки — туда. В этом деле нам следует быть предельно внимательными с нашими здесь и там. Покамест „там“ — это прямоугольный, солнечно-зеленый двор за полуоткрытыми воротами. Теперь мы будем идти по аллее к дому. На втором стволе справа мы замечаем следы какого-то местного объявления…»
«Это Айвор его повесил. Он там извещает, что обстоятельства изменились и протеже тети Бетти следует прекратить свои еженедельные звонки по телефону».
«Отлично. Продолжаем идти к садовым воротам. Между стволов платанов с одной и с другой стороны видны части пейзажа. С правой стороны у вас — пожалуйста, закройте глаза, так вы будете лучше видеть, — справа виноградник, а слева — погост: вы можете разглядеть его долгую, низкую, очень низкую ограду…»
«У вас выходит довольно зловеще. И я хочу кое-что добавить. Однажды мы с Айвором среди кустов ежевики наткнулись на старый, покосившийся могильный камень с надписью: „Dors, Médor!“[55] и только год смерти — 1889. Чей-то пес — никаких сомнений. Это сразу перед последним деревом в левом ряду».
«Итак, теперь мы стоим у ворот. Мы уже было вошли, но тут вы вдруг останавливаетесь: вы забыли купить те чудные новые марки для вашего альбома. Мы решаем вернуться на почту».
«Можно мне открыть глаза? Боюсь, я могу уснуть».
«Напротив, пришло время зажмуриться покрепче и сосредоточиться. Вы должны представить, как поворачиваетесь на каблуках, и то, что было „справа“, мгновенно становится „слева“, а „здесь“ немедленно становится „там“, и фонарь теперь от вас по левую сторону, а мертвый Медор — по правую, и платаны сходятся у почтовой конторы. Можете ли вы сделать это?»
«Сделано, — сказала Айрис. — Поворот кругом выполнила. Теперь я стою лицом к солнечной скважине с крохотным розовым домиком и щепоткой небес внутри. Можем идти обратно?»
«Вы можете, а я нет! В этом суть эксперимента. В реальной, вещественной жизни я могу сделать оборот так же легко и быстро, как любой другой. Но в воображении, когда глаза закрыты и тело неподвижно, я не способен сменить одно направление на другое. Какая-то шестеренка в моем мозгу заедает. Я могу, разумеется, смошенничать, отложив мысленный снимок одного вида аллеи и не спеша выбрав противоположный для моего возвратного пути, к отправной точке. Если же я не жульничаю, какая-то тупая преграда, которая может свести с ума, вздумай я упорствовать, мешает мне представить разворот, обращающий одно направление в другое, противоположное. Я раздавлен, я волоку целый мир на своих плечах, пытаясь вообразить поворот кругом и заставить себя увидеть в категории „правостороннего“, то, что видел в категории „левостороннего“, и наоборот».
Я подумал, что она, должно быть, уснула, но прежде, чем я успел утешить себя мыслью, что она не услышала, не взяла в толк ничего из того, что гложет меня, она шевельнулась, натянула на плечи бридочки купальника и села.
«Во-первых, — сказала она, — давайте условимся впредь оставить все эти опыты. Во-вторых, давайте признаем: то, что мы пытались сейчас сделать, — это разрешить дурацкую философскую загадку вроде того, что означает „правое“ и „левое“ в наше отсутствие, когда никто не смотрит, в чистом пространстве, и что такое пространство вообще. Когда я была маленькой, я думала, что пространство — это то, что внутри нуля, любого нуля, нарисованного мелом на грифельной доске, пусть не идеального, но все равно хорошего, округлого нуля. Мне совсем не хочется, чтобы вы сошли с ума или свели с ума меня, поскольку эти дилеммы заразительны, — так что лучше нам вовсе отказаться от затеи с вращением аллеи. Я бы с удовольствием скрепила наш пакт поцелуем, но только погодя. Вот-вот объявится Айвор, чтобы прокатить нас на своем новом автомобиле, но вы, наверное, не захотите, и посему я предлагаю встретиться на пару минут в саду, перед обедом, пока он будет принимать ванну».
Я спросил, что Боб (Л. П.) сказал ей в моем видении. «То было не видение, — ответила она. — Он только хотел знать, не звонила ли его сестра по поводу танцев, на которые они нас троих пригласили. Но если и звонила, дома никого не было».
Мы направились в бар «Виктории», чтобы закусить и выпить, и тут же к нам присоединился Айвор.
«Вот еще, — сказал он. — На сцене я могу отлично танцевать и фехтовать, но в частной жизни я неуклюж, как медведь. К тому же не выношу, когда мою добродетельную сестру лапают всякие rastaquouères с Лазурного Берега. Кстати, — добавил он, — если П. одержим ростовщиками — это его личное дело; он едва не разорил одного из лучших в Кембридже, но все, что он может, — это вслед за другими злословить о них самым пошлым образом».
«Забавный человек мой брат, — сказала Айрис, обращаясь ко мне, как в пьесе. — Он скрывает наше происхождение, будто некую сомнительную ценность, но готов учинить публичный скандал, лишь только один назовет другого Шейлоком».
Айвор все не унимался: «Старик Моррис (его хозяин) будет сегодня ужинать у нас. Мясные закуски и macédoine au кухонный ром. Кроме того, я купил консервированной спаржи в английской лавке — куда лучше той, что выращивают здесь. Автомобиль не совсем „Ройс“, но у него тоже есть руль-с[56]. Жаль, что Вивиан слишком быстро укачивает. Утром я встретил Мадж Титеридж, и она сказала, что французские репортеры произносят ее имя как „Si c’est riche“. Никто не смеется сегодня».
9
Слишком взволнованный для того, чтобы предаться обычной сиесте, я потратил большую часть полудня, сочиняя любовное стихотворение (и это последняя запись в моем дневнике за 1922 год — ровно месяц спустя после моего приезда в Карнаво). В то время у меня, казалось, было две музы: настоящая, истеричная, искренняя, дразнившая меня летучими обрывками образов и ломавшая руки над моей неспособностью принять чародейство и безумие, даровавшиеся мне, и ее подмастерье, ее девочка с палитрой и эрзац, здравомыслящая малышка, заполнявшая рваные пустоты, оставленные ее госпожой, пояснительной или ритмовосстановительной мякотью, которой становилось тем больше, чем дальше я отходил от изначального, эфемерного, дикого совершенства. Коварная музыка русских ритмов сулила мне иллюзорное избавление, подобно тем демонам-искусителям, что нарушают черное безмолвие преисподней художника имитациями греческих поэтов и доисторических птиц. Еще один, уже окончательный обман совершался в Чистовой Копии, в которой каллиграфия, веленевая бумага и китайская тушь на короткое время приукрашивали мертвые вирши. И подумать только, ведь почти пять лет я вновь и вновь брался за перо и каждый раз попадался на этот трюк, пока не выгнал вон эту нарумяненную, брюхатую, покорную и жалкую подручную!
Я оделся и спустился вниз. Створчатое окно на террасу было отворено. Старик Моррис, Айрис и Айвор, попивая мартини, занимали места в партере великолепного заката. Айвор изображал какого-то человека с диковинным выговором и нелепыми жестами. Этот великолепный закат остался у меня в памяти не только как задник того вечера, переменившего мою жизнь, — именно он, по-видимому, повлиял на предложение, которое я сделал много лет спустя своему британскому издателю: выпустить роскошный альбом фотографий восходов и закатов, в котором была бы передана, по возможности, вся гамма оттенков, — коллекцию, которая бы имела и научную ценность, поскольку можно было бы нанять какого-нибудь сведущего селестиолога[57], чтобы он сверил образцы, полученные в разных странах, и разъяснил бы удивительные, никем прежде не отмеченные различия в цветовой палитре рассветов и сумерек. Такой альбом все-таки был издан, дорогой и с недурными иллюстрациями; однако описания к нему были составлены какой-то бездарной дамой, жеманная проза и заёмная поэзия которой испортили книгу («Аллан и Овертон», Лондон, 1949).
Некоторое время я стоял неподвижно, вполуха слушая шумное выступление Айвора и обозревая огромный закат. Его акварель была классических светло-оранжевых тонов, иссиня-черная акула наискось пересекала его. Этой композиции придавала величие группа ярко тлеющих облачков, в изодранных плащах с капюшонами, несшихся над красным солнцем, которое постепенно принимало форму пешки или лестничной балясины. «Взгляните только на этот шабаш ведьм!» — едва не воскликнул я, но в ту же минуту Айрис встала со своего места и до меня донеслись ее слова:
«Довольно, Айвз. Моррис не знает этого человека, все напрасно».
«Ничего не напрасно, — парировал ее брат. — Он вот-вот познакомится с ним и тут же его опознает (этот глагол был солью реплики), в этом-то и фокус!»
Айрис сошла с веранды в сад, и Айвор не стал продолжать своего фарса, который, когда я быстро прокрутил его назад, поразил меня тонкой пародией моей речи и манер. Меня посетило странное ощущение, будто меня обобрали и бросили за борт, будто меня разделили с самим собой, будто я устремляюсь вперед и в то же время отклоняюсь в сторону. Второе действие возобладало, и под сенью каменного дуба я присоединился к Айрис.
Трещали сверчки, сумерки наполняли бассейн, луч садового светильника мерцал на никеле двух припаркованных автомобилей. Я поцеловал ее в губы, в шею, в ожерелье, в шею, в губы. Ее ответные поцелуи рассеяли обиду, но прежде, чем отпустить ее назад, на празднично освещенную веранду, я сказал ей все, что думаю о ее дураке-братце.
Айвор лично принес мне ужин (прямо на столик у кровати) — с ловко скрываемым огорчением артиста, чьи старания не имели успеха, с очаровательными извинениями за причиненную мне обиду и с «у вас не осталось свежих пижам?», на что я отвечал, что, напротив, чувствую себя скорее польщенным и, собственно, летом всегда сплю голышом, но предпочел не спускаться вниз из опасения, как бы легкая мигрень не помешала мне соответствовать столь блестящей пародии.
Спал я тревожно и только после полуночи соскользнул в более глубокое оцепенение (иллюстрированное без всякой к тому причины образом моей первой маленькой душеньки на садовой лужайке), от которого был грубо пробужден харкающими звуками мотора. Я накинул на себя рубашку, высунулся в окно, спугнув стайку воробьев с жасминовых кущ, пышные побеги которых достигали второго этажа, и увидел, только теперь проснувшись окончательно, как Айвор кладет сумку и удочку в свой автомобиль, который стоял, подрагивая, чуть не в самом саду. Было воскресенье, и я предполагал, что он пробудет в доме весь день, а он сел за свой руль-с и захлопнул дверцу. Садовник двумя руками указывал ему тактические направления; рядом с ним стоял его хорошенький мальчуган, держа метелку из желто-голубых перьев. А затем я услышал ее милую английскую речь: она желала брату приятно провести время. Я высунулся еще дальше, чтобы увидеть ее: она стояла на пятачке чистого, прохладного дерна — босоногая, с голыми икрами, в пеньюаре с широкими рукавами, повторяющая слова своего веселого прощания, которых он уже слышать не мог.
Через лестничную площадку я бросился в уборную. Несколько мгновений спустя, покинув булькающее, жадно переглатывающее убежище, я увидел ее на другой стороне лестничной площадки. Она входила в мою комнату. Рубашка для игры в поло, что была на мне, очень короткая, цвета лососины, не могла скрыть моего немого нетерпения.
«Не выношу ошеломленного вида остановившихся часов», — сказала она, потянувшись тонкой коричневой рукой к полке, на которую я отправил в отставку старенький хронометр, одолженный мною взамен обычного будильника. Едва ее широкий рукав соскользнул к плечу, я припал губами к темной надушенной впадинке, о чем мечтал с нашего первого дня на пляже.
Я знал, что дверной замок сломан, и все же сделал попытку, и был вознагражден идиотским подобием поворотных щелчков, решительно ничего не заперших. Чьи шаги, чей надрывный кашель слышались с лестницы? Ах да, это Жако, сын садовника, он смахивает пыль по утрам. «Он может сунуться сюда, — сказал я, уже с трудом произнося слова, — чтобы натереть, к примеру, этот подсвечник». — «Ах, это все равно, — шептала она, — он всего лишь старательный мальчик, несчастный приживала, как и все наши собаки и попугаи[58]. А животик у тебя все еще розовенький, как твоя рубашка. И пожалуйста, милый, не забудь улизнуть, пока не будет слишком поздно».
Как далеко, как ярко, как неизменно в вечности, как обезображено временем! В постели попадались хлебные крошки и даже кусок апельсиновой кожуры. Юношеский кашель смолк, но я отчетливо слышал скрипы, вкрадчивую поступь, гудение в прижатом к двери ухе. Мне было, должно быть, лет одиннадцать или двенадцать, когда племянник моего двоюродного деда приехал в его подмосковную усадьбу, где я проводил то жаркое и ужасное лето. Он привез с собой свою пылкую новобрачную — прямо со свадебного застолья. На другой день, после обеда, раздраженный любопытством и своим воображением, я пробрался к потайному местечку под окном гостевой спальни, что находилась во втором этаже, в жасминовые заросли, где стояла забытая садовником лестница. Она достигала только до верхнего края закрытых ставень первого этажа, и, хотя я нашел на декоративном выступе опору для ноги, я только смог уцепиться за подоконник приоткрытого окна второго этажа, из которого доносились разные увлекательные звуки. Я различил дребезжанье кроватных пружин и ритмичное звяканье фруктового ножа на тарелке, рядом с кроватью, одну из стоек которой я смог увидеть, изо всех сил вытянув шею; но больше всего заворожило меня другое — то были отважные стоны с невидимой части кровати. Нечеловеческое усилие позволило мне углядеть розовую рубашку, перекинутую через спинку стула. Он, восхищенное чудовище, обреченное сгинуть однажды, как многие и многие другие, теперь со все нарастающей потребностью повторял ее имя, и к той минуте, когда моя нога сорвалась, он уже кричал в полный голос, заглушая шум моего внезапного обрушения — прямо в ломкие ветви и метель лепестков.
10
Айвор еще не успел вернуться с рыбалки, как я уже перебрался в «Викторию», где она ежедневно меня навещала. Этого не было довольно; однако осенью Айвор уехал на жительство в Лос-Анджелес, чтобы вместе со своим сводным братом управлять фильмовой компанией «Аменис» (для которой тридцать лет спустя, когда Айвор давно уже умер по ту сторону Дувра, я написал сценарий по своему самому известному в то время, но далеко не лучшему роману «Пешка берет королеву»), и мы с Айрис вернулись на нашу любимую виллу в действительно довольно хорошем синем «Икаре» — обдуманном подарке Айвора нам на свадьбу.
Как-то в октябре мой благодетель, достигший к тому времени последней стадии величественной дряхлости, приехал в Ментону со своим ежегодным визитом. Мы с Айрис без предупреждения зашли его навестить. Имение графа было несравнимо роскошнее нашего. Он с трудом поднялся на ноги, взял в свои восково-бледные ладони ее ручку и вперил в Айрис туманно-голубой взор, рассматривая ее по меньшей мере секунд пять (небольшая вечность по светским нормам) в некоем подобии ритуального молчания, после чего он трижды обстоятельно расцеловал меня по ужасному русскому обычаю.
«Твоя нареченная, — сказал он по-английски (о котором Айрис позднее заметила, что он точь-в-точь как мой — в неподражаемой интерпретации Айвора), используя это слово (bride), как я догадался, в значении fiancée[59], — столь же хороша, сколько должна быть и твоя супруга!»
Я поспешил сообщить ему — по-русски, — что после короткой церемонии в мэрии Канницы мы с Айрис уже около месяца как муж и жена. Никифор Никодимович вновь уставился на Айрис и наконец прикоснулся к ее руке губами, которую она, как я с удовольствием отметил, подняла надлежащим образом (натасканная, разумеется, Айвором, не упускавшим ни единого случая потискать сестрицу).
«Я неверно истолковал слухи, — сказал граф, — но все же рад знакомству со столь очаровательной юной леди. Однако где же, в каком храме состоится освящение данного вами обета?»
«В том храме, сэр, который мы возведем сами», — чуточку дерзко, пожалуй, ответила Айрис.
Граф Старов «пожевал губами», по обыкновению стариков в русских романах, и в эту минуту очень кстати вошла мисс Вроде-Вородина, его пожилая кузина, управлявшая хозяйством, и проводила Айрис на чашку чая в смежный с комнатой альков, украшенный замечательным портретом известной красавицы, мадам де Благидзе, в кавказском костюме (Серов, 1896). Граф пожелал обсудить со мной деловые вопросы. Он располагал всего десятью минутами «до инъекции».
Какова девичья фамилия моей супруги?
Я сказал. Он обдумал ответ и покачал головой. А какова была фамилия ее матери?
Я сказал и это. Последовала та же реакция. Как обстоит дело с финансовой основой нашего брака?
Я сказал, что она владеет виллой, попугаем, автомобилем и еще получает небольшой доход — точной суммы я не знал.
Обдумав все это с минуту, он спросил, не желаю ли я поступить на службу в «Белый Крест». Никакого отношения к Швейцарии. Это организация, которая оказывает помощь русским православным христианам по всему миру. Служба предполагала разъезды, интересные знакомства, продвижение на важные должности.
Я отказался столь решительно, что он выронил из рук серебряную коробочку с пилюлями, и россыпь ни в чем не повинных драже усеяла стол вокруг его локтя. Он смахнул их на пол жестом сварливого отвержения.
Чему же я в таком случае намерен себя посвятить?
Я сказал, что, как и прежде, буду предаваться своим литературным мечтам и кошмарам. Большую часть года мы проведем в Париже. Париж становился центром эмигрантской культуры и нищеты.
И сколько же я надеюсь зарабатывать?
Что ж, как Н. Н. хорошо известно, валюты уже не такие «твердые» после водоворота инфляции, но Борис Морозов, известный писатель, прославленный еще до революции, поделился со мной некоторыми поучительными «примерами умеренности». Я совсем недавно встретился с ним в Каннице, куда он приехал выступить с лекцией о Боратынском в местном литературном кружке. В его случае одним четверостишием можно оплатить bifstek pommes, а два критических фельетона в «Новостях эмиграции»[60] позволяют ему месяц жить в дешевой chambre garnie. Кроме того, по меньшей мере дважды в год он читает свои произведения перед публикой в больших залах и получает за каждое такое выступление сумму, равную, скажем, ста долларам.
Поразмыслив над этим, мой благодетель сказал, что, покуда он жив, я буду получать ежемесячно первого числа чек на половину названной суммы и что кое-какие деньги мне будут причитаться по его завещанию. Он сказал сколько именно. Ничтожность суммы поразила меня. То было предвестием тех разочаровывающих авансов, что издатели предлагали мне после долгих пауз под многообещающее постукивание карандашом.
Мы сняли квартиру из двух комнат в шестнадцатом округе по rue Despréaux[61], 23. Коридор, разделявший комнаты, вел к ванной и кухоньке. Предпочитая из принципа и по склонности спать в одиночестве, я оставил широкую кровать в распоряжение Айрис, а сам спал на диванчике в гостиной. Убираться и готовить приходила дочь консьержки. Ее кулинарные способности были ограниченны, и мы частенько нарушали рутину овощных супов и вареного мяса обедами в русском ресторанчике. В этой маленькой квартире нам предстояло провести семь зим.
Благодаря предусмотрительности моего дорогого опекуна и покровителя (1850?–1927), космополита старой закваски, со множеством полезных знакомств в лучших частях света, я еще до женитьбы стал подданным одной благоустроенной иностранной державы, что избавило меня от унижения нансенским паспортом[62] (вид на нищенство, по сути), равно как и от мещанской одержимости «документами», возбуждающей такое дьявольское веселье среди большевицких управителей, находящих некоторое скотство, я хотел сказать «сходство» между тишиной темниц и канцелярий, а также усматривающих что-то общее в гражданской бедственной безысходности эмигрантов и политической закрепощенности советских рабов. Я же мог увезти свою жену в любой каникулярный парадиз на земле без того, чтобы по несколько недель ожидать визы, а потом получить отказ, скажем, на въезд в ту самую случайную страну — а для нас ею стала Франция, — где мы жили постоянно, по причине какого-нибудь формального изъяна в наших драгоценных и презренных бумагах. Теперь (1970), когда на смену моему британскому паспорту пришел не менее действенный американский, я все еще храню тот, 1922 года фотопортрет загадочного молодого человека, каким я был тогда, с загадочно улыбающимися глазами, полосатым галстуком и волнистыми волосами. Помню наши весенние путешествия на Мальту и в Андалусию, но каждое лето, к началу июня, мы на автомобиле приезжали в Карнаво и проводили там месяц-другой. Попугай умер в 1925 году, мальчик с метелкой исчез в 1927-м. Айвор дважды навещал нас в Париже, и еще она, полагаю, видалась с ним в Лондоне, куда ездила не реже одного раза в год, чтобы провести несколько дней с «друзьями», с которыми я не был знаком, но которые как будто не вызывали опасений — по крайней мере в определенном отношении.
Мне полагалось быть более счастливым. Я и намеревался быть более счастливым! Поверхность моего здравия оставалась все такой же пегой, со зловещими очертаниями, просвечивавшими в его самых сквозистых углах. Вера в мое писательское призвание никогда не покидала меня, но Айрис, несмотря на ее трогательные попытки разделить его, оставалась в стороне, и чем лучше я писал, тем более чуждыми мои сочинения делались для нее. Она не раз принималась за беспорядочные занятия русским, регулярно и надолго прерывала их, бралась снова и кончила дело устойчивым вялым отвращением к этому языку. Вскоре я заметил, что она уже больше не старается казаться увлеченной и понимающей, когда в ее присутствии начинала звучать русская, исключительно русская речь (из вежливого снисхождения к ее беспомощности предваряемая несколько примитивным французским вступлением в самые первые минуты вечеринки или приема).
Все это в лучшем случае вызывало досаду, в худшем — разрывало мне сердце; впрочем, кое-что другое действительно угрожало моему психическому благополучию.
Ревность, великан в маске, никогда прежде не становившийся у меня на пути во времена моих юношеских легкомысленных увлечений, теперь, сложив на груди руки, подстерегал меня за каждым углом. Некоторые маленькие постельные ухищрения, к которым прибегала моя прелестная, уступчивая, чуткая Айрис, любовное разнообразие, нежность и прилежность ласк, та незаметная точность, с какой она сноровисто прилаживала свое гибкое тело ко всякому сооружению соития, — все это, казалось, предполагало богатый опыт. Прежде чем приняться за настоящее, я должен был насытиться муками ревности по части ее прошлого. Во время допросов, которым я подвергал ее в худшие из моих ночей, она отметала свои прошлые романы как совершенно никчемные, не сознавая того, что эта недоговоренность оставляет моему воображению куда больше, чем пылко преувеличенная правда.
Бывшие у нее в ранней юности любовники, всего трое (число, которое я выпытывал у нее с яростью безумного пушкинского игрока и с еще менее удачным исходом), так и остались безымянными и оттого призрачными; лишенные каких-либо индивидуальных черт, они казались одним и тем же размноженным человеком. Они выполняли свои однообразные па за ее спиной, покуда она выступала со своим сольным номером, — как самые бездарные танцовщики в составе кордебалета, демонстрируя скорее унылую гимнастику, чем танец, и даже не надеясь, что кто-то из них когда-нибудь станет звездою труппы. В то же время она, балерина, была как тусклый бриллиант, и каждый фацет ее таланта жаждал засиять, но из-за окружавшего убожества ей приходилось до поры ограничивать свои движения и жесты рамками холодного кокетства и увертливого флирта — в ожидании огромного прыжка атлета с мраморными ляжками и в сверкающем трико, который бы буквально извергся из-за кулис после подобающей увертюры. Мы полагали, что я был выбран на его роль, но мы ошибались.
Только так, проецируя на экран воображения эти стилизованные образы, я мог усмирить боль любострастной ревности, сосредоточенной на призраках. И все же нередко я предпочитал окунуться в нее с головой. Двустворчатое, доходящее до пола окно моего кабинета на вилле «Ирис», служившее также и дверью, вело на тот же балкон под красной черепицей, что и окно в спальне моей жены; его можно было приоткрыть под таким углом, чтобы в нем отразилось два различных вида, наложенных один на другой. Косая плоскость стекла захватывала за чередой монастырских арок, переходивших из комнаты в комнату, край ее постели и частично ее саму: ее волосы, ее плечо — единственный способ что-нибудь увидеть, стоя за старинным аналоем, за которым я писал; но в окне также отражалась, только руку протяни, зеленая реальность сада с кипарисами-пилигримами, бредущими вдоль стены, и так, частью в постели, частью в бледных, жарких небесах, она, бывало, полулежа писала письмо, распятое на моей не лучшей шахматной доске[63]. Я знал, что на мой вопрос она бы ответила: «ах, к своей однокашнице», или «к Айвору», или «к старушке Купаловой», и еще я знал, что тем ли, иным ли способом, но письмо достигнет почтового отделения в конце платановой аллеи, а я так и не увижу имя получателя. И все же я позволял ей писать, удобно плывущей в спасательном жилете подушки над кипарисами и садовой стеной, а сам тем временем все продолжал испытывать — неумолимо, безрассудно, — до каких черных глубин дотянется осминожие боли.
11
Ее занятия русским по большей части сводились к тому, что она приносила той или иной русской знакомой, мадемуазель Купаловой или мадам Лапуковой (ни одна английского толком не знала), мои стихи или эссе, а те изустно пересказывали ей их на некоем подобии самодельного воляпюка. После того как я заметил ей, что она попусту теряет время на этих бестолковых «уроках», она принялась за поиски другого алхимического метода, который бы позволил ей прочесть мои сочинения. Я уже взялся тогда (1925) за свой первый роман («Тамара»), и она выпросила у меня копию первой главы, только что отпечатанной мною. Она отнесла ее в агентство, подвизавшееся на французских переводах разных насущных текстов, вроде анкет и прошений, подававшихся русскими беженцами разного рода крысам в крысиные норы различных комиссариатов. Человек, согласившийся выполнить для нее «дословный перевод» главы и чьи старания она оплатила в валюте, продержал у себя манускрипт два месяца, а когда наконец вернул его Айрис, сообщил ей, что моя «статья» предъявляет почти невыполнимые требования, «будучи написана идиоматическими выражениями и совершенно чуждым рядовому читателю слогом». Так безымянный идиот из обшарпанной, шумной, бестолковой конторы стал моим первым критиком и переводчиком.
Я ничего не знал об этой авантюре, пока однажды не застал ее, склонившую русые кудри над широкими листами[64], почти сквозными из-за лютой молотьбы фиолетовых литер, покрывавших их безо всякой надежды на поля. В то время я наивно отвергал саму возможность перевода — отчасти оттого, что мои собственные попытки переложить два-три своих ранних сочинения на мой личный английский вызвали у меня лишь тошное отвращение и чудовищные мигрени. Айрис (ладонь подпирает щеку, глаза, с застывшим в них недоумением, скользят по строкам) взглянула на меня скорее смущенно, но с проблесками озорства, которое никогда не покидало ее и в самых абсурдных или томительных ситуациях. Я заметил грубую ошибку в первой строке, невнятицу во второй и, не утруждая себя дальнейшим чтением, разорвал страницы в клочья, что не вызвало у моей горемычной милочки никакой реакции, кроме безучастного вздоха.
Дабы возместить свое отсутствие в списке моих почитателей, она решила сама сделаться писательницей. С середины двадцатых годов и до последних дней своей короткой, беспечной, прозаичной жизни моя Айрис сочиняла детективный роман в двух, трех, четырех сменявших один другой вариантах, в которых сюжет, персонажи, обстановка, решительно всё подвергалось переделке во время припадков опустошительной правки — всё, за исключением имен (ни одного из которых я не помню).
Она не только совершенно была лишена литературного таланта, но не имела даже склонности к подражанию тем даровитым авторам из числа преуспевших, хотя и преходящих поставщиков «криминального чтива», продукцию которых она поглощала с неразборчивой жадностью образцового заключенного. С другой стороны, если так, то откуда же моя Айрис знала, что́ следует переделать, что́ исключить? И какой гениальный инстинкт отдал ей приказ уничтожить всю пачку черновиков в канун, да, почти что в самый канун ее внезапной гибели? Все, что удивительная эта девушка могла себе с пугающей ясностью вообразить, — это кроваво-красную мягкую обложку итогового, идеального пухлого тома, на которой бы красовался волосатый кулак злодея, целящегося зажигалкой в виде пистолета в читателя — читателя, который не должен был догадаться — до тех пор, пока все персонажи в книге не умрут, — что то и впрямь был пистолет.
Позвольте мне указать на несколько пророческих отметин, ловко вплетенных в ажурное кружево наших семи зим.
Как-то во время затишья на одном восхитительном концерте, на который мы не смогли взять смежных мест, я заметил, как Айрис приветливо здоровается с печальной на вид женщиной с вялыми коричневыми волосами и тонкими губами; эту даму я, бесспорно, уже где-то видел, причем совсем недавно, но сама невзрачность ее наружности отбивала охоту преследовать ускользающее воспоминание, а спросить Айрис о ней как-то не довелось. Ей суждено было стать последней учительницей русского моей жены.
Всякий автор, выпустивший свою первую книгу, считает тех, кто ее с восторгом принял, своими личными друзьями или безличными сторонниками, те же, кто разнес ее, могут быть лишь завистливыми подлецами и ничтожествами. Я бы, разумеется, впал в ту же ошибку по отношению к приему, какой оказали моей «Тамаре» в русских повременных изданиях Парижа, Берлина, Праги, Риги и других городов, но к тому времени я уже погрузился в свой второй роман, «Пешка берет королеву», а мой первый усох у меня в сознании до щепоти цветного праха.
Редактор ежемесячного журнала «Patria»[65], в котором начала выпусками печататься моя «Пешка», пригласил меня с «Иридой Осиповной»[66] на литературный самовар. Упоминаю об этом лишь потому, что то был один из малого числа салонов, ради которого моя нелюдимость делала исключение. Айрис помогала с бутербродами. Я курил трубку и подмечал пищевые повадки двух маститых романистов, трех романистов помельче, одного крупного поэта, пятерых мелких (обоих полов), одного маститого критика (Демьяна Василевского) и еще девяти мелких, в том числе неподражаемого «Простакова-Скотинина» — фарсовое театральное прозвище, придуманное его заклятым соперником Христофором Боярским.[67]
Крупный поэт, Борис Морозов, разновидность любезного медведя гризли в человечьем обличье, на вопрос, как прошло его выступление в Берлине, ответил: «Ничево» — и принялся рассказывать смешную, но незапомнившуюся историю о новом главе Общества эмигрантских писателей в Германии. Сидевшая рядом со мной дама сообщила мне, что она в восторге от того коварного разговора между Пешкой и Королевой — о муже, — и поинтересовалась, в самом ли деле они собираются вытолкнуть бедного шахматиста в окно? Я сказал, что собираются, как же, но не в следующем номере и совершенно впустую, поскольку ему суждено жить вечно в сыгранных им партиях и во множестве восклицательных знаков будущих комментаторов. В то же время я слышал, а слух у меня почти под стать зрению, обрывки застольного разговора, вроде пояснительного шепотка через плечо, за пять стульев от меня: «Она англичанка».
Обо всем этом, как о вещах слишком обыденных и мелких, не стоило бы и писать, если бы они не служили общим местом для того биографического фона, который, как случалось на всех подобных эмигрантских посиделках, не озарялся бы то и дело кем-нибудь убереженной драгоценностью — строчкой Тютчева или Блока, приводимой мимоходом, промеж деловых пересудов и обычной болтовни, — когда бы не это неизменное присутствие привычно почитаемой и тайно разделяемой высоты искусства, украшавшей печальные жизни неожиданной каденцией, нисходящей с неких горних вершин, — слава, сладость, радужная полоска на стене от хрустального пресс-папье, местонахождение которого мы не знаем. Вот чего была лишена моя Айрис.
Возвращаясь к обыденности: я попотчевал собравшихся одним из перлов, замеченных мною в «переводе» «Тамары»: предложение «виднелось несколько барок» превратилось в «la vue était assez baroque». Старый мой знакомый, знаменитый критик Василевский, плотного сложения, невысокий светловолосый человек в измятом коричневом костюме, затрясся в утробном веселье, но тут же на его лице появилось подозрительно-недовольное выражение. После чая он пристал ко мне, грубо добиваясь признания в том, что я выдумал этот пример с неверным переводом. Помню, что я ответил: если так, то и он сам может быть только плодом моего воображения.
Когда мы шли домой, Айрис посетовала, что ей никак не удается затуманить стакан чаю одной только ложкой приевшегося малинового варенья. Я сказал, что готов примириться с ее нарочитой сдержанностью, но заклинаю перестать объявлять à la ronde: «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания: я люблю звучание русской речи». Вот это уже было оскорбительно, все равно как сказать писателю, что его книга невразумительна, но отлично издана.
«Готова платить репарации, — весело ответила она. — Просто беда с учителями — я, вообще-то, всегда считала, что подходишь только ты, но ты отказался — то тебе не до этого, то ты устал, то тебе скучно, то это вредит твоим нервам. Наконец я нашла кое-кого, кто говорит на двух языках, твоем и моем, как если бы оба были ему родные, и этот человек поможет мне расставить все по местам. Я говорю о Наде Старовой. Собственно, это она предложила».
Надежда Гордоновна Старова была женой лейтенанта Старова (имя значения не имеет), служившего у Врангеля, а теперь получившего место в конторе «Белого Креста». Я недавно имел возможность с ним познакомиться. Это случилось в Лондоне, на похоронах, когда мы вместе с ним несли гроб старого графа, чьим внебрачным сыном, или «усыновленным племянником» (что бы это ни значило), он, как поговаривали, был. Темноглазый, смуглый мужчина, на три или четыре года старше меня, он показался мне довольно красивым — на задумчивый, сумрачный лад. После ранения в голову во время Гражданской войны у него остался жуткий тик, внезапно, через неравные промежутки, искажавший его лицо, как если бы невидимая рука сминала бумажный пакет. Надежда Старова, невзрачная тихая женщина с чем-то неуловимо квакерским в облике, ради каких-то своих целей, по-видимому, медицинского рода, измеряла эти интервалы по часам, в то время как сам Старов своих лицевых «фейерверков» не ощущал и не сознавал, если только ему не случалось увидеть их в зеркале. Он обладал мрачноватым чувством юмора, красивыми руками и бархатным голосом.
Теперь мне стало ясно, что тогда на концерте моя Айрис поздоровалась с Надеждой Гордоновной. Не помню, когда именно начались уроки и сколько эта причуда продлилась — месяц-другой, не больше. Проходили они в доме госпожи Старовой или в одной из тех русских чайных, где обе дамы часто бывали. Я держал под рукой короткий список телефонных номеров, так что Айрис знала, что я всегда могу удостовериться в ее местонахождении — если, скажем, почувствую, что вот-вот сойду с ума или захочу, чтобы она по дороге домой купила моего любимого табаку «Черная слива». Однако ей было невдомек, что я ни за что не отважился бы звонить по этим номерам, поскольку, не окажись она там, где должна быть, я испытал бы такие мучения, каких мне не вынести даже в продолжение нескольких минут.
Как-то под Рождество 1929 года она между прочим сказала, что те ее последние занятия русским давно прекратились: госпожа Старова отбыла в Англию и, по слухам, возвращаться к мужу не собиралась. Наш поручик, похоже, был тот еще повеса.
12
По какой-то таинственной причине к концу нашей последней парижской зимы что-то в наших отношениях переменилось к лучшему. Волна новой теплоты, новой близости, новой нежности захлестнула нас и стерла все иллюзорные следы размолвки — препирательства, молчаливые укоры, подозрения, укрывательства в замках amour-propre и тому подобное, что препятствовало нашей любви и в чем был виновен только я один. Более ласковой, веселой подруги я не мог себе представить. В нашу повседневную жизнь вернулись маленькие нежности, любовные прозвища (с моей стороны основанные на русских словечках); я изменял своему подвижническому распорядку работы над коротким романом в стихах «Полнолуние» ради конных прогулок с ней в Булонском лесу или послушного сопровождения ее на дразнящие показы мод и выставки мошенников-авангардистов. Я подавил в себе презрение к «серьезному» кинематографу (сводящему любые сердечные неурядицы к политическим разногласиям), который она предпочитала американским балаганным комедиям и комбинированным съемкам немецких фильмов ужасов. Я даже согласился выступить с воспоминаниями о своих кембриджских временах перед довольно жалким собранием Женского английского клуба, в котором она состояла. А на десерт я угостил ее фабулой моего следующего романа («Камера люцида»).
Однажды после обеда, в марте или в начале апреля 1930 года, она просунула голову в дверь моей комнаты и, получив позволение войти, вручила мне ремингтонированную копию страницы под номером 444. Это, сказала она, пробный вариант одного эпизода в ее нескончаемом романе, в котором вычерков скоро будет больше, чем вставок. «Я зашла в тупик», — сказала она. Диана Вэйн, героиня второстепенная, но в целом девушка славная, англичанка, живущая в Париже, знакомится в школе верховой езды с необычным человеком — французом корсиканского или, возможно, алжирского происхождения, страстным, брутальным, неуравновешенным мужчиной. Он принимает Диану, и настаивает на этом, несмотря на ее удивленные протесты, за свою бывшую возлюбленную, тоже англичанку, с которой он давно расстался. Здесь у нас, пояснял автор, своего рода галлюцинация, настоящая одержимость мысленным образом, которым Диана, очаровательная кокетка с живым чувством юмора, позволяет Жюлю тешиться[68] на протяжении двадцати, приблизительно, уроков верховой езды; но затем его внимание к ней приобретает более реалистические очертания, и ей приходится прекратить их отношения. Между ними ничего не было, и тем не менее его просто невозможно убедить в том, что он принимает ее за другую, ту, с которой у него был роман, или ему кажется, что был, поскольку и эта девушка ведь тоже могла быть только тающим образом его еще более ранней возлюбленной, а то и вовсе полузабытым видением. Весьма неординарная ситуация.
Итак, на этой странице — последнее зловещее письмо к Диане, написанное этим самым французом на искаженном английском языке иностранца. Она попросила меня прочитать его, как если бы это было настоящее письмо, и дать совет опытного писателя, как могут развиваться события и какая угроза нависла над героиней.
Вот обратный перевод этого письма с ломаного английского.
Счастье мое!
Не могу поверить [not capable to represent to myself], что ты действительно желаешь порвать со мной всякие отношения. Видит Бог, я люблю тебя больше жизни — больше двух жизней, твоей и моей, вместе взятых. Не захворала ли ты? Или, может быть, ты встретила другого? Другого мужчину, да? Новую жертву своего очарования? Нет, нет, эта мысль слишком ужасна, слишком унизительна для нас обоих [for us both].
Моя мольба скромна и справедлива: дай мне лишь еще одно свидание [interview]! Одно свидание! Я готов встретиться с тобой все равно где — на улице, в каком-нибудь кафе, в лесу Булони [in the Forest of Boulogne], но я должен увидеть тебя, поговорить с тобой и открыть тебе много тайн, прежде чем умру. О нет, это не угроза! Клянусь, что если у нашей встречи будет благоприятный исход, другими словами, если ты позволишь мне надеяться, только надеяться, тогда, о, тогда я соглашусь немного подождать. Но ты должна ответить мне безотлагательно, моя жестокая, глупенькая, обожаемая девочка!
Твой Жюль«Здесь есть одно обстоятельство, — сказал я, аккуратно складывая страницу и пряча ее в карман для последующего изучения, — о котором обожаемой девочке следует знать. Это писал не влюбленный корсиканец, готовый совершить crime passionnel, а русский шантажист, владеющий английским в пределах, позволяющих ему переложить на него только самые затасканные русские выражения. Но меня приводит в недоумение другое: это как ты, знающая лишь три или четыре русских слова — как поживаете и до свидания, — как ты, писательница, смогла придумать все эти словесные тонкости и сымитировать ошибки в английском, которые мог сделать лишь русский? Я знаю, что склонность к перевоплощениям — ваша фамильная черта, но все же…»
Айрис ответила (с той удивительной non sequitur, которой сорок лет спустя я наделил героиню моего «Ардиса»), что все так, спору нет, я прав, она, должно быть, переусердствовала со своими беспорядочными русскими занятиями и ей следует, конечно, исправить это диковинное впечатление, попросту переписав все письмо по-французски — из которого, кстати, русский язык, как ей объяснили, перенял массу клише.
«Но дело-то не в этом, — добавила она. — Ты не понял, что главное совсем в другом: что будет дальше, я имею в виду логическое развитие? Что делать моей бедной девушке с этим занудой, с этим животным? Ей не по себе, она растеряна, она напугана. Чем завершится эта сцена — трагедией или фарсом?»
«Мусорной корзиной», — прошептал я, оставляя работу и притягивая ее за стройные бедра, чтобы усадить ее к себе на колени, как я часто делывал, благодарение Богу, в ту роковую весну 1930 года.
«Верни мне бумажонку», — попросила она вкрадчиво, пытаясь просунуть руку в карман моего халата. Я покачал головой и еще крепче прижал ее к себе.
Моя затаенная ревность взревела бы как горнило, приди мне в голову, что моя жена перестукала подлинное послание, полученное, к примеру, от одного из тех гнусноватых, немытых эмигрантских поэтишек с прилизанными, будто облитыми глазурью волосами и выразительно-водянистыми глазами, которых она встречала на русских вечерах. Однако, перечитав письмо, я решил, что она все же могла его сама написать, подпустив несколько ошибок, позаимствованных из французского языка (supplication, sans tarder), тогда как другие ошибки могли быть неосознанными отголосками воляпюка, засевшего у нее в голове во время ее занятий с русскими учителями, когда она корпела над двух- или трехъязычными упражнениями из дрянных учебников. И все, что я сделал, вместо того чтобы затеряться в чаще темных догадок, — это сохранил тонкий лист бумаги с неровными полями, так отличавшими ее машинописную манеру, в потертом, потрескавшемся кожаном портфеле, лежащем передо мной среди иных памятных вещей, иных смертей.
13
Утром 23 апреля 1930 года резкий телефонный звонок из коридора застал меня входящим в наполненную ванну.
Айвор! Он только что прибыл в Париж из Нью-Йорка на какую-то важную конференцию, будет занят до вечера, завтра уезжает и хотел бы…
Тут возникла голая Айрис и деликатно, вкрадчиво, сияя улыбкой, присвоила без умолку говорящую трубку. Минутой позже (при всех его недостатках, Айвор был милосердно-краток по телефону) она, все так же сияя, прильнула ко мне, и мы отправились в ее спальню для нашего заключительного «fairelamourir»[69], как она это называла на своем нежном и беспутном французском.
Айвор должен был зайти за нами в семь вечера. Я уже надел свой старый смокинг; Айрис бочком стояла у коридорного зеркала (самого лучшего и ясного в квартире), медленно поворачиваясь, чтобы узреть в ручном зеркальце, которое она держала на уровне головы, свой шелковисто-черный затылок.
«Если ты готов, — сказала она, — пожалуйста, купи маслин. После ужина Айвор зайдет к нам, а он любит их к своему „постбренди“».
Я спустился вниз, пересек улицу и, дрожа от холода (был сырой, безотрадный вечер), потянул дверь маленькой съестной лавки, находившейся напротив нашего дома. Шедший за мной человек придержал дверь своей крепкой рукой. На нем был плащ свободного кроя и берет; его смуглое лицо искажал тик. Я узнал лейтенанта Старова.
«Ah! — сказал он. — A whole century we did not meet!»
Его дыхание отдавало каким-то специфическим химическим запашком. Однажды я попробовал нюхнуть кокаин (отчего меня только стошнило), но это был какой-то другой наркотик.
Он стянул черную перчатку для того обстоятельного рукопожатия, каким мои соотечественники считают обязательным сопровождать любое «здрасте-досвиданья», и отпущенная дверь ударила его между лопаток.
«Pleasant meeting! — продолжил он на своем курьезном английском (не бахвалясь, как можно было бы подумать, но используя его по какой-то неосознанной ассоциации). — I see you are in smoking.[70] Banquet?»
Платя за оливки, я отвечал ему по-русски, что так и есть, ужинаем с женой в ресторане. Воспользовавшись тем, что к нему обратилась продавщица за следующей транзакцией, я уклонился от прощального рукопожатия.
«Что ты наделал! — воскликнула Айрис. — Нужно было взять черных, а не зеленых!»
Я сказал, что идти за ними отказываюсь, так как не желаю вновь столкнуться со Старовым.
«О, это прегадкий тип, — сказала она. — Можно не сомневаться, что теперь он явится к нам в гости, в надежде хлопнуть „вау-дач-ки“. Сожалею, что тебе пришлось с ним говорить».
Она кинулась отворять окно и высунулась наружу как раз в ту минуту, когда Айвор выбирался из таксомотора. Она послала ему полный воодушевления поцелуй и крикнула, иллюстративно маша руками, что мы, мол, уже спускаемся.
«Как было бы хорошо, — сказала она, когда мы торопливо сходили вниз, — если бы на тебе был оперный плащ. Мы бы оба укрылись под ним, как те сиамские близнецы из твоего рассказа. Ну же, не отставай!»
Она влетела в объятия Айвора и в следующий миг уже сидела в таксомоторе — цела и невредима.
«„Paon d’Or“, — распорядился Айвор, и автомобиль тронулся. — Рад тебя видеть, старина, — сказал он мне с явственным американским акцентом (которому я во время ужина робко пытался подражать, пока он не проворчал: „Очень смешно“)».
Ресторана «Paon d’Or» больше нет. Хотя и не особенно изысканный, но уютный и чистый, он пользовался особенным успехом среди американских туристов, называвших его «Пандер»[71] или «Пандора» и всегда спрашивавших свое «putty saw-lay»[72], что мы, надо думать, и выбрали. Куда яснее я помню стеклянный ящичек, подвешенный на украшенной золотыми завитушками стене, в котором были выставлены четыре бабочки-морфиды — две очень большие, с одинаково-резким отливом, но разной формы, и две поменьше под ними, левая — свеже-голубого цвета, с белыми полосами, а правая — мерцающая, как серебристый атлас. По словам метрдотеля, их поймал какой-то каторжник в Южной Америке.
«А как поживает моя дорогая Мата Хари?» — снова поворачиваясь к нам, спросил Айвор, чья рука с растопыренными пальцами все еще была простерта на столе, с той минуты, как он откинулся на стуле к обсуждаемым «букашкам».
Мы сообщили ему, что бедный ара захворал и его пришлось умертвить. А как его автомобиль, все еще на ходу? Он был определенно…
«К слову, — продолжила Айрис, коснувшись моего запястья, — мы решили завтра отправиться в Канницу. Жаль, Айвз, что ты не сможешь к нам присоединиться, но, может быть, приедешь позже?»
Я не стал возражать, хотя ничего не знал об этом решении.
Айвор сказал, что если мы задумаем продать виллу «Ирис», то он знает кое-кого, кто тут же с радостью приберет ее к рукам. Айрис, сказал он, его тоже знает: Давид Геллер, актер. «Я говорю (обращаясь ко мне) о ее первом ухажере, еще до того, как ты объявился. У нее, должно быть, где-то хранится та фотография, на которой мы с ним в „Троиле и Крессиде“, десять лет тому назад. Он играл Елену Троянскую, а я Крессиду».
«Врет, все врет», — шепнула Айрис.
Айвор описал свой дом в Лос-Анджелесе. Затем он предложил обсудить со мной после ужина сценарий гоголевского «Ревизора», который он хотел мне заказать (мы, так сказать, возвращались к тому, с чего начали). Айрис попросила еще порцию того блюда, что мы ели.
«Помрешь же, — сказал Айвор. — Это ужасно питательная снедь. Помнишь, как говаривала мисс Грант (их гувернантка в былое время, которой он приписывал разные гадкие изречения)? „Белые черви караулят обжору“».
«Вот почему я хочу, чтобы меня сожгли после смерти», — сказала Айрис.
Он велел принести вторую или третью бутылку посредственного белого вина, которое я из малодушной вежливости похвалил. Мы выпили за успех его последней картины — забыл название, — которую должны были завтра показывать в Лондоне, а там, как он надеялся, и в Париже.
Айвор не выглядел особенно хорошо и не казался особенно счастливым; у него теперь была порядочная веснушчатая лысина. Я никогда прежде не обращал внимания, как тяжелы его веки, как пресны и белесы его ресницы. Наши соседи, трое безобидных американцев, рослых, багроволицых, громогласных, были, возможно, не слишком милы, однако ни Айрис, ни я не сочли уместным его обещание «заткнуть этим бронксокожим дикарям рты», притом что его собственный голос звучал не менее зычно. Мне уже хотелось покончить с ужином и пойти домой пить кофе, но Айрис как будто желала насладиться каждым лакомым кусочком, каждым глотком вина. На ней было очень открытое, очень черное платье и длинные ониксовые серьги, которые я ей как-то подарил. Летнего загара на ее руках и щеках уже не осталось, и они были матово-белые — той белизной, которой я наделил — быть может, чересчур щедро — других девушек в своих будущих книгах. Блуждающий взгляд Айвора, пока он говорил, то и дело останавливался на ее голых плечах, но я простым приемом — встревая с каким-нибудь замечанием — сбивал его с этой траектории.
К счастью, испытание подошло к концу. Айрис сказала, что вернется через минуту; ее брат заметил, что нам тоже не помешало бы «устранить течь». Я отказался — не оттого, что не было нужды (нужда была), но оттого, что, как я знал по опыту, болтливый сосед и вид его струнной струи неизбежно поразят меня испускательным бессилием. Закурив, я уселся в холле ресторана и принялся обдумывать целесообразность внезапной отмены сложившегося порядка работы над «Камерой люцида» и переноса ее в другое окружение, на другой стол с иным освещением и напором внешних звуков и запахов, — и я видел, как мимо меня летят страницы романа и черновики, вроде ярких вагонных окон экспресса, проходящего через мою станцию без остановки. Я решил отговорить Айрис от ее затеи, когда она и ее брат появились в разных концах сцены, улыбаясь друг другу. Ей оставалось жить менее четверти часа.
Номеров по rue Despréaux не разглядеть, и шофер проехал наше крыльцо на два дома дальше. Он предложил сдать назад, но нетерпеливая Айрис уже вышла, и я выбрался вслед за ней, оставив Айвора расплачиваться. Она посмотрела по сторонам, затем пошла к нашему дому так скоро, что я едва нагнал ее. Не успел я взять ее за локоть, как услышал за спиной зов Айвора: ему не хватало мелочи. Оставив Айрис, я бросился назад к Айвору и когда добежал до него и шофера, двух хиромантов, мы услышали, как Айрис крикнула что-то, громко и храбро, как если бы отгоняла бешеного пса. В свете уличных фонарей мы увидели фигуру человека в макинтоше, быстрым шагом подходящего к ней с другой стороны тротуара; он выстрелил в нее с такого короткого расстояния, что, казалось, он просто проткнул ее своим большим пистолетом. К этой минуте наш шофер, следовавший за Айвором и мной, был уже достаточно близко, чтобы видеть, как убийца споткнулся об ее упавшее, сжавшееся тело. Но нет, он не пытался бежать. Вместо этого он стал на колени, стянул свой берет, расправил плечи и в этой жуткой и нелепой позе поднял пистолет к своей бритой голове.
Сообщение, появившееся в парижских газетах среди других faits-divers после завершения полицейского расследования, которое мы с Айвором запутали до крайности, сводилось к следующему, перевожу: «Русский эмигрант Владимир Благидзе, он же Старов, подверженный припадкам помешательства, в состоянии умопомрачения в пятницу вечером, посреди тихой улицы открыл беспорядочную стрельбу из пистолета и после того, как застрелил английскую туристку миссис [имя искажено], случайно оказавшуюся у него на пути, пустил себе пулю в лоб прямо у ее тела». Впрочем, он не умер там и тогда, но сохранил в своем удивительно прочном черепе остатки сознания и каким-то чудом дотянул до мая, в тот год необыкновенно жаркого. В угоду своему чрезмерному и извращенному любопытству Айвор посетил его в весьма специализированной клинике прославленного доктора Лазарева — очень круглом, безжалостно круглом строении на вершине холма, густо заросшего конским каштаном, шиповником и прочей колючей растительностью. Из отверстия в голове Благидзе совершенно улетучились воспоминания последних лет, зато пациент прекрасно помнил (если верить русскому санитару, хорошо понимавшему язык истязаемых), как его, шестилетнего, водили в увеселительный парк в Италии, где игрушечный поезд (состоявший из трех открытых вагончиков, в каждом из которых помещалось по шестеро безмолвных детей) с зеленым паровозом на электрической тяге, выпускавшим через правдоподобные промежутки клубы поддельного дыма, катил по замкнутому маршруту через живописно-кошмарные заросли ежевики, чьи ошарашенные цветы кивали в вечном согласии со всеми ужасами детства и преисподней.
Откуда-то с Оркнейских островов, уже после погребения ее мужа, в Париж приехала Надежда Гордоновна со своим компаньоном-священником. Движимая ложным чувством долга, она предприняла попытку встретиться со мной, чтобы «всё» мне рассказать. Я уклонился от всяких контактов с ней, но ей удалось залучить в Лондоне Айвора, еще не успевшего отбыть в Америку. Я никогда не спрашивал, а мой дорогой чудак Айвор никогда не открыл мне, много ли значило это ее «всё»; не желаю верить, что так уж много, — и мне, во всяком случае, известно довольно. По натуре я отнюдь не мстительный человек, и все же я люблю возвращаться мыслями к тому образу маленького зеленого поезда, катящего и катящего себе без остановки, круг за кругом, без конца.
Часть вторая
1
Некая диковинная разновидность инстинкта самосохранения побуждает нас мгновенно и безжалостно избавляться от всего того, что принадлежало потерянной нами возлюбленной. В противном случае вещи, которых она касалась каждый день, удерживая их в рамках определенного назначения, пользуясь ими, начинают набухать собственной страшной и безумной жизнью. Ее платья принимаются примеривать сами себя, ее книги листают собственные страницы. Мы стиснуты сужающимся кругом этих чудищ, не находящих себе ни места, ни покоя, — оттого что нет той, кто за ними присматривала. И даже храбрейший из нас не выдержит взгляд ее зеркала.
Как от этих вещей избавиться — это другой вопрос. Не мог же я топить их, будто котят, — собственно, я не в силах утопить котенка, не говоря уже о ее гребенке или сумочке. Не мог бы я вынести и вида постороннего человека, собирающего ее вещи, уносящего их из дома, приходящего за добавкой. Вот почему я попросту съехал с квартиры, предоставив горничной решить судьбу всех этих неугодных предметов по собственному усмотрению. Неугодных! В момент расставанья они вдруг сделались совершенно ручными и безобидными; я бы сказал даже, что они выглядели озадаченно.
Поначалу я пытался прижиться в одном из третьесортных отелей в центре Парижа. Я старался преодолеть страх и одиночество, трудясь дни напролет. Я закончил один роман, начал другой, написал сорок стихотворений (все братья-разбойники под своей пестрой шкурой), дюжину рассказов, семь эссе, три разгромные рецензии и одну пародию. Чтобы не сойти с ума в ночные часы, я принимал особенно сильнодействующее снотворное или покупал наложницу.
Помню один пугающий майский рассвет (1931 или 1932?); все птицы за окном (по большей части воробьи) стенали, как в гейневском месяце мае[73], с дьявольской монотонной натугой — вот почему я уверен, что то было одно из утр в дивном мае. Я лежал лицом к стене и на мрачно-путаный лад раздумывал, а что если нам поехать на виллу «Ирис» раньше обычного? Существовала, впрочем, одна препона, мешавшая предпринять это путешествие: автомобиль и дом были проданы, как сама Айрис и сообщила мне на протестантском кладбище, потому что властители ее веры и участи не разрешили кремацию. Я повернулся от стены к окну: Айрис лежала в постели, обращенная ко мне своим темноволосым затылком. Я сбросил с нее одеяло. На ней не было ничего, кроме черных чулок (что было странно и в то же время напоминало что-то из параллельного мира[74], поскольку мой рассудок стоял верхом на спинах двух цирковых лошадей). В качестве эротической сноски я в десятитысячный раз напомнил себе упомянуть где-нибудь, что нет ничего соблазнительней девичьей спины с профилем поднятого бедра, подчеркнутым ее положением на боку, со слегка согнутой ногой. «J’ai froid», — сказала девушка, когда я дотронулся до ее плеча.
Такие понятия, как «вероломство», «отступничество», «предательство» и тому подобные, по-русски можно передать одним парчовым, змеиным словом «измена», в основе которого лежит идея перемены или подмены. На эту этимологию я никогда раньше не обращал внимания, когда думал об Айрис, а теперь она поразила меня, как поражает разоблачение чар или превращение нимфы в шлюху — вызвав немедленный и громогласный протест. Один сосед колотил кулаком в стену, другой стучал в дверь. Испуганная девица, схватив свою сумку и мой плащ, выскочила из комнаты, а вместо нее явилась бородатая личность в фарсовом наряде — ночная рубашка и галоши. Крещендо моих криков, криков ярости и отчаяния, завершилось нервическим припадком. Кажется, было предпринято несколько попыток сплавить меня в лечебницу. Во всяком случае, мне пришлось искать новое пристанище sans tarder — выражение, которое я не могу слышать без болезненной спазмы, так как оно напоминает мне письмо ее любовника.
У меня перед глазами, наподобие пронизанной светом кисеи, маячил лоскут загородного ландшафта. Мой указательный палец пустился блуждать наугад по карте северной части Франции. Острие ногтя замерло на городке под названием не то Petiver, не то Petit Ver — червячок ли, стишок ли[75], и то и другое звучало идиллически. Автобус довез меня до шоссейной станции поблизости, если не ошибаюсь, от Орлеана. Все, что у меня сохранилось в памяти от той моей обители, — это ее странно-покатый пол, уклон которого отражался в скошенности потолка кафе, находившегося под моей комнатой. Помню еще бледно-зеленых тонов парк в восточной оконечности города и старую крепость. Лето, проведенное там, — только цветное пятнышко на тусклом стекле моего рассудка; но я сочинил несколько стихотворений, по меньшей мере одно из которых, о группе акробатов, устроивших представление на церковной площади[76], перепечатывалось множество раз в продолжение сорока лет.
Вернувшись в Париж, я узнал, что мой добрый друг, Степан Иванович Степанов, известный журналист[77] и человек состоятельный (он был одним из тех очень немногих русских счастливцев, которые уехали из России и перевели свои средства за границу еще до большевицкого переворота), не только организовал мое второе или третье публичное чтение (так называемый вечер), но и настаивал на том, чтобы я занял одну из десяти комнат в его просторном старомодном доме (улица Кош? Рош[78]? Особняк упирается или упирался в статую какого-то генерала, имя которого ускользает из памяти, но наверняка где-нибудь отмечено в моих старых записных книжках).
В доме жили в то время сами старики Степановы, их замужняя дочь баронесса Борг, ее одиннадцатилетняя дочь (барон-коммерсант по делам фирмы находился в Лондоне) и Григорий Райх (1899–1942?), мягкий, печальный, худощавый молодой поэт, лишенный даже проблеска таланта, печатавший под псевдонимом Лунин в «Новостях» по элегии в неделю[79] и служивший у Степанова секретарем.
Я не мог не спускаться вниз по вечерам и уклоняться от частых посиделок с разными литературными и политическими персонажами в богато украшенном салоне или обеденном зале с огромным овальным столом и портретом en pied юного сына Степановых, который погиб в 1920 году, спасая тонущего школьного товарища. К Степановым нередко захаживал близорукий, грубовато-жовиальный Александр Керенский, бесцеремонно наставлявший свой лорнет[80] на нового человека и встречавший старого знакомого готовой колкостью тем скрежещущим голосом, мощь которого давным-давно пропала в реве революции. Бывал и Иван Шипоградов, маститый романист и свежеиспеченный нобелевский лауреат, излучавший талант и обаяние, а после нескольких рюмок водки угощавший своих закадычных друзей определенного сорта похабной побасенкой, весь артистизм которой держится на деревенской смачности и любовной почтительности, с какой в ней упоминаются наши срамные органы. Куда менее располагающей к себе персоной был старый соперник И. А. Шипоградова Василий Соколовский, хрупкий маленький человек в мешковатом костюме (странно прозванный И. А. «Иеремией»), с начала столетия выдававший том за томом мистико-социальную эпопею об украинском клане, в истоках которого, уходивших в XVI век, была бедная семья из трех человек, расплодившаяся к шестому тому (1920) до целой деревни, богатой мифологией и фольклором[81]. Приятно было видеть старого знакомого Морозова, с его грубо вылепленным умным лицом, запущенной шевелюрой и яркими ледяными глазами;[82] и по причинам особого рода я пристально наблюдал за приземистым угрюмым Василевским — не только оттого, что он только что поцапался или собирался поцапаться со своей юной любовницей, по-кошачьи грациозной красавицей, писавшей чушь собачью в стихах и вульгарно заигрывавшей со мной, но оттого, что я полагал, что он уже попался на крючок, заброшенный мною в последнем номере литературного обозрения, в котором мы оба печатались. Хотя его английского было недовольно для того, чтобы перевести, скажем, Китса (которого он определял как «эстета довайльдовского периода в начале индустриальной эры»), Василевский с жаром предавался этому занятию. Обсуждая как-то «не такую уж отталкивающую изысканность» моих сочинений, он имел неосторожность привести известную строку Китса, передав ее следующим образом: «Всегда нас радует красивая вещица»[83] (что в обратном переводе дает нам: «A pretty bauble always gladdens us»). Наш разговор, к сожалению, оказался слишком коротким, чтобы я успел выведать, оценил ли он или нет преподанный ему занятный урок. Он спросил, что я думаю о новой книге, о которой он рассказал Морозову (монолингвисту), а именно о «впечатляющем труде Моруа о Байроне», и, когда я ответил, что нахожу эту книгу впечатляюще бездарной, мой непреклонный критик пробормотал: «Полагаю, вы ее даже не читали» — и продолжил поучать тишайшего пожилого поэта.
Я предпочитал тишком уходить к себе наверх задолго до окончания этих званых вечеров. Звуки прощальной суматохи достигали меня обычно, когда я погружался в бессонницу.
Большую часть дня я проводил за работой, уютно устроившись в глубоком кресле, с орудиями моего ремесла, удобно разложенными передо мной на специальной писчей доске, которой меня снабдил хозяин, большой любитель толковых приспособлений. После постигшей меня утраты я почему-то начал прибавлять в весе, и теперь мне нужно было сделать два или три рывка враскачку, чтобы покинуть свое чересчур гостеприимное вместилище. Только одна маленькая особа посещала меня; для нее я держал свою дверь приоткрытой. Передняя сторона доски была предусмотрительно изогнута, предоставляя углубление для авторского брюшка, а противоположная сторона была оборудована разного рода зажимами и резинками, чтобы удерживать листы бумаги и карандаши на месте; я так свыкся с этими удобствами, что неблагодарно сетовал на отсутствие сосуда для естественных отправлений, вроде тех полых тростей, что, как говорят, были в ходу на Востоке.
Ежедневно, после обеда, в одно и то же время моя приоткрытая дверь бесшумно распахивалась и внучка Степановых вносила поднос с большим стаканом крепкого чаю и тарелкой аскетичных галет. Опустив ресницы, она тихо продвигалась вперед, осмотрительно переставляя ступни — в белых носочках и голубых мокасинах; если чай в стакане начинал опасно плескаться, она замирала и затем вновь медленно начинала продвигаться вперед шажками заводной куклы. У нее были соломенные волосы и веснушчатый нос, и я подобрал для нее клетчатое платье с глянцевитым черным пояском, когда продлил ее таинственное продвижение прямо в роман, над которым я тогда работал, — «Красный цилиндр», — где она превратилась в грациозную маленькую Эми, сомнительную спасительницу приговоренного к казни героя.
То были дивные, о, дивные интерлюдии! Внизу, в гостиной, баронесса и ее матушка играли à quatre mains, как они, должно быть, музицировали, снова и снова, все последние пятнадцать лет. У меня имелась коробка покрытых шоколадом бисквитов — в дополнение к галетам и для соблазнения моей маленькой гостьи. Доска отодвигалась в сторону и замещалась ее сложенными членами. Она говорила по-русски совершенно свободно, хотя и с парижскими восклицаниями и вопрошаниями, и эти птичьи нотки придавали что-то странное тем отзывам, что я получал на свои обычные вопросы, какие задаются детям (а она тем временем качала ногой и откусывала бисквит); и затем, без всякой на то причины, посреди нашей болтовни, она вдруг выскальзывала у меня из рук и бросалась к двери, как если бы ее кто-нибудь позвал, хотя фортепиано продолжало, все так же спотыкаясь, тащиться дальше и дальше по своей избитой колее семейного счастья, к которому я не имел никакого отношения и которого я, собственно, так никогда и не изведал.
Предполагалось, что я проведу у Степановых пару недель; я задержался на два месяца. Поначалу я чувствовал себя сравнительно неплохо, во всяком случае, мне было покойно, я оживал, но те новые снотворные пилюли, что так волшебно действовали на первой, обманно-завлекательной стадии, понемногу стали давать сбой, отказываясь справляться с определенного рода желаниями, которым, как оказалось впоследствии, в невероятном продолжении истории, мне следовало мужественно поддаться, осуществив их любыми средствами; вместо этого я воспользовался отъездом Долли в Англию, чтобы подыскать для своего жалкого остова новое пристанище. Им стала совмещенная гостиная и спальня в запущенном, но тихом доходном доме на левом берегу, «угол rue St. Supplice», как со зловещей неточностью сообщает моя карманная записная книжка[84]. В подобии античного чулана помещался доисторический душ; других удобств не было. Две-три вылазки в день наружу — за едой, чашкой кофе или экстравагантной покупкой в лавке деликатесов — вносили в мою жизнь некоторое разнообразие. В соседнем квартале я нашел кинематограф, отдававший предпочтение старым ковбойским фильмам, и тесный бордельчик с четырьмя шлюхами на выбор — от восемнадцати до тридцати восьми лет, самая молодая была и самой невзрачной.
В Париже мне предстояло провести много зим, я был привязан к этому мрачному городу теми нитями, что обеспечивают русскому писателю существование. Ни тогда, ни теперь, по прошествии лет, не находил я и не нахожу в нем никакого особого очарования, которым так пленялись мои соотечественники. Дело не в пятне крови на чернейшем булыжнике темнейшей из его улиц — это hors-concours по части трагического, — я только хочу сказать, что принимал Париж, с его в сизый тон окрашенными днями и грифельными ночами, всего лишь как случайные декорации для самых чистых и истинных радостей моей жизни: радужная фраза у меня в голове, пока иду под моросящим дождем, белая страница в световом кругу лампы, ждущая меня в моем убогом доме.
2
С 1925 года я сочинил и выпустил в свет четыре романа; к началу 1934-го я был близок к завершению пятого, «Красного цилиндра», — история о том, как отрубили голову. Ни одна из этих книг не превышала в количественном выражении девяноста тысяч слов, однако мой способ их отбора и соединения трудно было назвать экономным в отношении затраченного времени.
Первый черновик, написанный карандашом, заполнял несколько голубых школьных cahiers и по мере достижения стадии полного насыщения правками являл собой хаос подчисток и крючков. Этому хаосу отвечала беспорядочность текста, длившегося обычным связным манером только несколько страниц, после чего его прерывал какой-нибудь порядочный ломоть прозы, относящийся к другой, последующей или предыдущей части романа. Приведя все в порядок и заново пронумеровав страницы, я принимался за следующую стадию — чистовик. Он любовно записывался вечным пером в толстую прошитую тетрадь или гроссбух. Затем в оргии новых поправок мало-помалу вытравливалась вся роскошь обманчивого совершенства. Третья стадия начиналась там, где кончалась удобочитаемость. Тыча нерасторопными негнущимися пальцами в клавиши видавшей виды верной машинки, свадебный дар графа Старова, я за час успевал настукать около трехсот слов — вместо округлой тысячи, которую простым пером успевал втиснуть в те же шестьдесят минут какой-нибудь модный беллетрист прошлого века.
Впрочем, ко времени «Красного цилиндра» невралгические боли, последние три года пробиравшиеся по моему костяку подобно отдельному внутреннему страдальцу — сплошь крючья да клещи, — добрались до моих конечностей, превратив ремесло печатанья в счастливую невозможность. Если отказаться от любимой снеди, вроде foie gras и шотландского виски, и отложить сооружение нового костюма, то мой скромный доход, прикидывал я, позволит мне нанять профессиональную машинистку, которой я смог бы надиктовать исправленный текст за, предположим, тридцать тщательно спланированных послеобеденных сеансов. Рассудив так, я поместил в «Новостях» броское «Срочно» с указанием имени и номера телефона.
Из трех или четырех машинисток, откликнувшихся на мой зов, я выбрал Любовь Серафимовну Савич, внучку деревенского священника и дочь известного социал-революционера, недавно скончавшегося в Мёдоне вскоре после завершения жизнеописания Александра Первого (нудный труд в двух томах под названием «Монарх и мистик», с недавних пор доступный американским студентам в посредственном переводе, Гарвард, 1970).
Люба Савич приступила к своим обязанностям 1 февраля 1934 года. Она приходила так часто, как требовалось, и готова была трудиться сколько угодно часов подряд (рекорд, установленный ею в один особенно памятный день, — от часу дня до восьми вечера). Если бы проводился конкурс «Мисс Россия»[85] и если бы возраст участниц был повышен до «почти тридцать», красавица-Люба стала бы победительницей. Это была высокая женщина с узкими лодыжками, налитыми грудями, широкими плечами и ярко-голубыми глазами на круглом румяном лице. Ее золотисто-каштановые волосы, должно быть, всегда пребывали в смятении, поскольку она, говоря со мной, то и дело приглаживала их боковую волну, грациозно поднимая локоть. Здрасте и еще раз здрасте, Любовь Серафимовна, — и, ах, что за восхитительная амальгама была в этом сочетании любви и серафима — имени ее раскаявшегося батюшки-террориста![86]
Машинисткой Л. С. была идеальной. Не успевал я, прохаживаясь взад и вперед по комнате, продиктовать предложение, как оно ложилось в ее борозду, подобно горсти семян, и она приподымала бровь, косясь на меня в ожидании следующей россыпи. Если в разгар сеанса мне на ум приходило какое-нибудь неожиданное улучшение в тексте, я предпочитал не нарушать восхитительно отлаженного ритма нашей совместной работы мучительной паузой, потребной для подбора верного слова, — тем более изнуряющей и бесплодной из-за осознания застенчивым автором того обстоятельства, что умнице за ожидающим ремингтоном не терпится прийти на помощь с подсказкой; посему я ограничивался тем, что помечал пассаж в рукописи «птичкой», чтобы потом осквернить ее безупречное творение своими каракулями; впрочем, она, конечно, была только счастлива перепечатать на досуге страницу.
Около четырех или четырех тридцати, если мне не удавалось сразу осадить всхрапывающего пегаса, мы делали десятиминутный перерыв. Она на минутку уходила в мою скромную уборную в конце коридора, прикрывая за собой одну дверь за другой с поистине неземной нежностью, и так же бесшумно возвращалась с наново припудренным носом и подкрашенной улыбкой, а у меня уже было готово для нее угощение: стакан vin ordinaire и розовые гофреты. В эти невинные антракты и наметилось определенное тематическое развитие событий, предложенное самой судьбой.
Хотел бы я кое-что узнать? (Долгий глоток, язычок облизывает губы.) Так вот, она присутствовала на всех моих пяти литературных вечерах, начиная с самого первого, 3 сентября 1928 года в Salle Planiol. Так хлопала, что ладони (показывает ладошки) горели. Дала себе слово в следующий раз быть побойчее, набраться смелости и, протиснувшись сквозь толпу (именно толпу, не стоит усмехаться), подойти ко мне с твердым намерением взять меня за руку и выразить всю душу в одном слове — которого она, впрочем, никогда не могла подыскать и потому неизменно оставалась в одиночестве, улыбаясь, как дура, посреди пустого зала. Не стану ли я презирать ее за то, что она завела альбом, куда вклеивает рецензии на мои книги — отличные статьи Морозова и Яблокова[87] и прегадкие таких писак, как Борис Ниет и Боярский? А знаю ли я, что это она положила тот самый таинственный букетик ирисов на плиту, под которой четыре года тому назад погребли урну с прахом моей жены? Мог ли я предполагать, что она знает наизусть каждое из моих стихотворений, напечатанных в эмигрантских газетах и журналах в полудюжине стран? Или что она помнит тысячи разных волшебных деталей, рассыпанных на страницах моих романов, как, например, кряк дикой утки (в «Тамаре»), «что до конца жизни будет отдавать во рту вкусом черного хлеба, которым делился с утками в детстве» или шахматы («Пешка берет королеву») с потерянным слоном, «замещенным какой-то фишкой, маленькой сироткой из другой, неизвестной игры»?
Все это очень искусно подпускалось в продолжение нескольких сеансов, и к концу февраля, когда текст «Красного цилиндра», безупречно отпечатанный экземпляр, вложенный в объемистый конверт, был передан из рук (вновь ее) в руки редактору «Patria»[88] (ведущий русский журнал в Париже), я почувствовал себя опутанным липкой паутиной.
Я не только ни разу не испытал даже призрачного проблеска желания по отношению к красавице-Любе, но безразличие моих чувств положительно клонилось к отвращению. Чем нежнее трепетали ее ресницы, тем менее джентльменским становился мой отклик. Сама утонченность ее была лишь следствием изысканной пошлости, отравлявшей всю ее личность сладостью распада. С нарастающим раздражением я начал отмечать такие жалкие вещи, как, например, ее аромат, весьма почтенные духи (кажется, «Adoration»), в меру сил укрывающие природный запах русской девы, изредка омывающей тело: с час или около того «Adoration» еще сдерживали натиск, но потом налеты из подполья становились все чаще и чаще, и когда она поднимала руки, чтобы надеть шляпку… да, впрочем, Бог с ней, она была, в сущности, невинным созданием и теперь, надеюсь, счастливо нянчится с внуками.[89]
Я был бы негодяем, ежели бы описал нашу последнюю встречу (1 марта того же года). Довольно будет сказать, что, печатая мой рифмованный перевод «Оды к осени» Китса («Пора туманов и плодоношенья»), она расплакалась и по меньшей мере до восьми часов вечера мучила меня признаньями и слезами. Когда она наконец ушла, я потратил еще целый час, составляя во взвешенных выражениях письмо к ней с просьбой больше не приходить. То был, к слову, единственный случай, когда она оставила в моей машинке неоконченную страницу. Я выдернул ее, а несколькими неделями позже вновь на нее наткнулся среди своих бумаг и тогда уже намеренно сохранил, поскольку доделывала ее Аннетта (с парой опечаток и Х-образных вымарок в последних строках), и что-то в этом контрастном наложении задело мою комбинационную струнку.
3
В настоящих мемуарах мои жены и мои книги сплетаются в монограмму наподобие определенного типа водяных знаков или экслибрисов, и, сочиняя эту окольную автобиографию — окольную, говорю я, поскольку она имеет дело не столько с прозой истории, сколько с миражами воображения и литературы, — я неукоснительно стараюсь проследить (притом настолько непринужденно, насколько это в нечеловеческих силах) за всеми стадиями моей душевной болезни. Увы, Дементия — одна из героинь моего романа.
К середине тридцатых годов в моем состоянии почти ничего не изменилось по сравнению с ужасными страданиями первой половины 1922 года. Мое противоборство с наличествующей, общепринятой реальностью все так же выражалось в стремительно накатывающих галлюцинациях, внезапных перестановках — калейдоскопических, витражных перестановках! — расколотого в куски пространства. Я по-прежнему ощущал, как Притяжение, эта дьявольская и унизительная дань нашему материальному миру, прорастает в меня, словно чудовищный ножной ноготь, остриями и клиньями невыносимой боли (необъяснимой счастливому простаку, который не видит ничего фантастического и умопомрачительного в бегстве карандаша или гроша под что-нибудь — под стол, за которым проводишь жизнь, под кровать, на которой встречаешь смерть). Я все еще не мог совладать с абстракциями пространственных направлений, так что всякий данный отрезок мира был либо вечно «правосторонним», либо вечно «левосторонним», и в лучшем случае один мог быть неистовым усилием воли замещен другим. О, как же терзали меня вещи и люди, любовь моя, я и сказать тебе не могу! Собственно, тебя-то еще и на свете не было.
Как-то в середине тридцатых годов, в черном проклятом Париже, я, помнится, навестил одну свою дальнюю родственницу (племянницу «Арлекиновой» дамы!). То была милая пожилая эмигрантка. Весь день она проводила в кресле с прямой спинкой, подвергаемая непрестанным нападкам трех, четырех и больше слабоумных детей, находившихся под ее присмотром (платил ей Союз помощи нуждающимся русским дворянкам)[90], пока их родители трудились в местах, которые не были такими уж безнадежными и унылыми сами по себе, сколько становились таковыми по достижении их публичным транспортом. Я сидел у ее ног на истертом пуфе. Ее речь текла и текла, плавно, беспечно, отражая картины ясных полудней, покоя, здоровья, достатка. И все время, пока она говорила, тот или этот несчастный уродец, слюнявый и косоглазый, норовил подкрасться к ней, прячась за ширмой или под столом, и покачнуть ее кресло или ухватить ее за подол юбки. Когда визг становился слишком громок, она только слегка морщилась, что почти не искажало ее воспоминательной улыбки. Под рукой она держала что-то вроде мухобойки и ею поминутно взмахивала, отгоняя особенно дерзкого забияку; но все это время, все время не прекращалось журчание ее монолога, и я понимал, что мне тоже надлежит игнорировать грубую возню и гвалт вокруг нее.
Смею утверждать, что моя жизнь, моя участь, звучание моих слов — единственная моя отрада — и тайная борьба с ложным порядком вещей полагают некоторую аналогию к тяготам той бедной дамы. И, заметь, то были лучшие дни моей жизни, когда приходилось усмирять всего-то свору мерзко кривлявшейся нечисти.
Жар, мощь, ясность моего искусства оставались невредимы — во всяком случае, до известной меры. Я наслаждался, я убеждал себя наслаждаться одиночеством труда и тем другим, еще более острым одиночеством, которое автор испытывает, когда стоит за ярким щитом своей рукописи перед бесформенной публикой, едва различимой в темной зале.
Клубок пространственных препон, отделявших мою прикроватную лампу от освещенного островка ораторского пюпитра, распутывался волшебством моих заботливых друзей, помогавших мне достичь тот или другой отдаленный зал так, чтобы мне не пришлось возиться с узкими, тонкими, липкими лентами автобусных билетов или погружаться в громовой лабиринт Métro. Как только я благополучно утверждался за кафедрой со своими рукописными или отпечатанными листами, разложенными передо мной на уровне солнечного сплетения, я совершенно забывал о присутствии трех сотен обращенных в слух лазутчиков. Графин разбавленной водки, мой единственный лекторский каприз, был также единственной моей связью с материальным миром. Подобно солнечному блику на величавом челе какого-нибудь вдохновенного священника, означающему, что он запечатлен художником в момент божественного откровения, сияние, облекавшее меня, с непогрешимой точностью выявляло все недостатки произведения. Мемуарист отмечает, что я не только порой замедлял чтение, отщелкивая тем временем перо и заменяя запятую на точку с запятой, но был также известен тем, что вовсе замолкал, нахмурившись над фразой, и перечитывал ее, вычеркивал, правил, и «вновь читал весь пассаж с каким-то вызывающим самодовольством».
Мои чистовики написаны разборчиво, но я чувствую себя спокойнее, когда передо мной отпечатанный текст, а толковой машинистки у меня опять не было. Помещать тот же призыв в ту же газету было бы верхом безрассудства: что, если он сызнова приведет ко мне Любу, окрыленную новой надеждой, и чертова катушка начнет вращаться сначала?
Я позвонил Степанову, полагая, что он может помочь. Он полагал так же, и после приглушенного совещания со своей щепетильной женой на самой кромке мембраны (все, что я смог уловить, было: «сумасшедшие непредсказуемы») она взяла дело в свои руки. Они знали одну очень порядочную молодую женщину, работавшую в русском детском саду «Пасси на Руси»[91], в который их Долли ходила еще четыре-пять лет тому назад. Это Анна Ивановна Благово. Знаком ли я с Оксманом, у которого русская книжная лавка на улице Кювье?
«Да, немного. Но я хотел бы знать —»
«Так вот, — продолжила она, перебивая меня, — Аннетточка секретарствовала у него, пока его постоянная машинистка лежала в госпитале, но теперь та совершенно поправилась, и вы можете…»
«Все это замечательно, — сказал я, — но я хочу знать, Берта Абрамовна, почему вы назвали меня „непредсказуемым сумасшедшим“? Должен вас заверить, что у меня нет привычки насиловать девиц…»
«Господь с вами, голубчик!» — воскликнула госпожа Степанова и принялась объяснять, что это она отчитывала своего рассеянного мужа, усевшегося на ее новый ридикюль, подходя к телефону.
Не поверив ни единому слову в этом объяснении (как шустро! как ловко!), я все же сделал вид, будто удовлетворен им, и пообещал заглянуть к ее книгопродавцу. Несколько минут спустя, когда я уже хотел было открыть окно и, стоя перед ним, начать раздеваться (в минуты особенно сильно саднящего вдовства весенняя ночь, мягкая, черная, есть самая ублажительная voyeuse, о какой только можно мечтать), позвонила Берта Степанова и сказала, что быкочеловек (как дрожала от страха моя Айрис, читая об островном зверинце доктора Моро — особенно те сцены, где, например, «воющая фигура», еще наполовину забинтованная, убегает из лаборатории!)[92] до утра будет сидеть в своей лавке над воплощенным кошмаром бухгалтерских книг. Она-то знает, хе-хе (русский смешок), что я полуночник, так что, возможно, захочу пойти к нему в лавку «Боян» sans tarder, не медля, гнусный оборот. Захочу, отчего нет.
После этого неприятного телефонного разговора мне ничего не оставалось, как выбирать между метаньями бессонницы и прогулкой до улицы Кювье, что ведет прямо к Сене, где, согласно полицейской статистике, в межвоенное время ежегодно топилось в среднем около сорока иностранцев и Бог знает сколько еще несчастных туземцев. Я никогда не испытывал ни малейшего побуждения покончить с собой — это глупейшая трата личности, драгоценной при любом освещении, но должен отметить, что в ту самую ночь, в четвертую, или пятую, или в пятидесятую годовщину смерти моей любимой, я, должно быть, выглядел весьма подозрительно, в своем черном костюме и театральном шарфе, на взгляд среднестатистического полицейского из берегового участка. Особенно плохой знак, когда человек с непокрытой головой всхлипывает на ходу, тронутый не строками, которые он мог сам сочинить, но чем-то, что он по ужасной оплошности принял за свое, и вот вздрагивает, все еще слишком робкий, малодушный, чтобы искупить вину:
Звездообразность небесных звезд Видишь только сквозь слезы…Конечно, теперь я куда смелей, смелей и тверже, чем тот изверившийся тип, схваченный в ту ночь идущим между на вид бесконечным забором в лохмотьях афиш и рядом отстоящих уличных фонарей, с большим вкусом выбравших для своей щемящей сердце игры над мостовой молодой изумрудно-яркий липовый лист. Теперь я признаюсь, что в ту ночь, и в следующую и еще раньше, меня донимало неясное сознание того, что моя жизнь — это непохожий двойник, пародия, неудачная версия жизни другого человека, в этом или ином каком-то мире. Мне казалось, что некий злой дух побуждает меня подражать этому другому человеку, другому писателю, который был и будет всегда несравнимо значительней, здоровее и беспощаднее, чем ваш покорный слуга.
4
Издательство «Боян» (мы с Морозовым печатались в «Медном всаднике»[93], главном его конкуренте), с собственным книжным магазином (предлагавшим не только эмигрантские книги, но и советские тракторные романы) и библиотекой, в которой разрешалось брать книги домой, размещалось в фасонистом трехэтажном здании из разряда hôtel particulier. В мое время он находился между гаражом и кинематографом, за сорок лет до того, в порядке обратной метаморфозы, на месте первого был фонтан, а на месте второго — группа каменных нимф. Этот дом, принадлежавший семье Merlin de Malaune[94], в начале века приобрел русский космополит Дмитрий де Мидов, устроивший в нем со своим другом С. И. Степановым штаб-квартиру тайной антидеспотической организации[95]. Последний любил вспоминать язык знаков, которым пользовались в прежние времена бунтовщики: приспущенная занавесь и алебастровая ваза в окне гостиной указывали ожидавшемуся гостю из России, что путь открыт. Революционные заговоры в те времена украшал налет театральности. Мидов умер вскоре после окончания Первой мировой войны, и к тому времени партия террористов, в которой состояли эти милые люди, утратила, говоря словами Степанова, свою «стилистическую привлекательность». Не знаю, к кому впоследствии перешел особняк и как так вышло, что Окс[96] (Осип Львович Оксман, 1885?–1943?) снял его под свои коммерческие начинания.
Дом был темен, за исключением трех окон: двух смежных прямоугольников света в середине верхнего ряда, d8 и e8, по континентальной системе (где буквы указывают вертикаль, а цифры — горизонталь шахматного квадрата), и еще одной клетки на ряд ниже — e7. Бог мой, не забыл ли я захватить с собой наспех нацарапанную записку к неизвестной мадемуазель Благово? Нет, она при мне, в нагрудном кармане под старым, любимым, ужасно теплым и длинным шарфом Тринити-колледжа[97]. Поколебавшись между боковой дверью справа, с вывеской «Магазин», и парадной дверью с шахматной короной над кнопкой звонка, я выбрал корону. Мы играли блиц: противник мгновенно ответил, засветив на d6 полукруглое окно вестибюля. Невольно в голове возникала мысль, а нет ли под домом еще пяти этажей, завершающих шахматную доску, и не сидят ли где-то в секретном подполье новые заговорщики, работающие над тем, чтобы сокрушить еще худшую тиранию?
Окс, высокий, костлявый пожилой человек с шекспировским черепом, немедленно заговорил о том, какая честь для него принимать автора «Камеры…», — тут я сунул свою записку прямо в его протянутую руку и сделал попытку ретироваться. Истеричные художники не были ему в новинку. Ни один не мог устоять перед его вкрадчиво-отеческими манерами мудрого книжника.
«Да, мне все известно, — сказал он, удерживая и слегка поглаживая мою руку. — Она телефонирует вам, хотя, говоря начистоту, не завидую я тому, кто будет иметь дело с этой взбалмошной, витающей в облаках молодой особой. Поднимемся ко мне в кабинет, или вы предпочитаете… нет, не думаю», — говорил он, открывая влево двойные двери и зажигая как бы в нерешительности люстру, на мгновение осветив холодный читальный зал с длинным, покрытым сукном столом, истертыми стульями и дешевыми бюстиками русских классиков — обстановка, никак не соответствовавшая очаровательно расписанному потолку с тесной стайкой обнаженных детей среди лиловых, розовых и янтарных гроздей винограда. Направо (вновь на пробу зажегся свет) был короткий проход в магазин, где, как мне вспомнилось, я однажды повздорил с нахальной старухой, отказавшейся выдать мне даром несколько экземпляров моего собственного романа. Затем мы начали подниматься наверх по величественной когда-то лестнице, имевшей теперь довольно странный вид, с чем-то таким, что редко попадается даже в иллюстрированных венских сонниках: а именно совершенно разные перила. С левой стороны шли новые — уродливые крутые поручни, а с правой — изначальные: узорная конструкция из поцарапанного, обреченного, но все еще радующего глаз резного дерева с опорами в форме огромных шахматных фигур.
«Для меня большая честь», — вновь начал Окс, вводя меня в свой так называемый кабинет на е7, комнату, заставленную бухгалтерскими книгами, упакованными и частично распакованными книжными бандеролями, стопками книг, кипами газет, брошюр, гранок и тонких стихотворных сборничков в белых бумажных обложках — трагические отбросы со скованными безжизненными заглавиями, бывшими тогда в моде: «Прохлада», «Сдержанность»[98].
Он был из тех людей, которых почему-то часто перебивают, но которым никакая сила в нашей благословенной галактике не помешает закончить фразу, несмотря на новые и новые препятствия стихийного или стихотворного рода — смерть собеседника («Я как раз говорил ему, доктор…») или вторжение дракона. Сдается мне, что такие перебивки только помогают им отшлифовать предложение и придать ему законченный вид; вместе с тем невыносимый зуд их незавершенности отравляет им рассудок. Это будет похуже наливного прыща, что нельзя выплеснуть, пока не доберешься до дома, и почти так же скверно, как воспоминание пожизненного заключенного о том последнем маленьком насилии, прерванном в самый сладостный миг вмешательством проклятого полицейского.
«Для меня большая честь, — закончил наконец Окс, — принимать в этом историческом здании автора „Камеры обскура“, вашей лучшей книги, по моему скромному мнению!»
«Еще бы не быть ему скромным, — сказал я, держа себя в руках (опаловый лед Непала перед обвалом), — ведь мой роман, кретин вы этакий, называется „Камера люцида“»[99].
«Будет, будет вам, — сказал Окс (человек, по правде сказать, весьма уважаемый и джентльмен) после ужасной паузы, во время которой все нераспроданные книжные остатки распустились, как сказочные цветы в кинематографической феерии. — Обмолвка не заслуживает столь резкого порицания. Люцида, люцида, разумеется! A propos, относительно Анны Благово (вторая часть недосказанного или, быть может, трогательная попытка отвлечь и успокоить меня забавной историей), вы, наверное, не знаете, что я прихожусь Берте двоюродным братом. Тридцать пять лет тому назад в Петербурге мы вместе состояли в одной студенческой организации. Готовили покушение на премьер-министра. Как все это было давно! Требовалось детально изучить его ежедневный маршрут; я был одним из наблюдателей. Всякий день стоял на определенном углу, изображая продавца ванильного мороженого! Представляете? Ничего у нас не вышло. Все испортил Азеф, знаменитый двойной агент»[100].
Задерживаться долее не имело смысла, но он достал бутылку коньяку, и я согласился выпить, поскольку меня опять начало трясти.
«Ваша „Камера“, — сказал он, справляясь с учетной книгой, — не так уж плохо расходится в моем магазине, совсем не плохо: двадцать три, точнее, двадцать пять экземпляров за первую половину прошлого года и четырнадцать за вторую. Конечно, о подлинной славе, а не просто о коммерческом успехе, следует судить по поведению книги в библиотеке, а там все ваши романы нарасхват. Чтобы удостовериться в этом, давайте-ка поднимемся в хранилище».
Я последовал за моим энергичным хозяином на верхний этаж. Библиотека раскинулась, словно гигантский паук, она разрослась, будто чудовищная опухоль, угнетала сознание, как ширящаяся вселенная огневицы. В ярком оазисе среди смутных стеллажей я заметил группу людей за овальным столом. Краски были вполне правдоподобные и отчетливые, но в то же время какие-то далекие, как на картинке в волшебном фонаре[101]. В оживленной дискуссии участники то и дело апеллировали к красному вину и золотистому бренди. Я узнал критика Василевского, его подхалимов Христова и Боярского, моего друга Морозова, романистов Шипоградова и Соколовского, почтенное ничтожество Сукновалова[102], автора популярной социальной сатиры «Герой нашей эры», и еще двух молодых поэтов, Лазарева (сборник «Спокойствие») и Фартука (сборник «Молчание»). Несколько голов повернулось к нам, а доброжелательный медведь Морозов даже слегка привстал, оскалившись, но мой провожатый сказал, что тут у них деловой разговор и мешать им не стоит.
«Вы только что подсмотрели, — добавил он, — процесс рождения нового литературного журнала „Простые числа“[103], по крайней мере они так полагают, что рождают, а на деле пьянствуют и злословят. Теперь позвольте-ка вам кое-что показать».
Он отвел меня в дальний угол и победоносно навел свой фонарь на проймы в полках с моими книгами.
«Взгляните, — вскричал он, — сколько книг отсутствует! Все экземпляры „Княжны Мери“, то есть „Машеньки“, — тьфу, я хотел сказать „Тамары“. Обожаю „Тамару“, вашу „Тамару“, а не Лермонтова или Рубинштейна. Простите, немудрено запутаться среди стольких шедевров, пропади они пропадом».
Я сказал, что мне нехорошо, что я лучше пойду домой. Он предложил проводить меня. Или, может быть, я предпочитаю взять таксомотор? Нет, не предпочитаю. Он украдкой направлял на меня электрический фонарь, держа его своими алеющими пальцами, чтобы убедиться, что я не собираюсь грохнуться в обморок. Увещевательно бормоча, он провел меня по черной лестнице вниз. Весенняя ночь, по крайней мере, казалась настоящей.
Потоптавшись немного и поглядев на освещенные окна, Окс подозвал ночного сторожа, гладившего грустного маленького пса соседа-собачника. Я видел, как мой участливый компаньон пожимает руку старику в сером плаще, затем указывает на свет у бражников, затем справляется с часами, затем сует человеку мелочь и жмет ему руку на прощание, как если бы десятиминутная прогулка к моему дому была бы опасным паломничеством.
«Bon, — сказал он, воссоединяясь со мной, — если не хотите в таксомоторе, двинемся пешком. Этот человек присмотрит за моими плененными гостями. О, сколько всего я хочу выспросить у вас о вашей работе и жизни! Ваши confrères говорят о вас: „всегда нахмурен, молчалив“, как Онегин описывает себя Татьяне, но не всем же быть Ленскими, не так ли? Позвольте мне воспользоваться этой приятной прогулкой, чтобы восстановить в памяти те два случая, когда я видел вашего знаменитого батюшку. Первый имел место в опере, во дни Булыгинской думы. Мне, конечно, были известны портреты ее самых видных членов. С верхних ярусов райка я, бедный студент, смотрел, как он вошел в розовую ложу вместе с женой и двумя мальчуганами, одним из которых, надо думать, были вы. Во второй раз это было на публичном диспуте по политическим вопросам в раннюю, подобно утренней Авроре, пору революции. Он выступал сразу после Керенского, и контраст между речью нашего пламенного товарища и вашим отцом, с его английским sangfroid и отсутствием жестикуляции…»
«Мой отец, — сказал я, — умер за шесть месяцев до моего рождения».
«Что ж, значит, опять оскандалился, — заключил Окс после того, как в продолжение целой минуты искал свой платок, затем сморкался в него с важной обстоятельностью Варламова в роли гоголевского Городничего[104], сворачивал добытый результат и упрятывал сверточек в карман. — Увы, не везет мне с вами. Хотя этот образ крепко отпечатался у меня в памяти. Контраст был действительно примечательный».
В последующие, быстро тающие предвоенные годы я еще по меньшей мере три или четыре раза сталкивался с Оксом; он приветствовал меня с понимающим огоньком в глазах, как если бы мы делили с ним какую-нибудь очень личную и довольно постыдную тайну. Его замечательной библиотекой вскоре завладели немцы, у которых ее отобрали русские, еще лучшие захватчики в этой освященной веками игре. Сам же Осип Львович погиб при отважной попытке бегства — уже почти что сбежав, босой, в запачканном кровью белье, из «экспериментального госпиталя» в нацистском лагере смерти.
5
Мой отец был игрок и повеса. В свете его прозвали Демоном. Врубель написал его портрет: с бледными, как у вампира, щеками, алмазными глазами, черными волосами. То, что осталось на палитре, использовал я, Вадим, сын Вадима, изображая отца страстно увлеченных друг другом брата и сестры в лучшем из своих английских romaunts — «Ардисе» (1970).
Потомок княжеского рода, преданно служившего целой галерее из дюжины царей, мой отец пребывал на идиллической периферии истории. Его политические убеждения были повседневного, реакционного толка. Он вел ослепительную и сложную чувственную жизнь, но его познания были обрывочны и ординарны. Он родился в 1865 году, женился в 1896-м и погиб на пистолетной дуэли с молодым французом 22 октября 1898-го, после карточной ссоры в Довиле — курортном местечке в серой Нормандии.
Ничего особенно огорчительного в ошибке, в сущности, порядочного, но вздорного и рассеянного старого неудачника, принявшего меня за какого-то другого писателя, могло и не быть. Я сам однажды прославился тем, что во время лекции сказал Шелли, имея в виду Шиллера[105]. Но то, что обмолвка или ошибка памяти этого чудака устанавливала неожиданную связь с другим миром так скоро после моего собственного предположения (вызвавшего жуткое содрогание), что я могу быть только постоянной имперсонификацией кого-то, кто живет за созвездием моих слез и полиграфических звездочек как реальный человек, — вот это было уже слишком, об этом нельзя было и помыслить!
Как только затихли последние слова прощаний и извинений бедного Оксмана, я стянул шерстяного полосатого змея, душившего меня, и описал в шифрованной заметке каждую подробность нашей с ним встречи. Затем подчеркнул написанное жирной линией и вывел караван вопросительных знаков.
Должен ли я оставить без внимания это совпадение и его глубинный смысл? Или, напротив, взять и перекроить всю свою жизнь? Должен ли я отречься от своего искусства и выбрать иную стезю, всерьез заняться шахматами, или стать, к примеру, лепидоптерологом, или провести дюжину лет безвестным ученым-филологом, работая над русским переводом «Потерянного рая», от которого литературные клячи станут брыкаться, а ослы лягаться? Но только сочинение книг, бесконечное воссоздание собственного текучего «я» способно было удерживать меня в более или менее здравом уме. Единственным следствием этих размышлений был мой отказ от псевдонима — порядком приевшегося и какого-то уклончивого «В. Ирисина» (о котором Айрис говорила, что он звучит так, как если бы я был виллой) — и возвращение к моему родовому имени.
Им-то я и решил подписать первую порцию своего нового романа «Подарок отчизне», который должен был, главу за главой, полностью напечатать журнал «Patria». Я как раз закончил переписывать рептильно-зелеными (ради пущего разнообразия) чернилами второй или третий чистовой вариант первой главы, когда ко мне пришла Аннетта Благово, чтобы условиться о часах и плате.
Она явилась 2 мая 1934 года, опоздав на полчаса, и как человек, лишенный чувства длительности, переложила ответственность за опоздание на свои невинные часики — прибор для измерения перемещений, а не времени. Это была хрупкого сложения блондинка лет двадцати шести, с очень привлекательными, хотя и не исключительно красивыми чертами. На ней был сшитый в ателье серый жакет поверх белой шелковой блузки, выглядевшей как-то оборчато-нарядно из-за подобия банта между отворотов, к одному из которых был приколот маленький пучок фиалок. Разрез ее короткой, элегантного кроя серой юбки был чуточку напоказ, и вообще она была куда более модной и soignée, чем обычная русская девушка.
Я объяснил ей (поразившим ее — как много позднее она призналась — неприятно-насмешливым тоном циника, оценивающего возможную жертву), что хотел бы ежедневно после полудня диктовать «прямо в машинку» свои исчерканные черновики или же саму мякоть беловой рукописи, которую я еще, вероятно, буду править «в часы одинокие ночи», говоря словами А. К. Толстого[106], и затем отдавать ей в перепечатку на другой день. Она не сняла своей плотно облегавшей головку шляпки, но стянула перчатки и, поджав ярко-розовые свежеподкрашенные губки, надела большие черепаховые очки, каким-то чудом еще усилившие ее привлекательность. Она хотела бы взглянуть на мою машинку (ее ледяная сдержанность и святого обратила бы в блудливого паяца), страшно спешит по другому делу, но просто желает убедиться, что сможет на ней работать. Она сняла свое зеленое кабошоновое колечко (обнаруженное мной после ее ухода) и уже было примерилась отстукать быстрый образчик, но, еще раз взглянув на машинку, удостоверилась, что она была той же модели, что и ее собственная.
Наш первый сеанс прошел ужасно. Я выучил свою роль со тщанием нервного актера, не приняв во внимание, с каким партнером мне придется иметь дело, а она ошибалась или осекалась на каждой второй реплике. Она просила меня не спешить. Она перебивала меня дурацкими замечаниями вроде: «Так не говорят» или «Никто не знает этого слова („взводень“), почему бы не сказать просто „большая волна“, если это то, что вы имели в виду?» Когда гнев нарушал мой ритм и мне требовалось время, чтобы выпростать конец предложения из его ставшего вдруг незнакомым лабиринта вычерков и указывающих на вставку знаков, она откидывалась на спинку стула и ждала, как соблазнительная мученица, давясь зевком или изучая свои ногти. После трех часов работы я ознакомился с результатом ее грациозной и легкомысленной трескотни. Он изобиловал орфографическими ошибками, опечатками и безобразными вымарками. Я очень кротко заметил, что ей, похоже, не приходилось иметь дела с литературными (то есть не шаблонными) текстами. Она ответила, что я ошибаюсь, что она любит литературу. Вообще-то, сказала она, за одни только последние пять месяцев она прочитала Галсворти (по-русски), Достоевского (по-французски), большущий исторический роман генерала Пудова-Узуровского «Царь Бронштейн[107]» (в оригинале) и «L’Atlantide» (о которой я не слыхал, но которую мой справочник приписывает Пьеру Бенуа, «romancier français né à Albi» — какой-то пробел в Тарне)[108]. Читала ли она стихи Морозова? Нет, ничьи стихи ее особенно не волнуют, они не отвечают темпу современной жизни. Я пожурил ее за то, что она не прочитала ни единого моего романа или рассказа, и на ее лице появилось досадливое и даже немного испуганное выражение (подумала, дурочка, что я дам ей отставку), после чего она в виде некой странно-эротической сатисфакции пообещала мне, что теперь отыщет все мои книги, а «Подарок» непременно выучит наизусть.
Читатель уже заметил, должно быть, что я говорю о своих русских романах 20–30-х годов вскользь, подразумевая, что они хорошо известны или легко доступны как в оригинале, так и в их английских переложениях. Здесь же, однако, я хочу уделить своему «Подарку отчизне» (в английском переводе озаглавленному «The Dare» — «Вызов») немного больше места. Когда в 1934 году я начал диктовать Аннетте его начало, я уже знал, что это будет самый длинный из моих романов. Но я не мог предвидеть, что по продолжительности он почти не уступит отвратительному и слабоумному «историческому» опусу генерала Пудова о том, как Сионские Мудрецы узурпировали власть на Святой Руси[109]. Мне потребовалось около четырех лет, чтобы написать эти четыреста страниц, многие из которых Аннетта перепечатала по крайности дважды. Большая часть романа была опубликована выпусками в эмигрантских журналах к маю 1939 года, когда мы, еще бездетные, отправились в Америку; однако отдельной книгой русский оригинал вышел лишь в 1950 году (в нью-йоркском «Издательстве имени Тургенева»). Спустя еще десять лет был издан его английский перевод, название которого удачно соотносится не только с известным приемом для одурачивания простаков, но и с самóй одаренной и дерзкой натурой Виктора, героя и отчасти повествователя «Подарка».
Роман начинается с ностальгического рассказа о русском детстве героя (куда более счастливого, притом не менее изобильного, чем мое собственное). Затем описывается его юность в Англии (схожая с моими кембриджскими годами); далее — жизнь в эмигрантском Париже, сочинение первого романа («Мемуары знатока попугаев») и завязывание забавных узлов различных литературных хитросплетений. В середину романа целиком помещена книга, написанная моим Виктором «на спор» («on a dare»): краткая биография и критическая оценка Федора Достоевского, чьи убеждения мой автор находит пакостными и чьи романы осуждает за абсурдность — с их чернобородыми убийцами, представленными просто как негативы расхожего образа Иисуса Христа, и плаксивыми шлюхами, выписанными из сентиментальных романов предшествующего столетия. Следующая глава посвящена гневу и смятению эмигрантских рецензентов, состоящих членами секты Достоевского, а на последних страницах мой молодой герой поддается внезапному побуждению и совершает дерзкий и безрассудный подвиг, перейдя через полный опасностей лес на советскую территорию и как ни в чем не бывало вернувшись назад.
Привожу это беглое изложение в виде иллюстрации того, что просто обязан был упомнить из моего «Подарка» даже самый скромный его читатель — конечно, если только электролиз не разрушал в его мозгу каких-то ключевых клеточек после того, как он захлопывал книгу. Так и Анечкино хрупкое очарование отчасти заключалось в ее забывчивости, покрывавшей к вечеру все вокруг пеленой забвения, подобно светлой дымке, поглощающей горы, тучи и даже самое себя, когда летний день впадает в забытье. Знаю, что не раз видел, как она сидит с книжкой журнала на безучастных коленках, скользя по строчкам маятниковым движением глаз, свидетельствующим о процессе чтения и действительно доводящим ее до редакционного уверения «Продолжение следует» в конце очередного выпуска «Подарка»; знаю и то, что она напечатала каждое его слово и большую часть запятых. И все же факт состоит в том, что ничего не удержалось в ее маленькой головке — возможно, оттого, что она раз и навсегда решила, что моя проза не просто «сложна», но «непроницаема» («отвратительно непроницаема» — если повторить комплимент Василевского, сделанный мне после того, как он осознал — в положенное время, — что мой триумфально счастливый Виктор в третьей главе романа высмеял его стиль и взгляды). Должен сознаться, что я легко прощал ей такое отношение к моим трудам. На публичных выступлениях я любовался ее светской улыбкой — «аттической» улыбкой греческой статуи. Когда ее довольно противные родители пожелали взглянуть на мои книги (вроде того, как сомневающийся доктор берет пробу спермы), она по ошибке дала им почитать роман другого писателя, спутав заглавия из-за их дурацкого сходства. Но по-настоящему я был потрясен лишь однажды, когда нечаянно услышал, как она рассказывала своей дуре-приятельнице, что в мой «Подарок» включены биографии «Чернолюбова и Доброшевского!». И она еще пыталась возражать мне, когда я воскликнул, что только ненормальный может избрать для описания парочку третьесортных публицистов, да к тому же смешать их имена в невообразимый коктейль!
6
За свою долгую жизнь я как будто не раз обращал внимание, что когда я начинаю влюбляться или даже когда уже влюблен, но еще не сознаю этого, мне снится один и тот же сон, сводящий меня в предрассветных сумерках с предполагаемой inamorata при довольно инфантильных обстоятельствах, отмеченных теми волнительными и острыми моментами, что я изведывал, будучи и мальчиком, и юношей, и безумцем, и старым умирающим сластолюбцем. Ощущение повторения («как будто не раз обращал внимание») — это, вполне возможно, чувство врожденное: тот сон, к примеру, мог мне привидеться лишь один или два раза («за мою долгую жизнь»), а его привычность — только пипетка, которая прилагается к каплям. Место, в котором разыгрывалось сновидение, напротив, не было какой-то известной мне комнатой, но только подобием тех спален, в которых мы в детстве просыпались после святочного маскарада или летних именин — в большом доме, принадлежавшем каким-то чужим людям или дальним родственникам. Казалось, будто кровати, точнее, две детские кроватки, принесенные и поставленные к противоположным стенам, находятся и не в спальне вовсе, а в пустой комнате неясного назначения, где, кроме двух этих раздельных кроватей, другой мебели нет: во снах, как и в старинных новеллах, хозяева или ленивы, или чересчур расчетливы.
Итак, на одной из кроватей я пробуждаюсь от какого-то второстепенного сна, имеющего лишь справочное назначение, а на другой, стоящей у стены справа (направления также были представлены), лежит девушка, почти девочка — моложе, тоньше и радостней Аннетты в этой именно версии сна (лето 1934 года, дневное время) — и игриво и негромко говорит сама с собой, хотя я с приятным учащением пульсации внизу догадываюсь, что она только притворяется, а на деле воркует мне во благо, чтобы привлечь мое внимание.
Следующая моя мысль (от которой пульсация усиливается): как странно, что мальчику и девочке постелили в одной временной спальне — надо думать, по ошибке или, быть может, оттого, что дом полон гостей, а расстояние между двух кроватей, отделенных пустошью пола, сочтено кем-то достаточно большим для соблюдения приличий, когда речь идет о детишках (мой средний возраст всю жизнь составляет около тринадцати лет). К этой минуте чаша наслаждения уже была наполнена до краев, и, пока она не расплескалась, я на цыпочках перебегаю по голому паркету в ее постель. Моим поцелуям мешают ее светло-русые волосы, но тут губы находят ее щеку и шею, а ночная сорочка у нее на пуговках, и она говорит, что горничная вошла в комнату, но уже слишком поздно, я не могу остановиться, и горничная, тоже красавица, смотрит на нас и смеется.
Сон, приснившийся мне спустя месяц после встречи с Аннеттой, ее образ в этом сне, эта ранняя редакция ее голоса, мягкие волосы, нежная кожа, околдовали, поразили меня небывалой радостью — радостью открытия, что я влюблен в маленькую госпожу Благово! В ту пору наши отношения еще оставались формальными, даже сверхформальными, и я, конечно, не мог пересказать ей содержание сна с требуемой живостью и откровенностью (как делаю в этих записках), а ограничиться признанием «Я видел вас во сне» значило все испортить топорной пошлостью. Я поступил много честней и мужественней. Прежде чем признаться ей в том, что она, говоря о другой паре, нарекла «серьезными намереньями», и даже еще прежде того, как отгадать загадку, отчего я на самом деле полюбил ее, я решил сообщить ей о своем неизлечимом недуге.
7
Она была грациозной, она была апатичной, она была в некотором отношении ангельски чистой, а во многих других — удручающе глупой. Я же был человеком одиноким, легкоуязвимым, потерявшим от вожделения голову, но все же не настолько обезумевшим, чтобы не предупредить ее посредством яркого примера (частью — схематическое описание, частью — лабораторный опыт), с чем она столкнется, согласившись выйти за меня замуж.
Милостивая государыня
Анна Ивановна!
Прежде чем устно сделать Вам предложение чрезвычайной важности, я прошу Вас присоединиться ко мне в проведении эксперимента, который лучше всякой ученой статьи раскроет Вам одну существенную грань смещенного кристалла моей души. Итак, приступим.
Время действия, если Вы позволите, — ночь. Я лежу на спине в своей постели (в подобающем виде, разумеется, и все мои органы пребывают в благопристойном покое) и воображаю обычную ситуацию в обычном месте. Ради пущей чистоты нашего опыта давайте условимся, что представляемое нами место — вымышлено. Вот я выхожу из книжного магазина и останавливаюсь на краю панели, собираясь перейти улицу и направляясь в маленькую тротуарную кофейню точно напротив. Автомобилей в поле зрения нет. Перехожу. Вижу себя подходящим к кафе. Полуденное солнце заняло один из стульев и половину столика, остальная же уличная часть кафе весьма заманчиво пустует: нет ни души, ничего, кроме блестящих последствий только что прошедшего дождя. Но тут я резко останавливаюсь, вспомнив, что у меня был зонтик.
Я не хотел бы, глубокоуважаемая Анна Ивановна, нагонять на Вас тоску и тем более рвать на части эту третью или четвертую несчастную страничку — с тем невыносимым криком, какой издают только казнимые листы бумаги, — но предложенная сцена еще недостаточно условна и схематична, так что позвольте мне ее переснять.
Я, Ваш друг и наниматель, Вадим Вадимович, лежу навзничь в идеальной тьме (только что мне пришлось встать, чтобы получше завесить луну, которая проглядывала между складок двух абзацев), воображая эфемерного Вадима Вадимовича переходящим улицу от книжной лавки в тротуарную кофейню. Заключенный в собственную вертикальную форму, я смотрю не вниз, а вперед и посему только косвенно знаю, как выглядит передняя сторона моей упитанной фигуры, как мелькают носки моих туфель и какого размера прямоугольный сверток у меня под мышкой. Я воображаю себя проходящим двадцать шагов, каковые надлежит сделать, чтобы оказаться на другой стороне улицы, затем с непечатным ругательством замирающим на месте и решающим вернуться за зонтиком, забытым в магазине.
Вот тут-то и проявляется мой, еще никем не названный недуг; вот тут, дорогая Анна (Вы должны мне разрешить обращаться к Вам по имени — я на десять лет старше и серьезно болен), происходит что-то ужасно неладное с моим ощущением направления, или, вернее, с моей способностью совладать с умозрительным пространством, поскольку в этот момент, лежа в постели в совершенной тьме, я не в силах в уме выполнить простой разворот (действие, выполняемое мною в реальной жизни без запинки!), который позволил бы мне тут же увидеть в своем сознании только что пройденную часть асфальта — перед собой и витрины книжного магазина — перед моими глазами, а не где-то там сзади.
Позвольте мне немного задержаться на рассматриваемой нами процедуре, на моей неспособности выполнить поворот в сознании — моем неуклюжем и своенравном сознании! Чтобы представить себе процесс разворота, мне приходится проделать обратное — повернуть декорации: я должен попытаться, дорогой мой друг и ассистент, развернуть всю уличную махину целиком, с тяжелыми фасадами домов спереди и позади меня, медленно меняя одно направление на другое, как бы прокручивая ее на пол-оборота (а это все равно что повернуть колоссальную рукоять неподатливого ржавого штурвала), чтобы обратить себя с осознанной постепенностью из, скажем, смотрящего на восток Вадима Вадимовича в него же, но ослепленного закатным солнцем. Одна только мысль об этом действии приводит откинувшегося на подушках человека в такое замешательство, вызывает у него такое тошное головокружение, что он предпочитает отбросить саму идею разворота и, так сказать, стереть все видимое с грифельной доски и пуститься в воображении в обратный путь, как если бы это было изначальным направлением его движения и никакого предшествовавшего ему пересечения улицы не было, а стало быть, не было и никакой промежуточной жути — страха не справиться с рулевым управлением пространства и боязнью надорваться в этой попытке!
Voilà. Звучит довольно уныло, не правда ли, en fait de démence, и, в сущности, перестань я думать об этом, все свелось бы к незначительному дефекту вроде отсутствующего мизинца у какого-нибудь уродца, родившегося девятипалым. Однако, размышляя об этом всерьез, я не могу не заподозрить здесь весьма тревожного симптома, предвестника умственного расстройства, способного, быть может, со временем поразить весь мой мозг. Но даже если мое отклонение и не столь опасно и неизбывно, как на то указывают штормовые маячки, я хочу, чтобы Вам о нем было известно, Анна Ивановна, прежде чем я сделаю Вам предложение. Не пишите в ответ, не телефонируйте, не упоминайте об этом письме, когда придете (если, конечно, придете) в пятницу в обычное время, но, прошу Вас, если все же придете, наденьте, пожалуйста, в знак благосклонности ту флорентийскую шляпку, что вроде охапки полевых цветов. Я хочу, чтобы Вы оценили свое внешнее сходство с пятой девушкой слева — украшенной цветами белокурой красавицей с прямым носом и серьезными серыми глазами на Боттичеллиевой «Primavera», аллегории Весны[110], любовь моя, моя аллегория!
В пятницу после полудня она впервые за два месяца пришла «on the dot» (минута в минуту), как сказали бы мои американские друзья. В сердце мне врезался клин боли, и чернявые уродцы принялись играть в чехарду по всей комнате, когда я увидел, что она надела ничего не значащую обычную шляпку. Она сняла ее перед зеркалом и вдруг с чувством помянула Господа.
«Я идиотка, — сказала она. — Искала свою хорошенькую шляпку-венок, а папа начал читать вслух какую-то книгу, о том, как ваш предок поссорился с Петром Грозным…»
«Иваном», — сказал я.
«Имени я не уловила, но, когда поняла, что опаздываю, я нацепила эту шапочку вместо венка, вашего венка, того венка, что вы просили надеть!»
Я помог ей снять жакет. От ее слов во мне взыграла свойственная снам вседозволенность. Я обнял ее. Мои губы припали к горячей впадинке между ее горлом и ключицей. Объятие было коротким, но исчерпывающим, и я вскипел — тайно и сладко, всего лишь прижавшись к ней, держа в одной руке половинку ее маленького твердого задка, а другую руку положив на арфовые струны ее ребер. Она вся дрожала. Пылкая, но глупо невинная, она не поняла, отчего моя хватка вдруг ослабла с внезапностью оцепенения или потерявшего ветер паруса.
Так, значит, она прочитала только начало и конец моего письма? В общем, да, лирическую часть она пропустила. Другими словами, она и понятия не имеет, что я имел в виду? «Обещаю перечитать письмо», — заверила она меня. Но она хотя бы уловила, что я люблю ее? Она-то уловила, но где ей знать, что я действительно ее люблю? Ведь я такой странный, такой, такой — она не может подобрать слова, — да, СТРАННЫЙ во всех отношениях. Она таких, как я, никогда не встречала. Кого же она в таком случае встречала, — полюбопытствовал я, — трепанаторов? тромбонистов? астрономистиков[111]? Ну, главным образом военных, если уж я хочу знать, врангелевских офицеров, достойных, интересных людей, говоривших об опасности и долге, о биваках в степи. Ах, постойте, я ведь тоже могу описать вам «бесплодие пустынь, отрогов крутизну…»[112]. Нет-нет, сказала она, они же ничего не выдумывали. Они говорили о повешенных ими шпионах, они рассуждали о международной политике, о новом фильме или книге, объясняющей смысл жизни. И никогда не позволяли себе непристойной шутки или гадкого сравнения на грани допустимого… Как в моих книгах? Примеры, примеры! Нет, она не станет приводить примеры. Ей не хочется, чтобы я поймал ее на слове и заставил беспомощно кружиться, как бескрылую муху.
Или бабочку.
Однажды чудным утром мы гуляли в окрестностях Bellefontaine. Что-то порхнуло и заблистало.
«Взгляни на этого арлекина!» — осторожно указывая локтем, шепнул я.
На белой стене загородного сада грелась на солнце плоская, симметрично распахнутая бабочка, которую художник поместил слегка под углом к горизонту картины. Создание это было написано улыбчиво-красной краской с желтыми интервалами между черных пятен; по внутренним зубчатым краям крыльев шел ряд синих серпиков. Одно лишь в ней возбуждало дрожь брезгливости — блестящий изгиб бронзоватых шелков, спускавшихся по обе стороны звериного тельца.
«Как бывшая воспитательница детского сада, могу сообщить тебе, — сказала услужливая Аннетта, — что это самая обычная крапивница. Сколько ручонок обрывали им крылышки и приносили их мне в надежде на поощрение!»
Бабочка снялась и исчезла.
8
Ввиду того что ей предстояло отпечатать обширный роман, а делала она это медленно и плохо, она взяла с меня слово не отвлекать ее во время работы тем, что по-русски называется «телячьими нежностями». В остальное время мне дозволялись только сдержанные поцелуи и цивилизованные объятия: наше первое было «варварским», сказала она (вскоре после этого разобравшись в некоторых мужских секретах). Она изо всех сил старалась скрыть изнеможение, беспомощность, охватывавшие ее естественным образом во время ласк, когда она начинала вибрировать в моих руках, прежде чем, пуритански нахмурившись, меня оттолкнуть. Как-то раз она тыльной стороной ладони задела упругий перед моих брюк; она обронила холодное «pardon» (фр.) и обиделась, когда я поинтересовался, не ушиблась ли она.
Когда я посетовал на смехотворную ветхозаветность наших отношений, она, подумав, пообещала мне, что сразу же после «официальной помолвки» мы перейдем в эру поновей. Я заверил ее, что готов провозгласить ее наступление в любой день и в любую минуту.
Она повела меня знакомиться с родителями, с которыми жила в квартире из двух комнат в Пасси. Он до революции был военным врачом, и его седой бобрик, усы щеткой и опрятно выстриженная эспаньолка придавали ему разительное сходство (еще усиленное, без сомнения, каким-то энергичным духом, подлатывающим изношенные части прошлого новыми впечатлениями того же рода и свойства) с доброжелательным, но хладнопалым (и хладноухим) доктором, который лечил меня зимой 1907 года от воспаления легких.
Как и о многих русских эмигрантах, чьи силы на исходе, а профессия утрачена, трудно было сказать, на какие именно средства живет д-р Благово. Казалось, он коротал пасмурный вечер жизни или читая подряд комплекты толстых журналов (с 1830 по 1900 или с 1850 по 1910 год), которые Анечка приносила ему из оксмановской библиотеки, или сидя за столом и с помощью равномерно щелкающего приспособления наполняя табаком полупрозрачные концы папирос, коих он никогда более тридцати штук за день не выкуривал во избежание сердечных перебоев по ночам. Собеседником он был никаким, ни одного из бесчисленных исторических анекдотов, вычитанных им в потрепанных номерах «Русской старины», он не мог пересказать в точности, что проливает свет на Аннеттину неспособность запоминать стихи, эссе, рассказы, романы, которые она для меня печатала (я знаю, что уже брюзжал по этому поводу, но пунктик все еще изводит меня — слово, кстати сказать, родственное древнерусскому «водимая» — жена, супруга)[113]. Он к тому же был одним из последних известных мне людей, которые все еще носили манишку и штиблеты с резинками.
Он спросил меня — и это единственный запомнившийся мне вопрос, — почему я не указываю в печати своего титула, украшающего наш тысячелетний род? Я ответил, что принадлежу к числу тех снобов, которые убеждены, что плохие читатели и так в курсе авторской подноготной, но которые надеются, что хороших читателей в большей степени увлекут их книги, чем родословная. Д-р Благово был глупый старикан, и его съемные манжеты могли быть и посвежее, но сегодня, в печальной ретроспективе, память о нем дорога мне: он был не только отцом моей бедной Аннетты, но и дедом моей обожаемой и, возможно, еще более несчастной дочери.
Д-р Благово (1867–1940) женился сорока лет на провинциальной красавице из волжской Кинешмы, расположенной в нескольких верстах к югу от одного из моих самых романтичных поместий, славного своими дикими оврагами, превращенными теперь в гравийные карьеры или расстрельные ямы, а тогда дивно напоминавшими затопленные сады. Мадам Благово щедро красила лицо, а речь ее отличалась редкой жеманностью — существительные и прилагательные приобретали слишком уж ласковую форму, какую и русский язык, признанный чемпион по части уменьшительно-ласкательных, может вынести лишь во влажных устах ребенка или у мягкосердой няньки («Прошу, — сказала госпожа Благово, — вот ваш чаишко с молочишком»). Она запомнилась мне сверхобщительной, сверхлюбезной и пошловатой дамой, умевшей принарядиться (работала в salon de couture). В их доме ощущалась некоторая напряженность — Анечка, похоже, была трудным ребенком. Во время своего короткого визита я не мог не уловить, что в голосах родителей, когда они обращались к ней, звучали нотки подобострастной паники. Нередко Анечка своим тусклым, почти змеиным взглядом пресекала матушкину болтовню. На прощание бывшая институтка одарила меня тем, что, по ее мнению, могло сойти за комплимент: «Вы по-русски говорите с парижским грассированием, а вот манеры у вас, как у англичанина». Стоявшая за ее спиной Аннетта издала низкий, остерегающий рык.
В тот же вечер я письменно уведомил ее отца, что мы с Аннеттой решили пожениться, а на другой день, после полудня, когда она пришла ко мне печатать, я встретил ее в сафьяновых домашних туфлях и шелковом халате.
«Сегодня работать не будем — праздник Флоры», — сказал я, указывая с не вполне нормальной улыбкой на гвоздики, ромашки, анемоны, асфодели и голубые куколи среди белесой ржи, украшавшие в нашу честь мою комнату. Она окинула взглядом цветы, шампанское и канапе с черной икрой, фыркнула и повернулась, чтобы сбежать, но я втащил ее обратно в комнату, запер дверь и спрятал ключ в карман.
Не стоит и говорить, что наша первая попытка близости потерпела полное фиаско. Мне так долго пришлось убеждать ее, что час пробил, а она так стойко боролась за каждый дюйм одежды, который мог быть удален, и спорила с тем, до каких частей ее тела дозволяют прикасаться Венера, Дева Мария и maire нашего arrondissement, что ко времени, когда я наконец добился от нее пригодного для капитуляции положения, я сам превратился в бессильную развалину. Мы лежали обнаженные, схватившись друг с другом в вялом клинче. Но тут ее губы приоткрылись навстречу моим в ее первом добровольном поцелуе. Силы вернулись ко мне. Я поспешил овладеть ею. Она закричала, что я причиняю ей ужасную боль, и, бурно извернувшись, вытолкнула окровавленную и трепещущую рыбину. Когда я попытался в виде унизительной компенсации сомкнуть ее пальцы на орудии своей страсти, она отдернула руку, обозвав меня «грязным развратником». Пришлось самому исполнить пакостный акт, пока она глядела со скорбью и изумлением.
На другой день нам посчастливилось больше, и мы допили выдохшееся шампанское; впрочем, мне так никогда и не удалось окончательно укротить ее. Вспоминаю наши самые многообещающие ночи в гостиницах на итальянских озерах, когда вдруг все летело к черту из-за ее неуместной чопорности. Но, с другой стороны, теперь я рад тому, что никогда не был настолько глуп и низок, чтобы не заметить восхитительного контраста между ее воспаленной стыдливостью и теми редкими моментами сладостной неги, в которые на ее лице появлялось выражение детской сосредоточенности, торжествующего наслаждения, а кромки моего недостойного сознания начинали достигать ее слабые стоны.
9
К концу лета и новой главы «Подарка» выяснилось, что д-р Благово и его жена ждут не дождутся от нас совершения нормального православного венчания — золотисто-дымчатого обряда со священником, дьяконом и двойным хором певчих. Не думаю, что Аннетта была обескуражена, когда я заявил, что хочу обойтись без ряженых и прозаично зарегистрировать наш союз в присутствии служащего в муниципальной конторе Парижа, Лондона, Кале или одного из Нормандских островов; но она, конечно, была не против обескуражить своих родителей. Д-р Благово написал мне сухое письмо («Князь! Анна сообщила мне, что Вы предпочитаете…»), потребовав аудиенцию; мы сошлись на телефонных переговорах: две минуты с Благово-père (учитывая паузы, во время которых он разбирал собственный почерк, доводивший, надо полагать, аптекарей до отчаяния) и пять минут с Madame Благово, которая после путаного и к делу не относящегося вступления взмолилась, чтобы я изменил свое решение. Я ответил отказом, и тогда на меня натравили посредника — добрейшего старика Степанова, который довольно непоследовательно, учитывая его либеральные воззрения, принялся меня убеждать (по телефону из Англии, куда перебралось семейство Боргов) соблюсти прекрасный христианский обычай[114]. Я сменил тему и попросил его устроить для меня прекрасный литературный soirée, когда он вернется в Париж.
Тем временем подоспели с дарами некоторые из более веселых и беззаботных богов. Три увесистых плода одновременно упали к моим ногам в знак признания моих успехов: приобретение «Красного цилиндра» для публикации в Англии принесло мне аванс в двести гиней; Джеймс Лодж из Нью-Йорка предложил за «Камеру люцида» еще более привлекательный гонорар (в то время мое чувство прекрасного было довольно легко удовлетворить), а сводный брат Айвора Блэка из Лос-Анджелеса предлагал мне контракт на экранизацию одного из моих рассказов. Теперь мне следовало подыскать подходящую обстановку, чтобы завершить мой «Подарок» в более комфортных условиях, чем те, в которых сочинялась его первая половина; а сразу же после этого или вместе с завершением его последней главы я должен был проверить и, без сомнения, подвергнуть внушительной правке английский перевод моего «Красного цилиндра», над которым корпела неведомая мне лондонская дама. (Оправдывая мои худшие предчувствия, она принялась советовать мне — пока мой удаленный окрик не настиг ее — «смягчить, или упростить, или лучше совсем опустить во благо уравновешенного английского читателя некоторые не вполне приличные, или вычурные, или слишком темные места моего романа».) Кроме того, ожидалась деловая поездка в Америку.
В силу каких-то странных психологических резонов Анины родители, следившие за этими изменениями в моей жизни, теперь желали скорейшего оформления наших брачных отношений каким угодно способом — гражданским или басурманским. Как только этот короткий трехцветный фарс был сыгран, мы с Аннеттой отдали дань русской традиции, отправившись в двухмесячное путешествие из отеля в отель, и добрались до самой Венеции и Равенны, где я размышлял о Байроне и переводил Мюссе[115]. По возвращении в Париж мы сняли апартаменты из трех комнат на очаровательной rue Guevara (названной в честь андалузского драматурга былых времен)[116], в двух минутах от Булонского леса. Обедали мы обычно в соседнем «Le Petit Diable Boiteux»[117] — недорогом, но отличном ресторане, а ужинали холодным мясом на нашей кухоньке. Я почему-то полагал, что Аннетта окажется талантливым кулинаром, но она поднаторела в этом только после нашего переезда в американскую глушь. Когда же мы жили на rue Guevara, ее высшим достижением оставались яйца всмятку: уж не знаю, как ей удавалось предотвратить образование фатальной трещинки, выпускавшей клубок эктоплазмы в пляшущую воду, как всегда случалось, когда за дело брался я.
Она любила долгие прогулки в парке среди степенных буков и подрастающих детей; она любила кофейни, модные показы, теннисные матчи, круговые велосипедные гонки на «Велодроме», а больше всего — кинематограф. Вскоре я сообразил, что какое-нибудь пустяковое развлечение вызывает в ней романтическое настроение — а в наши последние четыре парижских года я был особенно любвеобилен и крепок и совершенно не терпел капризных отказов. Однако я положил конец нескончаемым спортивным зрелищам — бренчанью теннисных струн под метроном летающего туда-сюда мяча или любованью страшно волосатыми икрами горбунов на колесах.
Вторая половина тридцатых годов в Париже была отмечена великолепным подъемом эмигрантского искусства, и с моей стороны было бы нечестно и глупо не отметить (что бы там ни писали обо мне некоторые из самых предвзятых критиков), что я был вершинным достижением этого периода. В залах, где устраивались авторские вечера, в задних комнатах знаменитых кафе на частных литературных приемах мне доставляло удовольствие указывать моей уравновешенной и элегантной спутнице на разных инфернальных упырей, плутов и подхалимов, благонамеренных ничтожеств, поклонников и поклонниц, свихнувшихся «учителей», набожных педерастов, истеричных красавиц-лесбиянок, посредственных и поседелых старых реалистов, талантливых и невежественных, но обладающих интуицией критиков «нового типа» (незабвенным главой которых был Адам Атропович)[118].
Со своего рода исследовательским удовольствием (схожим с исчерпывающим параллельным чтением) я отмечал, как предупредительно, как почтительно-обходительно держали себя с ней три или четыре, всегда облаченные в черные костюмы, корифея русской словесности (люди, которыми я восторгался с великим жаром не только оттого, что еще в юности был зачарован их высоким и строгим искусством, но также оттого, что наложенный большевиками запрет на их книги был самым грозным, абсолютным и окончательным приговором ленинско-сталинскому режиму). Не меньше empressés вокруг нее (возможно, в неосознанном стремлении заслужить одну из тех редких похвал, до которых я изредка снисходил, отмечая в смешанном хоре чью-нибудь чистую ноту) те определенного пошиба более молодые писатели, которых их Бог сотворил двуликими: с одного боку — безнадежно безнравственными или бесплодными, а с другого — ослепительно талантливыми на язвительный лад. Словом, ее появление в эмигрантском литературном beau monde презабавно отзывалось восьмой главой «Евгения Онегина», в которой княжна N. равнодушно проходит через бальную залу, полную льстивых гостей.
Меня могла бы покоробить ее терпимость к Василевскому (притом что его произведений она не читала и только краем уха слышала о его нелепо раздутой славе), ежели бы мне не пришло в голову, что эта ее симпатия тематически повторяет начальную, так сказать дружескую стадию моего отношения к этому faux bonhomme. Стоя за более или менее дорической формы колонной, я однажды подслушал, как он выпытывал у моей простодушной и кроткой Аннетты, имеет ли она какое-нибудь представление, отчего я так яростно ненавижу Горького (перед которым он сам преклонялся)[119], — не потому ли, что меня раздражает всемирная слава, выпавшая пролетарию? Да и в самом деле, прочитал ли я хотя бы одну книгу этого замечательного писателя? Анечка выглядела озадаченно, но вдруг ее лицо озарилось очаровательной детской улыбкой, и она, вспомнив советский шаблонно-мозолистый фильм «Мать»[120], который я как-то высмеял, ответила: «Оттого, что слезы на лицах были слишком крупные и катились слишком медленно».
«Ага, это многое объясняет!» — с мрачным удовлетворением воскликнул Василевский.
10
Я получил машинописные экземпляры переводов «Красного цилиндра» (озаглавленного «The Red Topper»![121]) и «Камеры люцида» чуть не в один день, осенью 1937 года. Они оказались даже еще более гнусными, чем я предполагал. Мисс Гаворт, англичанка, провела три счастливых года в Москве, где ее отец был послом; мистер Кулич был пожилым ньюйоркцем русского происхождения, подписывавшим свои письма именем «Бен». Оба допускали одинаковые ошибки, выбирали неверное значение в одинаковых словарях и с одинаковой беспечностью никогда не утруждали себя проверкой коварного омонима с виду знакомого слова. Они были слепы к контекстуальным оттенкам цветов и глухи к градациям шумов. Их классификация природных объектов редко доходила от класса до семейства и еще реже — до рода, в строгом значении слова. Они путали экземпляр с видом[122]; Подскок, Прыжок и Бросок в их представлении носили серые мундиры одного синонимического полка; и не было ни единой страницы, где бы они не сели в лужу. Пуще всего завораживала меня — в дурном, бесовском смысле — их уверенность в том, что низведенный их невежеством и небрежностью до взвизгов и бормотания пассаж можно выдать за творение респектабельного автора. Их литературные навыки были настолько схожи, что теперь я подумываю — а что если Бен Кулич и мисс Гаворт были тайно женаты друг на друге и состояли в постоянной переписке, одолевая какое-нибудь каверзное место? А то еще они могли бы, пожалуй, воссоединяться на полпути для лингвистического пикника на муравчатом краю какого-нибудь кратера на Азорских островах.
Приведение в порядок их отвратительной стряпни и последующая диктовка Аннетте исправлений отняли у меня несколько месяцев. Свой английский она вынесла из американской школы-интерната в Константинополе (первый этап западной эмиграции семьи Благово), в которой проучилась четыре года (1920–1924). Я был приятно удивлен тем, как быстро пополнялся и улучшался ее словарь, когда она принялась исполнять новые для нее обязанности, и потешался над чувством невинной гордости, возникавшим в ней, когда ей удавалось в письмах в издательство «Allan & Overton», Лондон, и Джеймсу Лоджу, Нью-Йорк, в точности передать мой гнев и сарказм. Собственно, ее doigté для английской (и французской) клавиатуры была лучше, чем при печатании русских текстов. Небольшие спотычки, конечно, были неизбежны в любом из языков. Как-то раз, просматривая копию обширнейшего списка исправлений, уже отосланного моему терпеливому Аллану, я заметил, что она допустила обычную ошибку, простую опечатку («here» вместо «hero» или, может быть, «that» вместо «hat» — уж не вспомню, но мне кажется, там была «h»), которая придавала предложению угрюмо-плоский, но, увы, не вовсе бессмысленный вид (правдоподобие сгубило немало добросовестных корректоров). Ошибку можно было тотчас исправить, послав Аллану телеграмму, но заваленный работой нервозный автор очень болезненно относится к таким мелочам, и я выразил свое неудовольствие с неоправданной резкостью. Аннетта принялась рыться в ящике (не в том) в поисках бланка телеграммы и, не поднимая головы, сказала:
«Она была бы тебе намного лучшей помощницей, чем я, хотя я правда страшно стараюсь».
Мы никогда не упоминали Айрис — это было одним из подразумеваемых условий в нашем семейном кодексе, но я сразу же понял, что Аннетта имела в виду именно ее, а не бестолковую английскую девицу, присланную агентством несколько недель тому назад и отосланную обратно в упаковке и с бантиком. По какой-то сокровенной причине (вновь сказывалось переутомление) я почувствовал, как мне на глаза наворачиваются слезы, и, прежде чем мне удалось встать и выйти из комнаты, я обнаружил себя бесстыдно рыдающим и бьющим кулаком по толстой безымянной книге. Она скользнула в мои объятия, тоже всхлипывая, и в тот вечер мы пошли смотреть новую картину Ренэ Клера[123], а поужинали в «Grand Velour».
В те месяцы, потраченные на исправление и частичное переписывание английского перевода «Красного цилиндра» и второй книги, я начал ощущать муки странного превращения. Нет, я не проснулся как-то раз поутру в одной центральноевропейской стране в виде огромного скарабея с большим числом ножек, чем может быть у любого жука, но внутри меня явно происходили некие болезненные разрывы таинственных тканей. Русская печатная машинка была захлопнута, как гроб. Окончание «Подарка» было доставлено в контору журнала «Patria». Весной мы с Аннеттой собирались съездить в Англию (не вышло), а летом 1939 года — отправиться в Америку (где ей суждено было умереть четырнадцать лет спустя). К середине 1938 года мне показалось, что я уже могу откинуться в кресле и скромно возрадоваться частным похвалам Андовертона и Лоджа, которыми они осыпали меня в письмах, равно как и публичным обвинениям критиканов-пустозвонов в воскресных номерах газет, указывавших на «аристократическую замысловатость» тех пассажей в английских переводах двух моих романов, что я написал самостоятельно. Однако когда я попробовал сочинять роман прямо по-английски, то есть «работая без сетки» (как выражаются русские акробаты), это оказалось совсем иным делом, поскольку так я лишался русской страховочной сетки, растянутой внизу, между мной и освещенным кружком арены.
Как происходило и со следующими моими английскими книгами (в том числе с этим мемуарным очерком), название моего первого романа пришло ко мне в момент зачатия, задолго до настоящего рождения и роста. Поднеся это название поближе к свету, я рассмотрел все содержимое полупрозрачной реторты. Ему надлежало быть таким и только таким: «Подробнее см.: „Истинная“». Предвидение его возможных невзгод в каталогах публичных библиотек не могло поколебать меня.
В его замысле, должно быть, косвенно отразилась история с надругательством парочки кустарей над моими изысканными и стройными произведениями. Представим себе, что совсем недавно скончался английский романист, блестящий и бесподобный писатель. Его биографию наспех стряпает несведущий, вульгарный, злонамеренный Хамлет Годман, датчанин с оксфордским дипломом, который находит в этой гротескной затее ковалевскую «отдушину»[124] для собственных литературных провалов, коих его почтенная посредственность всячески заслуживает. За редактирование биографии, к большому смятению безоглядного писаки, берется возмущенный брат покойного романиста. По мере того как открывающая книгу глава начинает развертывать свое первое рептилье кольцо (с инсинуациями о «мастурбационном комплексе вины» и кастрации кукольных солдат), возникает то, что было для меня источником наслаждения и волшебством моей книги: подстрочные примечания брата, сперва полдюжины строк на страницу, далее — больше, далее — много больше, которые сначала оспаривают, затем опровергают, а затем отбрасывают как смехотворные, сфальсифицированные истории и пошлые измышления горе-биографа. Увеличение числа этих примечаний внизу страницы приводит к зловещему умножению (разумеется, отпугивающему клубных или идущих на поправку читателей) астрономических символов, испещряющих текст. К концу описания студенческих лет героя вышина критического материала достигает трети каждой страницы. Редакторские предостережения о национальном бедствии — затопленные нивы и все такое — сопровождаются дальнейшим подъемом уровня. К двухсотой странице примечания вытесняют три четверти текста и меняется их шрифт — по крайней мере в психологическом отношении (я не терплю типографических шалостей в книгах), — от петита к корпусу[125]. На протяжении последних глав примечания не только замещают собой весь текст, но в конце концов набухают до жирного шрифта. «Мы наблюдаем замечательное явление — постепенное замещение фальшивой biographie romancée истинной историей жизни великого человека». На закуску я приложил трехстраничный отчет об академической карьере великого комментатора: «В настоящее время он читает курс лекций о современной литературе, включающий сочинения его брата, в Парагонском университете, штат Орегон»[126].
Таково изложение романа, написанного почти сорок пять лет тому назад и, возможно, забытого широкой публикой. Я никогда не перечитывал его, поскольку вообще перечитываю (I reread, je relis — дразню очаровательную возлюбленную!) только корректурные листы моих книг, выходящих в мягких обложках; но по причинам, которые, я уверен, Дж. Лодж находит основательными, этот роман все еще пребывает в стадии твердой оболочки. Тем не менее в розовой ретроспективе я ощущаю его как приятное событие и в своем сознании совершенно не связываю его с теми муками и страхами, что сопровождали написание этой довольно легковесной короткой сатиры.
По правде сказать, сочинение этой книги, несмотря на все удовольствие (вполне возможно, также губительное), которое переливчатые пузырьки в моих алембиках доставляли мне после ночи вдохновения, испытаний и триумфа (взгляните на арлекинов, все взгляните — Айрис, Аннетта, Белла, Луиза и ты, ты, моя последняя и бессмертная любовь!), едва не привело к паралитическому слабоумию, которого я страшился с юности.
Полагаю, что в истории атлетических видов спорта не найти чемпиона мира по лаун-теннису и лыжам; однако в двух литературах, настолько же различных, насколько различны трава и снег, я стал первым, кто добился успеха в такого рода искусстве. Не могу знать (как человек абсолютно неспортивный, находящий газетные отчеты о матчах почти такими же скучными, что и кулинарные отделы), с какого рода физическим напряжением может быть сопряжено выполнение в один прекрасный день на уровне моря подряд тридцати шести подач навылет, а на другой день взмывание с трамплина сквозь прозрачный горный воздух на высоту 136 метров. Колоссальным, надо думать, и, возможно, невообразимым. Но мне удалось вынести пытки и щемящую тоску литературной метаморфозы.
Мы мыслим образами, не словами; прекрасно; когда же мы сочиняем, воскрешаем или видоизменяем в полуночные часы в нашем сознании что-то, что мы хотим сказать в завтрашней нотации, или сказали Долли в недавнем сновидении, или хотели бы сказать тому нахальному проктору[127] двадцать лет тому назад, тогда образы, которыми мы мыслим, разумеется, облечены в слова — и даже в звуки, если так уж вышло, что мы одиноки и стары. Обычно мы не мыслим словами, поскольку большая часть жизни — это мимическая драма, но мы, естественно, придумываем слова, когда в том возникает нужда, — с тем же успехом, с каким мы придумываем вообще все, что можно постичь, воспринять в этом или даже еще более невероятном мире. Книга в моем сознании возникает сперва — под моей правой щекой (я сплю на бессердечном боку) — в виде пестрой процессии, с головой и хвостом, которая вьется в общем западном направлении через внимательный город. Детям среди вас и всем моим прошлым «я» в их преддвериях обещано потрясающее представление. Затем я вижу это представление во всех деталях, с каждой сценой на своем месте, с каждой трапецией среди звезд. И все же передо мной не театр масок, не цирк, но готовая книга, короткий роман на языке, столь же далеком, как фракийский или среднеперсидский от фата-морганной прозы, которой я повелел возникнуть в пустыне изгнания. Мне сделалось дурно от мысли, что придется выдумать сотни тысяч точно соответствующих слов, и я зажег свет и крикнул Аннетте из смежной комнаты, чтобы она выдала мне одну из моих строго нормированных пилюль.
Эволюция моего английского, как и эволюция птиц, имела свои взлеты и падения. Обожаемая моя нянька-кокни заботилась обо мне с 1900-го (когда мне был всего один год от роду) до 1903-го; за нею последовали три английские гувернантки (1903–1906, 1907–1909 и с ноября 1909-го по Рождество того же года), которых я вижу из-за плеча времени представляющими, мифологически, Дидактическую Прозу, Драматическую Поэзию и Эротическую Идиллию. Моя двоюродная бабка, многоуважаемая особа с на редкость широкими взглядами, уступила все же доводам домашних и рассчитала Черри Нипль[128], мою последнюю пастушку. После русской и французской педагогической интерлюдии, между 1912 и 1916 годами друг друга с тем или иным успехом сменяли два английских гувернера, довольно комично схлестнувшихся весной 1914 года, когда оба добивались расположения юной деревенской красавицы, бывшей в первую очередь моей душкой. К 1910 году от английских сказок я перешел к «The Boy’s Own Paper»[129] («Газета для мальчиков»), за которой немедленно последовали все томики Таухница из домашней библиотеки. В продолжение всего моего отрочества я читал попарно и с одинаково страстной увлеченностью «Отелло» и «Онегина», Тютчева и Теннисона, Браунинга и Блока. В три кембриджских года (1919–1922) и после этого, до 23 апреля 1930 года, моим домашним языком оставался английский — до тех пор, пока не начал разрастаться корпус моих русских сочинений, вскоре вытеснивший моих семейных божков.
Пока все шло своим чередом; но эта фраза сама по себе — лишь ходкое клише, а вопрос, который мучил меня в Париже в конце 30-х годов, именно в том и заключался: смогу ли я избежать шаблонов, сорвать с себя готовое платье и пуститься со своего чудесного, выпестованного мною русского не в бесчувственно-серый английский всем открытого моря, с манекенами в матросках, а в такой английский, за который лишь я один буду в ответе, со всей его свежей рябью и игрой света?
Боюсь, рядовой читатель пропустит изложение моих литературных невзгод; и все же хочу — скорее в угоду самому себе, чем ему — безжалостно задержаться на обстоятельстве, которое было достаточно скверным еще до того, как я покинул Европу и которое едва не прикончило меня во время перехода.
Русский и английский годами существовали в моем сознании как два отделенных один от другого мира. (Это только теперь наладилось кое-какое межпространственное сообщение: «Знание русского языка, — пишет Джордж Оуквуд в своем проницательном эссе о моем „Ардисе“, 1970, — поможет вам насладиться значительной частью словесной игры этого самого английского из английских романов писателя; возьмем, к примеру, следующее место: „Весь путь от Омска до Ниочемска несло гарью и гориллами“. Какой восхитительный мостик переброшен между реальным округлым местом и „ни-о-чемным“ краем современной философской лингвистики!»[130]) Я остро сознавал синтаксическую пропасть, разделявшую структуры их предложений. Я опасался (безосновательно, как выяснилось вскоре), что моя преданность русской грамматике может повредить изменническому ухаживанью за английской. Возьмите времена: насколько отличен их продуманный и строгий менуэт в английском от вольной и подвижной взаимосвязи настоящего времени с прошедшим (которую Ян Буниан так остроумно уподобил в последнем воскресном номере «Нью-Йорк таймс[131]» «танцу с покрывалом в исполнении пышной красивой дамы в кругу задорных пьянчуг») в их русском эквиваленте! Кроме того, меня угнетало невообразимое число вполне естественных с виду существительных, которые англичане и американцы использовали в разных прелестных узких значениях для отдельных, очень специальных вещей. Какой именно термин применяется для обозначения чашечки, в которую вы вставляете алмаз перед шлифовкой? («Мы называем ее „dop“ — пупальная капсула бабочки», — ответил мой информатор, старый бостонский ювелир, у которого я купил кольцо для третьей моей невесты.) Нет ли какого-нибудь особенного ладного словечка для поросенка? («Мне приходит на ум „snork“», — сказал профессор Ноутбок, лучший переводчик бессмертной гоголевской «Шинели»[132]). Мне нужно знать правильное слово для обозначения слома мальчишеского голоса во время взросления, — сказал я любезному оперному басу в смежном с моим палубном шезлонге во время моего первого трансатлантического вояжа. («Мне кажется, — ответил он, — это называется „ponticello“, un petit pont, мостик… А, так вы тоже русский?»)
Переход по моему собственному мосту закончился спустя несколько недель после высадки, в очаровательной нью-йоркской квартире (предоставленной нам с Аннеттой одним моим великодушным родственником и обращенной на закат, пылавший над Центральным парком). Невралгия в моем правом предплечье была только серым эскизом в сравнении с угольно-черной мигренью, проткнуть которую не могла ни одна пилюля. Аннетта позвонила Джеймсу Лоджу, и он по сердечной доброте, не в ту сторону направленной, попросил старого маленького доктора русского происхождения осмотреть меня. Бедняга едва не сделал меня еще более безумным, чем я был на самом деле. Он не только настаивал на обсуждении моих симптомов на гнусной версии языка, от которого я пытался отделаться, но еще переводил на нее различные неуместные термины, бывшие в ходу у Венского Шамана и его прихвостней («симболизирование», «мортидник»[133]). И все же его визит, должен признать, ретроспективно поражает меня в высшей степени артистичной кодой.
Часть третья
1
Ни «Расправа под солнцем» («Slaughter in the Sun»[134] — как в английском переводе оказалась переименована «Камера люцида», пока я беспомощно лежал в нью-йоркском госпитале), ни английский перевод «Красного цилиндра» («The Red Topper») толком не продавались. Многообещающая, прекрасная, странная «Подробнее см. „Истинная“» сверкнула на один затаивший дыхание миг на нижней ступеньке в списке самых ходких книг «Газеты Западного побережья» и пропала навек. При таком повороте событий мне ничего не оставалось, как принять в 1940 году предложение Квирнского университета занять место приглашенного лектора, сделанное мне в силу моей европейской репутации. Мне удалось там осесть и приобрести немалый вес, став полным профессором[135] к 1950 или 1955 году: не могу сыскать точной даты в своих старых записках.
Хотя за две мои недельные лекции о «Европейских шедеврах» и один четверговый семинар по Джойсовому «Улиссу»[136] я получал соразмерное жалованье (выросшее с 5000 долларов в год в первое время до 15 000 долларов в 50-х годах) и имел, сверх того, доход от нескольких английских рассказов, напечатанных и щедро оплаченных «Денди и бабочкой», самым радушным журналом в мире[137], я не был по-настоящему обеспечен до тех пор, пока мое «Княжество у моря»[138] (1962) частично не возместило мне потерю моего русского состояния (1917) и не отменило все финансовые тревоги до скончанья тревожных времен. Обычно я не храню вырезок с недоброжелательной критикой и завистливой бранью; но очень дорожу следующим определением: «Это единственный известный в истории случай, когда европейский бедняк сделался своим собственным американским дядюшкой [American uncle, oncle d’Amérique]», — как выразился мой верный зоил, Демьян Василевский. Он был одним из очень немногих крупных ящеров эмигрантских трясин, последовавших за мной в 1939 году в гостеприимные и, в общем, очаровательные Соединенные Штаты, где он с проворством рептилии, откладывающей яйца, основал русский ежеквартальник, которым руководит по сей день, тридцать пять лет спустя, уже впав в героическое слабоумие.
Меблированные апартаменты, которые мы в конце концов сняли в верхнем этаже импозантного дома (номер 10 по Буффало-стрит), особенно пришлись мне по душе из-за исключительно удобного кабинета с огромным книжным шкафом, забитым трудами по американской словесности, включая энциклопедию в двадцати томах. Моя Аннетточка предпочла бы одно из тех дачеобразных сооружений, которые также были предложены нам администрацией, но уступила, когда я заметил ей, что все то, что выглядит летом уютным и притягательно-старомодным, непременно становится мрачным и продувным во все остальное время.
Эмоциональное состояние Аннетты внушало мне беспокойство; ее изящная шейка как будто еще больше похудела и вытянулась. Выражение мягкой грусти придало новую, непрошеную красу ее Боттичеллиевому лицу; впалость абриса ниже скул подчеркивалась ее участившейся привычкой втягивать щеки в минуты неуверенности или задумчивости. В наши редкие моменты близости все ее хладные лепестки оставались сомкнутыми. Ее рассеянность пугающе усилилась: уличные кошки в ночные часы знали, что чудаковатое божество, которое не закрывает окно на кухне, оставляет приоткрытой и дверцу холодильника; вода в ванной то и дело переливалась через край, пока она звонила, хмуря свои невинные брови (с какой стати ей было тревожиться о моих страданиях, о моем хлещущем через край безумии?), чтобы узнать, как поживает мигрень или менопауза у особы с первого этажа; и эта ее общая невнимательность ко мне тоже сказалась на ее пренебрежении мерами предосторожности, которые ей следовало блюсти, так что осенью, после нашего переезда в злополучный дом Лэнгли, она сообщила мне, что местный доктор, у которого она только что побывала, разительно похож на Оксмана и что она уже два месяца как беременна.
Под моими беспокойными пятами теперь дожидался «ангел». Мою бедную Аннетту, бывало, охватывало гнетущее отчаяние, когда она пыталась выпутаться из хитросплетений американского быта. Наша домовладелица, занимавшая первый этаж, мигом разрешила ее трудности. Две хорошенькие бермудские студенточки с вертлявыми задками, одевавшиеся в свои национальные костюмы (фланелевые шорты и открытые блузки), на вид практически близняшки, слушавшие знаменитый Гостиничный курс в Квирне, приходили к ней готовить и прибирать, и она предложила нам разделить их услуги.
«Она доподлинный ангел», — поведала мне Аннетта на своем трогательно-искусственном английском.
В хозяйке я узнал профессоршу (низшего разряда) с русского отделения, с которой меня как-то познакомили в кирпичном здании кампуса, когда глава ее на удивление безотрадного департамента, мягкий, близорукий старик Ноутбок, пригласил меня посетить занятия «передовой группы» («Мы говорим по-русски. Вы говорите? Поговоримте тогда…» — и прочая поганая чушь в том же духе). К счастью, я не имел никакого отношения к русской грамматике в Квирне, если не считать того, что моя жена была в конце концов избавлена от отчаянной скуки, будучи привлечена для помощи начинающим под руководством миссис Лэнгли.
Нинель Ильинишна Лэнгли, лицо перемещенное не только в прямом значении слова[139], недавно оставила своего мужа, «великого» Лэнгли, автора «Марксисткой истории Америки», священной книги (больше не переиздающейся) целого поколения болванов. Причина, по которой они расстались («после одного года американского секса», — как она сказала Аннетте, передавшей мне эти сведения тоном дурацкого сочувствия), мне неведома; но на официальном обеде накануне его отъезда в Оксфорд мне довелось повстречать и невзлюбить самого профессора Лэнгли. Моя неприязнь к нему была вызвана тем, что он имел наглость оспорить мой метод преподавания «Улисса» — в сугубо буквальном ключе, отметающем аллегории, относящиеся к органам тела, квазигреческие мифы и прочий вздор в том же роде; вместе с тем его «Марксизм» был довольно остроумной и очень сдержанной штукой (возможно, даже слишком сдержанной, на взгляд его жены), в сравнении с общепринятым невежественным восхищением, каковое американские интеллектуалы питали к Советской России. Помню повисшее вдруг молчание и укромный обмен скептическими ухмылками, когда на приеме, устроенном в мою честь самым видным членом нашего английского отделения, я охарактеризовал большевицкое государство как обывательское во время передышки и скотское в действии; в международных отношениях соперничающее с богомолом в хищном притворстве; морочащее посредственностей своей литературой — сперва сохранив несколько талантов, оставшихся от прежней эпохи, а затем вычеркнув их собственной их кровью. Один из профессоров, моралист левого толка и одержимый стенописец[140] (в тот год он экспериментировал с автомобильными красками), демонстративно покинул зал. На другой день он, правда, послал мне действительно замечательное и более чем откровенное письмо с извинениями, в котором признался, что не может всерьез сердиться на автора «Эсмеральды и ее парандра» (1941), романа, который, несмотря на «пестрый стиль и барочную образность», является шедевром, «пощипывающим такие струны личной горечи, о возможности вибрации коих в его душе он, идейный художник, и не подозревал». Той же линии придерживались рецензенты моих книг, формально браня меня за недооценку «величия» Ленина и в то же время расточая такие похвалы, которыми им удалось в конечном счете растрогать даже меня, автора насмешливого и строгого, чья подготовительная работа в Париже так и не была никогда оценена по достоинству. Даже президент Квирна, робко симпатизировавший новомодной советчине, стоял в действительности на моей стороне: когда мы пригласили его к нам, он сказал мне (пока Нинель кралась к нашей лестничной площадке, чтобы подслушивать), что он почитает за честь и т. д. и находит мою «последнюю (?) книгу весьма интересной», хотя не может не посетовать на то, что в своих университетских курсах я при всяком случае критикую «нашего великого союзника». Я ответил, смеясь, что эта критика покажется детскими нежностями в сравнении с публичной лекцией «Трактор в советской литературе»[141], с которой я намереваюсь выступить в конце семестра. Он тоже рассмеялся и спросил Аннетту, каково это жить с гением (она только пожала своими прелестными плечами). Все это было très américan, и в моем ледяном сердце оттаяло целое предсердие.
Однако вернемся к добродетельной Нинели.
При рождении (1902) ей дали имя Нонна, а двадцать лет спустя переименовали в Нинель (или Нинеллу), удовлетворив ходатайство ее отца, Героя Труда и Пресмыкательства. По-английски она писала его Ninella, но друзья звали ее Ninette (Нинетта) или Nelly (Нелли), точно так же, как имя моей жены, Анна, превратилось в Аннетту и Нетти (как любила подмечать сама Нонна).
Нинелла Лэнгли была низкорослым, плотного сложения существом с лицом кирпичным и румяным (эти оттенки распределялись неравномерно), коротко остриженными волосами, выкрашенными в тещину рыжину, карими глазами, даже еще более безумными, чем у меня, очень тонкими губами, мясистым русским носом и тремя-четырьмя волосками на подбородке. Пока невинный читатель не взял курс на Лесбос, я хочу заметить, что, насколько мне удалось выяснить (а соглядатай я бесподобный), в ее смехотворной и безграничной привязанности к моей жене не было ничего «сексуального». В то время я не приобрел еще свою белую «Степную рысь», до появления которой Аннетта не дожила, так что не кто иная, как Нинелла, отвозила ее за покупками в своем изгаженном развалившемся автомобиле, пока находчивый жилец, приберегая экземпляры собственных романов, подписывал благодарным близняшкам старые детективы в мягких обложках и скучные памфлеты из чердачной коллекции Лэнгли, откуда слуховое окно услужливо открывало вид на дорогу туда и обратно из торгового центра. Не кто иная, как Нинелла, следила за тем, чтобы у ее обожаемой «Нетти» всегда было вдоволь белой вязальной шерсти. Не кто иная, как Нинелла, по два раза на дню приглашала ее к себе на чашечку чая или кофе; нашей же квартиры, во всяком случае, когда мы были дома, она старалась не посещать под тем предлогом, что там все еще попахивает мужниным табаком; я, помнится, возразил, что это моя собственная трубка, и позднее в тот же день Аннетта заметила мне, что мне вправду не стоит так много курить, особенно в доме, да еще поддержала другую абсурдную жалобу с нижнего этажа, а именно, что я расхаживаю туда-сюда до очень позднего часа, прямо над челом Нинеллы. Да, еще третья претензия: почему я не ставлю на полку тома энциклопедии в алфавитном порядке, как всегда делывал ее муж, поскольку (сказала она) «книга не на месте — потерянная книга», — форменный афоризм, не иначе.
Многоуважаемая миссис Лэнгли не была особенно счастлива на своей службе. Она владела приозерным бунгало («Деревенские розы») в тридцати милях на север от Квирна, и не так уж далеко от Хонивэльского колледжа, в летней школе которого она преподавала и с которым намеревалась вступить в еще более тесные отношения, если в Квирне будет сохраняться «реакционная» атмосфера. На деле все ее недовольство было сосредоточено на одной лишь дряхлой мадам де Корчаков[142], которая прилюдно выбранила ее за «сдобный» советский говорок и провинциальный лексикон, — с чем нельзя было не согласиться, хотя Аннетта утверждала, что коли я так считаю, то, значит, я бессердечный буржуй.
2
Первые четыре младенческие годы жизни Изабеллы так решительно отделены у меня в памяти семилетним пропуском от девичества Беллы, что кажется, будто у меня было два разных ребенка: веселое краснощекое созданьице и ее бледная, угрюмая старшая сестрица.
Я обзавелся ушными затычками — они оказались излишними: плача из детской не доносилось, дочурка нисколько не мешала моей работе над романом «Д-р Ольга Репнина» — история вымышленной русской профессорши в Америке, которая была издана (после довольно хлопотного периода печатанья по частям, требовавшего бесконечной вычитки корректур) Лоджем в 1946 году (в этот год Аннетта рассталась со мной) и провозглашена рецензентами, не упускавшими возможности поиграть словами, «смесью юмора и гуманизма» — эти «обозреватели» пребывали в уютном неведении относительного той уморы, что я приготовлю им пятнадцать лет спустя для их жутковатой потехи.
Приятно было наблюдать за Аннеттой, снимавшей в саду на цветную пленку меня с дочкой. Я любил катить коляску с очаровательной Изабеллой через лиственный и буковый лесок вдоль квирнской Каскадной реки, когда каждый отблеск солнца, каждое пятно тени сопровождались, так мне казалось, младенческим радостным одобрением. Я даже согласился провести большую часть лета 1945 года в «Деревенских розах». Вот там-то в один прекрасный день, когда я возвращался с миссис Лэнгли из ближайшей винной лавки или от газетного киоска, что-то сказанное ею, какая-то интонация или жест, вызвало во мне мимолетную судорогу, страшное подозрение, что не в мою жену, а в меня это мерзкое существо было влюблено с самого начала!
Мучительная нежность, которую я всегда испытывал к Аннетте, приобрела новую остроту из-за моих чувств к нашей малютке (я над нею «трясся», как Нинелла называла мое отношение к ней на своем вульгарном русском, сетуя, что оно может повредить ребенку, даже если «вычесть наигранность»). Такова была мирская сторона нашего супружества. Любовная же вконец разладилась.
Долгое время после ее возвращения из родильной палаты эхо ее страданий в темных коридорах моего сознания, с пугающими витражными окнами на каждом повороте (зрительное ощущение ее израненного устья) преследовали меня и лишали мужской силы. Когда же все во мне зарубцевалось и мое вожделение к ее бледным прелестям разгорелось вновь, его полнота и неистовство были изничтожены ее решительными, но по сути своей бессмысленными попытками восстановить между нами определенного рода любовную гармонию, ни на йоту не отступая от пуританских норм. Теперь она имела наглость — жалкую девичью наглость — настаивать на том, чтобы я обратился к психиатру (рекомендованному миссис Лэнгли), который помог бы мне научиться лелеять «умягчительные» мысли в моменты избыточного прилива крови. Я сказал, что ее приятельница — выродок, а она сама — дура, и между нами вышла ужаснейшая за все годы семейная ссора.
Близняшки с кремовыми ляжками давно уже вернулись со своими велосипедами на родные острова. Куда менее привлекательные девицы приходили теперь помогать по хозяйству. К концу 1945 года я практически перестал посещать жену в ее холодной спальне.
Как-то в середине мая 1946 года я отправился в Нью-Йорк (пятичасовая поездка по железной дороге) на обед с издателем, который предложил более выгодные условия, чем славный Лодж, для сборника моих рассказов «Изгнание с Майды». После приятной трапезы я шел в Публичную библиотеку в солнечной дымке обыкновенного дня, и по обыкновенному волшебству синхронизации она, Долли фон Борг, теперь двадцатичетырехлетняя, как раз сбегала по тем самым ступеням, по которым я взбирался ей навстречу, толстый знаменитый писатель во всей красе своих без малого пятидесяти лет. Если не считать отблеска седины в роскошной русой гриве, которую я начал отращивать для своих парижских выступлений свыше десяти лет тому назад, не думаю, что я мог так уж перемениться, чтобы у нее появилось основание сказать (с чего она и начала), что она бы ни за что меня не узнала, если бы ей так не полюбился портрет задумчивости на обороте «Истинной». Я-то сразу узнал ее, поскольку никогда не терял из виду ее образа, от случая к случаю подправляя его — в последний раз я внес исправления, когда ее бабка в ответ на рождественские поздравления моей жены в 1939 году прислала нам из Лондона карточку размером с почтовую открытку, на которой была гололягая девочка-подросток с пушистым веером и накладными ресницами, снятая во время какого-то школьного спектакля, — ну просто «шик и блеск». За две минуты, что были у нас на той лестнице (она двумя руками прижимала к груди книгу, а я стоял на ступень ниже, поставив правую ногу на следующую ступень, ее ступень, и похлопывал себя по колену перчаткой — жест, главным образом присущий тенорам) — за эти две минуты мы успели обменяться массой ординарных сведений.
Она теперь изучает историю театра в Колумбийском университете Нью-Йорка. Родители и их родители (старики Степановы) торчат в Лондоне. У меня есть ребенок, верно? Эти туфли, что на мне, очень даже. Студенты называют мои лекции «потрясными». Счастлив ли я?
Я покачал головой. Когда и где я могу увидеть ее?
Она втрескалась в меня давным-давно, о да, еще когда я гипнотизировал ее у себя на коленях, изображая нежного дядюшку Вожделенова и сбиваясь на каждой второй реплике, а теперь, значит, снова-здорово, и она положительно намерена с этим что-то сделать.
Занятный у нее лексикон. Суммируем. Миражи мотелей в глазке подставки для ручек. Есть ли у нее автомобиль?
Ну, это довольно неожиданно (смеясь). Она могла бы, возможно, одолжить на время его старый седан, хотя идея ему (указывая на плюгавого юнца, ожидавшего ее на тротуаре) вряд ли понравится. Он только что купил совершенно восхитительный «Гуммер», чтобы всюду разъезжать с ней.
Не могла бы она сказать мне, когда же мы сможем увидеться? Пожалуйста.
Она прочитала все мои романы, по крайней мере все английские. Ее русский совсем улетучился!
К черту мои романы! Когда?
Я должен ей дать подумать. Она могла бы зайти ко мне в конце семестра. Терри Тодд (теперь меривший лестницу глазами, готовясь к восхождению) недолгое время был моим студентом; получил «весьма посредственно» с минусом за первую свою работу и бросил Квирн.
Я сказал, что предаю забвению всех посредственностей до скончанья времен. А это ее «в конце семестра» может отклониться в минусовую вечность. Я попросил ее быть поточнее.
Она даст мне знать. Она позвонит на будущей неделе. Нет, она не скажет мне свой номер. Полюбуйтесь-ка на этого паяца! — сказала она (юнец уже поднимался по лестнице). Парадиз — персидское слово[143]. Это вышло совсем по-персидски вот так встретиться снова. Она могла бы забежать ко мне в кабинет на пару минут, только чтобы поболтать о прошлом. Она знает, как занят — «А, Терри: это писатель, тот самый, который написал „Смарагд и пандору“»[144].
Не могу вспомнить, что именно я намеревался поискать в библиотеке, но уж точно не эту никому не известную книгу. Я бесцельно прошел через несколько залов, поднимаясь и спускаясь по лестницам, униженно посетил ватерклозет и просто не мог, не прибегая к кастрации, избавиться от ее нового образа в его собственном портативном освещении — прямые светлые волосы, веснушки, банально-надутые губки, миндалевидные, как у Лилит, глаза, — хотя я знал, что она была только то, что называется «потаскушка», и, возможно, оттого-то и не мог.
Я прочитал предпоследнюю в весеннем семестре лекцию о «Шедеврах». Прочитал последнюю. Мой ассистент раздал «синие тетради»[145] для заключительного экзамена по этому курсу (укороченному мною по состоянию здоровья) и собрал их, пока три или четыре безнадежно подающих надежды студента все продолжали бешено строчить в разных частях зала. Прошел мой последний в этом году семинар по Джойсу. Маленькая баронесса Борг забыла окончанье сна.
В последние дни весеннего семестра особенно бестолковая приходящая нянька сказала мне, что какая-то девушка, имя которой она точно не уловила — Толлбёрд или Дальберг, — по телефону просила передать, что она уже на пути в Квирн. Так вышло, что Лили Тальбот из моего шедеврового класса пропустила экзамен. На другой день я пришел в свой кабинет для сурового испытания — проверки треклятой груды экзаменационных работ, сваленной на моем столе. «Официальная экзаменационная тетрадь Квирнского университета». Предпосылкой подготовки к экзамену служит поголовный страх. Пишите как на правых, так и на левых последующих страницах. Что именно подразумевается под «последующими», сэр? Хотите ли вы, чтобы мы описали всех птиц в рассказе или только одну? Как правило, десятая часть из трехсот мыслителей предпочитает писать «Штерн» вместо «Стерн» и «Остин» вместо «Остен».
На моем широком столе («двуспальном», как называл его мой похабный сосед, профессор Кинг, знаток Данте) зазвонил телефон, и Лили Тальбот принялась объяснять, речисто и неубедительно, приятным, конфиденциальным, хрипловатым голоском, почему она пропустила экзамен. Я не мог вспомнить ни ее лица, ни фигуры, но приглушенная мелодия, щекотавшая мне ухо, была исполнена столькими приметами юного очарования и уступчивости, что я не мог не выбранить себя за то, что проглядел ее в своем классе. Она уже почти дошла до сути, когда по-детски нетерпеливый стук в дверь отвлек мое внимание. Вошла, улыбаясь, Долли. Улыбаясь, она наклоном подбородка указала мне, что трубку следует положить. Улыбаясь, она сбросила со стола экзаменационные тетрадки и уселась на него, задрав свои голые лодыжки на уровень моих плеч. То, что предвещало неописуемо-изысканные любовные радости, обернулось самой затасканной сценой в настоящих мемуарах. Я поспешил утолить жажду, что уже дыру прожгла в оксюмороне моей жизни с того самого времени, когда я ласкал совсем другую Долли, тринадцать лет тому назад. Окончательное содрогание обрушило настольную лампу, и из класса напротив, через коридор, донесся взрыв аплодисментов — профессор Кинг закончил свою последнюю лекцию в этом учебном году.
Вернувшись домой, я нашел свою жену сидящей в одиночестве на веранде. Она тихонько и немного косо покачивалась на своем любимом диване-качалке и читала «Красную ниву», советский журнал[146]. Ее поставщица литературы отсутствовала, она принимала у неких будущих ослов-переводчиков последний экзамен. Погулявшая перед сном на свежем воздухе Изабелла спала в своей комнате, что находилась прямо над верандой.
В те дни, когда «бермудки» (как Нинелла непристойно называла их) обслуживали мои скромные нужды, я по завершении процедуры не испытывал никакой вины и встречал свою жену обычной, нежно-ироничной улыбкой; но после этого случая мне казалось, будто все мое тело покрыто жгучей слизью и мое сердце пропустило удар, когда она, подняв голову и удерживая строчку своим пальчиком, спросила: «Та девушка, она снеслась с тобой в кабинете?»
Я ответил, как мог бы ответить герой романа, — «утвердительно».
«Ее родители, — прибавил я, — писали тебе, по-видимому, что она приезжает на учебу в Нью-Йорк, но ты мне не дала прочесть это письмо. Tant mieux, она прескучная особа».
Аннетта выглядела совершенно сбитой с толку.
«Я говорю, — сказала она, — или пытаюсь сказать о студентке по имени Лили Тальбот, которая звонила с час тому, чтобы объяснить, почему она пропустила экзамен. А о какой девушке говоришь ты?»
Мы принялись распутывать барышень. После некоторых моральных колебаний («Ты же знаешь, что мы оба многим обязаны ее деду и бабке») Аннетта согласилась с тем, что нам и правда не стоит принимать у себя бродяжек. Она как будто припомнила то письмо, потому что в нем упоминалась ее овдовевшая мать (переехавшая теперь в комфортабельный дом престарелых, в который я недавно превратил свою виллу в Карнаво, — несмотря на доброжелательные возражения своего адвоката). Да-да, она его куда-то задевала — и однажды найдет его в какой-нибудь библиотечной книге, которая так никогда и не была возвращена в недосягаемую библиотеку. Странное умиротворение струилось теперь по моим презренным венам. Небылицы ее рассеянности всегда заставляли меня добродушно смеяться. Я добродушно рассмеялся. Я поцеловал ее в бесконечно нежный висок.
«А как теперь выглядит Долли Борг? — спросила Аннетта. — Она была очень неказистой и очень дерзкой маленькой негодницей. Довольно отталкивающей, должна сказать».
«Такой и осталась!» — почти крикнул я, и тут же мы услышали зов нашей малышки Изабеллы из открытого окна: «Я проснулась!»
Как легко проносились весенние облака! Как бойко этот красногрудый дрозд на лужайке вытянул своего целого червя! Ах, вот и Нинелла наконец-то воротилась домой, выбирается из своего автомобиля со стянутыми бечевкой тушками cahiers под крепкой рукой. «Бог мой, — сказал я себе, пребывая в своей постыдной эйфории, — все-таки есть что-то милое и уютное в тетушке Нинель!» И всего несколькими часами позднее свет в Аду погас, и я уже лежал и корчился, и выкручивал все свои четыре конечности — да, в агонии бессонницы, пытаясь найти хоть какую-нибудь комбинацию, какое-нибудь сочетание между подушкой и шеей, простыней и плечом, льняным бельем и ногой, которое помогло бы мне, помогло бы мне, о, помогло бы мне достичь Рая дождливой зари.
3
Из-за все возраставшего расстройства моих нервов о получении водительских прав не стоило и думать; посему я доверил Долли править грязноватым старым седаном Тодда, отыскивая подходящую темень на загородных проулках, которые не так-то просто было найти и которые, будучи найдены, не оправдывали ожиданий. У нас состоялось три таких рандеву неподалеку от Нью-Свивингтона или где-то в тех краях, в путаных окрестностях Казановии — вот как! — и несмотря на свое одурманенное состояние, я не мог не отметить, что Долли по душе эти непрестанные блуждания, неверные повороты, потоки дождя, сопровождавшие нашу жалкую интрижку.
«Ты только подумай, — сказала она в одну особенно топкую июньскую ночь, когда мы заехали неведомо куда, — как бы все упростилось, если бы кто-нибудь рассказал твоей жене о нас с тобой, только подумай!»
Смекнув, что с оглашением этой идеи она зашла слишком далеко, Долли сменила тактику и на другой день позвонила мне на кабинетный номер в колледже, чтобы, вовсю изображая ликующее возбуждение, сообщить, что Бриджет Долан, студентка медицинского колледжа и кузина Тодда, предоставляет в наше распоряжение за небольшое вознаграждение свою нью-йоркскую квартиру по понедельникам и четвергам, после обеда, когда она подрабатывает санитаркой в госпитале Чего-то Там Святого. Инерция и апатия скорее, чем Эрос побудили меня согласиться; под предлогом необходимости закончить литературное исследование я якобы отправился в Публичную библиотеку и в переполненном пульмановском вагоне переехал из одного кошмара в другой.
Она встретила меня у дома, распираемая торжеством, размахивающая ключиком, ловившим в тепличной мороси отблески солнца. После поездки я был так слаб, что с трудом выбрался из такси, и она, щебеча, как веселое дитя, помогла мне дотащиться до двери. К счастью, таинственная квартира располагалась на первом этаже — я бы не вынес скрежета и спазмов лифта. Угрюмая консьержка (напоминающая в мнемонической реверсии церберш в гостиницах советской Сибири, в которых мне пришлось останавливаться два десятилетия спустя) потребовала, чтобы я записал в журнал свое имя и адрес («Такое правило», — пропела Долли, успевшая подхватить кое-какие местные речитативы). Мне хватило самообладания нацарапать самый надуманный адрес, какой я только мог измыслить в эту минуту: «Думберт Думберт, Думбертон»[147]. Долли, мурлыча, не спеша добавила мой плащ к другим повешенным в общей прихожей. Если бы она хоть раз в жизни испытала мучения неврологической горячки, она бы не стала возиться с ключом, тем более что ей отлично было известно, что дверь этой так называемой «изысканной частной квартиры» даже не была как следует заперта. Мы вошли в кричащую, по-видимому, ультрасовременную гостиную с неудобной крашеной мебелью и одиноким креслом-люлькой, в котором помещалась двуногая плюшевая крыса вместо плаксивого ребенка. Дверей по-прежнему было не избежать, никак не избежать. Через ту, что была слева, неплотно закрытую, доносились голоса из смежной квартиры или психиатрического отделения.
«Да ведь там какая-то вечеринка!» — запротестовал я, на что Долли неслышно и проворно притянула дверь, почти закрыв ее.
«Собралась отличная приятельская компания, — сказала она. — А в этих комнатах станет ужасно жарко, если заткнуть каждую щель. Вторая дверь направо. Вот и пришли».
Вот мы и пришли. Медицинская сестра Долан ради «атмосферы» и из профессиональной эмпатии наспех обставила свою спальню на больничный манер: белоснежная койка с системой рычагов, от которой бы даже Большой Петр (из «Красного цилиндра») сделался импотентом; отмытые до блеска комоды и стеклянные шкапчики; столь любимая юмористами таблица для проверки зрения в изголовье и Список Правил, прикрепленный кнопками к двери уборной.
«Ну-ка, снимай пиджак! — весело воскликнула Долли. — А я пока расшнурую эти миленькие туфли» (живо приседает к моим отступающим ногам и так же живо поднимается).
«Ты с ума сошла, дорогая, — сказал я, — если думаешь, что я могу помышлять о близости в этом жутком месте».
«Чего ж ты тогда хочешь? — спросила она, гневно отбрасывая прядь волос со своего вспыхнувшего лица и раскручиваясь во всю свою естественную вышину. — Где ты найдешь еще такую первоклассную, гигиеничную, совершенно —»
Ее прервал посетитель: коричневая, с седыми скулами старая такса, горизонтально несущая в пасти резиновую кость. Она пришла со стороны гостиной, положила неприличную красную штуковину на линолеум и стала на месте, переводя взгляд с меня на Долли, снова на меня с выражением тоскливого ожидания на своей поднятой кверху морде. Хорошенькая голорукая девушка в черном проскользнула к нам, подхватила собаку, ударом ноги отшвырнула ее игрушку назад в гостиную и сказала:
«Алло, Долли! Если ты со своим дружком захочешь потом чего-нибудь выпить, пожалуйста, присоединяйся к нам. Бриджет звонила: она придет домой пораньше. Сегодня у Джи Би именины».
«Лады, Кармен, — ответила Долли и, повернувшись ко мне, продолжила по-русски: — По-моему, тебе нужно выпить прямо сейчас. Ох, ну идем же! И ради бога, оставь этот пиджак и жилет здесь. Ты же пропитан потом».
Она выпихнула меня из комнаты. Я принялся роптать и вздыхать. Машинально пригладив безупречно заправленную койку, она пошла следом за человеком из снега, человеком из воска, за кривобоким умирающим человеком.
Большая часть гостей из соседней комнаты теперь переместилась в гостиную. Узнав Терри Тодда, я съежился и попытался скрыть лицо. Он поднял стакан в знак деликатного поздравления. Что пришлось сделать этой шлюхе, чтобы превратить в соучастника соперника своего хахаля, я никогда не узнаю; но ясно другое: мне не следовало вводить ее в мой «Красный цилиндр»; вот так у нас и вырастают живые чудовища из маленьких балерин в книжках. Еще одного человека, бывшего среди них, мне как-то уже случалось видеть — в автомобиле, который то и дело обгонял нас где-то за городом, — молодой актер с приятными ирландскими чертами, приставший ко мне с чем-то, что он называл «гонолульской шипучкой», но, поскольку на авроровой стадии припадка алкоголь на меня не действует, я распробовал только ананасовую составляющую микстуры. Окруженный подхалимами, детина размером с быка, в рубашке с короткими рукавами и вышитыми инициалами «Джи Би», позировал, обхватив волосатой лапой Долли, для сомнительного снимка, который делала его жена. Кармен взяла у меня мой липкий стакан и поставила его на свой чистенький подносик с коробочкой для таблеток и градусником в уголке. Не найдя, куда бы присесть, я прислонился к стене, и от прикосновения моего затылка дешевая абстрактная картина в пластмассовой рамке закачалась у меня над головой; ее остановил Тодд, который бочком подошел ко мне и конфиденциальным тоном сказал:
«Все улажено, проф, теперь все довольны. Я держал миссис Лэнгли в курсе, еще бы, она и ваша супружница напишут вам. Они-то уж, наверное, съехали, а ваша дочурка думает, что вы на небесах… Эй, эй, в чем дело!»
Я не боксер. Я только ушиб руку о торшер и потерял в потасовке обе туфли. Терри Тодд исчез — причем навсегда. В одной комнате названивали, а в другой, напротив, трезвонил телефон. Долли, вновь изменившаяся до неузнаваемости магией своего пылающего гнева и утратившая всякое сходство с той девочкой, что бросила мне французское слово из трех букв, когда я сказал, что разумнее будет прекратить пользоваться тем, что ее дедушка лежит в больнице, буквально разодрала мой нашейный платок на две части, крича, что она легко может упрятать меня в тюрьму за изнасилование, но предпочитает полюбоваться, как я приползу назад к своей дражайшей и гарему из нянек (ее теперешний лексикон, впрочем, оставался вполне ходульным, даже когда она визжала).
Я чувствовал себя загнанным в угол, как серебряная горошина, залученная в центр игрушечного лабиринта. Грозная толпа, сдерживаемая Джи Би, главным врачом, оттеснила меня от выхода; пришлось ретироваться в отдельную палату Бриджет, где я узрел с чувством облегчения (все та же «аврорность», увы), что по ту сторону ранее незамеченной, полуотворенной стеклянной двери растянулся на баснословное расстояние внутренний двор или только одна благоустроенная часть внутреннего двора с легко одетыми пациентами, циркулирующими по геометрии газонов и садовых дорожек или мирно сидящими на скамейках. Шатаясь, я вышел наружу, и, когда мои ступни в белых носках коснулись холодного дерна, я заметил, что паскудная бродяжка распустила у щиколоток завязки длинных полотняных подштанников, что были на мне. Как-то, где-то я сбросил и растерял всю остальную свою одежду. Стоя там, с головой, переполненной чернотой почти неведомой мне доселе боли, я ощутил порыв какого-до движения по ту сторону двора. Там, там, вдалеке, сестра Долан или Нолан (на таком расстоянии эти тонкие различия уже не имели значения) вышла из дальнего крыла госпиталя и бросилась ко мне на помощь. Двое мужчин следовали за нею с носилками. Участливый пациент подобрал оброненное ими одеяло.
«Знаете что, знаете что… вам не следовало этого делать, — крикнула она, задыхаясь. — Не двигайтесь, они помогут вам встать (я повалился на дерн). Если бы вы сбежали после операции, вы бы могли умереть прямо на этом месте. Подумайте, в такой славный денек!»
И меня понесли два дюжих носильщика, от которых всю дорогу смердело (от переднего непрерывно, а от заднего — ритмичными порывами), — но не в постель Бриджит, а в настоящую больничную койку в трехместной палате, где меня положили между двух стариков, умиравших от воспаления мозга[148].
4
Деревенские розы
13. IV. 46
Мое решение, Вадим, не подлежит обсуждению. Тебе придется смириться с моим уходом, как с fait accompli.[I] Если бы я действительно любила тебя, я бы тебя не бросила, но я никогда тебя по-настоящему не любила, так что, может быть, эта твоя выходка (наверняка не первая со времени нашего приезда в эту зловещую «свободную» страну [II]) для меня лишь повод, чтобы с тобою расстаться.
Мы никогда не были так уж счастливы вместе, ты и я, за все двенадцать [III] лет нашего брака. С самого начала ты относился ко мне как к очаровательному, послушному, но определенно не оправдавшему ожиданий дуровскому зверьку [IV], которого ты пытался выучить гадким аморальным трюкам — осуждаемым в качестве таковых, как говорит моя верная подруга (без которой я бы, наверное, не выжила в мертвенном Квирне [V]), передовыми научными светилами нашей родины. С другой стороны, я была так неприятно ошеломлена твоим trenne (sic) [VI] de vie, твоими привычками, твоими чернокудрыми [VII] друзьями, твоими декадентскими романами и — почему не признать? — твоим патологическим отвращением к Искусству и Прогрессу в Стране Советов, включая восстановление миленьких старых церквей [VIII], что я бы развелась с тобой, если бы смела расстроить [IX] бедных папу и маму, которые так страстно желали по своей гордости и простодушию, чтобы, обращаясь к их дочери, люди (помилуйте, какие люди?) говорили «Ваше Сиятельство».
Теперь подходим к важному требованию, к безусловному запрету. Никогда, никогда — по крайней мере покуда я жива — никогда, повторяю, не пытайся вступить в связь с ребенком. Я не знаю — Нелли в этом лучше разбирается, — каково положение дел с юридической стороны, но я знаю, что в определенных вещах ты джентльмен, и сейчас я обращаюсь к джентльмену, к нему взываю: прошу, прошу, держись подальше! Если же какая-нибудь ужасная американская хворь поразит меня, помни, я хотела бы, чтобы она была воспитана как православная христианка [X].
Мне было жаль узнать, что ты попал в больницу. Это твой второй и, надеюсь, последний припадок неврастении [XI] с тех пор, как мы совершили ошибку, покинув Европу, вместо того чтобы спокойно ждать, когда Советская армия освободит ее от фашистов. Прощай.
P. S. Нелли прибавит несколько строк.
Спасибо, Нетти. Я и впрямь буду краткой. Сведения, переданные нам женихом Вашей подружки и его матушкой [XII], святой женщиной, исполненной бесконечного сочувствия и здравого смысла, были лишены, по счастью, элемента грозной неожиданности. Соседка по комнате Береники Мудье (та самая, что украла граненный под хрусталь графин, подаренный мне Нетти) еще года два тому назад распространяла кое-какие странные слухи. Я старалась оградить Вашу чувствительную жену, не допуская, чтобы эти сплетни доползли до нее или, на худой конец, чтобы не кто-то чужой, а я сама указала ей на них очень косвенным, полушутливым образом — спустя какое-то время после того, как эти блудницы съедут. Теперь поговорим начистоту (talk turkey) [XIII].
Я уверена, что никаких сложностей с отделением ее имущества от Вашего не возникнет. Она говорит так: «Пусть забирает бесчисленные экземпляры своих романов и все изодранные словари», но у нее должны остаться ее домашние сокровища, например мои маленькие подарки ей ко дню рождения: посеребренная чаша для икры, шесть светло-зеленых бокалов выдувного стекла и проч.
Я как никто могу посочувствовать Нетти в этой семейной катастрофе, потому что мое собственное замужество во многих, очень многих отношениях напоминает ее. А ведь все так счастливо начиналось! Я оказалась без средств к существованию, затерянная на территории, внезапно захваченной эстонскими фашистами, — бедная, гонимая войной московская девчушка [XIV]. Тогда-то я и встретила профессора Лэнгли в очень романтических обстоятельствах: я была приставлена к нему переводчицей (изучение иностранных языков поставлено в Стране Советов на беспримерно высокий уровень); когда же я была отправлена по морю вместе с другими Ди-Пи в США и мы вновь встретились и поженились, все пошло не так: днем он попросту игнорировал меня, а наши ночи были исполнены несовместимости (incompatibility) [XV]. Единственным полезным следствием стало то, что я, так сказать, унаследовала адвоката, мистера Горация Пеппермилла, который согласился проконсультировать Вас и оказать Вам помощь в улаживании всех деловых формальностей. С Вашей стороны было бы разумно последовать примеру проф. Лэнгли и предоставить Вашей жене месячное содержание, положив в то же время в банк изрядную «гарантийную сумму», которая может быть предоставлена ей в крайних случаях и, разумеется, после Вашей кончины или при продолжительной смертельной болезни. Мы не обязаны напоминать Вам, что миссис Благово по-прежнему должна регулярно получать свой обычный чек, вплоть до особого указания.
Квирнский дом будет тут же выставлен на продажу — он так и кишит ненавистными воспоминаниями. Следовательно, как только Вас выпустят, что, как я надеюсь, произойдет без замедления (without retardment, sans tarder), пожалуйста, съезжайте с квартиры [XVI]. Я не поддерживаю никаких отношений с мисс Мирной Соловей — на самом-то деле попросту Соловейчик — с моего отделения, но знаю, что у нее настоящий талант по выискиванию съемного жилья.
После всех этих дождей настали ясные дни. В это время года озеро так прекрасно! Мы собираемся заново обставить нашу чудную маленькую дачу. Единственным ее недостатком в некотором смысле (и преимуществом во всех остальных!) является то, что она расположена немножко далековато от цивилизации, или по крайней мере от Хонивельского колледжа. Полиция всегда начеку в отношении любителей поплескаться нагишом, а также бродяг и проч. Мы всерьез подумываем о том, чтобы завести крупную немецкую овчарку! [XVII]
Примечания
I. En français dans le texte.
II. Первые четыре или пять строк, вне всякого сомнения, аутентичны, но затем появляются кое-какие детали, которые убеждают меня, что за всем этим сообщением стояла не Нетти, а Нелли. Только советская женщина могла бы так отозваться об Америке.
III. Сперва было напечатано «четырнадцать», но мастерски подчищено и заменено на правильное «двенадцать», что хорошо видно на копии (под копирку), которую я нашел пришпиленной «на всякий случай» к настольному календарю в моем домашнем кабинете. Нетти была совершенно неспособна произвести столь аккуратный текст — тем более на машинке с новой орфографией, которой пользовалась ее подруга.
IV. Речь идет об известном русском клоуне Дурове — отсылка менее естественная для моей жены, чем для человека старшего поколения, к которому принадлежит ее подруга.
V. Здесь Quirn пренебрежительно транслитерирован как Kvirn.
VI. Показательная ошибка в слове «train»: французский Аннетты был безупречен; французский же Нинетты (равно как и ее английский) был посмешищем.
VII. Моя жена, выросшая в русском реакционном окружении, не была образцом расовой терпимости, но она никогда не прибегала к вульгарным антисемитским выражениям, присущим нраву и семейному воспитанию ее подруги.
VIII. Вставка с этими «миленькими старыми церквями» — трафаретная плоскость советского патриотизма.
XIX. На деле моя жена при любой возможности скорее предпочитала огорчить своих родителей.
X. Я бы мог для этого что-нибудь сделать, если бы знал наверняка, чье именно это было желание. Чтобы досадить своим родителям — странное, но неизменное ее стремление, — Аннетта никогда не ходила в церковь, даже на Пасху. Что же касается миссис Лэнгли, то ее лозунгом был набожный декорум — женщина эта крестилась всякий раз, что американский Юпитер разрывал черные тучи.
XI. «Неврастения», подумать только!
XII. Совершенно новый персонаж эта матушка. Мифическое лицо? Олицетворенное возмездие? Я обратился за разъяснениями к Бриджет; она сказала, что там не было такого человека (настоящая миссис Тодд давно умерла), и с раздраженной безапелляционностью, с какой отмахиваются от предмета обсуждения, порожденного чьим-то бредом, посоветовала мне «оставить эту тему». Я готов согласиться, что мои воспоминания о сцене в ее квартире искажены моим тогдашним состоянием, но все же эта «святая мать» остается загадкой.
XIII. En Anglais dans le texte.
XIV. Московской девчушке было в то время под сорок.
XV. En Anglais dans le texte.
XVI. Вот этого я и не подумал сделать до тех пор, пока не истек срок найма, что произошло 1 августа 1946 года.
XVII. Позвольте нам воздержаться от заключительного комментария.
Прощайте, Нетти и Нелли. Прощайте, Аннетта и Нинетта.
Прощай, Нонна Анна.
Часть четвертая
1
Учась водить этот «Каракал» (как я любовно прозвал свой новый белый двухместный автомобиль), я попадал как в комичные, так и драматичные ситуации, но после двух провалов на экзамене и нескольких мелких починок я решил, что наконец юридически и физически готов пожинать плоды, предприняв длительную поездку на Запад. Мне пришлось, правда, пережить момент острой муки, когда первые далекие горы вдруг утратили всякое сходство с сиреневыми облаками и я вспомнил мои поездки с Айрис на Ривьеру в нашем старом «Икаре». Если она порой и разрешала мне браться за руль, то только шутки ради, ведь она была такой проказницей. С какой бурей рыданий я теперь вспоминал тот случай, когда я ухитрился сбить велосипед почтальона, оставленный прислоненным к розовой стене на въезде в Карнаво, и как моя Айрис сложилась пополам, хохочущая красавица, когда он покатил прямо перед нами!
Остатки лета я провел, исследуя невероятно лиричные штаты Скалистых гор, где пьянел от ароматных дуновений Восточной России в полынной полосе и от севернорусских благоуханий, с такой точностью воссоздававшихся над верхней границей леса теми крошечными болотцами, что тянутся вдоль небесных ручейков между снегами и орхидеями. Впрочем — разве только это? Какая разновидность таинственных розысков заставляла меня, как в детстве, промачивать ноги, задыхаться, карабкаясь по склону, заглядывать в личико каждого одуванчика, пускаться в путь, лишь только какая-нибудь красочная былинка унесется за пределы моего поля зрения? Откуда это сновидческое чувство, будто я пришел с пустыми руками — не взяв что? Ружье? Тросточку? Выяснить это я не решался, дабы не бередить раны под тонким слоем моей личности.
Пропустив учебный год в своего рода преждевременном «научном отпуске»[149], лишившем кураторов Квирнского университета дара речи, я провел зиму в Аризоне, где пытался написать «Невидимую планку» — книгу, очень схожую с той, что читатель держит в руках. Нечего говорить, я не был готов к ней и, возможно, переусердствовал с неизъяснимыми оттенками чувств; так или иначе, этот роман задохнулся у меня под чрезмерным наслоением смыслов, вроде того как русская баба в своей душной избе, впав в тяжкое забытье после сенокоса или порки пьяным мужем, может заспать своего ребенка.
Я снова пустился в путь, отправившись в Лос-Анджелес, и там с огорчением узнал, что фильмовая компания, на которую я рассчитывал, оказалась на грани банкротства после смерти Айвора Блэка. На обратном пути, ранней весной, то там, то здесь я заново открывал заветные видения своего детства в нежной зелени осиновых рощ высоко в горах и на покрытых хвойными лесами хребтах. В продолжение почти шести месяцев я вновь переезжал из мотеля в мотель, не раз мой автомобиль получал ссадины и затрещины от дорожных кретинов-обгонщиков, и в конце концов я обменял его на степенный седан «Белларгус», небесно-голубого цвета, который Белла сравнила с окрасом «морфиды»[150].
Другая странность: с провидческой тщательностью я записывал в дневник все свои стоянки, названия всех мотелей («Mes Moteaux», как сказал бы Верлен!)[151] — «Озерные виды», «Дольние виды», «Горные виды», «Двор пернатого змея» в Нью-Мексико[152], «Приют Лолиты» в Техасе, «Одинокие тополя», которые могли бы патрулировать целую реку, если их завербовать. И столько закатов! Ими можно было бы осчастливить всех летучих мышей на земле — и одного умирающего гения. Планка, планка арлекина![153] Взгляните на арлекинов! В. и В.! Взгляните-ка на эту странную скарлатиновую сыпь дорожной сводки данных, которые я собирал с таким упорством, словно бы зная, что эти мотели являются прообразами постоялых дворов моих будущих путешествий с моей любимой дочерью.
В конце августа 1947 года, загорелый и еще более нервозный, чем обычно, я вернулся в Квирн и перевез свои вещи со склада в новое жилище (Ларчделл-роуд, 1), которое для меня подыскала толковая и миловидная мисс Соловей. Это был очаровательный двухэтажный дом серого камня с видовым окном и белым роялем в обширной гостиной, тремя непорочными спальнями наверху и библиотекой в цокольной части. Он принадлежал покойному Ольдену Ландоверу, величайшему американскому беллетристу середины XX века[154]. При поддержке сияющих кураторов, пользуясь их благорасположением по причине моего возвращения в Квирн, я решил приобрести этот дом. Мне пришелся по душе витавший в нем академический душок — удовольствие, редко доставляемое моей необыкновенно чувствительной мембране Брунна[155], — а кроме того, полюбилась его живописная уединенность среди огромного запущенного сада над крутым склоном, где росли лиственницы и кусты золотарника.
Чтобы Квирн и впредь оставался мне признателен, я также решил совершенно пересмотреть свой вклад в его репутацию. Я покончил с джойсовским семинаром, который в 1945 году прельстил (если можно так выразиться) всего шестерых слушателей: пятерых несгибаемых аспирантов и одного слегка тронутого второкурсника. В качестве компенсации я добавил к моей недельной квоте третью лекцию о «Шедеврах» (включавших теперь и «Улисса»); однако главным моим нововведением стал тот смелый метод, с помощью которого я теперь преподносил сумму знаний. В свои первые годы в Квирне я заготовил две тысячи страниц литературных примечаний, отпечатанных моим ассистентом (я, кстати, еще не представил его: Вальдемар Экскюль, блестящий молодой остзеец, несравнимо более ученый, чем я; dixi, Экс![156]). Копировальщики размножили их в количестве, достаточном по меньшей мере для трехсот студентов. В конце каждой недели студенты получали по пачке из сорока страниц, уже прочитанных мною (с кое-какими дополнениями) в лекционном зале. «Кое-какие дополнения» были моей уступкой кураторам, резонно заметившим мне, что без этой уловки никто не станет посещать моих лекций. Три сотни копий двух тысяч напечатанных страниц читателям следовало подписать и возвратить мне перед заключительным экзаменом. На первых порах эта система давала сбои (так, в 1948 году ко мне возвратилось лишь 153 неполных комплекта лекций, многие из которых не были подписаны), но в целом она с задачей справлялась, или должна была справляться.
Еще одно принятое мною решение относилось к тому, чтобы покороче, чем то было прежде, сойтись с университетской братией. Красная стрелка на моей круговой шкале теперь останавливалась, дрожа, на весьма умеренном значении, когда, совершенно голый, с висящими, как у неуклюжего троглодита, руками я стоял на роковой платформе и с помощью своей новой горничной, обворожительной чернокожей девушки с египетским профилем, пытался разобрать то, что открывалось на половине пути в расплытии между моими очками для чтения и очками для дальнего обзора: великое торжество, отмеченное мною приобретением нескольких новых «платьев», как моя Ольга Репнина говорит в названном ее именем романе: «I don’t know (все „о“ как в слове „don“ или „anon“), why your horseband wears such not modern costumes»[157]. Я стал частенько захаживать в «Паб», университетский кабак, где пробовал сдружиться с молодыми мужчинами в белых туфлях, но почему-то только спутывался с официантками. Вдобавок я занес в свой дневничок адреса около двадцати сотоварищей-профессоров.
Из новых моих друзей самым дорогим для меня стал хрупкий на вид, печальный, с несколько обезьяньим лицом человек, черную гриву волос которого к пятидесяти пяти годам пронизывала седина, — пленительно-талантливый поэт Одас[158], чьим предком по отцовской линии был красноречивый и злополучный жирондист с той же фамилией («Bourreau, fais ton devoir envers la Liberte!»), но который не знал ни слова по-французски, а по-американски говорил со среднезападным акцентом. Другой любопытный поворот в родословной оказался у Луизы Адамсон, молодой жены главы нашего английского департамента: ее бабка, Сибилла Ланье, была победительницей Женского национального турнира по гольфу в Филадельфии в 1896 году!
Литературная известность Джеральда Адамсона в значительной мере превосходила куда более важную, горько-язвительную и скромную славу Одаса. Джерри был огромным обрюзглым увальнем, которому было уже под шестьдесят, когда, после долгой жизни, что он провел аскетичным эстетом, он поразил тесный круг своих знакомых, женившись на этой фарфороволикой красавице[159] весьма легкомысленного нрава. Его знаменитые эссе — о Донне, о Вийоне, об Элиоте, его философская поэзия, его недавние «Laic Litanies»[160] («Мирские молитвы») и прочие сочинения ничего для меня не значили, но он был обаятельным старым пьянчугой, чьи юмор и эрудиция могли одолеть замкнутость и самого завзятого бобыля. Я поймал себя на том, что мне бывали приятны частые вечеринки, на которых добрейший Ноутбок и его сестра Фонема, а также очаровательные Кинги, Адамсоны, мой любимый поэт и еще дюжина других людей делали все возможное, чтобы развлечь и ободрить меня.
Луиза, у которой была в Хонивеле любознательная тетка, с тактичными промежутками снабжала меня сведениями о житье Беллы. Одним весенним днем 1949 или 1950 года, после делового свидания с Горацием Пеппермиллом, я остановился у винной лавки в придорожном торговом центре в Роузделе и уже собирался выехать со стоянки, когда увидел Аннетту, склонившуюся над детской коляской напротив бакалеи на другой стороне торговой площади. Что-то в ее наклоненной шее, в горестном внимании, в едва обозначенной улыбке, обращенной к сидевшему в коляске ребенку, пронзило мою душу такой болью сострадания, что я не мог устоять против того, чтобы ее не окликнуть. Она повернулась ко мне, и прежде чем я успел произнести какие-то сумбурные слова — слова сожаления, отчаяния, нежности, — она покачала головой, не позволяя мне подойти ближе. «Никогда», — проговорила она, и у меня не хватило духу разобрать, что именно выражало ее бледное, искаженное лицо. Вышедшая из магазина женщина поблагодарила ее за то, что она присмотрела за маленькой незнакомкой — бледненьким и худосочным ребенком, казавшимся почти столь же враждебно настроенным, сколько и Аннетта. Я поспешно воротился на стоянку автомобилей, кляня себя за то, что не сообразил, что Белла теперь уже не младенец, а девочка лет семи или восьми. Влажно-лучистый взгляд ее матери преследовал меня несколько ночей кряду; я чувствовал себя настолько плохо, что даже не смог пойти на пасхальную вечеринку к одним из моих квирнских друзей.
Во время этого или какого-то другого периода удрученности я как-то раз услышал звонок в дверь, и моя негритянка-горничная, маленькая Нефертити, как я своенравно прозвал ее, поспешила впустить гостей. Выбравшись из постели, я прижался своей голой плотью к холодному подоконнику, но не успел углядеть входившего или входивших, как я ни высовывался под шумный весенний ливень. Свежесть цветов, цветочные кусты и ковры напомнили мне какой-то другой день, другое окно. Я увидел часть глянцевито-черного автомобиля Адамсонов по ту сторону садовых ворот. Оба? Только она? Solus rex?[161]Увы, оба, судя по голосам в прихожей, летевшим ко мне сквозь мой сквозистый дом. Старина Джерри, не терпевший излишних восхождений по лестницам и патологически боявшийся инфекций, остался в гостиной. Шаги и голос его жены поднимались ко мне наверх. Несколько дней тому назад мы в первый раз поцеловались на кухне у Ноутбока: искали лед, нашли пламя. У меня были веские основания надеяться, что интермедия перед обязательной сценой будет короткой.
Она вошла, поставила две бутылки портвейна для больного и стянула свой влажный свитер через спутавшиеся, каштаново-русые, лилово-русые локоны и голые ключицы. С художественной точки зрения, строго художественной, она была, смею сказать, самой красивой из трех главнейших возлюбленных в моей жизни. У нее были поднятые кверху тонкие брови, сапфировые глаза, фиксирующие (это то самое слово) постоянное изумление земного рая (боюсь, единственного, что ей доведется изведать), ярко-розовые скулы, свежие, как бутон розы, губы и прелестный впалый живот. Скорее, чем ее муж, хороший читатель, успел пробежать две колонки текста, мы «наставили ему рога». Я надел синие широкие брюки и розовую рубашку и спустился за ней вниз.
Ее муж, погрузившись в глубокое кресло, читал лондонский еженедельник, купленный в торговом центре. Он и не подумал снять свой жуткий черный плащ — безразмерную клеенчатую мантию, вызывавшую в воображении образ кучера дилижанса под хлещущим дождем. Теперь он хотя бы снял свои чудовищные очки. С характерным клокотаньем он прочистил горло. Его багровые толстые щеки и двойные подбородки задрожали, когда он взялся за тяжкую ношу осмысленной речи.
Джерри. Читал ли ты эту рецензию, Вадим (с ударением на первом слоге в имени)? Мистер (называет особенно бойкого придиру) разнес твою «Ольгу» (мой роман о профессорше, только теперь вышедший в британском издании) в пух и прах.
Вадим. Хочешь что-нибудь выпить? Поднимем за него тост и отправим на погост.
Джерри. А ведь он, вообще-то, прав, знаешь ли. Это твоя худшая вещь. Chute complète, как он говорит. Знает французский к тому же.
Луиза. Никакой выпивки. Мы спешим домой. Давай-ка выбирайся из этого кресла. Попробуй еще разок. Возьми свои очки и газету. Хорошо. Au revoir, Вадим. Я принесу тебе эти пилюли завтра утром, после того, как отвезу его в колледж.
Как же все это было не похоже, размышлял я, на утонченные адюльтеры в замках моей ранней молодости! Где романтический трепет от пойманного взгляда новой возлюбленной в присутствии мрачного колосса — Ревнивого Мужа? Почему воспоминание о недавнем объятии не соединяется более с уверенностью, как бывало прежде, в следующем объятии, образуя неожиданную розу в пустом хрустальном фужере, неожиданную радугу на белых обоях? Что опустила та светская дама на глазах у Эммы в мужской цилиндр? Пишите разборчиво.
2
Сумасшедший ученый в романе «Эсмеральда и ее парандр» совмещает Боттичелли и Шекспира — одного с другим, — приписывая «Primavera» тот конец, который ожидал Офелию со всеми ее цветочками. Болтливая дама в «Ольге Репниной» замечает, что смерчи и наводнения по-настоящему потрясают только в Северной Америке. 17 мая 1953 года в нескольких газетах появилась фотография одной семьи, целой и невредимой, со всем скарбом — птичьей клеткой, граммофоном и другим ценным имуществом — сидящей снаружи, на крыше своей хибары, посреди Роуздельского озера. Другие газеты поместили фотографию маленького «форда», пойманного верхними ветвями отважного дерева, — с человеком внутри, мистером Бэрдом (Гораций Пеппермилл сказал мне, что знает его), все так же восседающим на водительском месте, оглушенным, ушибленным, но живым. Известного деятеля в Бюро Погоды обвинили в преступной задержке прогнозов. Когда пронесся ураган, пятнадцать школьников, приехавших осматривать коллекцию чучел животных, переданных миссис Розенталь, вдовой мецената, в дар роуздельскому музею, оказались в полной безопасности во внезапно наступившей тьме внутри этого прочного здания. Но коттедж на самом живописном берегу озера смыло прочь, и тела двух его утонувших жильцов так никогда и не нашли.
Мистер Пеппермилл, чьи природные способности не шли ни в какое сравнение с его юридической хваткой, предупредил меня, что буде я пожелаю отказаться от дочери в пользу ее бабки, проживающей во Франции, то придется уладить кое-какие формальности. Я преспокойно заметил, что миссис Благово — выжившая из ума калека и что моя дочь, которую приютила ее учительница, должна быть доставлена этой особой в мой дом ТОТЧАС. Он сказал, что сам привезет ее в начале следующей недели.
Оценив и пересмотрев каждый параграф дома, каждые скобки его обстановки, я решил разместить ее в бывшей спальне спутницы покойного Ландовера, которую он, смотря по настроению, называл то своей сиделкой, то невестой. То была очаровательная комната, восточнее моей собственной, с сиреневыми бабочками, оживлявшими обои, и широкой, низкой, отделанной оборками кроватью. Я расселил на белой полке Китса, Йейтса, Кольриджа, Блейка и четырех русских поэтов (в новой орфографии). Хотя я и говорил себе со вздохом, что она, без сомнения, предпочтет бульварные книжки с картинками моим драгоценным, осыпанным блестками мимам с их волшебной палочкой из раскрашенного дерева, я ощущал себя несвободным в своем выборе тем, что среди орнитологов зовется «инстинктом декорирования». Сверх того, отлично зная, насколько важен сильный и ясный свет для чтения в постели, я попросил миссис О’Лири, свою новую домработницу и повариху (одолженную у Луизы Адамсон, уехавшей с мужем в продолжительную поездку в Англию), ввинтить пару стоваттных лампочек в высокие светильники у кровати. На широком и устойчивом столе были привлекательно разложены два словаря, блокнот, будильничек и «Маникюрный набор для девушки» (купленный по совету миссис Ноутбок, у которой была двенадцатилетняя дочь). Это был лишь набросок, разумеется. Чистовая копия должна была появиться в положенное время.
Сиделка или невеста Ландовера мчалась к нему на помощь либо по короткому коридору, либо через ванную комнату, что находилась между двух спален: Ландовер был человеком солидной комплекции и его длинная, глубокая ванна была сущей отрадой пьяницы. Другая, более тесная ванная комната находилась восточнее спальни Беллы, и тут-то, изо всех сил напрягая память, чтобы подобрать верный эпитет между «сияющей» и «благоухающей», я по-настоящему пожалел, что моей утонченной Луизы не было рядом. Миссис Ноутбок ничем не могла помочь мне: у ее дочери, которая пользовалась грязноватой родительской уборной, не было времени на всякие дурацкие дезодоранты, а «пенку» она ненавидела. С другой стороны, пожилая, умудренная миссис О’Лири так и видела, будто наяву и в деталях, достойных фламандского живописца, кремы и пузырьки миссис Адамсон, заставляя меня прямо-таки изнывать по скорейшему возвращению своей хозяйки воскрешением в памяти этой картины, которую она затем мало-помалу упростила, но не опошлила, сохранив в ней лишь следующие основные предметы: огромную губку, большущий брикет лавандового мыла и превкусную зубную пасту.
Проходя еще дальше по ориентальной стороне дома, мы попадаем в угловую комнату для гостей (что над округлой столовой в восточной оконечности первого этажа); с помощью кузена миссис О’Лири, мастера на все руки, я преобразовал ее в толково оборудованную студию. Когда я закончил возиться с ней, она содержала: кушетку с кубовой формы подушками, дубовый письменный стол с крутящимся креслом, стальной шкаф с ящиками, книжную этажерку, «Иллюстрированную энциклопедию Клингзора[162]» в двадцати томах, цветные мелки, планшеты, карты американских штатов и (цитирую «Справочник школьника-покупателя» на 1952–1953 год) «глобус-мяч, который можно снять с подставки, так что любой мальчуган (или девочка) смогут держать земной шар у себя на коленях!».
И это все? Нет. Я приберег для спальни обрамленную фотографию ее матери (Париж, 1934), а для студии — цветную репродукцию картины Левитана «Облака над синей рекой» (то есть Волгой, недалеко от моего Марево), написанной около 1890 года[163].
Пеппермилл должен был доставить ее 21 мая к четырем часам пополудни. Надлежало чем-то заполнить послеобеденную бездну. Ангельски добрый Экс уже прочитал и оценил всю пачку экзаменационных тетрадей, но полагал, что я, быть может, захочу взглянуть на те несколько работ, что он скрепя сердце признал провальными. Он заходил накануне и оставил их внизу на круглом столе в круглой комнате, следующей после прихожей в западной оконечности дома. Мои жалкие руки так ужасно ныли и дрожали, что я с трудом мог перелистать эти жалкие cahiers. Арочное окно выходило на подъездную дорогу. Был теплый серый день. Сэр! Мне отчаянно нужен этот проходной балл. «Улисс» был написан в Цюрихе и Греции и потому-то содержит так много иностранных слов. Одним из персонажей «Смерти Ивана» писателя Толстого является пресловутая актриса Сара Бернар. Стиль Штерна очень сентиментальный и безграмотный. Хлопнула автомобильная дверца. Мистер Пеппермилл, с вещевым мешком в руке, шел позади высокой светловолосой девочки в синих ковбойских штанах, которая несла, приостанавливаясь, чтобы сменить руку, неповоротливый чемодан.
Безрадостные губы и глаза Аннетты. Стройная, но некрасивая.
Подкрепленный таблеткой сиринацина[164], я принял свою дочь и адвоката с безучастным достоинством, вызывавшим у импульсивных русских в Париже по отношению ко мне столько сердечной ненависти. Пеппермилл согласился выпить капельку бренди. Белла получила стакан персикового сока и шоколадное печенье. Я направил Беллу, показавшую мне ладони в вежливом русском жесте-намеке, в находившуюся при гостиной уборную — старомодный штрих архитектора. Гораций Пеппермилл вручил мне письмо от учительницы Беллы, мисс Эмилии Вард. Невиданный коэффициент умственного развития в 180 пунктов. Менструация уже установилась. Странное, чудесное дитя. Никто точно не знает, надо ли обуздать или, может быть, напротив, пришпорить столь рано проявившуюся гениальность. Я проводил Горация до половины пути к его автомобилю, борясь (успешно) с постыдным желанием сказать ему, как меня поразил присланный на днях его конторой счет.
«А теперь я покажу тебе твои апартаменты. Ты ведь говоришь по-русски?»
«Конечно говорю, но не пишу. К тому же я немного знаю французский».
Она и мама (которую Белла упоминала так буднично, как если бы та сидела в соседней комнате, перепечатывая для меня что-нибудь на бесшумной машинке) большую часть прошлого лета провели в Карнаво с бабушкой. Я хотел было спросить, какую именно комнату Белла занимала на вилле, но странно-навязчивое, хотя как будто не относящееся к делу воспоминание почему-то удержало меня от расспросов: незадолго до смерти Айрис приснилось, что она родила толстого мальчика с темно-красными щеками, миндалевидными глазами и голубой тенью бачков — «Страшный Омарус К.»[165].
«О да, — сказала Белла, — она любит ее, эту виллу. Особенно тропинку, что идет вниз, вниз, к морю, и чудный запах розмарина».
Ее «ясный» эмигрантский русский язык, незапятнанный, да хранит Господь Аннетту, сочными советизмами Лэнглихи, терзал и завораживал меня.
Узнала ли меня Белла? Она оглядела меня серьезными серыми глазами.
«Я узнала ваши руки и волосы».
«Отныне, говоря по-русски, переходим on se tutoie. Хорошо. Идем наверх».
Она одобрила студию: «Классная комната из детской книжки с картинками». Открыла в своей ванной аптечный ящик. «Пуст — но я знаю, что в него положу». О спальне она сказала: «Очаровательно!» (Аннеттино любимое восхваление.) Она, правда, раскритиковала этажерку с книгами у кровати: «Как, нет Байрона? Нет Браунинга? О, Кольридж! „Золотые змейки моря“[166]. Мисс Вард подарила мне на русскую Пасху антологию: я знаю наизусть твою последнюю герцогиню, то есть „Мою последнюю герцогиню“»[167].
Я со стоном перевел дух. Я поцеловал ее. Я заплакал. Я сел, сотрясаясь, на шаткий стул, скрипнувший в ответ на мои согбенные конвульсии. Белла стояла, глядя в сторону; посмотрела на призматичное отражение на потолке, опустила глаза на свой багаж, который миссис О’Лири, женщина малорослая, но решительная, уже втащила наверх.
Я попросил прощения за слезы. Белла поинтересовалась, социально-безукоризненно выполняя прием «давайте-ка сменим тему», есть ли в доме телевизионный приемник. Я сказал, что завтра будет. Теперь я хотел бы оставить ее одну. Обед через полчаса. Она сказала, что заметила в городе афишу — картина, которую она хотела бы посмотреть, уже на экранах. После обеда мы поехали в кинематограф «Стрэнд».
Запись в моем дневнике сообщает: «Вареную курицу ест неохотно. „Черная вдова“. В ролях: Джин, Джинджер и Джордж[168]. Поставил проходной балл „безграмотному“ сентименталисту и всем остальным».
3
Если Белла все еще жива, ей теперь тридцать два года — в точности как тебе, когда я пишу эти строки (15 февраля 1974 года). В последний раз я видел ее в 1959 году, когда ей еще не исполнилось семнадцати; а между двенадцатью с половиной и шестнадцатью с половиной она изменилась очень незначительно в пойме памяти, где кровь течет сквозь неподвижное время не так быстро, как в навязчивом настоящем. Особенно стойким к линейному росту оказался мой образ Беллы, относящийся к 1953–1955 годам, тем трем годам, во время которых она была совершенно и исключительно моей: я вижу их сейчас как составную картину восторга, на которой гора в Колорадо, мой перевод «Тамары» на английский, школьные успехи дочери и орегонский лес сливаются с узорами перемешанного времени и перекрученного пространства, что пренебрегают хрониками событий и маршрутами путей сообщения.
Одно изменение, одно постепенно наметившееся направление я, впрочем, должен отметить — мое все возраставшее осознание ее прелести. Не прошло и месяца со дня ее приезда, а я уже недоумевал, как это она могла показаться мне «некрасивой». Пролетел еще месяц, и эльфийская линия ее носа и верхней губы в профиль явились мне, как «желанное откровение» — если воспользоваться определением, примененным мною по отношению к некоторым метрическим чудесам у Блейка и Блока. Из-за контраста между светло-серой радужкой и очень черными ресницами ее глаза, казалось, были подведены сурьмой. Впалые щеки и длинная шея были совсем Аннеттины, но ее светлые волосы, которые она стригла довольно коротко, имели более богатый отлив, как если бы рыжеватые пряди перемешались с золотисто-оливковыми в этих густых, прямых волосах с чередующимися полосами оттенков. Все это без труда можно описать, в том числе правильные бороздки яркого пушка вдоль внешней стороны предплечий и ног; последнее, надо сказать, отдает самоплагиатом, поскольку я наделил этим пушком и Тамару, и Эсмеральду, не говоря уже о нескольких случайных милашках в моих рассказах (см. например, страницу 537 в сборнике «Изгнание с Майды», Гудминтон[169], Нью-Йорк, 1947). Все же одной только живостью первоклассного игрока и подачей по самому краю меловой линии не передать общего типа и строения ее опушенной красы. Прибегаю к тому, что я уже использовал ранее — печальное признание! — и даже в этой самой книге — к хорошо известному методу принижения одного вида искусства обращением к другому. Я говорю о картине Серова «Сирень с пятью лепестками»[170] (масло), на которой изображена девочка лет двенадцати, с золотистыми волосами, сидящая за пятнистым от солнца столом и перебирающая кисточку сирени в поисках этого счастливого знака. Девочка эта — не кто иная, как Ада Бредова, моя двоюродная сестра, с которой я самым бесчестным образом флиртовал тем летом, солнечные лучи которого играют на садовом столе и ее голых руках. То, что рецензенты-поденщики художественной литературы называют «трогательным сюжетом», боюсь, обескуражит моего читателя, благовоспитанного туриста, когда он посетит ленинградский Эрмитаж, где, самолично съездив в Советландию несколько лет тому назад, я видел собственными влажными глазами это полотно, принадлежавшее бабке Ады, а потом переданное Народу идейным жуликом. Мне думается, что эта обворожительная девочка была прообразом моей жены в том повторяющемся сне — с паркетным промежутком между двумя кроватями в наспех обустроенной демонской комнате для гостей. Сходство Беллы с ней — те же скулы, тот же подбородок, те же выступающие косточки на запястьях, тот же нежный цветок — может быть лишь очерчено и не сводится к простому перечислению. Но довольно об этом. Я попытался исполнить что-то очень сложное, и я разорву написанное в клочья, если ты скажешь, что я слишком уж преуспел, поскольку я не желаю и никогда не желал преуспеть в этом печальном деле с Изабеллой Ли — хотя в то же самое время я был просто нестерпимо счастлив.
Когда я спросил ее — наконец! — любила ли она свою мать (поскольку я не мог примириться с явным равнодушием Беллы к ужасной смерти Аннетты), она задумалась так надолго, что я уже решил, будто она позабыла вопрос, но в конце концов (как шахматист, признающий поражение после целой вечности раздумий) она покачала головой. А как насчет Нелли Лэнгли? На это она ответила тут же: Лэнгли была подлой и жестокой и ненавидела ее и еще в прошлом году секла: у нее остались следы по всему телу (обнажает для осмотра свою правую ляжку, которая теперь, по крайней мере, была безупречно белой и гладкой).
Образование, полученное ею в лучшей квирнской частной школе для юных леди (ты, ее сверстница, провела там несколько недель, в том же классе, но вы с ней как-то упустили случай подружиться), было дополнено двумя летними сезонами, которые мы провели, странствуя по западным штатам. Какие воспоминания, какие чудные запахи, какие миражи, полумиражи, воплощенные миражи поджидали нас вдоль 138-го шоссе — Стерлинг, Форт Морган (4325 футов над ур. м.), Грили, Лавленд — городок с отличным названием — по мере нашего приближения к райской части Колорадо!
От «Волчьего приюта», Эстес-Парк, где мы провели целый месяц, окаймленная синими цветами тропа вела через осиновые рощи к тому, что Белла забавно называла Подошвой Бока. Был еще Палец Бока — в южной части горы. У меня сохранилась большая глянцевая фотография, снятая Вильямом Гарреллом, первым, если не ошибаюсь, человеком, достигшим «Пальца» — в 1940, что ли, году, — на которой запечатлен восточный бок Лонг-Пика с клеточками восхождения, наложенными поверх петлистого маршрута. На обороте этой фотографии — столь же бессмертное на свой непритязательный лад, что и ее предмет, — аккуратно переписанное фиолетовыми чернилами сочиненное Беллой стихотворение, которое она посвятила Адди Александер, «первой женщине, поднявшейся на Пик восемьдесят лет тому назад»[171]. Оно служит напоминанием и о наших с ней скромных достижениях:
Хвостатого Павлина озерцо: Старик Сурок выходит на крыльцо; И Черной Бабочки нехоженая сопка; И умница тропка.[172]Она сочинила его во время нашего пикника где-то между теми самыми грандиозными утесами и исходной станцией подъемника, и после нескольких мысленных проверок результата в хмуром молчании она наконец записала его на салфетке и вручила мне вместе с моим карандашом.
Я сказал ей, как это прекрасно и артистично, особенно последняя строчка. Она спросила: «Что артистично?» Я сказал: «Твои стихи, ты, то, как ты сочетаешь слова».
Во время той поездки или, может быть, в другой раз, позднее, но, уверен, в том же краю внезапно налетевшая буря смела всю красу июльского дня. Наши рубашки, шорты и мокасины, казалось, разъела ледяная мгла. Первая градина стукнула по консервной банке, вторая — по моей лысине. Мы нашли укрытие в углублении под нависшей скалой. Грозы для меня — настоящая пытка. Их губительный гнет разрушает меня, молнии, ветвясь, пронзают мой мозг и сердце. И Беллочка знала об этом; прижавшись ко мне (скорее ради моего блага, чем собственного!), она легонько целовала меня в висок при каждом разрыве грома, как бы говоря: «Еще одна прошла, ты по-прежнему цел и невредим». Я уже страстно желал, чтобы эти раскаты никогда не кончались; но тут они перешли к вялому громыханью, и солнце нашарило изумруды в мокрой травянистой прогалине. Она же все никак не могла унять дрожь, и мне пришлось запустить руки ей под одежду и растирать ее тонкое тело, пока оно не запылало, — как бы для того, чтобы отвратить «пневмонию», которая, как она лепетала, судорожно смеясь, была «немой», была «не мной», и как «молю», и как «внемлю», благодарю.
Здесь вновь очередной смутный провал в последовательности событий, но, должно быть, вскоре после этого, в том же мотеле или в следующем на пути домой, она на рассвете проскользнула ко мне в комнату и села на мою кровать — подвинь ноги — в одной короткой пижаме, чтобы прочитать мне еще одно свое стихотворение:
В темном подвале я гладила Шелковую голову волка. Когда снова зажегся свет И все воскликнули «О!», Оказалось, что это был только Мертвый пес Медор.Я вновь восхвалил ее талант и поцеловал, возможно, немного слишком горячо, чем того заслуживали стихи, поскольку, вообще-то, нашел их темноватыми, хотя и не сказал ей об этом, а она зевнула и уснула у меня в кровати (привычка, которую я, как правило, не поощрял). Впрочем, сегодня, перечитывая эти странные строки, я вижу сквозь их лучистый кристалл тот колоссальный комментарий, который я мог бы к ним написать, с галактиками из звездочек ссылок и сносок, напоминающих отражения ярко освещенных мостов, перекинутых над черной водой. Но у моей дочери своя душа, а у меня — своя, и да истлеет Хамлет Годман с миром.[173]
4
До самого начала 1954/55 учебного года (близилось тринадцатилетие Беллы) я был все так же безумен от счастья, все так же не видел ничего уродливого, или опасного, или абсурдного, или, попросту говоря, идиотского в своих отношениях с дочерью. За исключением кое-каких незначительных прегрешений — нескольких горячих капель нежности, перелившихся через край, завуалированной кашлем одышки и прочего в таком духе, — мои отношения с ней оставались практически невинными. Но какими бы достоинствами я ни обладал как профессор литературы, ничего, кроме собственной «профнепригодности» и безрассудного пренебрежения дисциплиной, не вижу я теперь в зеркале заднего вида, рассматривая то сладостно-шальное время.
Другие превосходили меня проницательностью. Моим первым критиком стала миссис Ноутбок, тучная мрачная женщина в твидовом костюме суфражистки[174], которая, вместо того чтобы не позволять своей Марион, испорченной и вульгарной нимфетке, совать нос в семейную жизнь своей товарки, поучала меня, как следует воспитывать Беллу, и настоятельно рекомендовала мне подыскать опытную, желательно немецкую гувернантку, чтобы она следила за ней и днем и ночью. Вторым моим критиком, куда более тактичным и толковым, стала моя секретарша, Мирна Соловей, как-то раз посетовавшая на то, что ей не удается отслеживать получаемые литературные журналы и газетные вырезки в моей корреспонденции, оттого что их перехватывает хищная и ненасытная маленькая читательница. К тому же, мягко добавила она, в Квирнской гимназии (последнее убежище здравого смысла в моих неслыханных обстоятельствах) почти так же потрясены вспыльчивостью Беллы, как и ее интеллектом и знакомством с «Прустом и Прево»[175]. У меня состоялась беседа с мисс Лоу, довольно миленькой маленькой директрисой, и она упомянула «закрытое учебное заведение», что прозвучало почти как «острог», и еще даже более зловещую «летнюю школу» («со всем этим птичьим щебетом и затейливыми руладами на лесных полянах, мисс Лоу, — на лесных полянах!») взамен «экстравагантного домашнего обихода художника» («Великого художника, профессор!»). Она заметила льстиво хихикавшему, смертельно напуганному художнику, что с юной дочерью следует обращаться как с будущим членом нашего общества, а не как с занятным комнатным зверьком. Во время этого разговора я не мог отогнать ощущения, что все это какой-то кошмар, уже виденный мной или еще только поджидавший меня в некой иной жизни, в некой иной череде связанных между собой, пронумерованных снов.
Тучи смутного бедствия уже нависли (говоря о шаблонной ситуации шаблонным слогом) над моей метафорической головой, когда мне на ум пришло простое и блестящее решение, позволявшее мне мигом покончить со всеми моими трудностями и тревогами.
Большое зеркало, перед которым многие из гурий Ландовера проплывали в своей скоротечной смуглой красе, теперь послужило и мне, являя отражение львиногривого пятидесятипятилетнего мнимого атлета, исполняющего с помощью «Эльмаго»[176] («Сочетает технические новшества Запада с магией Митры») упражнения для уменьшения талии и расширения грудной клетки. И отражение было хоть куда. В давнишней телеграмме, посланной лондонской «Sunday» (и найденной нераспечатанной в номере «Ремесленника»[177], литературного обозрения, стянутого Беллочкой со столика в прихожей), меня просили прокомментировать слухи (уже достигшие и меня) о том, что я стал одним из главных претендентов в малопонятной схватке за то, что наши американские младшие братья кличут «самой престижной премией мира». Это также могло произвести впечатление на довольно тщеславную особу, которую я имел в виду. Наконец, я уже знал, что в отпускные месяцы 1955 года серия апоплексических ударов прикончила в Лондоне беднягу Джерри Адамсона, славного моего приятеля, и что Луиза свободна. Даже слишком свободна. Срочное письмо, написанное мной с призывом немедленно возвращаться в Квирн для серьезного обсуждения дела, касающегося нас обоих, настигло ее только после того, как описало комичный круг по четырем модным европейским курортам. Ответная депеша, посланная, по ее словам, из Нью-Йорка 1 октября, ко мне в руки так и не попала.
2 октября пополудни, в необычайно жаркий день — первый из целой недели, — мне позвонила миссис Кинг, чтобы с довольно таинственным смешком позвать меня на «импровизированное soirée, часа через три, скажем, в девять, когда вы отправите в постельку свою прелестную дочь». Я согласился прийти, поскольку миссис Кинг была на редкость приятным человеком, добрейшей душой во всем кампусе.
Меня донимала черная мигрень, и я решил, что двухмильная прогулка прохладным ясным вечером пойдет мне на пользу. Мои отношения с пространством, мои перемещения из одной точки в другую столь дьявольски сложны, что я не могу припомнить, вправду ли я отправился пешком, или, может быть, поехал в автомобиле, или ограничился тем, что прошелся взад-вперед по открытой галерее, идущей вдоль фасада на втором этаже моего дома, или же ни то ни другое.
Первой, кому хозяйка меня представила (под приглушенные фанфары светской экзальтации), была «английская» кузина, у которой Луиза гостила в Девоншире, — леди Моргана, «дочь нашего бывшего посла и вдова оксфордского медиевиста» — смутные фигуры на быстро осветившемся экране. То была глуховатая и явно тронутая умом ведьма лет пятидесяти, с презабавно убранными волосами и в безвкусном платье. Она и ее брюхо надвинулись на меня с таким энергичным рвением, что я едва успел уклониться от этого дружеского наступления, угрожавшего зажать меня между «книжными полками и пьяными толками», как бедняга Джерри отзывался об академических коктейлях. Я окунулся в иной, гораздо более элегантный мир, когда склонился, чтобы поцеловать умело изогнутую лебедем холодную ручку Луизы. Мой дорогой друг Одас приветствовал меня своего рода романской акколадой[178], специально применяемой им для ознаменования высшей степени духовного родства и взаимного почитания. Джон Кинг, которого я мельком видел накануне в коридоре колледжа, поднял руки в знак приветствия, как если бы пятьдесят часов, прошедших со времени нашей последней дружеской беседы, раздулись бы волшебным образом в полстолетия. Нас было только шестеро в просторной гостиной, не считая двух подкрашенных девочек в тирольских платьях, присутствие, идентичность и само существование которых остается и по сей день привычной тайной — привычной, говорю я, поскольку такие зигзагообразные трещины на штукатурке свойственны темницам или теремам, в которые меня вновь и вновь радостно ведет периодически обостряющееся умопомешательство всякий раз, как я готовлюсь сделать, вот как сейчас, трудное, кульминационное сообщение, требующее абсолютной ясности концентрации. Так вот, как я только что сказал, в той комнате нас было всего шестеро человек во плоти (и два маленьких призрака), но сквозь неприятные полупрозрачные стены я различал — не глядя! — ряды и ярусы смутных зрителей, представляя себе табличку с надписью на языке безумия: «Остались билеты без мест».
Мы сидели за круглым, как циферблат, столом (почти таким же, что стоит в Опаловом зале моего дома, западнее «Штайна» — альбиноса): Луиза на двенадцати, профессор Кинг на двух, миссис Моргана на четырех, миссис Кинг, в зеленых шелках, на восьми, Одас на десяти, а я приблизительно на шести, может быть, на одну минуту позже, так как Луиза не была строго напротив меня, поскольку она, возможно, пододвинула стул на шестьдесят секунд ближе к Одасу, хотя и поклялась мне на «Светском календаре», а также на «Кто есть кто»[179], что он никогда не заигрывал с ней, к чему бы он там ни клонил в своем коротком изумительном стихотворении, напечатанном в «Ремесленнике»:
Сказать о тех ночах? О да, я обладал тобой, когда внизу пирушка шла вовсю, – на шири ложа своего радушного хозяина, поверх наваленных пальто твоих гостей: псевдоманто, полуплащи (не шерсть — щетина), в полоску шарф (ах, это мой), давнишней пассии меха (скорее кролик, чем лахтак), такая груда зим, «Онегин», глава начальная, лакеи на шубах у подъезда спят и в полном зале кресел ряд и ты, любовь моя, на сцене, летишь, как пух, к фальшивым стенам, средь тополей, ручьев, наяд.Я начал свою речь высоким, отчетливым, надменным голосом (говорить так меня научил Айвор на канницком пляже), которым я внушал Фебовый ужас[180], открывая труднейший семинар в свои первые годы преподавания в Квирне:
«Я намерен обсудить удивительный недуг одного моего близкого друга, которого назову —»
Миссис Моргана поставила на стол стакан с виски и конфиденциально склонилась ко мне:
«Знаете, я познакомилась с юной Айрис Блэк в Лондоне, году в 1919-м, кажется. Ее отец с моим, послом, были деловыми партнерами. Я была тогда наивной американочкой, а она — невероятно красивой и очень искушенной девушкой. Помню, как я была взволнована, когда впоследствии узнала, что она уехала и вышла за русского князя!»
«Фей, — крикнула Луиза с двенадцати на четыре, — Фей! Его Сиятельство произносят тронную речь».
Все рассмеялись, а две тирольские девочки с голыми ляжками, игравшие вокруг стола в салки, перескочили через мои колени и вновь умчались.
«Я назову этого своего близкого друга, чье душевное состояние мы сейчас обсудим, мистером Твивдовым — имя, несущее определенный скрытый смысл[181], каковой не ускользнет от тех, кто помнит рассказ, давший название моему сборнику „Изгнание с Майды“».
(Три человека, чета Кингов и Одас, подняли три руки, глядя друг на друга с разделяемым самодовольством.)
«Этот человек, достигший величественной зрелости лет, собирается жениться в третий раз. Он страстно влюблен в молодую женщину. Однако, прежде чем сделать ей предложение, порядочность требует, чтобы он признался ей, что страдает от одного недуга. Я бы хотел, чтобы они перестали хлопать по моему стулу всякий раз, когда пробегают мимо. Возможно, „недуг“ — слишком громко сказано. Попробуем объяснить это следующим образом: в механизме его сознания есть кое-какие изъяны, утверждает он. Тот изъян, о котором он рассказал мне, безобиден сам по себе, но весьма тревожен и необычен и может служить симптомом некоего надвигающегося более серьезного расстройства. Итак, начнем. Когда этот человек лежит в постели и воображает знакомый отрезок улицы, скажем, правосторонний тротуар, идущий от библиотеки до, скажем —»
«Винной лавки», — вставил Кинг, беспощадный шутник.
«Хорошо, до „Винной лавки Рехта“[182], что находится приблизительно в трехстах ярдах —»
Меня вновь прервали, на этот раз Луиза (к одной которой я, в сущности, и обращался). Повернувшись к Одасу, она призналась ему, что никогда не могла представить себе какое-нибудь расстояние в ярдах, если только не поделить его на длину кровати или балкона.
«Романтично, — сказала миссис Кинг. — Продолжайте, Вадим».
«…В трехстах шагах по той же стороне улицы, на которой стоит университетская библиотека. И вот сейчас мы столкнемся с напастью моего друга. Он может представить себе, как идет вперед и назад, но не может совершить в своем сознании поворота кругом, преобразующего „впереди“ в „позади“».
«Должна позвонить в Рим», — шепнула Луиза миссис Кинг и привстала, чтобы уйти, но я взмолился дослушать меня. Она уступила, предупредив меня, впрочем, что ничего не поняла в заключительной части моей лекции.
«Повторите то место, где о повороте кругом в вашем сознании, — сказал Кинг. — Никто ничего не понял».
«Я понял, — сказал Одас. — Предположим, винная лавка оказалась заперта, и мистер Твивдовый, который и мой друг тоже, поворачивает на каблуках, чтобы пойти обратно в библиотеку. В реальной жизни он совершает это действие без заминки или натуги, так же просто и неосознанно, как и все мы, даже если критический взгляд художника замечает… A toi, Вадим».
«Замечает, — сказал я, подхватывая эстафетную палочку, — что в зависимости от скорости, с какой вы поворачиваетесь, изгороди и тенты проплывают вокруг вас в обратном направлении или с тяжким креном карусели, или (кивая в сторону Одаса) в один поворотный взмах, напоминающий забрасывание конца полосатого шарфа (Одас улыбнулся, распознав одасизм) через плечо. Но если вы неподвижно лежите в постели и пересматриваете или, скорее, переигрываете в голове процесс поворота описанным способом, важно не столько само осевое вращение, которое так трудно проделать умозрительно, сколько его результат, изменение движения по улице на противоположное, перемена направления, — вот, что вы тщетно пытаетесь себе представить. Вместо того чтобы не спеша сменить направление в сторону винной лавки на противоположное, как это со всей беспечностью происходит наяву, несчастный Твивдовый оказывается в замешательстве —»
Я это предвидел, но надеялся, что мне будет позволено завершить фразу. Ничуть не бывало! С бесконечной медленностью и тихостью движений серого кота — сходство, происходившее из-за его встопорщенных усов и выгнутой спины, — Кинг покинул свое место. На цыпочках, со стаканом в каждой руке, он направился к золотистому блеску густонаселенного буфета. Драматично хлопнув обеими руками по краю стола, я заставил подпрыгнуть миссис Моргану (она либо задремала, либо страшно состарилась за несколько последних минут), а старика Кинга замереть на месте; он, как автомат, бесшумно повернулся, иллюстрируя мой рассказ, и так же бесшумно вернулся на свое место с причудливо граненными, но пустыми стаканами.
«Как я сказал, его сознание, сознание моего друга, оказывается в замешательстве из-за какой-то чудовищной натуги и томительнейшей безнадежности, которыми сопровождается запуск механизма смены одного положения на другое, с востока на запад или с запада на восток, от одной чертовой нимфетки к другой… то есть… я хотел сказать… теряю нить, застежка-молния мысли заела… как глупо…»
Глупо и к тому же очень неловко. Молоденькие девчушки с холодными ляжками и взмокшими шейками теперь затеяли бранчливую игру — кто из них первой взберется ко мне на левое колено, на ту сторону моего лона, где медок, пытаясь оседлать это Левое Колено, заливаясь тирольскими трелями и оттаскивая друг дружку, а кузина Фей все клонилась ко мне и говорила с кошмарным акцентом: «Elles vous aiment tant!» Наконец я ущипнул с оттяжкой ближайшую ягодицу, и они с визгом продолжили свой бег по кругу, как тот вечный паровозик в увеселительном парке, задевавший кусты ежевики.
Я все еще не мог высвободить свои застрявшие мысли, но Одас пришел ко мне на помощь.
«Подведем итог, — сказал он, и жестокая Луиза издала громкое „уф!“. — Трудности нашего пациента кроются не в определенном физическом действии, но в попытке представить себе его выполнение. Все, что он может сделать в своем сознании, — это совсем пропустить момент вращения и поменять одну видимую плоскость на другую с тем нейтральным промельком, какой происходит, когда вставляешь новую пластину в волшебный фонарь, после чего он обнаруживает, что обращен лицом в сторону, которая утратила или даже никогда не содержала идеи „противоположности“. Желает ли кто-нибудь высказаться?»
Наступила обычная после таких предложений пауза. Затем высказался Джон Кинг:
«Советую вашему мистеру Вздорову выбросить всю эту околесицу из головы. Эту очаровательную околесицу, красочную околесицу, но в то же время вредную околесицу. Не так ли, Джейн?»
«У моего отца, — сказала миссис Кинг, — профессора ботаники, была довольно симпатичная особенность: он запоминал исторические даты или телефонные номера, к примеру наш номер — 9743, — только в том случае, если они содержали простые числа. Из нашего номера он помнил лишь две цифры, вторую и последнюю — никчемное сочетание, — а две другие были для него только черными щелями, выпавшими зубами».
«Ах, вот это отлично!» — с искренним наслаждением воскликнул Одас.
Я заметил, что пример не совсем удачен. Напасть моего друга вызывает тошноту, головокружение, kegelkugel головной боли.
«Что ж, я понимаю. Но странная особенность моего отца также имела свои побочные действия. И дело было не столько в его неспособности запомнить, скажем, номер его дома в Бостоне, шестьдесят восьмой, номер, который он видел каждый день, а в том обстоятельстве, что он ничего не мог с этим поделать, что никто, ни один человек, не мог ему объяснить, отчего на дальнем краю своего рассудка он видел не это число — шестьдесят восемь, — а лишь бездонную яму?»
Хозяин дома, на этот раз с большей осмотрительностью, улизнул из-за стола. Одас прикрыл ладонью свой пустой стакан. Пьяный вдрызг, я тем не менее жаждал, чтобы мой вновь наполнили, но меня обнесли. Стены круглой комнаты вновь сделались более или менее непроницаемыми, да хранит их Господь, и Доломитовых Долли[183] поблизости больше не было.
«В те времена, когда я мечтала стать балериной, — сказала Луиза, — и была маленькой любимицей Бланка, я лежа в постели повторяла в голове экзерсисы и не испытывала никаких трудностей, представляя себе обороты или вращения. Все дело в тренировке, Вадим. Почему бы тебе просто не повернуться на другой бок в постели, когда ты хочешь увидеть себя идущим обратно в библиотеку? Кстати, нам пора идти, Фей, уже полночь».
Одас взглянул на свои часы, воскликнул, сделав то замечание, что Время уже более слышать не может, и поблагодарил меня за чудесный вечер. Миссис Моргана, сложив губы так, что вышло розовое отверстие слонового хобота, беззвучно составила начало слова «туалет», куда миссис Кинг, суетливо шурша зеленым платьем, немедленно ее и проводила. Я остался в одиночестве за круглым столом. С трудом поднявшись на ноги, я осушил остатки Луизиного дайкири и нагнал ее в прихожей.
Никогда она так нежно не поддавалась и не трепетала в моих объятиях, как в этот раз.
«Сколько четвероногих критиков, — спросила она после деликатной паузы в темном саду, — упрекнули бы тебя в жульничестве, если бы ты выпустил описание этих забавных ощущений? Трое, дюжина, все стадо?»
«Это не совсем „ощущения“, и они не так уж „забавны“. Я только хочу, чтобы ты знала, что если я сойду с ума, то это произойдет вследствие моей игры с идеей пространства. „Повернуться на другой бок“ означало бы смошенничать, да и все равно не помогло бы».
«Я отведу тебя к совершенно неотразимому психоаналитику».
«Это все, что ты можешь предложить?»
«Ну да. А что?»
«Подумай, Луиза».
«Ах, я к тому же собираюсь выйти за тебя. Ну конечно, дурачок».
Она ушла прежде, чем я успел вновь обхватить ее стройный стан. Усыпанное звездами небо, обычно довольно жуткое зрелище, теперь исподволь развеселило меня: вместе с осенней fadeur едва различимых цветов оно принадлежало к тому же выпуску «Мира женщины»[184], что и Луиза. Я помочился в зашипевшие астры и поднял голову на окно Беллы, клетка с2. Светится так же ярко, как е1 — Опаловая зала. Я вернулся в нее и с облегчением отметил, что добрые руки уже убрали со стола, круглого стола, с переливчато-опаловым внешним краем, стола, за которым я выступил со своей самой успешной вводной лекцией. Я услышал зов Беллы с верхнего этажа и, зачерпнув горсть соленого миндаля, поднялся по лестнице.
5
На другой день, в воскресенье, рано утром, когда я стоял, завернувшись в махровую простынь, и наблюдал за тем, как четыре яйца крутятся и стукаются в своем аду, кто-то вошел в гостиную через заднюю дверь, которую я не трудился запирать.
Луиза! Луиза, приодевшаяся ради посещения церкви во что-то розово-лиловое, цвета колибри. Луиза в наклонном луче спелого октябрьского солнца. Луиза, облокотившаяся о рояль, как если бы собиралась петь, и с лирической улыбкой обводящая взглядом комнату.
Я первым разомкнул наше объятие.
Вадим. Нет, дорогая, нет. Дочь может сойти вниз в любую минуту. Прошу, садись.
Луиза (осматривает кресло и затем садится в него). Жаль. Ты знаешь, я раньше часто бывала здесь! В восемнадцать лет мне даже довелось прилечь на этот рояль. Энди Ландовер был безобразен, немыт, груб и совершенно неотразим.
Вадим. Послушай, Луиза, я всегда находил твою свободную, легкомысленную манеру поведения весьма привлекательной. Но ты очень скоро переедешь в этот дом, и нам лучше держаться с бо́льшим достоинством, не так ли?
Луиза. Надо бы сменить этот синий ковер: «Штайн» смотрится на нем как айсберг. И вокруг должно быть просто море цветов! Столько больших ваз и ни одной стрелиции! В мое время здесь стояли целые кусты сирени.
Вадим. На дворе, знаешь ли, октябрь. Послушай, я вовсе не хочу касаться этого, но не твоя ли то кузина ожидает тебя в автомобиле? Это было бы крайне неловко.
Луиза. Неловко, скажешь тоже. Да она раньше обеда не встанет. О, сцена вторая.
(Белла, в одних лишь шлепанцах и дешевеньком ожерелье из радужного стекла — ривьерский сувенир, — сходит вниз по лестнице в другом конце комнаты, за роялем. Уже почти повернув в сторону кухни, показав затылок красавца-пажа и хрупкие лопатки, она начинает осознавать наше присутствие и возвращается.)
Белла (обращаясь ко мне и без особого интереса поглядывая на мою изумленную гостью). Я безумно голодная.
Вадим. Луиза, дорогая, это моя дочь, Белла. Она ходит во сне, как сомнамбула, честное слово, отсюда эта… гм… вольность наряда.
Луиза. Здравствуй, Аннабелла. Вольность наряда тебе очень к лицу.
Белла (поправляя ее). Иза.
Вадим. Изабелла, это Луиза Адамсон, моя давняя знакомая. Она вернулась из Рима. Надеюсь, мы будем часто проводить вместе время.
Белла. Как поживаете (без вопросительной интонации).
Вадим. Ну вот. Теперь иди, Белла, и надень что-нибудь. Завтрак готов. (К Луизе.) Не хочешь ли присоединиться? Яйца вкрутую? Кока-кола с соломинкой? (Палевая фигура-скрипка поднимается по лестнице.)
Луиза. Non, merci. Я слишком потрясена.
Вадим. Да, ситуация немного вышла из-под контроля, но ты увидишь, что это необычный ребенок, второго такого нет. Все, что нам нужно, — это твое присутствие, твое общество. Привычку бродить нагишом она унаследовала от меня. Райские гены. Забавно.
Луиза. Тут у вас колония нудистов из двух человек или миссис О’Лири тоже участвует?
Вадим (смеясь). Нет, нет, ее не бывает в доме в воскресные дни. Все хорошо, уверяю тебя. Белла — послушный ангел. Она — Луиза (встает, чтобы уйти). Вон она идет на кормежку. (Белла в коротком халатике спускается по лестнице.) Забегу около пяти. Джейн Кинг повезет Фей в Роуздел смотреть состязание по лакроссу[185]. (Уходит.)
Белла. Кто такая? Твоя бывшая студентка? Драма? Риторика?
Вадим (вскакивая). Боже мой! Яйца! Должно быть, стали твердыми, как нефрит. Идем. Я введу тебя в курс дела, как выражается твоя директриса.
6
Перво-наперво я избавился от рояля (бригада носильщиков айсбергов, пошатываясь, утащила его вон), передав его в дар Беллиной школе, баловать которую я имел резоны: меня не так-то просто напугать, но если уж я испугаюсь, то смертельно, а во время моего второго собеседования со школьной директрисой моя роль возмущенного Чарлза Доджсона[186] не провалилась лишь благодаря сенсационной новости, что я собираюсь связать себя узами брака с безукоризненно-светской особой, вдовой нашего самого благочестивого философа. Луиза, однако, отнеслась к упразднению этого символа роскоши как к личному оскорблению и преступлению: такой концертный рояль, сказала она, стоит по меньшей мере как ее старая «Геката[187]» с откидным верхом, а она отнюдь не настолько богата, как я, очевидно, думаю, — утверждение, представляющее собой логическую путаницу: из двойного узла лжи одной правды не составить. Мне удалось умилостивить ее постепенным захламлением Музыкальной гостиной (если временнýю последовательность неожиданно превратить в пространственную) модными устройствами, которые она обожала: поющей мебелью, миниатюрными телеприемниками, стереорфеями, портативными оркестрами, все лучшими и лучшими видеопроигрывателями, дистанционными пультами, чтобы включать и выключать все эти штуковины, и телефонным аппаратом с автоматическим набором номера. Ко дню рождения Беллы она подарила ей устройство, издающее Шум Дождя для лучшего засыпания, а по случаю моего рождения она испакостила невротику ночь, подарив мне тысячедолларовые прикроватные часы «Пантомима» с двенадцатью желтыми радиусами вместо цифр на черной физиономии, из-за чего они казались мне слепыми или симулирующими слепоту, как какой-нибудь отталкивающий попрошайка в мерзком тропическом городке; зато у этого жуткого предмета имелся секретный лучик, проецировавший на потолок моей новой спальни арабские цифры (2:00, 2:05, 2:10, 2:15 и так далее), превращая в фарс неприкосновенную, совершенную, отчаянными стараниями добытую непроницаемость ее овального окна. Я сказал, что куплю револьвер и выстрелю им прямо в морду, если она не отошлет их обратно тому злодею, который ими торгует. Она заменила их другим предметом, «специально изготовленным для людей, любящих все незаурядное», а именно, покрытой серебром подставкой для зонтиков, сделанной в виде огромной ботфорты, — «все, связанное с дождем, странным образом привлекает ее», — как сообщил мне ее «психоаналитик» в одном из самых глупых писем, что человек когда-либо посылал человеку. Ей также нравились маленькие дорогостоящие животные, но здесь я был тверд, и она отказалась от мысли заполучить длинношерстного чихуахуа, которого хладнокровно вожделела.
Я не ожидал многого от Луизы-интеллектуалки. Только однажды я видел ее проливающей крупные слезы с занятными постанываньями настоящего горя, когда — в первое воскресенье нашего супружества — все газеты напечатали фотографии двух албанских авторов (старого эпика с лысым кумполом и гривастой женщины, стряпавшей детские книжки), разделивших между собой Самую Престижную Премию, которую, как она говорила всем подряд, я непременно должен был получить в этом году[188]. Вместе с тем она только наскоро перелистала мои романы (с большим вниманием она, однако, прочитала мое «Княжество у моря», роман, который в 1957 году я начал медленно вытягивать из себя, как длинного мозгового червя, надеясь, что он не оборвется), в то же самое время поглощая все «серьезные» бестселлеры, обсуждаемые ее товарками, входившими в Литературную группу, в которой ей нравилось, как жене писателя, отстаивать свои взгляды.
Еще одним открытием для меня стало то, что она полагала себя знатоком Современного Искусства. Она с яростью накинулась на меня, когда я позволил себе усомниться в том, что значение зеленой полосы на синем фоне имеет хоть какую-то связь с определением ее в глянцевом каталоге как «создающей поистине восточную атмосферу внепространственного времени и вневременного пространства». Она обвинила меня в попытке разрушить все ее мировоззрение уверением — происходившим, как она надеялась, из моих юмористических наклонностей, — что только обыватель, одураченный напыщенными кретинами, которым платят, чтобы они писали о выставках, способен любоваться обрезками, кожурой и испачканной бумагой, добытыми в мусорном баке и обсуждаемыми в выражениях вроде «теплые цветовые пятна» и «добродушная ирония». Но, пожалуй, самой трогательной и убийственной была ее искренняя вера в то, что художники пишут «то, что они чувствуют»; что замысел довольно грубого и всклокоченного пейзажа, набросанного где-то в Провансе, студенты школы живописи вольны благодарно и горделиво истолковывать, как им заблагорассудится, если психиатр объяснит им, что подступающая гроза олицетворяет конфликт художника с отцом, а волнистая нива — раннюю смерть его матери, погибшей в кораблекрушении.
Я не мог помешать ей покупать модные образцы живописи, но некоторые из самых паскудных экспонатов (как, например, коллекцию мазни, произведенную «наивными» каторжанами) я благоразумно отправил в круглую столовую, где они туманно мрели в свете свечей, когда мы ужинали с гостями. Вседневный же прием пищи происходил в буфетной нише между кухней и комнатой прислуги. В эту нишу Луиза поместила свою новую капучино-эспрессо-машину, в то время как на другом конце дома, в Опаловой зале, установила для меня прочную, гедонически убранную кровать с мягким изголовьем. Ванна в смежной уборной была не такой поместительной, как моя прежняя, и мои вылазки по ночам в брачную опочивальню (дважды или трижды в неделю) сопровождались определенными сложностями: сперва через гостиную, затем по скрипучим ступеням на верхнюю площадку, далее по коридору второго этажа, мимо таинственно светящейся щелки Беллиной двери; но я дорожил своим уединением больше, чем негодовал на его изъяны. Я позволил себе «турецкое toupet», как назвала это Луиза, запретив ей сноситься со мной, топая у себя в комнате в пол. В конце концов мне пришлось установить у себя внутренний телефонный аппарат, предназначенный для использования лишь в определенных случаях крайней нужды: имелись в виду такие нервические состояния, как чувство неминуемой гибели, иногда находившее на меня во время ночных припадков эсхатологической одержимости; и была еще полупустая коробочка снотворных пилюль, которую только она одна могла стащить.
Решение позволить Белле остаться в ее апартаментах, с Луизой в качестве единственной соседки, вместо того чтобы переоборудовать всю космическую спираль, отведя Луизе эти две комнаты в восточной оконечности дома («а что, если мне тоже нужна студия?»), переместив Беллу с кроватью и книгами вниз, в Опаловую залу, и оставив меня наверху, в моей бывшей спальне, было принято мною твердо, несмотря на довольно стервозные контрпредложения, как, например, перенести все орудия моего ремесла из библиотеки в подвал и сослать Беллу со всеми ее вещичками в эту теплую, сухую, славную и тихую берлогу. Хотя я и знал, что никогда не сдамся, сам процесс мысленного перераспределения комнат и инвентаря буквально подкосил меня. Вдобавок ко всему, я заподозрил (возможно, безосновательно), что Луизе по душе омерзительная пошлость ситуации: мачеха, невзлюбившая падчерицу. Нет, я вовсе не жалел, что женился на ней, я отдавал себе отчет в ее шарме и практической сметке, но мое обожание Беллы было единственным сияньем, единственной перехватывающей дыхание вершиной на унылой равнине моей эмоциональной жизни. Будучи во многих отношениях человеком на редкость глупым, я попросту не брал в расчет клубочки терний и противоречий в образцовой на первый взгляд семье. Стоило мне проснуться — или хотя бы понять, что единственный способ обмануть утреннюю бессонницу — это встать с постели, — как я уже начинал гадать, какой еще новый проект измыслит сегодня Луиза, чтобы досадить моей девочке. Когда два года спустя этот седой старый дурак и его ветреная женушка, одарив Беллу скучным вояжем по Швейцарии, оставили ее в Лариве, между Хексом и Трексом[189], в «завершающем школьное образование пансионе» (в котором завершается детство, приходит конец невинности юных мечтаний), именно наш период жизни à trois (1955–1957) в квирнском доме, а не более ранние свои промахи, вспоминал я с проклятьями и рыданиями.
Она совершенно перестала разговаривать с мачехой; их общение в случае нужды свелось к жестам; так, например, Луиза мелодраматично указывала на беспощадные часы, а Белла отрицательно постукивала по хрусталику своих лояльных часиков на запястье. Ее теплые чувства ко мне совсем улетучились, и всякий раз, что я делал попытку мимоходом приласкать ее, она мягко уклонялась от меня. К ней вернулось страдальчески-отсутствующее выражение, притуплявшее ее красоту в то время, когда она только приехала из Роузделя. На смену Китсу пришел Камю. Ее оценки поползли вниз. Она больше не писала стихов. Однажды, когда мы с Луизой укладывали вещи для очередной поездки по Европе (Лондон, Париж, Пиза, Стреза и — мелким шрифтом — Лариве), я вынимал кое-какие старые карты — Колорадо, Орегон — из внутренней шелковой «щеки» чемодана, и в ту же минуту, как мой тайный подсказчик произнес слово «щека», я наткнулся на стихи, написанные ею задолго до вторжения Луизы в ее беззащитную юную жизнь. Я подумал, что Луиза, быть может, смягчится, прочитав их, и показал ей тетрадный листок (весь в клочках по отрывному краю, но все еще мой), на котором карандашом были написаны следующие строки:
Когда мне стукнет шестьдесят,[190] я оглянусь назад: густые рощи и холмы мне будут застить взгляд – ни лунки, ни ручья, ни птичьих пометок на песке обычных; глазам старухи ничего не разглядеть, хотя я знаю точно место, где сидела у ручья. Но как так вышло, что теперь, когда смотрю назад, в мои двенадцать лет (тот путь, разделенный на пять!) с обзором, будто бы безбрежным, и никакого хлама между, мне не под силу и представить сырой песок и птицу, чья пробежка след могла оставить, и отблеск моего ручья?«Почти по-паундски безупречно», — заметила Луиза, только рассердив меня, поскольку я считаю Паунда мошенником.
7
Шато «Винедор»[191], очаровательный швейцарский пансион Беллы, стоящий на очаровательной возвышенности, в трехстах метрах над очаровательным Лариве, что на Роне, Луизе порекомендовала осенью 1957 года одна швейцарская дама с французского отделения Квирна. На выбор предлагалось еще два других «завершающих» пансиона того же общего типа, но Луиза остановилась на «Винедоре» из-за мимолетного замечания, сделанного даже не ее швейцарской знакомой, а случайной девицей в бюро путешествий, суммировавшей все достоинства пансиона в одной фразе: «Полно тунисских принцесс».
Пансион предлагал пять основных дисциплин (французский, психология, savoir-vivre, кройка и шитье, кулинария), разные спортивные занятия (под руководством Кристины Дюпраз, некогда знаменитой лыжницы) и дюжину дополнительных курсов на выбор (ими можно было занять до замужества и самую безнадежную дурнушку), в том числе балет и бридж. Еще одним supplément — особенно подходящим сироткам и ненужным детям — был летний триместр, заполнявший последнюю часть учебного года экскурсиями и изучением природы и проводившийся несколькими везучими девчушками в доме директрисы, мадам де Тюрм, — альпийском шале, стоявшем еще на двенадцать сотен метров выше: «Его одинокие огни, мерцающие в черном ущелье гор, — сообщалось в проспекте на четырех языках, — в ясные ночи видны из самого Шато». Кроме того, там еще было нечто вроде лагеря для местных детишек, страдавших тем или иным физическим недостатком, и он также в разные годы опекался нашей склонной к медицине, спортивной директрисой.
1957, 1958, 1959. Время от времени, редко, прячась от Луизы, возмущавшейся тем, что двадцать односложных ответов Беллы, отделенных изрядными паузами, стоили нам пятьдесят долларов, я телефонировал ей из Квирна, но после нескольких таких звонков получил от мадам де Тюрм резкое письмо, призывавшее меня не расстраивать дочь этими разговорами, и тогда я замкнулся в своем темном панцире. Темный панцирь, темные зимы моего сердца! Они странным образом совпали с сочинением моего самого живого, самого дерзкого и коммерчески самого успешного романа «Княжество у моря». Его высокие запросы, его остроумие и полет фантазии, его филигранная образность в известной мере восполняли мне отсутствие горячо любимой Беллы. Из-за этой книги (хотя я едва сознавал это) не могло не сократиться и число моих писем к ней — благонамеренные, болтливые, ужасно искусственные послания, которые она изредка удостаивала ответом. И конечно, еще более поразительным, еще более непостижимым для меня, в горестно стенающей ретроспективе, оказалось то влияние, которое имело мое самоотвлечение на число и продолжительность наших визитов в Швейцарию между 1957 и 1960 годом (когда она сбежала с прогрессивным светлобородым молодым американцем). Когда на днях мы обсуждали с тобой эти записки, ты была потрясена, узнав, что за три лета я посетил свою «горячо любимую Беллу» всего четыре раза и что только два наших визита были продолжительными (около двух недель). Я, впрочем, должен отметить, что она категорично отказывалась проводить каникулы дома. Само собой, мне не следовало сплавлять ее в Европу. Я должен был, как говорится, «тянуть лямку» в своем домашнем аду, разрываясь между инфантильной женщиной и хмурым инфантом.
Работа над романом переменила также мои брачные повадки, превратив меня в менее страстного и более снисходительного мужа: я закрывал глаза на Луизины подозрительно частые загородные поездки к не указанным в телефонной книге окулистам, в то же время сам пренебрегая ею ради Розы Браун, нашей хорошенькой горничной, трижды в день мывшейся с мылом и полагавшей, что черные трусики с рюшками «что-то такое делают с парнями».
Самым же сокрушительным образом моя работа над книгой сказалась на чтении лекций. Ради нее я, как Каин, пожертвовал цветами моих летних месяцев и, как Авель, — овцами кампуса[192]. Из-за нее процесс моего академического отделения души от тела достиг своей конечной стадии. Последние пережитки человеческой взаимосвязанности ушли в прошлое, поскольку я, физически исчезнув из лекционного зала, записал весь курс на пленку, с тем чтобы его можно было выцеживать через университетскую Систему Внутреннего Вещания прямо в комнаты оснащенных наушниками студентов. После этого стали поговаривать, будто я собираюсь уходить; мало того, в «Квирнском квартальнике» (весна 1959) некий анонимный каламбурист позволил себе написать следующее: «Ходят слухи, что его Смелость просили повысить ему ставку перед отставкой».
Летом того года мы с моей третьей женой увиделись с Беллой в последний раз. Аллан Гарден (по имени которого следовало бы назвать сорт жасминовидной гардении — столь внушительно и победоносно глядел этот цветок у него из петлицы) только что сочетался узами брака с совсем еще молоденькой Вирджинией[193] после нескольких лет безоблачного сожительства. Им предстояло дожить в совершенном счастии до совокупного возраста в сто семьдесят лет, однако мне еще предстояло сочинить одну зловеще-неумолимую главу. Я тяжко трудился над ее первыми страницами за неладным столом, в неладной гостинице над неладным озером, с видом на неладную isoletta со стороны моего левого локтя. Единственной ладной вещью была стоявшая передо мной пузатенькая бутылка «Гаттинары»[194]. На середине искромсанной фразы Луиза приехала ко мне из Пизы, где она вновь сошлась, как я догадывался с веселым безразличием, со своим бывшим любовником. Играя на струнах ее безропотного смущения, я взял ее с собой в Швейцарию, которую она терпеть не могла. В моем расписании значился ранний ужин с Беллой в Гранд Отеле Лариве. Белла приехала с тем самым христоволосым юнцом, оба в фиолетовых штанах. Метрдотель что-то шепнул моей жене поверх меню, и она ускакала в номер и снесла вниз мою самую заношенную удавку, чтобы этот деревенщина натянул ее на свое адамово яблоко и тощую шею. Как выяснилось, его бабушка состояла в родстве по мужу с четвероюродным братом Луизиного деда, бостонским банкиром с не вполне безупречной репутацией. С этим мы разделались под горячее. Кофе и кирш[195] пили в фойе, и Чарли Эверет показывал нам фотографии летнего лагеря для слепых детей (избавленных от необходимости лицезреть его унылые рожковые деревья и круги от сожженного мусора среди репейников на берегу реки), за которыми они с Бэлой (Бэлой!) приглядывали. Ему было двадцать пять лет. Пять из них он потратил на изучение русского, на котором изъяснялся, как он сам сказал, с беглостью дрессированного тюленя. Предъявленный образчик подтвердил верность сравнения. Он был завзятым «революционером» и законченным дурнем, ничего толком не знающим, помешанным на джазе, экзистенциализме, ленинизме, пацифизме и африканском искусстве. Он был уверен, что модные брошюрки и каталоги куда более «содержательны», чем старые толстые книги. От бедняги исходил сладковато-затхлый и нездоровый душок. Во все время обеда и кофейной пытки я ни разу — ни разу, читатель! — не взглянул на мою Беллу, но, когда мы уже собрались распрощаться (навсегда), я посмотрел на нее, и оказалось, что у нее две новые морщинки от ноздрей к краешкам губ, и большие круглые очки в металлической оправе, и прямой пробор и что она утратила всю свою отроческую привлекательность, остатки которой я все еще подмечал в ней во время своих визитов в Лариве прошлой весной и зимой. Им нужно было вернуться не позднее половины первого, увы, — не то чтобы очень уж «увы».
«Приезжай к нам в Квирн поскорей, поскорей, Долли», — сказал я, когда все мы стояли на тротуаре со сплошь черным контуром гор на фоне аквамариновых небес, и альпийские галки резко взмывали стаей, улетая на ночлег, далеко-далеко.
Не могу объяснить своей ошибки, но она разозлила Беллу сильнее, чем что-либо и когда-либо злившее ее.
«Как он сказал? — воскликнула она, переводя взгляд на Луизу, на своего дружка и снова на Луизу. — Что это значит? Почему он назвал меня „Долли“? Кто она такая, черт возьми?! Почему, почему (поворачиваясь ко мне), почему ты так сказал?»
«Обмолвка, прости», — ответил я, обмирая, пытаясь все обратить в сновидение, в сновидение об этой последней ужасной минуте.
Они поспешили к своему крошечному «Клопу», он чуть впереди, то слева, то справа от нее, уже вспарывая воздух автомобильным ключиком. Аквамариновое небо теперь было безмолвно, темно и пусто, с одною звездообразной звездой, о которой я как-то давным-давно, в другом мире, написал по-русски элегию.
«Какой обаятельный, доброжелательный, культурный и очень привлекательный молодой человек! — сказала Луиза, когда мы втиснулись в лифт. — Ты как, в настроении сегодня? Прямо сейчас, а, Вад?»
Часть пятая
1
Эту предпоследнюю часть «Арлекинов»[196], этот искрометный эпизод моего в целом инертного существования ужасно трудно изложить на бумаге: он напоминает мне те упражнения за провинность, которые суровейшая из моих французских гувернанток придумывала мне в наказание — переписать cent fois (свист и плевок) какую-нибудь старинную поговорку — за то, что я к иллюстрациям в ее Petit Larousse[197]добавил на полях некоторые собственные, или за то, что исследовал под партой ножки Лалаги[198] Л., моей маленькой кузины, с которой у нас были общие уроки в то незабываемое лето. И хотя я не раз пересказывал перед полным залом своих собственных, строчащих страницу за страницей или дремлющих «я» историю моего стремительного визита в Ленинград в конце шестидесятых, я все еще не уверен ни в необходимости, ни в успешности разрешения этой гнетущей задачи. Но ты все взвесила, ты, нежно-непреклонная, о да, и ты решила, что я должен описать свои приключения, дабы придать некоторое подобие значительности жалкой участи моей дочери.
Летом 1960 года Кристина Дюпраз, которая между крутым обрывом и шоссе обустраивала летний лагерь для детей-инвалидов, как раз восточнее Лариве, сообщила мне, что Чарли Эверет, один из ее помощников, исчез вместе с Беллой после того, как сжег в гротескной церемонии (которую она представляла себе лучше, чем я) свой паспорт и американский флажок (нарочно для этой цели купленный в сувенирной лавке), «прямо посреди сада за зданием советского консульства», после чего новоявленный «Карл Иванович Ветров» и восемнадцатилетняя Изабелла, моя ci-devant дочь, подверглись в Берне какой-то пародийной процедуре бракосочетания и поспешно отбыли в Россию.
С тою же самой корреспонденцией я получил приглашение обсудить в Нью-Йорке с одним известным compére мое неожиданное попадание на первое место в списке самых популярных авторов, а также запросы от японских, греческих, турецких издательств и открытку из Пармы с каракулями: «Браво за „Княжество“ от Луизы и Виктора». Что это был за Виктор, я, между прочим, так никогда и не узнал.
Отмахнувшись от всех своих деловых забот, я вновь предался — после стольких лет воздержания! — волнующей усладе секретных изысканий. Слежка была моим clystère de Tchékhov[199] еще даже до того, как я женился на Айрис Блэк, чья поздняя страсть к сочинению бесконечного детективного романа воспламенилась от какого-то намека, что я, должно быть, случайно обронил (как пролетающая птица роняет переливчатое перышко), приоткрыв ей тайну моей деятельности на обширной и мглистой ниве Службы. В меру сил я кое-что сделал для своих руководителей. То дерево, голубой ясень, насечку в коре которого, как я заметил, двое «дипломатов», Торниковский и Каликаков, использовали для обмена сообщениями, все еще стоит, грубо-рубцеватое, на вершине холма над Сан-Бернандино. Однако ради структурной экономии я изъял эту занятную линию из настоящего повествования о любви и прозе. Впрочем, само ее наличие теперь помогает мне отвратить — хотя бы на время — безумие и душевную муку безнадежного сожаления.
Разыскать в Соединенных Штатах родственников Карлуши, а именно двух его тощих теток, ненавидевших паренька даже сильнее, чем друг дружку, оказалось проще простого. Тетка Номер Один заверила меня, что он никогда не покидал Швейцарии, — она все еще продолжала получать у себя в Бостоне его, славшиеся по сниженному тарифу, письма. Тетка Номер Два, Филадельфийское Страшилище, сказала, что он обожает музыку и прозябает в Вене.
Я переоценил свои силы. Серьезный рецидив почти на целый год упрятал меня в госпиталь. Полный покой, предписанный всеми моими докторами, был вскоре нарушен вынужденным участием вместе с моим издателем в долгой судебной тяжбе по защите моего романа от обвинений в непристойности, предъявленных чопорными цензорами. Я вновь слег. До сих пор еще чувствую натиск галлюцинаций, осаждавших меня в ту пору, когда поиски Беллы каким-то образом сплелись с судебным спором по поводу моего романа, и я видел так же ясно, как видишь горы или корабли, большое здание со светом во всех окнах, надвигавшееся на меня то с одной, то с другой стороны, сквозь стены больничной палаты, как бы в поисках слабого места, найдя которое оно пробилось бы внутрь и раздавило бы мою койку.
В конце шестидесятых я узнал, что Белла действительно замужем за Ветровым, но что он отослан на неведомую работу в какой-то далекий край. Затем пришло письмо.
Его переслал мне один почтенный пожилой коммерсант (назову его А. Б.) с запиской, сообщавшей, что он подвизается «в текстильном деле», хотя по профессии «инженер», что он представляет «в США интересы советского предприятия и наоборот», что письмо, которое он прилагает, передала ему одна особа, служащая в его ленинградской конторе (назову ее Дорой), и касается моей дочери, «с которой он не имеет чести быть знаком, но которая, как он полагает, нуждается в моей помощи». Он еще присовокупил, что через месяц должен лететь обратно в Ленинград и будет рад, если я «свяжусь с ним». Письмо от Доры было написано по-русски.
Многоуважаемый Вадим Вадимович!
Вы, должно быть, получаете много писем от людей из нашей страны, сумевших раздобыть ваши книги — задача не из легких! Однако это письмо не от поклонницы, а просто от подруги Изабеллы Вадимовны Ветровой, вместе с которой вот уже больше года мы живем в одной комнате.
Она больна, не получает известий от мужа, и у нее нет ни копейки.
Пожалуйста, снеситесь с подателем этой записки. Он мой начальник, а также дальний родственник, и он согласился передать от Вас, Вадим Вадимович, несколько строк и, если возможно, немного денег, но главное, главное, чтобы Вы приехали лично. Дайте ему знать, сможете ли Вы приехать, и если да, то где и когда мы могли бы встретиться, чтобы обсудить создавшееся положение. Все в жизни спешно («неотложно», «не может быть отложено»), но некоторые дела спешны отчаянно, и это — одно из них.
Чтобы Вы удостоверились, что она здесь, рядом со мной, что она просит писать к Вам, а сама не в силах, я прилагаю ключик или опознавательный знак, который только Вы и она можете разъяснить: «…и умница тропка».
С минуту я просидел за столом с завтраком — под сострадательным взором Черной Розы — в позе пещерного человека, обхватившего голову руками, когда над ним начинают с грохотом рушиться скалы (женщины делают так, когда что-нибудь падает в соседней комнате). Решение было принято, разумеется, мгновенно. Мимоходом похлопав Розу по молодым ягодицам сквозь ее тонкую юбку, я устремился к телефону.
Несколько часов спустя я уже обедал с А. Б. в Нью-Йорке (а в продолжение следующего месяца я обменялся с ним несколькими международными телефонными звонками из Лондона). Это был чудеснейший маленький человек, совершенно овальной формы, с лысой головой и миниатюрными ступнями в дорогих туфлях (прочие его покровы не выглядели такими щегольскими). Он говорил на ломком английском с мягким русским акцентом, а на родном своем русском — с еврейскими вопрошаниями. Он полагал, что мне следует приступить к подготовке моего свидания с Дорой. Он указал мне то самое место, где мы с ней могли бы встретиться. Он предупредил меня, что, собираясь в причудливую Страну Чудес, Советский Союз, путешественник перво-наперво совершает самое обычное действие — заказывает номер в гостинице, и только после того, как получает подтверждение, что номер за ним, принимается за визу. Над золотистой горкой рыжевато-рябых, пропитанных маслом, заправленных черной икрой «Богдановских» блинов (за которые А. Б. не позволил мне заплатить, хотя меня распирали «Княжеские» деньги), он возвышенно и многословно поведал мне о своей недавней поездке в Тель-Авив.
Мой следующий пункт назначения (Лондон) мог бы оказаться в целом упоительным, если бы меня ежечасно не угнетали тревога, нетерпение, мучительные предчувствия. Через нескольких джентльменов с авантюрной жилкой — бывшего любовника Аллана Андовертона и двух таинственных конфидентов моего покойного благодетеля — я сохранил кое-какие невинные связи с БИНТом[200] — как советские агенты акронимировали хорошо известную, даже слишком известную британскую секретную службу. Благодаря этому у меня была возможность получить поддельный или относительно поддельный паспорт. Поскольку мне, возможно, еще когда-нибудь понадобится использовать его, я не стану оглашать здесь полученного мною псевдонима. Довольно будет сказать, что в силу некоторого дразнящего сходства моей настоящей фамилии с этой вымышленной она могла бы сойти, в случае поимки, за плод канцелярской небрежности со стороны рассеянного консула и совершенного безразличия к документам со стороны их душевнобольного владельца. Допустим, что моя настоящая фамилия Облонский (толстовское изобретение), тогда поддельная звучала бы, к примеру, как мимикрирующая О. Б. Лонг, так сказать, Обломов не в фокусе. Ее я мог бы развернуть, скажем, в Оберона Бернарда Лонга из Дублина или Думбертона и жить под этим именем долгие годы на пяти или шести континентах.
Я бежал из России, не достигнув и девятнадцати лет, оставив поперек своей тропы, ведшей через полную опасностей дубраву, убитого наповал красноармейца. Затем я посвятил полвека тому, что поносил, высмеивал, выворачивал в разные смешные подобия, выжимал, как мокрые от крови полотенца, ловко пинал Дьявола в самое его смрадное место, и вообще при любом удобном случае всячески измывался над советским режимом в своих книгах. Собственно, другой такой последовательной критики большевицкого зверства и фундаментальной глупости во все эти годы и на том художественном уровне, к которому принадлежит моя продукция, попросту не существовало. Посему я отлично сознавал два обстоятельства: во-первых, что под своим настоящим именем я не получу комнаты ни в «Европейской», ни в «Астории», ни в какой-либо другой гостинице Ленинграда, если только не пойду на какое-то невиданное возмещение причиненного ущерба, на какое-нибудь униженное и бурное публичное покаяние, и во-вторых, что если я начну по телефону добиваться этой гостиничной комнаты как мистер Лонг или Блонг и меня оборвут, то я окажусь в крайне уязвимом положении. Вследствие этого я решил не допустить, чтобы меня оборвали.
«Что, если мне отрастить бороду для перехода через границу?» — рассуждает измученный ностальгией генерал Гурко[201] в шестой главе «Эсмеральды и ее парандра».
«Лучше, чем ничего, — говорит Харли Ку, один из моих самых остроумных советников. — Но, — добавляет он, — сделайте это прежде, чем мы вклеим и проштампуем карточку О. Б., и после уже не худейте». Итак, я отрастил ее за время угнетающего ожидания вестей о гостиничном номере, которого я не мог сымитировать, и визе, которой я не мог подделать. Это была пышная, приятная, косматая, коньячного оттенка, пронизанная сединой викторианская поросль. Она достигала моих яблочно-красных скул и спускалась до жилета, смешиваясь по пути с моими боковыми золотисто-седыми локонами. Особенные глазные линзы-пленки не только придали иное, огорошенное выражение моим глазам, но каким-то образом изменили и саму их форму — с квадратно-львиных на выпукло-круглые, как у Зевса. И только уже на обратном пути я заметил, что пара старомодных, шитых у портного штанов — одни были на мне, другие лежали в чемодане — раскрывали мое настоящее имя, которое значилось на внутренней стороне пояса.
Мой старый добрый британский паспорт, который бегло пролистывался столькими учтивыми чиновниками, никогда не открывавшими моих книг (единственное настоящее удостоверение личности его случайного владельца), после произведенной над ним операции, описать которую мне не позволяют порядочность и отсутствие необходимых познаний, во многих отношениях остался тем же, что и был, но некоторые из прочих его свойств, детали содержания и пункты сообщаемых им сведений были, если можно так сказать, «переиначены» с помощью нового метода, «алхимистической» обработки, гениального изобретения, «еще не везде оцененного по достоинству» — как молодцы в лаборатории осторожно охарактеризовали совершенную неосведомленность людей относительно открытия, которое могло спасти бессчетное число беженцев и секретных агентов. Другими словами, ни один человек, в том числе непосвященный химик-криминалист, не смог бы заподозрить, не говорю — доказать, что мой паспорт — фальшивка. Не знаю, почему я разбираю этот предмет с такой томительной настойчивостью. Быть может, оттого, что я просто отлыниваю от обязанности описать мою поездку в Ленинград? И все же дольше тянуть с этим нельзя.
2
После почти трех тревожных месяцев я наконец готов был ехать. Я чувствовал себя отлакированным с головы до пят, как тот нагой эфеб[202], яркий clou языческой процессии, что умирал от кожной асфиксии под слоем золотой глазури. За несколько дней до моего фактического отъезда случилось то, что в тот момент выглядело как безобидный перенос сроков. Я должен был вылетать в четверг из Парижа; в понедельник мелодичный женский голос отыскал меня в ностальгически очаровательном отеле на rue Rivoli и сообщил мне, что по какой-то причине — возможно, из-за утаенного в пелене советских туманов крушения — общее расписание рейсов спуталось и что я могу сесть на борт турбовинтового лайнера «Аэрофлота», следующего в Москву, либо в эту среду, либо в следующую. Я выбрал, разумеется, первое, поскольку в таком случае дата моего рандеву не менялась.
Моими попутчиками были несколько английских и французских туристов и многочисленная свора хмурых чиновников советских торговых представительств. Едва я занял свое место «на борту», как некая иллюзия низкопробной реальности охватила меня — чтобы влачиться за мной до конца поездки. Был необычайно жаркий июньский день, и фарсовая система охлаждения воздуха не могла одолеть запашок пота и вспрысков «Красной Москвы» — злокозненного одеколона, въевшегося даже в карамель («Леденец взлетный»), щедро розданную нам перед полетом. Небылицей отзывался и яркий пестрый фон (желтенькие завитушки и лиловенькие глазки), украшавший занавески. Сходной расцветки непромокаемый куль в кармане переднего кресла имел ничего хорошего не предвещавшую надпись «Для отходов» — вроде моей личности, которую могли бы «пустить в расход» в этой сказочной стране.
Мое настроение и психическое состояние нуждались скорее в крепком спиртном, чем в новой порции «взлетных» или какого-то славного чтива; тем не менее я взял рекламный журнальчик у полнотелой, насупленной и голорукой стюардессы в небесно-голубом и с интересом узнал, что Россия (не в пример нынешним триумфам) не слишком удачно выступила на олимпийском футбольном турнире в 1912 году, когда «царская команда» (состоявшая, надо думать, из десяти бояр и одного медведя) проиграла Германии со счетом 0:12.[203]
Я принял успокоительное средство и надеялся проспать хотя бы часть пути; но первую и единственную мою попытку соснуть бесцеремонно пресекла еще более корпулентная стюардесса с еще более крепким настоем лукового пота, злобно потребовавшая, чтобы я втянул ногу, слишком далеко высунутую в проход, по которому она перемещалась со все новыми и новыми пачками пропагандисткой «прессы». Я мрачно позавидовал своему соседу у окна, пожилому французу — во всяком случае, едва ли моему соотечественнику, — человеку со спутанной черно-седой бородой и ужасным галстуком, который проспал весь пятичасовый полет, презрев сардины и даже водку, от которой я не смог отказаться, хотя в заднем кармане брюк у меня имелась фляжка кое-чего получше. Возможно, в один прекрасный день историки искусства фотографии помогут мне узнать, как, по каким таким признакам я смог установить, что воспоминание о безымянном, ни с каким определенным местом не связанном лице относится к 1930–1935 годам, а не к другому времени, скажем, к 1945–1950-м. Мой сосед был практически близнецом человека, которого я знавал в Париже, но кого именно? Знакомого писателя? Консьержа? Сапожника? Трудность определения раздражает меньше, чем тайна его пределов, предполагаемых градацией установленных «оттенков» и «ощущений» образа.
Мне удалось рассмотреть его пристальнее (что еще больше разожгло мое любопытство), когда к концу нашего полета мой макинтош сорвался с вешалки и упал на него, и он оскалился достаточно дружелюбно, появившись из-под этого неожиданного пробудчика. Еще раз я мельком увидел его мясистый профиль и густые брови, когда предъявлял для осмотра содержимое моего единственного чемодана и боролся с безумным желанием оспорить уместность выражения в английском бланке таможенной декларации: «…miniature graphics, slaughtered fowl, live animals and birds».
Я вновь увидел его, но уже не так явственно, во время нашего переезда на автобусе из одного аэропорта в другой через какие-то жалкие окраины Москвы — города, в котором я ни разу в жизни не побывал и до которого мне было столько же дела, как, скажем, до Бирмингема. Однако в аэроплане, летевшем в Ленинград, он снова оказался на соседнем с моим месте, на сей раз у прохода. Смешанные запахи суровых бортпроводниц и «Красная Москва» с постепенным преобладанием первой примеси по мере того, как наши голорукие ангелы приумножали свои последние отправления, сопутствовали нам с 21:18 до 22:33. Чтобы разговорить своего соседа прежде, чем он со своей тайной исчезнет, я спросил его (по-французски), известно ли ему что-либо о живописной группе, севшей на наше судно в Москве? Он ответил с парижским grasseyement, что это, надо думать, иранские циркачи, гастролирующие по Европе. Мужчины казались арлекинами в штатском, женщины — райскими птицами, дети — золотыми медальонами, и была меж ними одна темноволосая бледненькая красавица в черном болеро и желтых шароварах, напомнившая мне Айрис или ее прообраз.
«Надеюсь, — сказал я, — мы увидим их выступление в Ленинграде».
«Пф! — возразил он. — Куда им до нашего советского цирка».
Я отметил это машинальное «нашего».
Нас обоих расквартировали в «Астории», безобразной громадине, построенной, кажется, перед Первой мировой войной. Густо нашпигованный микрофонами (Гай Гейли научил меня обнаруживать это в одно задорное мгновение ока) и оттого имеющий сконфуженный вид, номер «de luxe», с оранжевыми портьерами и оранжевым покрывалом на кровати в старосветском алькове, состоял из комнаты и отдельной ванной, как и было обещано, но мне потребовалось некоторое время, чтобы справиться с судорожным потоком илистой воды. Рубиновый кусок мыла оказался последним рубежом «Красной Москвы». «Еда, — гласило уведомление, — может быть подана в номер». Сподвигнутый этим приглашением, я попытался заказать легкий ужин; не тут-то было, и еще один голодный час я потерял в строптивом ресторане. «Железный занавес» — это на самом деле абажур: здешняя его разновидность была украшена стеклянными инкрустациями из сложенных «пузелем» лепестков. Заказанной мною «котлете по-киевски» понадобилось сорок четыре минуты, чтобы прибыть из Киева, и две секунды, чтобы с кратким ругательством (тихо сказанным по-русски и заставившим официантку вздрогнуть и с изумлением уставиться на меня и мою «Daily Worker») быть отосланной назад как некотлете. Кавказское вино оказалось для питья непригодным.
Славная сценка, ничего не скажешь, была разыграна передо мной, когда я спешил к лифту, припоминая, куда я сунул свои спасительные «Отрыжики». Раскрасневшаяся, атлетического сложения «лифтерша» с бусами в несколько рядов находилась в процессе замещения женщиной пенсионного возраста, намного старше ее, которой она, топая вон из лифта, прокричала: «Я тебе это попомню, стерва!» — и, продолжая топать, она врезалась в меня, едва не сбив с ног (я писатель хотя и крупный, но легкий, как пушинка). «Штой ты суешься под ноги?» — гаркнула она тем же нахальным голосом, от которого ночная дежурная тихо качала седой головой все время, пока мы поднимались на мой этаж.
День между двух ночей, двух частей повторного сна, в котором я тщетно пытался найти улицу Беллы (название которой я из суеверия, веками складывавшегося в конспиративных кругах, предпочел, чтобы мне не сообщали), отлично зная в то же время, что она лежит, кровоточа и смеясь, в нише наискось через комнату, в нескольких босоногих шагах от моей кровати, — этот день я провел слоняясь по городу и праздно стараясь извлечь кое-какую эмоциональную выгоду из того обстоятельства, что я родился здесь почти три четверти столетия тому назад. То ли оттого, что ему так и не удалось свыкнуться с соседством болот, на которых его выстроил хорошо известный громила, или по другой какой причине (никому, согласно Гоголю, неведомой), Санкт-Петербург не был местом, подходящим для детей. Я, должно быть, провел в нем ничтожные части нескольких декабрей и, без сомнения, апрель-другой, но по меньшей мере дюжина зим из моих девятнадцати докембриджских лет прошла на берегах Средиземного и Черного морей. Что же касается летних месяцев, моих летних месяцев юной поры, все они цвели для меня в огромных поместьях моей семьи. С дурацким изумлением я теперь осознал, что, за исключением художественных открыток (с видами традиционных публичных парков, где липы глядят дубами, с фисташковым дворцом вместо запомнившегося розоватого, с безжалостно вызолоченными куполами церкви — все это под итальянскими небесами), я никогда не бывал в родном городе в июне или июле. Посему его облик не пробудил во мне никакого трепета узнавания; то был чужой, чтобы не сказать совершенно иностранный, город, все еще мешкавший в какой-то иной, не поддающейся определению эпохе, не то чтобы отдаленной, но несомненно предшествующей изобретению дезодорантов.
Дни стояли теплые, и повсюду — в бюро путешествий, в вестибюлях, в курзалах, в центральных магазинах, в троллейбусах, в лифтах, на эскалаторах, в каждом чертовом коридоре — всюду, и особенно там, где женщины выполняли какую-нибудь работу или только что завершили ее, на невидимых печах варился невидимый луковый суп. Я провел в Ленинграде лишь пару дней и не имел времени свыкнуться с этими вездесущими досадными источениями.
Мне было известно от путешественников, что наш фамильный особняк более не существует, что даже сам переулок, на котором он стоял между двух улиц вблизи Фонтанки, исчез, растворился, подобно некой соединительной ткани в процессе органического разложения. Что же в таком случае могло всколыхнуть мою память? Этот закат с триумфом бронзовых облаков и фламингово-розовым таянием на том конце арочного проема над Зимней канавкой впервые был увиден, пожалуй, в Венеции. Что еще? Тени оград на граните? Говоря начистоту, только собаки, голуби, лошади да очень старые, очень тихие гардеробщики казались мне знакомыми. Они, да еще, быть может, фасад дома на улице Герцена. В незапамятные времена я, наверное, бывал в нем на каком-нибудь детском празднике. Цветочный орнамент, идущий над рядом его верхних окон, жутковато-таинственной дрожью пронзил корни крыльев, которые все мы отращиваем в такие мгновения неуловимо-сказочного воспоминания.
Дора должна была встретиться со мной утром в пятницу на площади Искусств, что напротив Русского музея, рядом с изваянием Пушкина, установленным около десяти лет тому назад комитетом метеорологов. В буклете «Интуриста» красовалась цветная фотография этого места. Метеорологические ассоциации, вызываемые памятником, превалировали над культурными. Пушкин, в сюртучной паре, с правой фалдой, раз и навсегда приподнятой скорее невским бризом, чем буйством лирического вдохновения, стоит, глядя вверх и влево, а его правая рука простерта в противоположную сторону, проверяя, не идет ли дождь (самая что ни на есть подходящая поза в пору, когда в ленинградских парках цветет сирень). К моему приходу он истощился до теплой мороси, просто до шороха в липах над длинными парковыми скамьями. Предполагалось, что Дора будет сидеть слева от Пушкина, id est от меня справа. Скамья была пустой и сыроватой. С другой стороны пьедестала я заметил трех или четырех ребят, угрюмого, серого, странно взрослого не по годам вида, обычного у советских детей, но, не считая их, я прохаживался в полном одиночестве с «L’Humanité»[204] в руках вместо «Worker’а», который должен был служить секретным знаком, но которого я в тот день не сумел раздобыть. Я был занят расстиланием газеты на скамье, когда на садовой дорожке появилась дама, с предсказанной хромотой идущая в мою сторону. Одетая в светло-розовое, также отвечавшее ожиданию пальто, страдающая косолапостью, она шла, опираясь на крепкую трость. Прозрачный зонтик, который она держала в другой руке, в списке реквизита не значился. У меня из глаз тут же полились слезы (хотя я был нашпигован пилюлями). Ее добрые прекрасные глаза также были мокры.
Получил ли я телеграмму от А. Б.? Была послана два дня тому назад на мой парижский адрес. «Отель „Мориц“».
«Факты искажены, — сказал я. — К тому же я уехал раньше. Впрочем, не важно. Намного ли ей хуже?»
«Нет, нет, напротив. Я знала, что вы все равно приедете, но тем временем кое-что случилось. Во вторник, когда я была в конторе, вдруг объявился Карл и забрал ее. В придачу он забрал мой новый чемодан. Понятие собственности для него ничего не значит. Когда-нибудь его пристрелят, как обычного грабителя. В первый раз его задержали, когда он стал твердить, что Линкольн и Ленин были братьями. А в последний раз —»
Славная, говорливая дама эта Дора. Чем именно больна Белла?
«Синдром Банти. А в последний раз он заявил своему лучшему ученику в школе иностранных языков, что единственное, что люди должны делать, — это любить друг друга и прощать своих врагов».
«Оригинальная мысль. Куда же, как вы полагаете —»
«Да, но его лучший ученик оказался осведомителем, и Карл провел целый год в Доме Отдыха в тундре. Не знаю, куда он увез ее. Даже не знаю, у кого спросить».
«Но должен же быть какой-нибудь способ. Ее нужно вернуть, вырвать из этой дыры, этого ада!»
«Это невозможно. Она преклоняется, она боготворит Карлушу. C’est la vie, как говорят немцы. Жаль, что А. Б. пробудет в Риге до конца месяца. Вы его почти не знаете. Да, жаль, он чудак и душка, и у него четыре племянника в Израиле, что напоминает, по его словам, „действующих лиц псевдоклассической пьесы“. Один из них — мой бывший муж. Жизнь порой становится ужасно сложной, и чем она сложнее, тем, как будто, она должна быть счастливее, но в действительности „сложность“ всегда означает почему-то грусть и тоску».
«Но послушайте, неужели я не могу ничего сделать? Что, если мне попробовать разузнать, навести справки и, быть может, обратиться за советом в посольство —»
«Она уже больше не английская подданная, а американской никогда и не была. Уверяю вас, это безнадежно. Мы были очень близки с ней в моей очень запутанной жизни, но, представьте только, Карл не позволил ей оставить хотя бы одно словечко для меня — и для вас, конечно. К несчастью, она сказала ему, что вы приедете, а этого он вынести не мог, несмотря на то расположение, которое он вызывает во всех черствых людях. Знаете, я видела ваше лицо в прошлом году — или то было в позапрошлом году? — скорее, в позапрошлом, — в голландском или датском журнале, и я бы вас тут же узнала где угодно».
«С бородой?»
«О, да она вас ни капельки не изменила. Это как парики и зеленые очки в старых комедиях. Девочкой я мечтала стать клоунессой, „Мадам Байрон“ или „Трек Трек“. Но скажите мне, Вадим Вадимович, то есть господин Лонг, — они вас еще не разоблачили? Не собираются ли они воздать вам по заслугам? Ведь как ни крути, а вы тайная гордость России. Как, уже должны идти?»
Я отделился от скамьи с несколькими клочками «L’Humanité», попытавшимися последовать за мной, и сказал — так точно, мне лучше уйти, пока самолюбие не взяло верх над благоразумием. Я поцеловал ей руку, на что она заметила, что видела, как это делают, лишь в кинофильме «Война и мир»[205]. Кроме того, я попросил ее, под каплющей сиренью, принять пачку банкнот и потратить эти деньги, как ей вздумается, включая приобретение нового чемодана для поездки в Сочи.
«Он и мой набор английских булавок увез», — прошептала она со своей все украшающей улыбкой.
3
Не могу сказать наверняка, что то вновь был мой попутчик — человек в черной шляпе, поспешивший прочь, когда я распрощался с Дорой и нашим Национальным Поэтом, оставляя последнего вечно сокрушаться обо всех этих попусту льющихся водах (сравни с Царскосельской Статуей — сидящей на скале девой, что грустит над своим разбитым, но все еще переполненным кувшином в одном из его стихотворений); но могу ручаться, что мсье Пф попадался мне на глаза по крайней мере дважды: в ресторане «Астории» и в коридоре спального вагона ночного поезда, в который я сел, чтобы успеть на первый же аэроплан, вылетающий из Москвы в Париж. В нем ему не удалось сесть рядом со мной из-за того, что место было занято пожилой американской дамой с розовыми и лиловыми морщинами и волосами кирпичного цвета: мы попеременно то судачили о том о сем, то дремали, то попивали «Кровавую Марсию»[206] — ее шутка, не оцененная нашей небесно-голубой стюардессой. Приятно было видеть изумление пожилой мисс Сиренефф (ее почти невероятное имя)[207], когда я сказал ей, что пренебрег предложением «Интуриста» совершить обзорную экскурсию по Ленинграду, что я не взглянул на комнату Ленина в Смольном, не зашел ни в одну церковь, не отведал того, что зовется «цыпленком табака», и что я покинул этот прекрасный, прекрасный город, не побывав ни на балете, ни в варьете.
«Так уж вышло, — объяснил я, — что я тройной агент[208], так что сами понимаете…»
«О! — воскликнула она, отстранившись всем телом от меня, как если бы хотела рассмотреть с подобающего ракурса. — О! Это же пр-росто очар-ровательно!»
Аэроплана до Нью-Йорка пришлось подождать; я был слегка навеселе и думал о своем дерзком путешествии скорее с удовольствием (в конце концов, Белла не была так уж серьезно больна и так уж несчастна с мужем; Розабелла, надо полагать, сидела в гостиной с журнальчиком, примеряя сообщаемые им голливудские стандарты к своей ножке: щиколотка — 8 ½ дюйма, икра — 12 ½, сливочная ляжка — 19 ½; а Луиза пребывала во Флоренции или Флориде). С блуждающей на лице ухмылкой я приметил и подцепил книжку в бумажной обложке, забытую кем-то на соседнем кресле в зале ожидания транзитной зоны аэропорта Орли. Я был мышкой, с которой кошка-судьба играла в тот приятный июньский вечер между парфюмерным магазином и винным отделом.
Я держал в руках непритязательный экземпляр формозовской (!) перепечатки американского издания «Княжества у моря». Этого извода своего романа я еще не видел, да и предпочел бы не обследовать сыпь опечаток, обезобразивших, вне всякого сомнения, пиратский текст. Рекламное изображение на обложке юной актрисочки, сыгравшей мою Вирджинию в недавней картине, превозносило скорее хорошенькую Лолу Слоан и ее карамельный леденец на палочке[209], чем достоинства моего романа. Несмотря на то, что аннотация на изнанке мягкого томика была кое-как состряпана издательским поденщиком, не имевшим ни малейшего представления об искусстве книжного оформления, она довольно точно передавала сюжет моего «Княжества».
Бертран, юноша с неустойчивой психикой, обреченный на скорую смерть в психиатрической лечебнице для безумцев, совершивших преступление, за десять долларов сбывает свою десятилетнюю сестру Джинни холостяку средних лет Алу Гардену, богатому поэту, который путешествует с прекрасной отроковицей по курортам Америки и других стран. Положение дел, которое на первый зардевшийся взгляд (и «зардевшийся» — это самое подходящее слово) кажется случаем клинического извращения (описанного в волшебных подробностях, литературе до сих пор неведомых), перерастает тень [опечатка] за днем в подлинный диалог нежной любви. Джинни отвечает на чувства Гардена взаимностью, вчерашняя «жертва», ставшая теперь нормальной восемнадцатилетней красивой девушкой, сочетается с ним узами в трогательно описанной религиозной церемонии. Все кончается как будто ловче [sic!] некуда, бес конечнейшим [!] блаженством, чем-то таким, что идет навстречу сексуальным запросам самых примерных или смиренных гуманистов, если бы тем временем своим хаотичным курсом не протекала в ознопе [снопе?] параллельных жизней, за гранью понимания наших счастливых новобрачных, трагическая часть [участь?] безутешных родителей Вирджинии Гарден, Оливера и [?], которым искусный автор всеми средствами своей власти препятствует отыскать Исток [!!] их дочери. Роман десятилетия.
Я положил книгу в карман, заметив, что мой давненько не появлявшийся попутчик, козлобородый, в черной шляпе — такой же, как прежде, показался из уборной или бара. Собирается ли он следовать за мной в Нью-Йорк, или мы расстанемся здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Он выдал себя: в тот момент, как он подошел поближе, в тот момент, как его рот открылся особым манером, с напряженной нижней губой, и он, мрачно кивая головой, издал восклицание «Эх!», я уже не только знал, что он русский, как и я, но что тем стародавним моим знакомым, которого он так разительно или поразительно напоминал, был отец молодого поэта, Олега Орлова, моего парижского знакомого двадцатых годов[210]. Олег Орлов писал совершенно никчемные «стихотворения в прозе» (много позже Тургенева), которые его отец, тронувшийся умом вдовец, все пытался «пристроить», обивая пороги дюжины эмигрантских редакций журналов и газет, навязывая кустарные поделки сына. Его можно было видеть в приемных жалко лебезящим перед измученной и резкой секретаршей, или стерегущим между кабинетом и ватерклозетом помощника редактора, или пишущим в стоической скорби на углу заваленного бумагами стола особое послание, отстаивающее какое-нибудь страшненькое, уже отвергнутое сочинение своего сына. Он умер в том же доме престарелых, в котором мать Аннетты провела свои последние годы. К тому времени Олег уже давно присоединился к небольшому числу litterateurs, решивших обменять безрадостную свободу изгнания на красную советскую ботвинью за общим столом. Сбылись мечты его юности. Высшим его достижением за последние сорок-пятьдесят лет стало месиво из пропагандистских виршей, платных переводов, яростных обличений, а на ниве искусства — изумительное сходство в наружности, в голосе, манерах и подобострастном бесстыдстве с его батюшкой.
«Эх! — воскликнул он. — Эх, Вадим Вадимович, дорогой, и не совестно тебе дурачить нашу великую, отзывчивую страну, наше добродушное, доверчивое правительство, наших перегруженных работой интуристовских служащих, и таким гадким ребячливым образом! Русский писатель! Вынюхивает! Инкогнито! Кстати, я Олег Игоревич Орлов, мы были знакомы в Париже, когда были молоды».
«И что же тебе нужно, мерзавец?» — холодно поинтересовался я, когда он плюхнулся в кресло слева от меня.
Он поднял обе руки жестом «смотрите-я-безоружен»:
«Ничего, ничего! Разве только потормошить твою совесть. Было два пути. Нам пришлось выбирать. Самому Федору Михайловичу [?] пришлось выбирать. Или встретить тебя по-американски, с репортерами, интервью, фотографами, девушками, венцами и, разумеется, с самим Федором Михайловичем [председатель союза писателей? начальник тюремного управления?], или же не обращать на тебя внимания, как мы и сделали. Между прочим: фальшивые паспорта бывают занятной уловкой в детективных романах, а нашим людям до паспортов дела нет. Теперь-то сожалеешь, небось?»
Я привстал, как бы желая пересесть, но он тоже привстал, чтобы последовать за мной; так что я остался там, где сидел, и возбужденно схватился за первую попавшуюся книгу — ту самую, что была в кармане моего пиджака.
«Et ce n’est pas tout! — продолжил он. — Вместо того чтобы писать для нас, твоих соотечественников, ты, гениальный русский писатель, предаешь их, кропая для своих хозяев вот это (указывает драматично дрожащим пальцем на «Княжество у моря» в моих руках), вот эту похабную книжонку про маленькую Лолу или Лотту, которую какой-то австрийский еврей или перевоспитавшийся педераст насилует после того, как убивает ее мать, — ах да, простите, сначала женится на ее матери, а уже потом убивает, — мы ведь на Западе все желаем узаконить, не так ли, Вадим Вадимович?»
Все еще сдерживаясь и в то же время сознавая, что неподвластная мне черная туча ярости уже заволакивает мой разум, я сказал:
«Ты ошибаешься. Ты непроходимый дурак. Написанный мною роман, роман, который у меня в руках, это „Княжество у моря“, а ты говоришь о совершенно другой книге».
«Vraiment? А может быть, ты приезжал в Ленинград просто, чтобы поболтать под сиренью с женщиной в розовом? Потому что, знаешь ли, ты и твои друзья феноменально наивны. Причина, по которой мистер (в его поганых змеиных устах это слово срифмовало с „Easter“) Ветров получил разрешение покинуть один трудовой лагерь в Вадиме[211] — странное совпадение, — благодаря чему он смог забрать свою жену, состояла в том, что его к этому времени излечили от мистической мании — излечили такие специалисты, такие мозгоправы, которые и не снились любомудрию ваших западных шарлатанов. О да, драгоценный Вадим Вадимович —»
Боковой «свинг», который я нанес старику Орлову тыльной стороной левого кулака, оказался подобающей силы, особенно если вспомнить — а я помнил об этом, когда замахивался, — что наш с ним совокупный возраст составляет сто сорок лет.
Последовала пауза, во время которой я с трудом поднялся на ноги (из-за силы непривычного импульса я каким-то образом вывалился со своего кресла).
«Ну, дали в морду. Ну так что ж?» — пробормотал он.
Платок, который он прижимал к своему толстому мужицкому носу, покрылся пятнами крови.
«Ну, дали», — повторил он и поплелся прочь.
Я осмотрел костяшки пальцев. Они были багровы, но невредимы. Я послушал свои часики на запястье. Они тикали, точно одержимые.
Часть шестая
1
Кстати, о любомудрии. Вновь начав приспосабливаться и прилаживаться, совсем ненадолго, к уголкам и закоулкам Квирна, я вспомнил, что где-то в моем кабинете в колледже у меня имеется пачка заметок «О сущности пространства», составленных некогда в виде отчета о моих юношеских годах и кошмарах (труд, известный теперь под названием «Ардис»). Мне нужно было, кроме того, разобрать и выволочь из кабинета или безжалостно уничтожить груду разных литературных пожитков, накопившихся с той поры, как я начал читать лекции.
В тот полдень, солнечный и ветреный сентябрьский полдень, я с непостижимой внезапностью истинного вдохновения решил, что семестр 1969/70 года станет для меня последним в Квирнском университете. Я даже прервал в тот день свою обычную сиесту, чтобы запросить немедленной встречи с деканом. Мне показалось, что голос его секретарши в телефонной трубке звучал немного сердито; правда и то, что я уклонился от каких-либо предварительных объяснений, сказав лишь, что цифра 7 всегда напоминала мне флаг, вонзенный полярником в череп Северного полюса.
Двинувшись пешком и уже дойдя до седьмого тополя, я сообразил, что мне из кабинета придется, пожалуй, вынести порядочную кипу бумаг. Я вернулся за автомобилем, а потом насилу приткнул его у библиотеки, куда хотел вернуть кое-какие книги, просроченные на месяцы, если не на годы. Вследствие всего этого я несколько припозднился на аудиенцию к декану — человеку новому и не самому лучшему моему читателю. Он довольно демонстративно посмотрел на часы и проворчал, что через несколько минут ему нужно быть в другом месте на «конференции» — вероятнее всего, вымышленной.
Меня скорее позабавила, нежели поразила плебейская радость, которой он и не пытался скрыть, услышав новость о моей отставке. Он едва слушал меня, когда я из приличия перечислил причины этого решения (частые мигрени, скука, действенность современных звукозаписывающих устройств, внушительный доход от моего недавно вышедшего романа и т. д.). Он весь преобразился — использую клише, которого он заслуживает. Он расхаживал взад и вперед, лучезарно улыбаясь. Движимый грубым душевным порывом, он схватил мою руку. Некоторые щепетильные животные голубых кровей предпочитают пожертвовать хищнику конечность, чтобы не терпеть его низменного прикосновения. Я покинул декана, обремененного мраморной рукой, предоставив ему носиться с ней, как с трофеем на подставке, не зная, куда бы ее примостить.
Итак, я направился в свой кабинет, счастливый ампутант, жаждущий еще сильнее, чем всегда, выпотрошить его ящики и полки. Однако первым делом я набросал записку ректору университета, другому новому человеку, уведомив его с толикой скорее французской, чем английской malice, что полный комплект из ста моих лекций о «европейских шедеврах» вот-вот будет продан одному щедрому издательству, предложившему за них авансом полмиллиона монет (грандиозное преувеличение), а посему дальнейшую трансляцию моих лекций студентам следует прекратить, всего наилучшего, сожалею, что не пришлось познакомиться.
По соображениям моральной гигиены я давно уже избавился от громадного, как «Бехштайн», письменного стола. Куда более скромных размеров стол, заменивший его, содержал почтовую бумагу, бумагу для заметок, конторские конверты, фотостаты моих лекций, экземпляр «Ольги Репниной» (в твердом переплете), предназначавшийся коллеге, но испорченный ошибкой в его имени, и пару зимних перчаток моего помощника (и преемника) Экскюля. Кроме того: три полные коробочки скрепок и полупустую фляжку виски. С полок я смахнул в мусорное ведро или на пол рядом с ним ворох проспектов, оттисков статей, доклад перемещенного эколога об опустошениях, производимых какой-то птицей, озимой совкой[212], и аккуратно прошитые страницы гранок (мои же всегда приходят в виде длинных, отвратительно увертливых и нескладных змей) очередной авантюрной халтуры, в которой полным-полно сомнительных сцен и несомненного цинизма, с гордостью посылаемой мне издателями в надежде на хвалебный отзыв везучего сукина сына. Кипу деловой корреспонденции и мой странный трактат о пространстве я засунул в потертую вместительную папку. Прощай, профессорская келья!
В посредственной беллетристике случайное стечение обстоятельств — это сводник и шулер, но в узорах событий, вспоминаемых незаурядным мемуаристом, — это изумительный художник. Только ослы и простаки полагают, будто человек, воссоздающий свое прошлое, опускает тот или иной эпизод оттого, что он скучен или скуден (эпизод с деканом, к примеру, именно такого рода, а поглядите-ка только, с какой тщательностью он изложен!). Я шел к стоянке автомобилей, когда грузная папка у меня под мышкой — как бы заменившая мне руку — разорвала завязки и усеяла своим содержимым гравий и траву обочины. По той же кампусовой дорожке из библиотеки шла ты, и мы оба присели бок о бок, собирая страницы. Позднее ты призналась, что тебе жалостно было, что к моему дыханию примешивался запах спиртного. К дыханию такого великого писателя.
Я говорю «ты» предумышленно, хотя по логике жизни ты еще не была «ты», поскольку мы даже не были знакомы, и ты стала по-настоящему «ты», только когда ты, ловя желтый листок бумаги, который воспользовался суматохой, чтобы с напускной беззаботностью ускользнуть, сказала:
«Ну уж нет».
Низко наклоняясь, улыбаясь, ты помогла мне затолкать все обратно в папку, а потом спросила, как поживает моя дочь, — лет пятнадцать тому назад ты с ней училась в одной школе, и моя жена несколько раз подвозила тебя домой. И тогда я вспомнил твое имя, и в световой вспышке небесного цвета у меня перед глазами возникла ты и Белла, по виду двойняшки, молчаливо ненавидящие друг дружку, обе в синих пальтишках и белых шапочках, ждущие, когда Луиза отвезет их куда-то. Тебе и Белле 1 января 1970 года исполнялось двадцать восемь лет.
Желтая бабочка присела на головку клевера и вместе с ветром упорхнула.
«Метаморфоза», — сказала ты на своем чудном, изысканном русском.
Хотел бы я получить несколько снимков (дополнительных снимков) Беллы? Беллы, кормящей бурундука? Беллы на школьном балу?[213] (О да, этот танец я помню: она выбрала печального толстого мальчика-венгра, отец которого был заместителем управляющего «Куилтон-отеля», — я все еще слышу, как пренебрежительно хмыкает Луиза!)
На другое утро мы встретились в моей библиотечной кабинке в колледже, а после этого я уже виделся с тобой каждый день. Я вовсе не собираюсь внушать («Арлекины» не предназначены для внушений), будто лепестки и завитки предыдущих моих возлюбленных потускнели и огрубели из-за прямого сравнения с твоей чистотой — волшебством, яркостью, истинностью твоего великолепия. Притом что «истинность» здесь ключевое слово, и постепенное осознание этой истины, этой реальности едва не погубило меня.
Я бы только сфальсифицировал реальность, примись я теперь рассказывать, что знаешь ты, что знаю я, что никто другой не знает и что никогда, никогда не разнюхает практично-безразличный, гаденький пачкун-биограф. И каким же образом развивался ваш роман с ней, господин Блонг? Цыц, Хам Годман! А когда вы решили уехать в Европу? Иди к черту, Хам!
«Подробнее см. „Истинная“» — мой первый английский роман, тридцать пять лет тому назад!
Впрочем, один пунктик человекообразного любопытства я могу удовлетворить в этом интервью с потомками. Глупая, постыдная мелочь, и я никогда не рассказывал тебе о ней. Ну так вот. Это было накануне нашего отъезда из Нью-Йорка, 15-го, что ли, марта 1970 года. Ты ушла за покупками. («Если не ошибаюсь, — сказала ты мне только что, когда я попытался уточнить эту подробность, не говоря тебе для чего, — я тогда купила замечательный голубой чемодан на „молнии“, — легким движением своей ненаглядной тонкой руки ты проиллюстрировала последнее слово, — а он оказался совершенно никчемным».) Стоя перед зеркалом стенного шкафа в своей спальне на северной стороне нашего премилого люкса, я приступил к принятию окончательного решения. Я не могу жить без тебя, пусть так; но достоин ли я тебя — я хочу сказать, и телом, и духом? Я старше тебя на сорок три года. «Гримаса старости» — две глубокие борозды, образующие заглавную лямбду, поднимаются между бровей. Мой лоб, с тремя горизонтальными морщинами, не особенно сильно упрочившими свои позиции за последние три десятилетия, оставался округлым, широким и гладким, и я знал, что он ждет только, когда летний загар примется за лессировку висков и скроет стариковские веснушки. Словом, чело надлежало холить и лелеять. Основательная подстрижка избавила меня от львиных кудрей; то, что осталось, имело нейтральный, серебристо-русый оттенок. Мои большие, благородные очки увеличивали сенильную семейку бородавчатых наростиков под нижними веками глаз; а сами глаза, когда-то неотразимые, зелено-карие, были теперь цвета устриц. Нос, унаследованный от вереницы русских бояр, германских баронов и, возможно (если только граф Старов, щеголявший толикой английской крови, был моим настоящим отцом), от одного, по крайней мере, британского пэра, сохранил свою костистую горбинку и ледяной кончик, но на его мясистой части, обращенной к зрителю, стал появляться злокозненный седой волосок, выраставший после каждого выдергивания все быстрее и быстрее. Безупречный ряд искусственных зубов не шел ни в какое сравнение с моими бывшими, привлекательно-неровными зубами и (как я сказал ужасно дорогостоящему, но недалекому дантисту, не понявшему меня) «как будто игнорировал мою улыбку». Глубокие складки, спускающиеся от крыльев носа, и челюстные мешочки с каждой стороны подбородка при повороте лица на три четверти образовывали типичный изгиб, общий у стариков всех национальностей, сословий и профессий. Я усомнился, стоило ли сбривать великолепную бороду и элегантные усы, оставленные для пробы на неделю или около того после моего возвращения из Ленинграда? И все же я счел, что мое лицо выдержало экзамен — на тройку с минусом.
Поскольку атлетичностью я никогда не отличался, одряхление моего тела не было ни особенно заметным, ни таким уж примечательным. Я поставил ему тройку с плюсом — главным образом за то, что сумел удержать рубежи обороны против вторжения брюшного жира в войне с тучностью — кампания, которую я вел с перерывами для отступлений и передышек с середины пятидесятых годов. Если не брать в расчет зачаточного безумия (проблема, которой я предпочитаю заняться отдельно), я всю свою взрослую жизнь отличался превосходным здоровьем.
Каково же было состояние моего искусства? Что я мог предложить тебе по этой части? Ты изучала, как ты, надеюсь, помнишь, Тургенева в Оксфорде и Бергсона в Женеве, но благодаря семейным связям со старым добрым Квирном и русским Нью-Йорком (где последний эмигрантский журнал все еще продолжал сокрушаться, с идиотскими инсинуациями, над моим «отступничеством») ты совсем не отставала, как я обнаружил, от процессии моих русских и английских арлекинов, за которыми следуют один или два тигра с багряными языками и девочка-либеллула[214] на слоне. Ты, кроме того, изучила те фотокопии, более недействительные, доказав тем самым, что мой метод в конце концов avait du bon — какие бы чудовищные обвинения ни предъявлялись им[215] профессорской сворой в завистливых университетах.
Вот так, раздетый догола, исполосованный опаловыми лучами, я вглядывался в другое, намного более глубокое зеркало, и видел всю вереницу своих русских книг, и испытывал удовольствие и даже трепет от того, что проходило перед моими глазами: «Тамара», мой первый роман (1925), — девушка на заре во мгле сада; обманутый гроссмейстер в следующем романе «Пешка берет королеву»; «Полнолуние» — лунное сияние стихов; «Камера люцида» — насмешливый взгляд соглядатая среди кротких слепцов; «Красный цилиндр» казни в стране всеобщей безнаказанности; и наконец, лучший в этом ряду, — молодой поэт, сочиняющий прозу в «Подарке отчизне».
Эта русская партия моих книг была окончательно сложена, подписана и упрятана назад, в кладовую создавшего их сознания. Все они были одна за другой переведены на английский язык — либо мною самим, либо под моим надзором, с моей собственноручной правкой. Окончательные английские редакции этих книг, как и их переизданные оригиналы, теперь все будут посвящены тебе. Отлично. С этим покончено. Следующая картинка.
Мои английские книги, ведомые яростью романа «Подробнее см. „Истинная“» (1940), проходят через изменчивое освещение «Эсмеральды и ее парандра» к потехе «Д-ра Ольги Репниной» и к грезе «Княжества у моря». Прибавить к этому собрание рассказов «Изгнание с Майды», далекого острова, и «Ардис» — книгу, к работе над которой я вернулся в те дни, когда встретил тебя, дни, когда Луиза очень кстати обрушила на меня настоящий поток почтовых открыток (открыток!), наконец-то заикнувшись о том «шаге», который я хотел, чтобы она сделала первой.
Если я оцениваю вторую партию своих книг не по такому высокому тарифу, как первую, то это не только из-за неуверенности в себе, которую одни назовут жеманной, другие — похвальной, а я сам — трагичной, но также оттого, что абрис моих американских произведений кажется мне размытым, а эта расплывчатость происходит оттого, что, как я знаю, я всегда буду надеяться, что моя следующая книга — не именно та, над которой работаю сейчас, как «Ардис», но некая другая книга, к которой я еще даже не подступался, нечто невероятное и неповторимое, в конце концов насытит эту страсть, эту мучительную жажду, которую отдельные страницы «Эсмеральды» и «Княжества» все еще не смогли утолить. Я верил, что могу рассчитывать на твое терпение.
2
У меня не было ни малейшего желания выплачивать Луизе компенсацию за то, что ей пришлось от меня отделаться; вместе с тем я не мог решиться поставить ее в неловкое положение, снабдив своего адвоката перечнем ее измен. Они были глупые и жалкие, эти измены, и начались еще в те времена, когда я оставался ей верен (в разумных пределах). «Бракоразводный диалог», как убийственно называл это Гораций Пеппермилл (младший), тянулся и тянулся всю весну: Ты и Я часть ее провели в Лондоне, а остаток в Таормине, и я все переносил разговор о нашей свадьбе (отлагательство, к которому ты относилась с королевским безразличием). Но что действительно удручало меня, так это необходимость откладывать также томительнейшее, скучнейшее изложение, которое мне предстояло повторить уже в четвертый раз за мою жизнь и которым следовало предварить любые такие разговоры. Я не находил себе места. Низостью было оставлять тебя в неведении относительно моего душевного расстройства.
Стечение обстоятельств — ангел с крапчатыми крыльями, уже упоминавшийся прежде, — избавило меня от унизительной канители, приниматься за которую я считал своим долгом всякий раз перед тем, как сделать предложение каждой из моих бывших жен. 15 июня в Гандоре (Тичино) я получил письмо от младшего Горация, сообщившего мне отличную новость: Луизе стало известно (каким образом — другой вопрос), что в разные периоды нашего брачного союза я неусыпно шпионил за ней во всех этих очаровательных старинных городах с помощью частного детектива (Дика Кокберна, моего преданного друга); что пленки с записями любовных разговоров по телефону и другие доказательства находятся в распоряжении моего адвоката и что она согласна на любые возможные уступки, чтобы ускорить дело, поскольку горит желанием вновь выйти замуж — на сей раз за графского сынка. И в тот же знаменательный день, в четверть шестого пополудни, я закончил переписывать тонким пером и мельчайшим из моих почерков для чистовых копий последнюю, 733-ю среднего размера бристольскую карточку (каждая вмещает около ста слов) своего «Ардиса» — стилизованные воспоминания, посвященные усадебному отрочеству и пылкой юности великого мыслителя, который к концу книги принимается за самую дразнящую из всех ноуменальных загадок. Одна из начальных глав содержала отчет (изложенный с откровенно-личной, нестерпимо-мучительной интонацией) о моем собственном противоборстве с Фантомом Пространства и мифом о Четырех Сторонах Света.
К половине шестого, в буйстве приватного торжества, я уплел большую часть черной икры и выпил все шампанское из дружелюбного холодильника нашего бунгало в саду гандорского «Палас Отеля». Выйдя к тебе на веранду, я сказал, что хотел бы, чтобы следующий час ты посвятила внимательному чтению…
«Я все читаю внимательно…»
«…этой пачки из тридцати карточек „Ардиса“». После чего, полагал я, ты могла бы встретить меня где-нибудь на моем обратном пути после вечерней прогулки: как всегда — к фонтану на spartitraffico (десять минут), а оттуда — к границе пиниевой плантации (еще десять минут). Я оставил тебя откинувшейся в шезлонге, солнце проецировало на пол аметистовые ромбы верандовых окон и испещряло полосами твои обнаженные голени и подъем скрещенных ног (палец на правой ноге время от времени подергивался в некой таинственной связи с ритмом усвоения текста или переходами в нем). Несколько минут спустя ты поймешь (как до тебя поняла одна лишь Айрис, другие не были орлицами), что я хотел тебе открыть прежде, чем ты согласишься стать моей женой.
«Будь, пожалуйста, осторожен, переходя улицу», — сказала ты, не поднимая глаз, но затем все же взглянула на меня и нежно изобразила губами поцелуй, после чего вновь вернулась к «Ардису».
Ух ты, слегка качает! Неужто в самом деле то был я, князь Вадим Блонский, сумевший в 1815 году перепить пушкинского ментора Каверина? В золотистом свете целой кварты выпитого все деревья в отельном парке казались араукариями. Я поздравил себя с безупречностью своей уловки, хотя не мог бы точно сказать, относится ли она к записанным на пленку шалостям моей третьей жены или к раскрытию особенностей моего недуга при помощи этого субъекта в книге? Понемногу от мягкого ароматного воздуха хмель начал улетучиваться: мои подошвы уверенней соприкасались с гравием и песком, глиной и камнем. Я начал сознавать, что отправился на прогулку в сафьяновых шлепанцах и продранной, линялой холщовой паре, имея, парадоксальным образом, в одном нагрудном кармане свой паспорт, а в другом — пачку швейцарских банкнот. Местным жителям Гандино, или Гандоры, или как там назывался этот городок[216], было известно лицо автора «Un regno sul mare», или «Ein Königreich an der See», или «Un Royaume au Bord de la Mer», так что с моей стороны и впрямь было бы довольно глупо приготовить читателю и подсказку и повод для толков, если бы меня в самом деле переехал автомобиль.
В ту же минуту меня охватили такой восторг, такая отрада, что, проходя мимо уличного кафе, расположенного сразу перед площадью, я поймал себя на мысли, что неплохо бы закрепить игристые пузырьки, все еще поднимавшиеся во мне, рюмочкой чего-нибудь еще; но я заколебался и только бесстрастно прошествовал мимо, помня, как деликатно и в то же время твердо ты порицала и самое невинное бражничанье.
Одна из улиц, исходящая на запад от разделительного островка, пересекала Corso Orsini и сразу же после этого, как бы совершив изнурительный подвиг, вырождалась в немощеную, пыльную, старую дорогу со следами злаковых порослей по обе стороны, но без тротуара.
Теперь я мог бы сказать то, к выражению чего не испытывал побуждения долгие годы, а именно: мое счастие было совершенным. Я шел и мысленно читал те карточки вместе с тобой, в твоем ритме: твой прозрачный указательный палец на моем шероховатом, шелушащемся виске, а мой морщинистый палец — на твоей бирюзовой височной венке. Я поглаживал фацеты Блэквингового карандаша, который ты нежно вращала в пальцах, я чувствовал на своих поднятых коленях старую, пятидесятилетнюю закрытую шахматную доску, подарок Никифора Старова (время не пощадило большую часть фигур в их устланном сукном ящике из красного дерева), которую ты вместо подставки упирала в свою юбку с узором из ирисов. Мои глаза двигались в согласии с твоими, мой карандаш вместе с твоим в сомнении ставил робкий маленький крестик на узких полях против солецизма, которого я не мог разглядеть сквозь слезы пространства. Счастливые слезы, ослепительные, бесстыдно счастливые слезы!
Кретин-мотоциклист в защитных очках, который, как я полагал, меня заметил и должен был притормозить, чтобы позволить мне мирно перейти через Corso Orsini, так неуклюже вывернул в сторону, чтобы не убить меня, что после унизительных виляний его занесло и развернуло на некотором отдалении лицом ко мне. Я не обратил никакого внимания на рев его ненависти и продолжил степенный моцион в западном направлении, идя теперь в переменившихся окрестностях, мною уже упомянутых. Почти деревенская старая дорога тянулась между скромных вилл, каждая в собственном гнездышке из высоких цветов и раскидистых деревьев. Прямоугольный кусок картона, прикрепленный к одной из западных калиток, извещал по-немецки: «Комнаты»; на противоположной стороне щит с итальянской надписью «Продается» опирался о старую пинию. Вновь слева от меня некая более искушенная хозяйка предлагала «Обеданья» по-английски. До зеленой аллеи pineta было все еще довольно далеко.
Мои мысли вновь обратились к «Ардису». Я знал, что причудливый душевный порок, о котором ты в эту минуту читала, тебя огорчит; я также знал, что рассказ о нем — это простая формальность с моей стороны, и ей не под силу помешать естественному течению нашей общей судьбы. Это был жест джентльмена, не более. Собственно, он мог бы послужить компенсацией за то другое, о чем ты еще не знала и о чем мне тоже следовало сказать тебе. Подозреваю, что ты определила бы его как гнусноватенький способ «поквитаться» с Луизой. Допустим, но что же «Ардис»? Оставим в стороне мое покореженное сознание — пришелся ли он тебе по душе или показался отвратительным?
Сочиняя по своему обыкновению целые книги в голове, прежде чем дать волю сокрытым во мне словам и записать их карандашом или пером, я обратил внимание, что окончательный текст еще некоторое время остается запечатленным в моей памяти — столь же ясный и цельный, что и плывущий отпечаток, оставляемый электрической лампой на сетчатке. Вот почему я мог пересмотреть действительные отображения тех карточек, что ты читала: ведь они были спроецированы на мой мысленный экран вместе с мерцанием твоего топазового колечка и биеньем твоих ресниц, и я мог высчитать, как далеко ты продвинулась, не просто сверившись с часами, но на самом деле проходя с тобой вместе строку за строкой от левого до правого края каждой карточки. Ясности отображения отвечали достоинства произведения. Ты слишком хорошо знала мои сочинения, чтобы разгневаться на слишком грубую эротическую подробность или посетовать на слишком туманный литературный намек. Блаженством было читать «Ардис» вместе с тобой таким вот способом — торжествуя победу над отрезком окрашенного пространства, отделявшего мою улочку от твоего шезлонга. Разве я не превосходный писатель? Превосходный. Ту, ведущую к усадьбе аллею, со статуями и сиренью, где мы с Адой чертили на испещренном солнцем песке наши первые круги, изобразил в своем воображении и воссоздал художник непреходящих достоинств. Жуткое подозрение, что даже «Ардис», моя самая личная книга, насыщенная действительностью, пронизанная солнечными бликами, может оказаться бессознательным подражанием чужому неземному искусству, это подозрение пусть не спешит являться; сейчас же, в восемнадцать часов восемнадцать минут пятнадцатого июня тысяча девятьсот семидесятого года, в Тичино — ничто не могло оцарапать роскошного влажного глянца моего счастья.
Тем временем я дошел до конечного пункта моей обычной прогулки перед ужином. Из окна дома, сквозь замершую листву доносилось «ра-та-та, та-та, так» машинистки, завершавшей последнюю страницу, и я с удовольствием подумал о том, что давно уже обхожусь без длительных хлопот с перепечаткой моих безукоризненных манускриптов, которые можно воспроизвести фотографическим способом за несколько жужжащих минут. Теперь все тяготы по превращению моего почерка прямиком в печатные знаки несли издатели; и я знаю, эта процедура не была им по душе, как благовоспитанному энтомологу может показаться возмутительным, что какое-нибудь нетипичное насекомое пропускает некоторые положенные стадии метаморфоза.
Мне оставалось пройти всего несколько шагов — двенадцать, одиннадцать, — прежде чем повернуть назад: я почувствовал, что ты думаешь о том же в обратном направлении удаленного восприятия, как только ощутил что-то вроде мысленного облегчения, означавшего, что ты кончила читать эти тридцать карточек и сложила их по порядку, выровняла стопку, легонько постучав ее широкой частью по столу, нашла резинку, лежащую на нем в форме сердечка, натянула ее на пачку, отнесла ее для сохранности на мой письменный стол и теперь готовилась встретить меня на моем обратном пути в «Гандора Палас».
Низкая стена из серого камня, высотою до пояса, толщиною с человеческое тело, выстроенная по типу поперечного парапета, пресекала всякие надежды проселочной дороги на продление, которые она все еще питала в качестве городской улицы. Посередине парапет прерывался узким проемом для пешеходов и велосипедистов, и ширина этой лакуны точно соответствовала ширине тропы, бравшей начало по ту сторону парапета, которая, раза два вильнув, проскальзывала в довольно дремучий ювенильный бор. Мы с тобой часто бродили там серыми утрами, когда берег озера или заводи утрачивает все свое очарование; но в тот вечер, как всегда, я завершил свою прогулку у парапета и стоял в совершенном покое, обозревая низкое солнце, а разведенными в стороны руками с удовольствием проводил по гладкой поверхности широкой кладки с двух сторон от проема. Что-то в этом тактильном ощущении или же недавнее «ра-та-так» возвратило и восполнило образ моих 733 бристольских карточек, двенадцать на десять с половиной сантиметров, которые ты еще прочитаешь главу за главой, после чего великое наслаждение, парапет наслаждения, завершит мой труд. Тут у меня в голове возникло представление о чем-то, наделенном четко очерченной плотностью, некой замечательной массивностью — алтарь! плато! — образ гладкого копировального аппарата в одном из служебных кабинетов нашего отеля. Мои доверчивые руки по-прежнему были разведены в стороны, но мои подошвы более не ощущали мягкой земли. Я хотел вернуться к тебе, к жизни, к аметистовым ромбам, к карандашу, лежащему на столе веранды, и не мог. То, что так часто случалось в мыслях, теперь произошло в действительности: я не мог повернуться. Сделать это движение значило бы повернуть мир на его оси, а это было так же невозможно, как переместиться во плоти из этого мгновения в предыдущее. Вероятно, мне не следовало паниковать, а надо было спокойно подождать, пока в моих окаменевших конечностях вновь не заиграет кровь. Вместо этого я совершил, или представил себе, что совершил, отчаянный поворотный рывок — и земной шар не поддался. Я, должно быть, замер на миг с раскинутыми руками, после чего упал навзничь на неосязаемую землю.
Часть седьмая
1
Существует старинное правило — такое старинное и избитое, что мне неловко напоминать о нем. Позвольте мне обратить его в стишок, чтобы стилизовать его ветхость:
Не умирает в книге тот, Кто от себя рассказ ведет.Я говорю, само собой, о серьезных романах. В так называемой Спиритической Литературе хладнокровный рассказчик, описав собственную кончину, может продолжить повествование следующим образом: «Я обнаружил, что стою на лестнице из оникса перед громадными золотыми вратами в толпе других плешивых ангелов…»
Карикатурная халтура, фольклорный вздор, уморительный пережиток благоговения перед драгоценными минералами!
И все же…
И все же мне кажется, что за три недели прогрессивного паралича (если это был он самый) я приобрел кое-какой опыт и что когда моя Ночь в самом деле наступит, она не застигнет меня врасплох. Проблемы самоидентификации удалось если не решить, то хотя бы очертить. Художественные прозрения допускались. Мне было позволено взять с собой в те весьма труднодоступные области сумеречного и сомнительного существования свою палитру.
Как быстро! Если бы я мог поделиться своим определением смерти с остолбеневшим рыбаком, с замершим жнецом, обтирающим свою косу пучком травы, с объятым ужасом мотоциклистом, влетающим в молодой ивняк на одном зеленом берегу и оказывающимся на вершине более высокого дерева на другом берегу, вместе со своей машиной и подружкой, с теми лошадьми черной масти, что, совсем как люди с крупными вставными зубами, глядят на меня, провожают взглядом мою престранную плавную глиссаду, я бы выкрикнул лишь: как быстро! Нельзя сказать, что эти деревенские очевидцы в самом деле когда-либо существовали: мое впечатление от непомерной, неизъяснимой и, говоря по правде, довольно неумной и унизительной скорости (смерть неумна, смерть унизительна) пришлось бы выразить в совершеннейшую пустоту — ни единого убегающего рыбака, ни единой травинки, окровавленной его уловом, вообще ни одной метки или пометки. Вообразите меня, пожилого господина, знаменитого писателя, навзничь стремительно скользящего вослед за своими вытянутыми вперед мертвыми ногами сквозь этот проем в граните, затем через бор, затем вдоль туманных заливных лугов и затем просто в толще мглы, без остановки, бесконечно, вообразите себе это зрелище!
С младенческих лет безумие подстерегало меня за тем ли, иным ли углом или валуном. Мало-помалу я свыкся с сепиевой пристальностью этих настороженных глаз, все время мягко следящих за мной. А все же я знавал безумие не только под видом зловещей тени. Оно являлось мне и вспышкой восторга — столь изобильного и сокрушительного, что для меня было своего рода спасением само отсутствие непосредственной цели, на которую его можно было бы направить.
По соображениям практического свойства, таким как поддержание плоти и духа (психики и соматики) в состоянии общепринятого равновесия, дабы не подвергать опасности чью-нибудь жизнь или не становиться обузой для друзей или правительств, я отдавал предпочтение скрытой разновидности, жути этого настороженно-пристального существа; в лучшем случае это приводило к припадку невралгии, мукам бессонницы, сражению с бездушными вещами, которые никогда и не трудились скрывать своей враждебности ко мне (сбежавшая пуговица, снисходящая до того, чтобы ее отыскали, канцелярская скрепка, эта вороватая прислужница, которой мало держать два рутинных письма, но хочется еще прихватить драгоценную страницу из другой пачки бумаг), а в худшем — к внезапному спазму пространства, когда посещение дантиста превращается в фарсовую вечеринку. Я предпочитал неразбериху и смятение подобных припадков пестроте и круговерти безумия, которое, притворившись, будто украшает мою жизнь особыми формами вдохновения, интеллектуального блаженства и прочим в таком духе, вдруг переставало приплясывать и порхать вокруг меня и набрасывалось и калечило, и — как знать — могло бы изничтожить меня совершенно.
2
После того как меня сразил грандиозный пароксизм, я, должно быть, оказался абсолютно бесчувственным, от макушки до подошв, но мой рассудок (несущиеся сквозь меня образы, резкость мыслей, гений бессонницы) оставался столь же мощным и деятельным, каким был всегда (если не считать клякс и помарок местами). К тому времени, как меня по воздуху доставили в госпиталь Лекошан[217], что в приморской части Франции, страстно рекомендованный доктором Генфером[218], швейцарским родственником его главного врача, я уже разобрался в некоторых любопытных нюансах: сверху донизу я был парализован симметричными пятнами, разделенными географией слабой чувствительности. Когда в первую же неделю, проведенную там, мои пальцы вдруг «очнулись» (обстоятельство, которое до того ошеломило и даже разгневало мудрецов Лекошана, экспертов по прогрессивным параличам, что они посоветовали тебе поскорее перевезти меня в какое-нибудь более экзотичное и свободомыслящее учреждение — что ты и сделала), я немало позабавился, составляя карту чувствительных участков, располагавшихся неукоснительно один супротив другого, а именно: по обе стороны лба, челюстей, глазниц, груди, яичек, колен, подвздоший. На медиальной стадии наблюдения средний размер каждого такого пятна жизни никогда не превышал размеров Австралии (порой я чувствовал себя гигантом) и никогда не сокращался (когда я сокращался сам) до размера меньше диаметра ордена умеренного достоинства — масштаб, позволявший мне ощущать себя будто бы в леопардовой шкуре, раскрашенной педантичным душевнобольным из горемычной семьи.
В некоторой связи с этими «тактильными симметриями» (по поводу которых я все еще не оставил попыток снестись с не слишком приветливым медицинским журналом, кишащим фрейдистами) я бы хотел расположить начальные пиктографические композиции — плоские, примитивные образы, которые появлялись в двух параллельных опытах, справа и слева от моего странствующего тела, на противоположных витражных створках моих галлюцинаций. Если, к примеру, с левой стороны моего существованья Аннетта садилась в автобус с пустой корзинкой, то с правой она сходила с него, обремененная овощами — царственная капуста над порабощенными огурцами. По ходу времени симметрии замещались более изощренными взаимозависимостями, или же они возникали вновь в миниатюре, но в пределах заданной картины. Теперь моему таинственному вояжу сопутствовали колоритные сценки. Я мельком видел Беллу, которая после службы копошилась среди уймы голых младенцев в общественных яслях, исступленно ища своего первенца, всего десяти месяцев от роду, опознаваемого по симметричным пятнышкам красной экземы на боках и ножках. Плавальщица с лоснящимися ляжками одной рукой отбрасывала с лица мокрые пряди волос, а другой (с другой стороны моего рассудка) толкала вперед плот, на котором лежал я, нагой старик с лоскутом парусины вокруг фок-мачты, скользящий в полную луну, чьи змеистые отражения струились среди купав. Меня поглощал длинный туннель, полуобещавший кружок света в отдаленном своем окончании, полусдерживавший обещание, являя рекламный закат, коего я так и не достигал, а туннель расплывался, исчезал, и вновь воцарялась привычная мгла. Как было «принято» в этом сезоне, группы франтоватых лодырей навещали мой одр, который вкатывали и оставляли в смотровой, где Айвор Блэк в роли модного молодого доктора демонстрировал меня трем актрисочкам, изображавшим светских красавиц: их юбки вздувались, когда они усаживались на белые стулья, и одна леди, указывая на мои чресла, непременно коснулась бы меня своим хладным веером, если бы ученый мавр не отвел его в сторону указкой из слоновой кости[219], после чего мой плот продолжил свое долгое скольжение.
Кто бы ни прокладывал курс моей участи, ему порой не удавалось избежать затасканных приемов. Подчас вектор моего стремительного движения уходил в небеса на аллегорическую высоту, навевавшую малоприятные религиозные ассоциации — если только не просто мысли о перевозке кадавров коммерческими авиарейсами. К заключительной стадии моего гротескного приключения в моем сознании мало-помалу установилось определенное представление о более или менее регулярном чередовании светлого и темного времени суток. На первых порах дневные и ночные эффекты косвенным путем передавались сиделками и другими рабочими сцены, которые слишком уж усердствовали в обращении с разборным реквизитом, — они то настраивали мерцание поддельных звезд с отражательных поверхностей, то малевали зарю через надлежащие промежутки. Мне никогда раньше не приходило в голову, что с исторической точки зрения искусство или, по крайней мере, предметы материальной культуры предвосхищали природу, а не следовали ей; между тем это, как говорится, именно мой случай. Так, в обволакивающей меня безмолвной дали узнаваемые звуки сперва предстали зрительно на бледных краях кинопленки по ходу съемки текущей сцены (скажем, церемонии научного кормления), затем что-то в бегущей ленте склонило ухо прийти на смену глазу, и тогда наконец мой слух возвратился — и с лихвой. Первый же шорох суетливой сиделки прозвучал раскатами грома; урчание у меня в желудке — ударом кимвал.
Я должен дать педантичным некрополистам, равно как и всем любителям медицины, некоторые клинические пояснения. Мои легкие и сердце работали — или были принуждены работать — нормально; тоже и кишечник, этот фигляр в ряду действующих лиц наших частных мистерий. Мой остов лежал плашмя, как на «Уроке анатомии» кисти старого мастера[220]. Предотвращение пролежней, особенно в лекошанском госпитале, граничило прямо-таки с манией, объяснимой, по-видимому, отчаянным стремлением подменить подушками и различными механическими приспособлениями разумное лечение непостижимой болезни. Мое тело «почивало», как может «почивать» или «покоиться» ступня гиганта; вернее сказать, впрочем, что я пребывал в состоянии какой-то ужасной разновидности затяжной (двенадцать ночей!) бессонницы, причем сознание мое оставалось все время начеку, как у того «Бессонного славянина» из циркового представления, о котором я как-то прочитал в «The Graphic»[221]. Я был даже не мумией, я был — по крайности, вначале — продольным сечением мумии или, скорее, абстракцией наитончайшего из ее возможных срезов. А что же голова? — хотели бы знать читатели, возглавляющие разные важные организации. Что ж, мое чело было как запотевшее стекло (пока не очистилось два боковых пятнышка); рот оставался немым и застывшим до тех пор, пока я не обнаружил, что могу чувствовать свой язык — чувствовать его в фантомной форме своего рода плавательного пузыря, который, быть может, пригодился бы рыбе в случае трудностей с дыханием, но для меня был бесполезен. У меня было некоторое ощущение длительности и направления — двух вещей, которые любимое мое создание, стремящееся помочь жалкому безумцу благородной ложью, объявило (в более позднем изводе вселенной) совершенно различными формами одного явления. Большая часть моего сильвиева акведука[222] (здесь приходится прибегнуть к специальным терминам), казалось, клинообразно спускалась вниз после нескольких катастрофических отклонений или затоплений в структуру, где помещается его ближайший союзник, который, как это ни странно, является также нашим самым непритязательным органом чувств, обходиться без которого и проще, и порой приятней всего, — и ах, как же я проклинал его, когда был вынужден осязать запах экскрементов, и ах (да здравствует старинное «ах»!), как я благодарил его, когда он подсказывал: «Кофе!» или «Пляж!» (поскольку анонимное снадобье пахло как тот крем, что Айрис втирала мне в спину в Каннице — полвека тому назад!).
Теперь довольно сучковатый пассаж: не могу сказать, всегда ли мои глаза оставались широко открытыми, «в остекленелом взгляде надменного беспамятства», как вообразил себе репортер, не пробравшийся дальше стола в коридоре; но очень сомневаюсь, что я мог моргать, а мотор зрения едва ли можно запустить без смазки моргания. И все же каким-то образом во время моего соскальзывания вниз по тем иллюзорным каналам и смутным путям, прямиком на другой материк, я время от времени сквозь подпалпебральные[223] миражи замечал то тень руки, то блеск инструмента. Что же касается моего мира звуков, он оставался прочно воображаемым. Я слышал, как незнакомцы невнятными голосами обсуждают все те книги, что я сочинил или полагал, будто сочинил, поскольку всё, упоминаемое ими, — заглавия, имена героев, каждая фраза, выкрикиваемая ими, — всё было нелепейшим образом искажено исступлением дьявольской учености. Луиза потчевала общество одной из своих замечательных историй — того разбора, что я называл «крючками для имен», потому что они только делали вид, будто их цель — тот или иной пикантный момент, скажем, квипрокво, имевшее место на вечеринке, но в действительности они служили лишь поводом для того, чтобы ввернуть имя какого-нибудь ее знатного «старого друга», или обаятельного политикана, или кузена этого политикана. На фантастических симпозиумах читались научные доклады. В лето Господне 1798-е слыхали, как Гаврила Петрович Каменев, талантливый молодой поэт, посмеивался, сочиняя свою Оссианову подделку «Слово о полку Игореве»[224]. Где-то в Абиссинии пьяный Рембо читал изумленному русскому путешественнику стихотворение «Le Tramway ivre» («…En blouse rouge, à face en pis de vache, le bourreau me trancha la tête aussi…»)[225]. А то еще я слышал шипенье часов с туго взведенным репетиром в кармане моего рассудка, сообщавших время, метрику, меру, что мне — как знать? — едва ли доведется услышать вновь.
Должен еще отметить, что моя плоть находилась в сравнительно хорошем состоянии: никаких разрывов связок или мышечных ущемлений; я мог бы, пожалуй, слегка ушибить позвоночник из-за глупого коллапса, который отправил меня в странствие, но он все так же находился на своем месте, выпрямляя меня, защищая мое естество — с тем же успехом, что и примитивный костяк некоторых полупрозрачных морских тварей. И все же лечившие меня доктора (в особенности лекошанские) исходили из того, что (поскольку я теперь могу воссоздать картину) мои повреждения были всецело телесными, только телесными и могли быть устранены лишь физическим воздействием. Речь не о современной алхимии, не о колдовских зельях, что впрыскивали в меня, — они имели, возможно, какое-то действие, и не только на мое тело, но также на божество, вселившееся в меня, как могут действовать внушения честолюбивых чернокнижников или дрожащих от страха советников на безумного императора; я говорю о том, с чем я действительно не могу смириться, — с засевшими в памяти образами чертовых скоб и ремней, удерживавших меня распластанным на спине (и не дававших мне потихоньку уйти — что, как мне казалось, я был в состоянии сделать — с моим надувным плотом под мышкой), или, того хуже, — искусственных электрических пиявок, прикреплявшихся к моему сердцу и конечностям палачами в масках — до тех пор, пока их не изгнал тот святой (в Катапульте, штат Калифорния), профессор Г. П. Слоун, который уже был близок к открытию, когда я начал приходить в себя, что меня в один миг можно вылечить — вылечить меня! — посредством гипноза и толики юмора со стороны гипнотизера.
3
Насколько мне известно, имя мое — Вадим, и так же звали моего отца. В недавно выданном мне американском паспорте — изящной книжечке с золотым рисунком на зеленой обложке, перфорированной числом 00678638, — мой родовой титул не указан; впрочем, он значился в моем британском паспорте, в каждой из его нескольких редакций: Молодость, Зрелость, Старость — пока последнюю не исказили до неузнаваемости мои приятели-фальсификаторы, отъявленные весельчаки по натуре. Все это я собрал по крохам в одну из ночей, когда определенные почки мозга, пребывавшие доселе в замороженном состоянии, вдруг вновь расцвели. Другие, однако, по-прежнему были сморщены, как запаздывающие бутончики, и хотя я мог свободно шевелить под простыней пальцами ног (впервые после своего коллапса), мне никак не удавалось извлечь из того более темного уголка сознания следовавшую за отчеством фамилию. Мне казалось, что она начинается с «Н», как понятие, служащее для великолепно-спонтанного порядка слов, возникающего в момент вдохновения, как столбик красных корпускул в свежевзятой крови под микроскопом — понятие, использованное мною как-то в романе «Подробнее см. „Истинная“», но теперь и то и другое ускользало из памяти, что-то напоминающее монетную трубочку — капиталистическая метафора, а, Марксик? Да, мне определенно казалось, что моя фамилия начинается с «Н» и имеет отвратительное сходство с фамилией или псевдонимом некоего пресловутого (Ноторов? Нет.) болгарского, или вавилонского, или, может быть, бетельгейзийского писателя, с которым рассеянные эмигранты из какой-то другой галактики постоянно путали меня; но находилась ли она где-то между Небесным, или Набедриным, или Наблидзе (Наблидзе? Смешно.), я попросту не мог сказать. Я предпочел не надрывать своей воли (поди прочь, Наборкрофт!) и оставил попытки — или она, быть может, начиналась на «Б», а «Н» только пристало к ней, как некий мерзкий паразит? (Бонидзе? Блонский? — Нет, это относится к затее с БИНТом.) Не было ли во мне капли кавказской княжеской крови? Почему среди газетных вырезок, полученных мною из Англии после выхода в Лондоне «Княжества у моря» (прелестное мелодичное название), встречались намеки на мистера Набарро, английского политического деятеля? Почему Айвор называл меня Макнабом?
Придя в себя, но не имея имени, я все же оставался существом нереальным. Бедный Вивиан, бедный Вадим Вадимович, был не более чем плодом чьего-то — даже не моего собственного — воображения. Одно ужасное замечание: в быстрой русской речи длинные имя и отчество привычно сокращаются, часть слогов проглатывается: так, «Павел Павлович» в повседневном обращении превращается в «Палпалыча», а труднопроизносимое, длинное, точно солитер, «Владимир Владимирович» звучит почти как «Вадим Вадимыч».
Я сдался. И когда я сдался окончательно, моя звучная фамилия подкралась сзади, как проказливое дитя, заставляющее своим внезапным криком подскочить задремавшую старую няньку.
Оставались еще другие затруднения. Где я? Как добыть немного света? Кто скажет, как во тьме не перепутать кнопки ночника с кнопкой звонка? Кем, помимо моей собственной личности, была та, другая особа, моя суженая, верная моя? Мне удалось различить сизые шторы на сдвоенных окнах. Почему бы не раздвинуть их?
Так вдоль наклонного луча Я вышел из паралича, –если только «паралич» не слишком сильно сказано для определения состояния, которое лишь имитирует его (при некотором малопонятном пособничестве со стороны пациента): здесь у нас весьма замысловатое, но не слишком серьезное психологическое расстройство — как, во всяком случае, это представляется в беззаботной ретроспекции.
Благодаря некоторым признакам я оказался готов к припадку головокружения и тошноты, но я не ожидал, что мои ноги начнут выкидывать коленца, когда я, ослабленный, в полном одиночестве, беспечно ступил на пол в первую ночь своего земного исцеления. Мерзкая сила притяжения тут же унизила меня: мои ноги сложились подо мной, и звук обрушения извлек из ночи сиделку, которая помогла мне взобраться обратно в постель. Затем я уснул. Никогда, ни до, ни после той ночи, я не спал так сладко.
Когда я проснулся, одно из окон было широко раскрыто. Мой разум и зрение уже были достаточно остры, чтобы различить препараты на столике у кровати. Среди их жалкого племени я заметил несколько выброшенных на берег путешественников, прибывших из другого мира: прозрачный пакетик с немужским платком, найденный и выстиранный персоналом; золотой карандашик, просунутый в петельку ежедневника из кожи морского угря в дамской сумочке; пару арлекиновых солнечных очков, которые, казалось, должны были служить не столько защитой от яркого света, сколько для сокрытия век, опухших от слез. Сочетание этих предметов привело к ослепительной вспышке понимания, и в следующий миг (стечение обстоятельств по-прежнему баловало меня) дверь в комнату поддалась: осторожное беззвучное движение, последовавшее за короткой паузой, продолжилось — в медленной, бесконечно медленной череде отточий, набранных диамантом. Я вскричал от радости, и вошла Реальность.
4
Следующей нежной сценой я намерен завершить эту автобиографию. Меня вкатили в увитую розами открытую галерею для Особых Выздоравливающих во втором и последнем моем госпитале. Ты полулежала рядом со мной в шезлонге, совсем в той же позе, в какой я оставил тебя 15 июня в Гандоре. Ты весело пожаловалась на даму в соседней с твоей комнате на первом этаже флигеля, которая проигрывает записи птичьего пения, надеясь, что пересмешники в госпитальном парке начнут подражать соловьям и дроздам ее родного Девона или Дорсета. Ты отлично понимала, что мне хотелось кое-что выяснить. Мы оба медлили. Я обратил твое внимание на красоту высоко вьющихся роз. Ты сказала: «На фоне неба все красиво» — и попросила прощения за «афоризм». Наконец, самым будничным тоном я спросил, понравилась ли тебе та часть «Ардиса», что я дал тебе прочитать, уходя на короткую прогулку, с которой я вернулся только теперь, три недели спустя, в калифорнийской Катапульте?
Ты поглядела в сторону. Ты обозрела розово-лиловые горы. Ты кашлянула и мужественно ответила, что она тебе совсем не понравилась.
Означает ли это, что ты не выйдешь замуж за душевнобольного?
Это означает, что она выйдет замуж за душевноздорового человека, который может сказать, в чем разница между временем и пространством.
Объясни.
Ей ужасно хотелось прочитать последние страницы рукописи, но этот эпизод следует из нее исключить. Он написан так же превосходно, как все, что я пишу, но он оказался испорчен роковой философской ошибкой.
Юная, грациозная, необыкновенно привлекательная, безнадежно глупенькая Мэри Миддл подошла сказать, что мне нужно будет вернуться, когда звонок пригласит на чай. Через пять минут. Другая медицинская сестра поманила ее с противоположной стороны испещренной солнцем галереи, и она упорхнула.
Госпиталь (сказала ты) переполнен умирающими американскими банкирами и совершенно здоровыми англичанами. Я описал человека, воссоздающего в голове свою недавнюю вечернюю прогулку. Прогулку от пункта К (Комната, Крыльцо) к пункту П (Парапет, Пинии). Без запинки воссоздающего последовательность придорожных событий — ребенка, качающегося на качелях в саду виллы, вращение оросительной головки на газоне, собаку, преследующую мокрый мяч. Рассказчик достигает в своем сознании пункта П, останавливается — и вот он сбит с толку, он ошеломлен (совершенно безосновательно, как мы скоро узнаем), поскольку он не способен мысленно выполнить разворот, превращающий направление КП в направление ПК.
«Его ошибка, — продолжила она, — его болезненная ошибка совсем пустячная. Он путает направление и длительность. Он говорит о пространстве, а подразумевает время. Его впечатления, когда он проходит путь КП (пес завладевает мячом, у следующей виллы останавливается автомобиль), относятся к серии временны́х событий, а не к кубикам многоцветного пространства, которые ребенок волен переставлять, как ему вздумается. Чтобы мысленно пройти расстояние КП, требуется какое-то время, пусть это и отнимает у него лишь несколько мгновений. К моменту, когда он достигает точки П, он накопил длительность, он уже обременен ею! Что ж такого удивительного в том, что он не способен вообразить себя поворачивающимся на месте? Никто не способен представить себе в физическом выражении процесс обращения времени вспять. Время необратимо. Обратное действие используют в кинематографе только ради комического эффекта — воскрешение разбитой вдребезги бутылки пива —»
«Или рома», — вставил я, и тут прозвенел звонок.
«Все это замечательно, — сказал я, берясь за рычаги своего кресла-каталки, направляясь с твоей помощью обратно в свою палату. — И я благодарен, я тронут, я исцелен! И все же твое объяснение — это лишь тонкой софизм — и ты это знаешь; но пусть, — идея попытаться обратить время — это trouvaille; это напоминает (целуя руку, опущенную на мой рукав) точную и ясную формулу, которую выводит физик, чтобы люди были счастливы, — до тех пор (зевая, забираясь обратно в постель), пока другой какой-нибудь умник не хватается за мел. Мне обещали немного рому к чаю — Цейлон и Ямайка, родственные острова (уютно ворча, засыпая, ворчанье смолкает) —»
КОНЕЦ
Перевод иностранных терминов
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
2. систематический каталог с краткими пояснениями
Большая любовь
переворот
коляску
сановнику
3. уборную
4. головоломка
увеселительная прогулка
5. управляющего делами
Вот так
6. поразительно (ahurissant)
кальсоны для купания
чекань
красного сухого вина
7. Следовательно
«Зáмки»
8. так называемого
«Спи, Медор!»
молодчики
маседуан под…
«разве ж это богач»
10. невеста
бифштекс с картошкой
меблированной комнате
11. пейзаж был довольно барочный
всем вокруг
12. самолюбия
преступление из ревности
непоследовательностью
мольба, немедленно
13. предаваться любви (от faire l’amour)
«О, сто лет не виделись!» (неправильно по-английски)
«Какая встреча! Вы, я вижу, в [смокинге]. Банкет?»
«Золотой павлин»
происшествий
Часть вторая
1. «Мне холодно»
во весь рост
в четыре руки
вне конкурса
2. тетрадей
гусиная печень
столового вина
«Преклонение»
3. вуайеристка
4. городской особняк
кстати
хорошо
собратья
сдержанность
5. романов (архаичная форма)
холеной
6. любимая
7. фактически — бред
8. модном ателье
мэр… округа
9. отцом
вечер
усердствовали
свете
лицемеру
10. постановка пальцев
здесь… герой… это… шляпа
биографией в форме романа
я перечитываю (англ., фр.)
шмыгать носом
Часть третья
1. так по-американски
2. тем лучше
4. свершившийся факт
образ жизни (неправильно по-французски)
в тексте по-французски
в тексте по-английски
Часть четвертая
1. «Мои мотели»
«Я не знаю, отчего ваш муж носит такие несовременные
платья» (неправильно по-английски)
«Ну же, палач, делай свое дело во имя Свободы!»
«Мирские молитвы»
Одинокий король
Полный провал
До свидания
2. на «ты»
4. вечеринка
«Продолжай…»
«Как же они вас любят!»
кегельный шар
безвкусицей
5. «Нет, благодарю»
6. «самодурство»
втроем
7. Правила хорошего тона
дополнение
островок
Часть пятая
1. сто раз
бывшая
пройдохой
чеховским клистиром
2. гвоздь программы
«…графические миниатюры, битая дичь, живой скот и птицы»
картавость, грассирование
то есть
3. литераторов
«Мало того!»
«Неужели?»
Святой
Часть шестая
1. насмешка, лукавство (по-французски); ехидство, злобность
(по-английски)
имеет свои хорошие стороны
2. разделительный островок на дороге
«Княжество у моря» (на итальянском, немецком, французском)
сосновой рощи
Часть седьмая
2. недоразумение
«Пьяный трамвай» («…В красной рубашке, с лицом, как вымя, / Голову срезал палач и мне…»)
4. находка
Андрей Бабиков. Последняя книга повествователя
В январе 1973 года, вскоре после выхода в свет новеллетты (как по-английски называется повесть или короткий роман) «Сквозняк из прошлого» («Transparent Things»), последовавшей за «Адой», грандиозной «хроникой одного семейства» (1969), Набоков приступил к сочинению нового романа, которому суждено было стать его последней и наименее прозрачной вещью. Начальным побуждением к замыслу «Арлекинов» послужила, по-видимому, написанная Эндрю Фильдом биография Набокова, пестревшая неточностями, вздорными домыслами и нелепыми искажениями фактов. Всего через несколько дней после того, как Набоков начал читать рукопись Фильда, он известил вице-президента издательства «McGraw-Hill», с которым имел постоянный контракт, что берется за новый роман, причем, не исписав еще ни единой карточки, Набоков уже знал, что книга составит около 240 страниц и что он завершит ее к лету 1974 года (см. перевод этого письма в Приложении). Вполне возможно, впрочем, что те или иные сюжетные линии будущего романа Набоков обдумывал задолго до этого: в декабре 1970 года, разыгрывая Фильда, приехавшего в Монтрё собирать материалы для биографии, Набоков просил его напомнить, что он должен рассказать ему о своей дочери и бывшей жене. Невежество и самоуверенность были отягчены у Фильда мечтой о сенсации, в центре которой он мог бы оказаться, выведав какой-нибудь биографический secret absolu Набокова; однако его намеки, к примеру на то, что отец писателя мог быть незаконнорожденным сыном Александра II, а значит, что в жилах самого Набокова текла царская кровь, доказывали лишь, что жизнь порой в самом деле подражает литературе (поскольку история о сомнительном биографе была изложена уже в первом английском романе Набокова) и что она, описав круг, может вновь в нее возвратиться — как и произошло в «Арлекинах», героем которых стал не то отпрыск русского (или кавказского) княжеского рода, не то незаконный сын графа Старова.
Другим источником замысла «Арлекинов» послужили рассказы сестры писателя, Елены, о ее поездках в Ленинград («Ленинградъ», как писал Набоков в своих дневниках), где она впервые побывала в июне 1969 года. Перед ее новой поездкой в СССР летом 1973 года Набоков передал ей длинный список вопросов, на которые ему требовались точные ответы, — от запахов на улицах и в помещениях до узора на шторках в лайнерах «Аэрофлота». Тогда же в Монтрё приехал Семен Карлинский, американский славист русского происхождения, только что побывавший в СССР. Набоков спросил его: «Мне нужно ваше первое впечатление от Петербурга — как только вы вышли из автобуса». Карлинский ответил не задумываясь: «Голоса женщин, громко сквернословящих»[1].
Репортеры часто спрашивали Набокова, намерен ли он вновь побывать в России, и всякий раз получали отрицательный ответ, обоснованный его стойким убеждением, что вся Россия, которая ему нужна, и так при нем — литература, язык и его собственное русское детство. Задолго до «Арлекинов», в одном из лучших своих русских стихотворений «К кн. С. М. Качурину», Набоков, живо представив себе такую поездку с подложным паспортом, делает важное признание, что в этом воображаемом возвращении «объясненье жизни всей», имея, может быть, в виду, что, несмотря на эмиграцию и переход на английский язык, он России в каком-то смысле никогда не покидал.
Работа над романом, начатая в «Монтрё Палас», продолжалась с перерывами летом 1973 года в Сервии (вблизи Равенны) и Кортине д’Ампеццо, лыжном курорте в Доломитовых Альпах. В ноябре Набоков закончил первую, самую длинную часть романа, а уже в начале декабря его жена сообщила Стивену Паркеру, что новый роман «перевалил через главный хребет».
Вместе с тем Набоков вовсе не был уверен, что сможет закончить книгу. Его бессонница все ухудшалась, приходилось принимать все более сильнодействующее снотворное. Шутливые стихи в его карманном дневнике 1972 года (запись от 21 ноября):
Insomnia
Вставал, ложился опять. Заря, как смерть, приближалась. Если и дальше не буду спать, я пожалуюсь, –не следует принимать за облеченное в рифмы обычное стариковское ворчание — дело было нешуточное. На крышке коробки с карточками «Арлекинов» Набоков указал, что если роман не будет закончен, его следует уничтожить unread, т. е. «не читая». Затем он пронумеровал готовые карточки и дописал: «…unnumbered cards only», т. е. уничтожить, не читая, только непронумерованные (а значит, неотделанные) карточки рукописи. Смерть действительно приближалась, и следующий после «Арлекинов» роман, начатый в конце 1975 года, так и остался в своих замечательных начатках.
Беспочвенные домыслы и всякого рода faux pas его первого биографа, поездки любимой младшей сестры в «Большевизию», онирические припадки (бессонница, сменяющаяся яркими видениями, «гений бессонницы», как назовет это Вадим Вадимович N), а главное, новое обращение к загадке пространства и времени, все вместе соединилось в замысле последнего романа Набокова, который, несмотря на его тематическую и техническую сложность, «сочинялся на редкость гладко и весело».
21 февраля 1974 года Набоков отметил в своем дневнике по-английски: «600 карточек „Арлекинов“ готовы». Всего же роман, охватывающий пятьдесят лет жизни повествователя в нескольких странах и законченный на берегу Леманского озера в апреле 1974 года, занял 795 карточек («Сквозняк из прошлого», для сравнения, уместился на 348 карточках), с «THE END» и подписью на последней из них.
Осенью 1974 года роман вышел в свет в издательстве «McGraw-Hill». 1 октября Набоков написал одно из самых последних своих русских стихотворений, в котором предвосхитил общее направление критических замечаний журнальных рецензентов этой книги:
To Véra
Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих, в буераки, к чужим атаманам! Геометрию их, Венецию их назовут шутовством и обманом. Только ты, только ты все дивилась вослед черным, синим, оранжевым ромбам… «N писатель недюжинный, сноб и атлет, наделенный огромным апломбом…»«Ты» в этих стихах относится, разумеется, к последней, безымянной возлюбленной повествователя, которую он встречает только под конец своих «окольных мемуаров» и к которой не раз обращается на всем их протяжении. В рукописи «Арлекинов», хранящейся в архиве братьев Берг в Публичной библиотеке Нью-Йорка (описанной в романе), части имеют следующие рабочие названия:
I. Iris (Айрис)
II. Annette (Аннетта)
III. USA (США)
IV. Loise (Луиза)
V. USSR (СССР)
VI. You (Ты)
Последняя, седьмая часть (в которой повествователь обдает ушатом холодной воды самонадеянного читателя) никак не названа, что подтверждает наше предположение, что она является постмемуарным дополнением, своего рода эпилогом, относящимся к иному плану повествования (в этой части Ты становится олицетворением Реальности), в котором герой наконец выныривает из бездны своего вымысла, охватившего не только перво- и второстепенных персонажей, но и «трех» его жен и даже его самого.
Чтобы рассмотреть «геометрию их», то есть чтобы описать ведущие повествовательные приемы, примененные Набоковым в «Арлекинах», и три или четыре основные темы этой книги (одна из которых — поиски causa finalis искусства в этом «наилучшем из возможных миров»), потребовалось бы исследование не менее продолжительное, чем сам роман (с обращением, кроме прочего, к «пространству-времени» Минковского, вовсе не случайно упомянутого в «Аде», и к durée Бергсона); очень же коротко можно сказать лишь, что вопреки тому, что о нем писали (порой с истинным блеском) его первые рецензенты, Ричард Пурье, Анатоль Бруайар, Джон Апдайк и некоторые другие, пародийная или «шутовская» составляющая романа, подразумевающая постоянное сопоставление нашего повествователя с Набоковым, не раскрывает его замысла. По ходу чтения она все дальше и дальше отступает на второй план, где в конце концов совершенно теряется среди других второстепенных предметов. Что следует из того, что Вадим Вадимович никогда не жил в Берлине и был британским подданным, а Набоков пятнадцать лет прожил в этом городе с нансенским паспортом эмигранта (названным в романе «видом на нищенство»)? Лишь то, что Набоков предоставил своему герою лучшие условия, чем были у него самого. Но разве не так же он поступил и с некоторыми другими своими автобиографическими героями — Мартыном Эдельвейсом или Севастьяном Найтом? Если что-то и можно назвать «обманом» в художественном произведении, то как раз вот эту выставленную автором напоказ контроверзу между жизненными перипетиями и сочинениями В. В. и таковыми же Набокова, поскольку она только отвлекает читателя от куда более важной темы с ее собственным созвездием образов, вокруг которой строится сюжет романа и которую Набоков исподволь развивает и исследует от первых сцен с Айрис Блэк до заключительного объяснения с Ты: таинственное влияние любви на его жизнь и искусство.
Героиней последнего русского романа Набокова, как он заметил в предисловии к его английскому переводу, была сама «русская литература», последний английский стал романом о романах, и в том и в другом тесно связанном значении слова. По законам набоковской симметрии (еще не описанной литературной критикой, в которой подходящего раздела попросту не существует) две эти книги, отделенные расстоянием почти в сорок лет, сближаются не только тематически. Не удивительно ли, что в названии «Дар» содержится палиндром, а в английском названии «Арлекинов» — акроним (LATH) и что после него остался еще один недописанный русский роман «Solus Rex», как после «Арлекинов» — недописанная «Лаура»? Любовь к Зине Мерц открывает Годунову-Чердынцеву узор событий в его жизни, тайную «работу судьбы», и побуждает его сочинить об этом роман (которым и становится «Дар»), герой «Арлекинов», влюбившись в Айрис, сочиняет свои первые настоящие стихи («Влюбленность»), а любовь к Ты дает ему возможность закончить «Ардис» и написать тот самый роман «о любви и прозе», который читатель держит в руках. В то же время, оставленный Аннеттой, своей второй женой, В. В. оказывается не в состоянии написать задуманную им «Невидимую планку» (прообраз «Арлекинов»), и за шестнадцать лет, с 1946 года — когда Аннетта от него ушла — и до 1962 года, когда он уже женат на Луизе, — он не создает ни одного романа, выпустив в 1947 году только сборник ранее написанных рассказов. Причем его любовь к Айрис продолжает питать его искусство и после ее трагической смерти, до того времени, как он встречает Аннетту. «В настоящих мемуарах, — пишет В. В., — мои жены и мои книги сплетаются в монограмму наподобие определенного типа водяных знаков или экслибрисов». На всем протяжении этой квазибиографии его не покидает сводящее с ума ощущение, что люди и положения в ней взяты кем-то ex libris («из книг»), что «даже „Ардис“, моя самая личная книга, насыщенная действительностью, пронизанная солнечными бликами, может оказаться бессознательным подражанием чужому неземному искусству»; однако и это фатальное подозрение отступает, когда он находит в Ты наиболее полное выражение своей любви.
В этой точке любовь и искусство сливаются в одно, и Ты в романе становится самым верным воплощением искусства нашего повествователя, его преображенным отражением — поскольку ведь и Ты, и Айрис, и Белла, как и Лолита, и Ада, и ветреная Нина из «Весны в Фиальте», и чопорная Анна Благово из «Весны» Боттичелли (Анна «во благо»), и хрупкая Флора Вайльд, и жестокая Нина Лесерф (упомянутая между прочим в «Арлекинах»), все они предстают у Набокова аллегорией искусства, его персонификацией, самой скудельной плотью искусства.
Нелишними могут быть и следующие наблюдения относительно устройства этой сложной книги, сделанные нами на полях ее русского перевода.
Недосказанность, недоговоренность — известный прием Набокова во многих его более или менее прозрачных вещах, в последнем романе предстает стройной системой имплицитного повествования. Без всяких пояснений оставлен целый ряд намеков, указаний, предзнаменований. Почему в конце первой части рассказчик называет Айвора и шофера такси «двумя хиромантами»? (Считали мелочь на ладони.) К кому он обращается в гл. 3, ч. II: «О, как же терзали меня вещи и люди, любовь моя, я и сказать тебе не могу!» (К своей невесте, с которой познакомится только в шестой части, о чем читатель еще не знает.) Почему он называет имя своей американской попутчицы (в гл. 3, ч. V) — «Хавемейер» (известная американская фамилия), — «почти невероятным»? Что в нем невероятного? (Потому что она воплощает уже не раз возникавший в романе образ «лиловой дамы», а один из сортов сирени, выведенной в Америке в 1922 г. — в этот год начинается повествование в «Арлекинах», — получил название «Катерина Хавемейер».) В чем соль шутки Айвора (гл. 8, ч. I), сказавшего, что французские репортеры произносят имя Мадж Титеридж как «si c’est riche» — «разве ж это богач»? (Ее фамилия образована от англ. tithe, означающего кроме прочего — незначительная доля, небольшая часть). И кто она, эта Мадж, равно как и упомянутая (или упомянутый) тут же еще один икс — некто Вивиан? Более сложные примеры преднамеренного умолчания или сокрытия логических связей имеют и более широкое взаимодействие с различными элементами книги — ее темами, персонажами, образами, литературными источниками. Так, в гл. 7, ч. I, услышав на склоне горы «вопль неземного блаженства» (позже станет ясно, что это вскрикнул знаменитый пианист и энтомолог Каннер, поймавший редкую бабочку), Айрис восклицает: «Боже мой! Очень надеюсь, что это не счастливый беглец из цирка Каннера». Что Айрис подразумевала под «цирком Каннера», не разъясняется, и только сопоставление нескольких деталей в разных частях книги дает ясный и остроумный ответ. В гл. 3, ч. II, уже после смерти Айрис, услышав имя «Оксман», герой называет его «быкочеловеком» (ox — бык, man — человек) и тут же замечает в скобках: «…как дрожала от страха моя Айрис, читая об островном зверинце доктора Моро — особенно те сцены, где, например, „воющая фигура“, еще наполовину забинтованная, убегает из лаборатории!..». Это замечание возвращает нас назад, к гл. 5, ч. I, в которой Айрис признается, что «обожает Уэллса», и к тому месту в гл. 7 ч. I, где она называет Каннера «чудовищем»: «Ее поразила мысль о тысячах замученных им крохотных созданий». Только теперь становится понятен смысл ее иносказания о «беглеце из цирка Каннера», которого она сравнила с вивисектором д-ром Моро из романа Уэллса. Однако темный смысл ее слов раскрывается еще полнее, если сопоставить его с трагической участью Оксмана, изложенной в конце гл. 4, ч. II, и с ужасной судьбой Владимира Благидзе, о которой мы узнаем в конце первой части. Оставляя читателю самому собирать рассыпанные им блошки, повествователь сообщает, что тот самый «быкочеловек» Оксман «погиб при отважной попытке бегства — уже почти что сбежав, босой, в запачканном кровью белье, из „экспериментального госпиталя“ в нацистском „лагере смерти“». В финале же первой части сообщается, что Благидзе, застреливший Айрис, был помещен в «весьма специализированную клинику доктора Лазарева — очень круглое, безжалостно круглое строение на вершине холма». Таким образом оказывается, что фраза о «беглеце из цирка Каннера» (цирк — circus — круг) не просто произвольная игра ума начитанной Айрис, а жуткое предсказание, один луч которого ведет к издателю Оксману, а другой — к ее собственному убийце.
Стихи в романе — служат композиционным целям не менее действенно, чем приемы поэтики умолчания. Кроме того, они указывают на неподвижность времени в романе. Самые последние стихотворные строки В. В. в финале романа («Так вдоль наклонного луча / Я вышел из паралича») возвращают нас к гл. 4, ч. I, в которой описывается ночное умопомрачение героя («Одного лишь намека на слабую световую полоску в поле моего зрения было довольно, чтобы спустить курок чудовищной боли, разрывавшей мне мозг»; «…неизбежно оставалась какая-нибудь чертова щелка, какой-нибудь атом или сумрачный лучик искусственного уличного или естественного лунного света…»); строка из стихотворения Беллы «и умница тропка» (гл. 3, ч. IV) — ведет к той тропе, что вывела юного героя за пределы Советской России в начале романа; «в полоску шарф» из разоблачительного стихотворения Одаса (гл. 4, ч. IV) — к кембриджскому шарфу повествователя и к эпизоду с Оксманом, когда В. В. посещает мысль, что его жизнь — это «неудачная версия жизни другого человека… другого писателя» (гл. 3, ч. II). Больше же всего тем и мотивов романа охватывает стихотворение «Влюбленность», представляющее собой ни много ни мало краткое изложение всего его замысла: это и недоговоренность («И лучше недоговоренность…»), которую мы уже рассмотрели, и «ночная паника», и тонущий пловец (а также видение В. В. после коллапса: «…плот, на котором лежал я, нагой старик… скользящий в полную луну, чьи змеистые отражения струились среди купав»), и повторный сон о юной возлюбленной, который снится герою всякий раз, что он влюблен («покуда снится, снись, влюбленность»), и «потусторонность» («…моя фамилия начинается с „Н“ и имеет отвратительное сходство с фамилией или псевдонимом некоего… болгарского, или вавилонского, или, быть может, бетельгейзийского писателя, с которым рассеянные эмигранты из какой-то другой галактики постоянно путали меня»), и «этот луч», и финальное «пробуждение».
Макнаб, Наборкрофт, Наблидзе и т. д. — Как и криптограммы имени нашего повествователя (и названий его книг), имена многих (можно предположить, что всех без исключения) русских и американских персонажей — писателей (поэтов, критиков) поддаются дешифровке, нередко двуязычной. Особенность этого приема состоит в том, что русское имя, как заметил Омри Ронен, может отсылать к американскому автору (например, Сукновалов — к Рою Фуллеру, англ. fuller — валяльщик, сукновал) и наоборот (например, Ольден Ландовер — к Марку Алданову, настоящая фамилия которого Ландау). Кроме собственно меры загадочности того или иного имени (кто подразумевается под Оксманом, Райхом, Борисом Ниетом?), здесь трудность еще и в том, что сразу несколько персонажей могут указывать на одну реальную фигуру (например, Демьян Василевский, Христофор Боярский, Адам Атропович — на Георгия Адамовича) или на две различные, сближающиеся друг с другом ввиду сходства их отношения к Набокову. Например Джеральд Адамсон указывает и на того же «верного зоила» Адамовича, и на Эдмунда Вильсона (с которым Набоков смертельно рассорился в 60-х годах), умерших в один год — 1972-й (подробнее см. Примечания). Принципы дешифровки (семантической, фонетической, аналитической, анаграмматической), как в классическом романе à clef, предложены самим автором, приводящим русские и английские названия своих книг (например, «Подарок отчизне» — «The Dare» — «Дар»), свой прозрачный псевдоним («В. Ирисин» — «В. Сирин») и постоянно обращающим внимание читателя на разного рода симметрии, зеркальные отражения, вывернутые наизнанку факты своей биографии.
Усилие мысли. Д. Б. Джонсон[2] обратил внимание на возможный источник главной заботы нашего повествователя — его неспособности совершить умозрительный поворот, меняющий правостороннее на левостороннее, — в рассказе Уэллса «Случай с Платтнером» (1896), не упоминаемом в романе. Школьный учитель Платтнер из-за случайного взрыва во время химического опыта оказывается в «ином мире», имеющем четыре измерения. Когда он возвращается к реальности, оказывается, что правая и левая стороны его тела поменялись местами: он, к примеру, может писать только справа налево левой рукой, его сердце бьется с правой стороны и т. д. Рассуждения Уэллса о право- и левостороннем в пространстве перекликаются со словами Айрис в гл. 8, ч. I:
«…разрешить дурацкую философскую загадку вроде того, что означает „правое“ и „левое“ в наше отсутствие, когда никто не смотрит, в чистом пространстве…». На этот вопрос взялся ответить Мартин Гарднер — другой вероятный источник этой темы в «Арлекинах», указанный Джонсоном, — в своей научно-популярной книге «Этот правый, левый мир» (The Ambidextrous Universe, 1964, букв. перевод: Двуправорукий мир), которая была известна Набокову.
«Узоры перемешанного времени и перекрученного пространства» (гл. 3, ч. IV) — по-видимому, нет иного объяснения множеству несообразностей романа. Так, например, из одного места следует, что В. В. как будто продал ривьерскую виллу «Ирис» после смерти Айрис, из другого — что он, уже живя в Америке, устроил в ней нечто вроде старческого дома для своих родственников и знакомых. В пятой части нам сообщается, что, поехав разыскивать свою дочь в Ленинград, он провел там только пару дней, однако из мимолетного упоминания в третьей части «церберш в гостиницах советской Сибири, в которых мне пришлось останавливаться два десятилетия спустя», следует, что он не ограничился беседой с Дорой у памятника Пушкину, сообщившей ему, что его дочь исчезла, а отправился на ее поиски в Сибирь, куда муж Беллы, вероятно, увез ее.
Три или четыре жены. Наш повествователь, как и исследователи романа, уделил много места изложению отношений со своими женами, своим семейным удачам и провалам; однако уже начальное предложение «Арлекинов» намекает на условность этих фигур. Иначе как объяснить странную небрежность автора, не потрудившегося указать точное число своих жен (Ты в конце книги принимает предложение В. В. и, следовательно, становится его четвертой женой)? Неверная Айрис и холодная Аннетта погибают, легкомысленная Луиза оставляет В. В. ради «графского сынка» (неслучайное указание, поскольку сам В. В., как и убийца Айрис Владимир Благидзе, мог быть сыном графа Старова) и только безымянная Ты, ровесница его дочери Беллы, обещает дважды вдовому герою если не долгую, то счастливую жизнь. Знакомство с каждой новой будущей женой, признание героя тем или иным способом в своем умственном дефекте, предваряющее предложение руки и сердца, женитьба и потеря жены служат канвой романа, сводящейся к простой схеме. Но что если это не так, что, если в неподвижном времени романа жена была только одна с самого начала, только Ты, претерпевшая четыре стадии метаморфозы? Тогда небрежность повествователя, не могущего сказать, сколько именно раз он был женат, оказывается или следствием его смутной догадки в несущественности точного числа, или авторской подсказкой читателю, которому надлежит знать, что, в отличие от своего героя, он, Набоков, был знатоком бабочек. Герою, полагающему, что озимая совка — это птица, невдомек, что сами имена трех его жен взяты по таксономическим названиям бабочек: Айрис — нимфалида Apatura iris (русское название — переливница ивовая или радужница большая ивовая), Аннетта — Lycaena annetta из семейства голубянок (в 1943 г. Набоков составил подробное описание этой бабочки, см.: Nabokov’s Butterflies: Unpublished and Uncollected Writings. Ed. by B. Boyd and R. M. Pyle. Beacon Press, 2000, p. 293–296), Луиза — Stichophthalma louise из семейства нимфалид. На взаимосвязь жен повествователя с бабочками указывает и ящичек на стене парижского ресторана «Paon d’Or», в котором были выставлены четыре бабочки-морфиды, и первое, сказанное по-русски, слово Ты о пролетевшей бабочке в сцене ее знакомства с В. В. — «метаморфоза». Изящное решение, к которому нас подводит автор и которое мы можем теперь очень осторожно предложить, заключается в том, что «три или четыре жены» В. В. соотнесены с четырьмя стадиями развития бабочки (яйцо, личинка, куколка, имаго) и таким образом представляют собой (может быть, в том ином мире, который так мучительно грезился нашему повествователю) изначальную одну-единственную Ты, воплощающую всю полноту любви и счастья[3].
Одной из поразительных особенностей Набокова, выделяющей его из узкого круга других сверхъестественно одаренных писателей, является даже не столько то, что он с равным успехом сочинял и в стихах и в прозе на двух совершенно различных языках, сколько то, что его английским книгам в некоторых отношениях удалось превзойти его русские произведения. Обдумывая это, следует помнить, что по слогу, композиции, экономии средств выражения, точности определений, тематическому и жанровому многообразию, умению сочетать комическое с трагическим (или «комическое и космическое», как однажды сказал Набоков) его русским сочинениям едва ли возможно что-либо противопоставить в русской литературе прошлого столетия. От «Дара» к «Лолите» и «Бледному огню» техническое оснащение его повествовательной прозы становилось все более богатым и изощренным, достигнув своей кульминации в «Аде», этом компендиуме европейской литературы, охватывающем множество жанров и форм словесности, от старинных chanson de geste до философского эссе. Речь, разумеется, не только о языковой акробатике, двуслойных каламбурах и пиццикато аллитераций, речь о его все возраставшем мастерстве мгновенно создать мизансцену или несколькими штрихами изобразить персонажа со всем его прошлым и будущим.
Так, в начале «Арлекинов», в описании путаных впечатлений героя о его первых днях на вилле «Ирис», Набокову небольшим набором точно рассчитанных деталей удается в короткой сцене совместить поминки, юбилей, помолвку, partie de plaisir и визит к дантисту. Ничего подобного не найти даже в сверхплотном «Приглашении на казнь». Через весь роман проходит ряд созвучных названий и имен, связанных с роковыми событиями в жизни героев: Медор, «Paon d’Or», «Винедор», Дора, Гандора. Восходят они, разумеется, ко «всем одаренной», но лживой Пандоре, открывшей злосчастный ларец; однако своим возникновением они обязаны мимоходному замечанию авторского alter ego Каннера (от нем. Kenner — знаток) об увиденной Айрис бабочке — «eine „Pandora“». Тогда же, в начале книги, у Айрис и Каннера заходит речь об умерщвлении бабочек (в которых наш повествователь «не смыслит ни аза») — и откуда было ей знать, всем одаренной, но лживой Айрис, что много лет спустя, после ужина в ресторане «Paon d’Or», где она разглядывала бабочек в стеклянном ящике на стене, она будет подстережена на улице и убита?
Подобных примеров незаметного выстраивания в романе внутренних или дополнительных сюжетов (с их собственными экспозициями и развязками) у Набокова немало и в других его книгах, однако в «Арлекинах» они особенно изумляют шахматной точностью и экономностью комбинаций.
Бесспорное новшество, примененное Набоковым в его последнем романе, находим в самом его названии. В «Арлекинах», как и в неоконченной «Лауре», название подобрано таким образом, чтобы из его начальных букв складывалось еще одно, дополнительное заглавие и значение: «Look at the Harlequins!» дает LATH (рейка, планка), «The Original of Laura» — TOOL (орудие, резец). И в первом и во втором случае дополнительное название имеет прямое отношение к содержанию: в «Лауре» Филипп Вайльд при помощи мысленного резца методично срезает свою раблезианскую плоть, планка же (изначально легкий деревянный меч) является атрибутом арлекина в commedia dell’arte (причем lath, как и tool, — это, конечно же, волшебная палочка Набокова — его писательский инструмент — карандаш). К сожалению, повторить такое словесное чудо в переводе, придумав название, дающее акроним со схожим эффектом, не исказив при этом оригинала, невозможно. Взятое нами название, с двумя его обрамляющими «В», что напоминает о двух сближенных «V» в первом названии автобиографии Набокова «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство», 1951), предлагает иное решение этой задачи.
В заключение несколько замечаний об особенностях предлагаемого перевода последнего романа Набокова.
Переводить английские сочинения Набокова на язык, которым он сам владел в совершенстве, на тот «ничем не стесненный, богатый, бесконечно послушный» язык, в который он внес столь весомый вклад, — предприятие трудное или безнадежно трудное; однако в доступности его русского писательского багажа есть и неожиданное для переводчика подспорье. Благодаря его русским книгам мы знаем, каких слов Набоков, самостоятельно переводя свои произведения, не стал бы использовать (к примеру: «зонт» вместо зонтик, «ужасное слово „зонт“», как писал Набоков в рецензии на стихи Ходасевича; «дерганый» вместо издерганный, «причиндалы», «трепануть» и т. д.), поскольку этих слов либо вовсе не было в его лексиконе, либо он находил их вульгарными; мы знаем, какие иностранные термины он предпочитал оставить без перевода (к примеру: ватерклозет, бристоль, макинтош); какие разговорные или просторечные слова и выражения он жаловал (снутри, ежели, коли так, смазливый); особенности его пунктуации, подмеченные еще эмигрантскими критиками[4] (например, тире в предложении как конечный знак, вместо многоточия, со значением внезапного обрыва прямой речи или самого повествования — и таким мыслеотделительным знаком и кончается этот роман), и еще многое другое, без чего нельзя всерьез браться за переводы его английских вещей. Все это существенно меняет дело, оттого что путеводный свет его русского слога позволяет двигаться не совсем в потемках, как приходится, например, переводчику Пруста или Де Квинси. Главным же пособием для всякого нового перевода Набокова служит его собственноручный перевод на русский язык автобиографии (1954) и особенно «Лолиты», поскольку это самый поздний (1965) и, стало быть, близкий к нам по времени образчик его русской прозы, с которым следует постоянно сверяться. Он не только дает возможность взять в переводе верную ноту или интонацию, но еще нередко предоставляет готовые решения для тех или иных типичных конструкций или уже возникавших у Набокова имен или названий. Так, к примеру, выражение «hermetic vision of her» он перевел как «заветный образ ее», «in common parlance» — «выражаясь вседневным языком», «the Haze woman» как «Гейзиха», рефрен из стихотворения По — «A Kingdom by the sea» — «Княжество у моря» (не «королевство»), имя Ivor (дядюшка Куильти) — как Айвор (а не «Ивор») и т. д. Эти и многие другие детали все еще были свежи у меня в голове, когда я принимался за предлагаемый перевод последнего романа Набокова, поскольку ему предшествовал перевод его подробного сценария «Лолиты» (предприятие, простой raison d’être которого — доскональное знание русской «Лолиты»). Тем же примером русской «Лолиты» (да и других книг Набокова, русских и английских) объясняется отсутствие постраничных сносок, перевод иностранных слов и выражений отнесен нами в отдельный список.
Так сталось, что над переводом первой половины «Арлекинов» я трудился в Лондоне (в ноябре 2011 г. и в апреле 2012 г.) в доме своего доброго друга Вадима Ш. в Западном Кенсингтоне (всего в пятнадцати минутах пешего пути до того самого роскошного, а вовсе не «маленького» отеля «Рембрандт», в котором, приехав в Лондон, остановился наш повествователь). По вечерам я вслух читал ему готовые главы перевода, а он сверял их с оригиналом, часто останавливая меня, чтобы обсудить какое-нибудь трудное или темное место, нередко обусловленное предельной лаконичностью Набокова, фраза которого, по точному определению Веры Набоковой (в предисловии к ее переводу «Бледного огня»), «наполнена до краев содержанием и не заключает в себе ни единого лишнего слова». Я сердечно благодарен ему за его критические замечания и уточнения и с удовольствием вспоминаю те несколько плодотворных недель, когда я имел возможность в равной мере пользоваться его гостеприимством и эрудицией.
Я глубоко признателен Джеймсу Пуллену, представляющему интересы «The Wylie Agency», за его любезное разрешение выпустить в свет эту книгу с приложением нескольких писем Владимира и Веры Набоковых, относящихся к работе над романом и до сих пор не переводившихся на русский язык. Я также весьма признателен Геннадию Барабтарло за его ценные замечания.
Мне особенно дорого участие моей жены, которой я несказанно благодарен за ее бесконечное терпение и разнообразную помощь в подготовке этой книги.
Перевод выполнен по изданию: Vladimir Nabokov. Look at the Harlequins! London, 1980, с учетом некоторых исправлений, внесенных Б. Бойдом в текст романа, выпущенного в серии The Library of America, 1996. Первое издание моего перевода этого романа было выпущено «Азбукой» (в серии «Главные книги») в 2012 г. В настоящее третье издание внесены уточнения и исправления.
При подготовке примечаний нами учитывались наблюдения и сведения, приведенные в следующих изданиях и публикациях: Дональд Бартон Джонсон. Миры и антимиры Владимира Набокова. СПб., 2011; Vladimir Nabokov. Novels 1969–1974. N. Y., 1996 (примечания Б. Бойда); Владимир Набоков. Смотри на арлекинов! // Собр. соч. американского периода: в 5 т. СПб., 1999 (перевод и комментарии С. Ильина); Омри Ронен. Подражательность, антипародия, интертекстуальность и комментарий // НЛО, № 42, 2000; Brian Boyd. Stalking Nabokov. Selected Essays. N. Y., 2011. Криптографические приемы Набокова подробно рассмотрены в нашей статье «Лица и маски в романе Набокова „Взгляни на арлекинов!“» // Звезда. 2015. № 1. С. 208–218.
Русский текст в романе
В английском оригинале романа многие слова и выражения (а также стихотворение «Влюбленность» и несколько других стихотворных строк) приводятся Набоковым по-русски латиницей (выделенной курсивом) по разработанной им системе транслитерации. Этот прием Набоков использовал и в других своих английских романах, в особенности в «Аде» (в которой можно найти, например, такого рода двуязычные конструкции: «Not so energichno, children!»; «the chelovek who brought me the pirozhki»). В «Арлекинах» русские слова и выражения, как правило, даются в скобках после их английских эквивалентов либо vice versa; самые простые или известные англоязычному читателю слова (как, например, «бабушка», «апартаменты», «господин», «блины», «метаморфоза», но даже и прилагательное «тундровый») оставлены Набоковым без перевода. В одном случае, однако, Набоков намеренно неверно переводит с русского на английский название советского журнала «Красная нива»: вместо Red Cornfield он пишет Red Corn (красное зерно, или мозоль, или пошлость). Эти авторские вкрапления в оригинале выполняют различные функции (к примеру, указывают, что диалог ведется по-русски, или дают представление о том, какого разбора русский язык у того или иного героя), но неизбежно и органично растворяются в русском переводе романа, служа совершенно иным целям — подсказывают переводчику верную интонацию или значение. Чтобы эти русские образчики позднего Набокова (якобы забывшего в Швейцарии русский язык) не пропали бесследно, я составил их полный список, в котором они приведены с указанием части и главы романа.
Андрей Бабиков
Ревизор (I, 1)
яблочко, котишься. Показывай-ка документики (I, 2)
тщательно выбритое (I, 2)
Эвкалипт (I, 5)
Влюбленность — в транслитерации Набокова «vlyublyonnost’» (название стихотворения — I, 5)
полосатый от луны потолок (I, 5)
Новая Заря (I, 6)
начинание (I, 6)
до безумного бледного часа (I, 7)
литературный (I, 10)
Новости эмиграции (I, 10)
ресторанчик (I, 10)
нансенский паспорт (I, 10)
Тамара (название романа — I, 11)
валюта (I, 11)
Ничево (I, 11)
виднелось несколько барок (I, 11)
лейтенант (I, 11)
Полнолуние (название романа в стихах — I, 12)
как поживаете… до свидания (I, 12)
вау-дач-ка (I, 13)
измена (II, 1)
вечер (II, 1)
Новости (II, 1)
Всегда нас радует красивая вещица (II, 1)
Красный цилиндр (название романа — II, 2)
машинка (II, 2)
Здрасте… здрасте… любовь (II, 2)
секретарствовала (II, 3)
Господь с вами, голубчик! (II, 3)
Звездообразность небесных звезд / Видишь только сквозь слезы… (II, 3)
Магазин (II, 4)
Кабинет (II, 4)
Прохлада (II, 4)
Сдержанность (II, 4)
Герой нашей эры (II, 4)
опять оскандалился (II, 4)
прямо в машинку (II, 5)
взводень (II, 5)
Царь Бронштейн (II, 5)
Подарок Отчизне (название романа — II, 5)
Милостивая государыня
Анна Ивановна! (II, 7)
глубокоуважаемая (II, 7)
Я идиотка (II, 7)
нацепила… шапочка (II, 7)
крапивница (II, 7)
Русская старина (II, 8)
чаишко с молочишком (II, 8)
нотки подобострастной паники (II, 8)
грязный развратник (II, 8)
гражданским или басурманским (II, 9)
страшно стараюсь (II, 10)
перечитываю (II, 10)
мостик (II, 10)
симболизирование, мортидник (II, 10)
американский дядюшка (III, 1)
дача (III, 1)
Мы говорим по-русски. Вы говорите? Поговоримте тогда (III, 1)
сдобный (III, 1)
Красная нива (III, 2)
литература (III, 2)
бермудки (III, 2)
Я проснулась (III, 2)
Красный цилиндр (III, 3)
не подлежит обсуждению (III, 4)
зловещую (III, 4)
Сиятельство (III, 4)
без замедления (III, 4)
дача (III, 4)
Дуровский зверек (III, 4)
заспать (IV, 1)
Никогда (IV, 1)
профессорша (IV, 1)
бабушка (IV, 2)
чудный запах розмарина (IV, 2)
Очаровательно! (IV, 2)
Я безумно голодная (IV, 5)
Боже мой! (IV, 5)
щека (IV, 6)
Обмолвка, прости (IV, 7)
главное, главное… лично (V, 1)
спешно (V, 1)
и умница тропка (V, 1)
номер (V, 1)
блины (V, 1)
отлыниваю (V, 1)
Красная Москва (V, 2)
Леденец взлетный (V, 2)
котлета по-киевски (V, 2)
лифтерша (V, 2)
Я тебе это попомню, стерва! (V, 2)
Штой ты суешься под ноги? (V, 2)
тундровый (V, 2)
Карлуша (V, 2)
чудак и душка (V, 2)
грусть и тоска (V, 2)
Господин (V, 2)
Эх! (V, 3)
дорогой (V, 3)
мерзавец (V, 3)
потормошить (V, 3)
по-американски (V, 3)
шарлатаны (V, 3)
драгоценный (V, 3)
Ну, дали в морду. Ну так что ж? (V, 3)
Озимая совка (VI, 1)
жалостно было (VI, 1)
Метаморфоза (VI, 1)
гнусноватенький способ (VI, 2)
Слово о полку Игореве (VII, 2)
Так вдоль наклонного луча / Я вышел из паралича (VII, 3)
на фоне неба (VII, 3)
Приложение Из писем Владимира и Веры Набоковых о романе «Взгляни на арлекинов!»[5]
1
Владимир Набоков — Дэну Лейси[6].
31 января 1973 г.
«Монтрё Палас». Швейцария
Сегодня я могу лишь попытаться ответить на вторую часть Вашего письма, которая относится к моим литературным планам. ‹…›
Более определенный замысел — сочинение книги воспоминаний «Свидетельствуй, Америка» — продолжение моей книги «Свидетельствуй, память». У меня уже собрана коллекция заметок, дневников, писем и проч., но для того, чтобы как следует описать мои американские годы, потребуются расходы, поскольку мне нужно будет вновь посетить несколько мест в Америке, как, например, Нью-Йорк, Бостон, Итаку, Большой Каньон и еще кое-какие иные западные уголки. Пожалуй, пятнадцати месяцев было бы вполне довольно, чтобы написать эту книгу, которую теперь вижу куда яснее, чем то было прежде. Постараюсь в ней никого не обидеть, так что не придется дожидаться, пока все благополучно отойдут в мир иной.
Три других проекта следующие: третье (и завершающее) собрание тринадцати моих рассказов[7]; исправленное переиздание моего перевода «Евгения Онегина» с короткими примечаниями — в мягкой обложке для студентов; собрание моей драматургии[8]; избранная часть моих университетских лекций о европейской литературе; и, возможно, антология русской поэзии в моих переводах.
Впрочем, главный и первоочередной мой замысел, зардевшиеся щечки которого я в последнее время ласкаю, — это новый роман из 240, приблизительно, машинописных страниц (т. е. по меньшей мере вдвое длиннее «Сквозняка из прошлого»). Переносить его на бумагу я начну 1 марта и надеюсь кончить, без перерывов в работе, к лету 1974 г. В долговременной перспективе он будет столь же ярким, как и все прочие мои романы.
2
Владимир Набоков — Фредерику Хиллзу[9].
13 апреля 1973 г.
«Монтрё Палас». Швейцария
Прежде всего я хочу завершить небольшую часть моего нового романа — покуда пишется, — а к Пасхе я намерен еще раз тщательно просмотреть свои «Стойкие убеждения»[10] от начала до конца.
3
Владимир Набоков — Дмитрию Набокову.
25 ноября 1973 г.
Начиная с 25 сентября я заполнил 250 карточек (чистовик) моих «Арлекинов», что дает около 100 машинописных страниц, а всего будет около трехсот. Пишу каждый день, в среднем по пять часов, и сочиняется мне на редкость гладко и весело.
4
Вера Набокова — Стивену Паркеру[11].
12 декабря 1973 г.
«Монтрё Палас». Швейцария
ВН говорит, что его собственный кандидат в компиляторы «Слова о полку Игореве» — это «Гаврила Петрович Каменев (1772–1803)», на свой лад замечательный поэт (упомянутый в примечаниях ВН к «Евгению Онегину»). Кроме того, он говорит, что его новый роман LATH («Взгляни на арлекинов!») перевалил через главный хребет и что «простаки от него станут шарахаться, а ослы лягаться».
5
Владимир Набоков — Фредерику Хиллзу.
11 февраля 1974 г.
«Монтрё Палас». Швейцария
В случае «Ады» сочинение пародии на рекламную аннотацию, помещенную, как неотъемлемая часть, в финал романа, потребовало от меня не меньше недели. Я еще не подготовил подобного объявления для «Арлекинов». Поверьте, сочинить краткое описание книги, которую я еще не закончил, для меня столь же трудно, как для Вас написать о несуществующей книге. В последние три недели мне пришлось пережить кое-какие рискованные перерывы в работе, и теперь я не могу себе позволить промотать даже один трудовой день. Четыре пятых романа готовы; осталось написать около пятидесяти страниц, и мне нужно кончить дело по установленному мною порядку. Могу сказать лишь, что «Арлекины» — это многосоставная любовная история и что на протяжении пятидесяти описываемых лет действие перемещается от моего стола к дореволюционной России, оттуда в Англию, из Англии во Францию, из Франции в Америку и оттуда — в Большевизию[12] и затем назад, к этому озеру.
6
Владимир Набоков — Джону Францу[13].
11 марта 1974 г.
«Монтрё Палас». Швейцария
Дорогой мистер Франц,
спешу отослать это письмо вослед тому, что я написал Вам 5 марта. Я принял любезное приглашение, содержавшееся в Вашем письме от 28 февраля, в минуту безрассудного оптимизма. Теперь я взглянул на календарь, перевел взгляд на манускрипт своего романа, взглянул на календарь еще раз и пришел в смятение из-за весьма щекотливой ситуации, в которой я оказался.
Дилемма, стоящая передо мной, такова:
или
1) провести следующие три недели здесь, в хаосе приготовлений, погрузившись во все виды тревог и хлопот (чудовищно преувеличенных линзой нервного истощения), предшествующих восхитительному, но в то же время весьма нелегкому вояжу (заметьте, что я никогда не перелетал на аэроплане через Атлантику и что мои любимые океанские лайнеры выброшены на свалку), при каковых обстоятельствах, конечно, не будет никакой возможности выкроить сколько-нибудь свободного времени и душевного покоя, необходимых для завершения моего романа перед отъездом,
или же
2) лишить себя безмерного удовольствия, какое подарит мне прием 16 апреля по случаю награждения меня национальной медалью, и вместо того посвятить следующие несколько недель завершению отшельнического и довольно мрачного, но внутренне упоительно-искрящегося труда, работая ежедневно по семь часов кряду с тем, чтобы закончить превращение (переписывая от руки) ухабистого черновика из приблизительно 80 000 слов в чистовую копию, которая постепенно станет обычной пачкой из более чем 250 отпечатанных страниц моего романа «Взгляни на арлекинов!».
Тщательно все это взвесив, я выбрал второй путь, и искренне прошу меня простить.
Сердечно Ваш
Владимир Набоков
7
Владимир Набоков — Дмитрию Набокову
Монтрё. Швейцария
Ты можешь использовать мои туалетные остатки[14] и ночные туфли![15]
(Аукционная стоимость этой карточки в 2000 году от Р. Х. — приблизительно — составит по меньшей мере 5000 рублей.)
4 июня 1974 г.
Дмитричко![16]
Здесь для тебя копия «Арлекинов», чтобы ты внимательно и любовно прочитал их.
На что следует обратить особое внимание: технические и идиоматические ошибки. Помечай свои недоумения или исправления птичкой на полях и поясняй их на страницах записной книжки (с бабочкой), также предоставляемой автором.
Не трать время на орфографию и пунктуацию: на это есть редакторы.
…незнакомые тебе (или вызывающие сомнение) слова… вероятнее всего, найдутся в моем большом «Вэбстере» или в Оксфордском словаре в 13 томах[17], а ежели и там не сыщешь, то это, стало быть, окказионализм (от лат. occasio — «случай», а не от «неказистый») моей собственной выделки.
Любящий тебя
ВН
Основные даты и события жизни Владимира Набокова
1899 Владимир Набоков родился 22 апреля (10 апреля по ст. ст.) в Санкт-Петербурге в семье правоведа, общественного и политического деятеля, потомственного дворянина Владимира Дмитриевича Набокова (р. 1870) и Елены Ивановны Набоковой (урожд. Рукавишниковой, р. 1876). Поскольку с началом XX в. разрыв между датами старого и нового стиля увеличился еще на один день, первый и все последующие дни рождения Набокова приходились на 23 апреля. Получил превосходное домашнее образование, овладел английским и французским, серьезно увлекся энтомологией, шахматами, теннисом, поэзией.
1911 Поступает в Тенишевское училище.
1916 После смерти дяди, Василия Рукавишникова, становится наследником его поместья Рождествено и миллионного состояния. Издает свой первый сборник стихотворений.
1917–19 После большевицкого переворота семья Набоковых переезжает в Крым, затем в Англию. Поступает в Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучает зоологию и словесность.
1921 Начинает публиковать в эмигрантских изданиях свои стихи, прозу, пьесы, рецензии, переводы под псевдонимом Владимир Сирин.
1922 Отец Набокова убит в Берлине монархистами во время выступления П. Милюкова. Помолвка со Светланой Зиверт (вскоре расторгнута).
1922–37 Живет в Берлине с нансеновским паспортом эмигранта, существуя литературным трудом, а также дает частные уроки английского, французского, тенниса, плавания. В 1923 г. мать и сестры, Елена и Ольга, переезжают в Прагу. Знакомится на эмигрантском балу с Верой Евсеевной Слоним (р. 1902).
1924 Завершает в Праге свою большую стихотворную «Трагедию господина Морна» (при жизни Набокова не издавалась).
1925 Женится на Вере Слоним, которая становится его незаменимой помощницей в писательских трудах. «Я Алданову сказал: „Без жены я не написал бы ни одного романа“» (письмо Набокова к жене от 24 окт. 1932).
1926 Выходит в свет первый роман «Машенька». В следующем году в Берлине поставлена его пьеса «Человек из СССР». Затем выпускает романы: «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), «Соглядатай» (1930), «Подвиг» (1932), «Камера обскура» (1933), «Отчаяние» (1934), «Приглашение на казнь» (1936), «Дар» (1938, первое полное издание — 1952), сборники рассказов и стихотворений. Вскоре становится одним из самых известных в эмиграции писателей, его книги переводятся на немецкий, французский, английский и др. западные языки.
1932 Выступает с чтением своих произведений в Париже, знакомится со многими русскими и французскими писателями, критиками, издателями, среди которых В. Ходасевич, М. Алданов, И. Фондаминский, Г. Марсель, Ж. Сюпервиль и др.
1934 Рождение сына Дмитрия.
1937 В январе Набоков навсегда уезжает из фашистской Германии, выступает с чтением своих произведений в Брюсселе, Лондоне, Париже. В мае приезжает к матери в Прагу, где соединяется с семьей, все еще остававшейся в Берлине, после чего с женой и сыном возвращается во Францию. До отъезда в Америку в мае 1940 г. они будут жить в Ментоне, Каннах, Кап-д’Антибе и Париже. Несмотря на все большую известность, Набоков последние европейские годы будет сильно нуждаться. Роман с русской парижанкой Ириной Гуаданини (р. 1905), едва не приведший к разрыву с женой.
1938 С большим успехом поставлена в Париже пьеса «Событие».
1939 Завершен первый английский роман «Истинная жизнь Севастьяна Найта» (издан в 1941 г.). В Праге умирает мать. Тщетные поиски места преподавателя в Англии и Америке.
1940–60 Набоковы живут в США. Первое время не имеет постоянного места, выступая с лекциями как приглашенный лектор, затем преподает русскую и западную словесность в различных американских университетах, много занимается энтомологией, сочиняет по-английски рассказы и стихи, переводит русских писателей и поэтов на английский, в том числе для нужд преподавания. Совершает несколько долгих путешествий по Соединенным Штатам, собирая бабочек и впечатления для «Лолиты». В 1945 г. становится американским гражданином. Многолетняя дружба с влиятельным американским критиком и писателем Эдмундом Вильсоном. Выходят английские книги «Под знаком незаконнорожденных» (1947), автобиографический роман «Свидетельствуй, память» (1951; русский авторский перевод — «Другие берега», 1954), «Лолита» (1955; русский авторский перевод — 1965), «Пнин» (1957) и другие. Создает комментированные переводы на английский язык «Слова о полку Игореве» (1960) и «Евгения Онегина» (1964).
1945 Узнает о смерти брата Сергея в немецком концентрационном лагере.
1955 Роман «Лолита», который отказались напечатать четыре американских издательства, опасаясь судебных преследований, издан в Париже. После американской публикации романа в 1958 г. Набоков становится всемирно известным писателем, оставляет преподавание, целиком посвящает себя литературе и энтомологии.
1959 После долгой разлуки встречается с сестрой Еленой и братом Кириллом в Женеве.
1960 Полгода проводит с женой в Калифорнии, сочиняя сценарий «Лолиты» (отдельной книгой издан в 1974 г.) для Стэнли Кубрика; картина вышла на экраны в 1962 г.
1961 Завершает в Ницце «Бледный огонь».
1961–77 Набоковы живут в Швейцарии в «Монтрё Палас». Сын Дмитрий с успехом выступает в Италии как оперный певец. Набоков переводит с русского на английский в соавторстве с сыном свои русские книги, составляет итоговый сборник русских стихов (издан в 1979 г.), собирает материалы для задуманных им энтомологических изданий «Бабочки Европы», «Бабочки в живописи». В 1969 г. выходит самый большой его английский роман «Ада». За ним следуют: «Сквозняк из прошлого» (1972), собрание интервью, эссе, статей «Стойкие убеждения» (1973) и последний завершенный роман «Взгляни на арлекинов!» (1974). После «Арлекинов» приступает к новому роману, «Лаура и ее оригинал», который остается незавершенным (опубликован в 2009 г.).
1964 Совершает поездку в Америку, выступает в Гарварде с публичной лекцией. Смерть брата Кирилла в Мюнхене.
1977 Набоков скончался 2 июля в клинике Лозанны, похоронен в Кларане, близ Монтрё, Швейцария.
Составил А. Бабиков
Примечания
1
Другие книги повествователя. — Западными издателями принято помещать в начале или конце книги список выпущенных этим издательством произведений «того же автора». Несведущему читателю этот эфемерный перечень ничего не скажет, искушенного же (в чем и состоял замысел Набокова) заставит терпеливо распутывать клубок соответствий, иногда также мнимых. Последнему следует иметь в виду, что, во-первых, некоторые из «книг повествователя» совмещают сразу два (или даже три) произведения Набокова (к примеру, «Дар» и «Подвиг» в «Подарке отчизне» или «Камера обскура» и «Соглядатай» в «Камере люцида»); во-вторых, что не всякая книга из списка непременно находит свое жанровое и сюжетное соответствие в своде сочинений Набокова (так, о «Полнолунии», 1929, — возможно, самый сложный пункт экзамена — в одном месте уклончиво сказано: «лунное сияние стихов», а в другом уточняется: «короткий роман в стихах»; однако среди книг Набокова нет романа в стихах, и здесь, по-видимому, читателю предлагается сопоставить лунную тему в стихотворной «Трагедии господина Морна» (1924) и в английской поэме «Бледный огонь», предваряющей одноименный роман (1962), поскольку два этих самых продолжительных стихотворных сочинения Набокова имеют важные тематические связи друг с другом и с Шекспиром, у которого взято «лунное» название «Бледный огонь»); в-третьих, что первый английский роман, критически переосмысленное жизнеописание писателя, пересекается с последним русским романом (как было и в действительности) и с настоящей «окольной автобиографией», ставшей последним завершенным английским романом Набокова; в-четвертых, что в рассыпанных на страницах романа изложениях «книг повествователя» названия и сюжеты Набокова иногда преображены зеркально («Камера обскура» — т. е. «темная комната» — становится «Камерой люцида» — «светлой комнатой», в «Княжестве у моря» герой благополучно женится на своей юной Вирджинии, герой «Подарка» переходит на советскую территорию и как ни в чем не бывало возвращается назад, — но Мартын в «Подвиге» не возвращается, а удается это другому эмигранту — нашему «повествователю»); наконец, в-пятых, что указанные в списке годы выхода в свет «книг повествователя» чаще всего только затрудняют решение задачи (так, нам сообщается, что «Княжество у моря», имеющее сюжетное сходство с «Лолитой», было издано в 1962 году, но в этом году вышел другой роман Набокова — «Бледный огонь», а в 1962 году состоялась премьера картины Стэнли Кубрика «Лолита», и т. д.).
(обратно)2
«Подарок отчизне». — Название этого романа отсылает к стихотворению героя «Дара» Ф. К. Годунова-Чердынцева «Благодарю тебя, отчизна…».
(обратно)3
«Эсмеральда и ее парандр». — Героиня романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), «испанская цыганочка» Эсмеральда, упомянута Набоковым в «Аде» (начитанный Гумберт называет Лолиту гитаной, имея в виду роман Гюго и повесть Мериме «Кармен», 1845); парандр — мифический мимикрирующий олень.
(обратно)4
«Д-р Ольга Репнина». — Набоков использует известное историческое имя: кн. Ольга Николаевна Репнина-Волконская (1872–1953) была женой герцога Георгия Николаевича Лейхтенбергского, одного из основателей берлинской антибольшевистской организации «Братство Русской Правды». В 1938 году Набоковы некоторое время жили на Cap d’Antibes, где снимали комнату в русской «инвалидной» вилле (возможно, отразившейся в описании виллы «Ирис»), принадлежавшей некогда тому самому герцогу Лейхтенбергскому.
(обратно)5
«Изгнание с Майды». — В шестой части романа, в которой семидесятилетний повествователь дает решающий смотр своим арлекинам, об этой книге сказано, что она представляет собой «собрание рассказов» и что Майда — это далекий остров (отсылка к северному острову в «Solus Rex» и в «Бледном огне»). Майда — это легендарный остров, с XIV столетия и до начала прошлого века указывавшийся на многих картах Северной Атлантики под разными названиями (Asmaidas, Mayd, Maida и др.). Две главы, оставшиеся от неоконченного романа «Solus Rex» (ок. 1940), Набоков перевел на английский и опубликовал в сборнике рассказов «The Russian Beauty and Other Stories» (1973), вышедшем незадолго до того, как Набоков приступил к сочинению «Арлекинов». В примечании к этим главам из «Solus Rex» Набоков обрисовал его замысел и объяснил, что его герой-художник, потерявший жену, так глубоко уходит в своем воображении в вымышленную страну, что она начинает обретать реальность: «В первой главе Синеусов говорит, что он переезжает с Ривьеры в свою старую парижскую квартиру; на самом же деле он перебирается в угрюмый дворец на далеком северном острове».
(обратно)6
«Ардис», 1970. — Название поместья в «Аде» (1969), в котором протекает первая часть романа, представляет собой частичную анаграмму «парадиза» (paradise) и отсылает, помимо собственно романа, к знаменитому американскому издательству Карла Проффера, созданному незадолго до начала работы Набокова над «Арлекинами» и печатавшему его русские книги.
(обратно)7
«Питт» — университетский мужской клуб Кембриджа, названный в честь Вильяма Питта Младшего (1759–1806), самого молодого (24 года) премьер-министра Великобритании.
(обратно)8
Беннетт. — О каком именно Беннетте здесь идет речь, сказать затруднительно: если не о Гарри Беннетте (1890–1948), писавшем стихи под псевдонимом Ройден Барри, то, возможно, о плодовитом английском романисте и драматурге Арнольде Беннетте (1867–1931). В письме к жене от 2 июня 1939 г. Набоков упоминает «очень забавный „Дневник“ Арн. [ольда] Беннет [та]».
(обратно)9
Барбеллион — Вильгельм Нерон Пилат Барбеллион (таков был избранный им ряд «самых отвратительных имен в истории») — псевдоним английского натуралиста Брюса Фредерика Каммингса (1889–1919), автора прославивших его «Дневников разочарованного» (1919). Его упоминание здесь не случайно: Каммингс страдал рассеянным склерозом и подробно описал ход болезни на страницах своего дневника.
(обратно)10
Канница. — Название этого городка (Cannice) образовано от соединения названий двух городов на Лазурном Берегу Франции: Канн и Ниццы (Cannes + Nice).
(обратно)11
Макнаб… Как Айвор упрямо продолжал меня называть… — В письме к Эдмунду Вильсону в 1942 году Набоков упомянул, что президент колледжа, в котором он выступал с лекциями, будучи не в состоянии выговорить его фамилию, называл его Макнаб.
(обратно)12
…чернейший год черной русской истории? — Из провидческого стихотворения Лермонтова «Предсказание» (1830): «Настанет год, России черный год, / Когда царей корона упадет…»
(обратно)13
«Эх, яблочко, куда ж ты котишься?» — Известные куплеты «Яблочка» в годы Гражданской войны пелись и красноармейцами и белогвардейцами в различных вариантах, например в следующем (об эмигрантах): «Куда, яблочко, спешишь, / Куда котишься, / Никогда ты домой не воротишься ‹…› Прежде красились мы / Бриллиантами, / А теперь мы живем / Эмигрантами!» Эти частушки приводятся в романе Петра Краснова (который выведен в «Арлекинах» под именем Пудова-Узуровского) «От двуглавого орла к красному знамени».
(обратно)14
…графа Старова… украшал собой несколько великих посольств, а с 1913 года осел в Лондоне <…> своей смерти в 1927 году… — В образе Н. Н. Старова Набоков отразил некоторые черты Константина Дмитриевича Набокова (1872–1927), младшего брата своего отца. К. Набоков служил в русских посольствах в Брюсселе, Вашингтоне, Калькутте и Лондоне, где с мая 1917 г. и до января 1919 г., будучи Chargé d’Affaires, фактически управлял посольством от имени свергнутого русского правительства. Именно он встречал на вокзале Виктория семью Набоковых, когда они в мае 1919 г. прибыли в Лондон. Вместе с тем портрет Старова мало напоминает К. Набокова, которого Набоков в «Других берегах» описал так: «Константин Дмитриевич был худощавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне среди фотографий каких-то молодых английских офицеров…»
(обратно)15
Брога́м. — Имеется в виду электрический автомобиль с открытым местом для водителя американской компании «Anderson Electric Car», начавшей их выпуск в 1907 г. Свое название автомобиль получил по имени лорда Брогама (1778–1868), придумавшего эту форму кузова.
(обратно)16
Мата Хари — псевдоним Маргареты Гертруды Зелле (1876–1917), голландской танцовщицы, куртизанки и шпионки, расстрелянной французскими властями в октябре 1917 г. по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Имя Маты Хари стало широко известно после выхода в 1920 г. посвященной ей немецкой картины. Айвор мог назвать попугая ее именем, имея в виду, что «мата хари» на индонезийском языке означает «око дня», «солнце». Здесь незаметно вводится шпионская тема романа.
(обратно)17
Нина Лесерф — персонаж первого английского романа Набокова «Истинная жизнь Севастьяна Найта».
(обратно)18
Муди — англ. «moody» означает «унылый, капризный, угрюмый». Д. Б. Джонсон предположил, что имя психиатра намекает на З. Фрейда (Freud), бывшего, вместе с другими представителями «венской школы», неизменным объектом острот и критики Набокова: нем. Freude имеет обратное значение — «радость», «удовольствие».
(обратно)19
Профессор Юнкер. — Прозрачный намек на швейцарского психиатра Карла Густава Юнга (Jung), высмеянного Набоковым в «Бледном огне»; слово «юнкер» происходит от немецкого Jungherr (букв. — молодой господин).
(обратно)20
Онирический опыт — от греч. oneiros — сновидение; возникающие в состоянии бодрствования галлюцинации, подобные сновидениям.
(обратно)21
Уэллс придумал „господина Снукса“, производное от „Seven Oaks“. — Точнее, от Sevenoaks — город в Англии, в котором Уэллс жил в 1894 г. Имеется в виду его рассказ «Сердце мисс Винчельси» (1898), героиня которого отвергает предложение руки мистера Снукса из-за его смешной фамилии.
(обратно)22
«Страстные друзья». — В своем ответе на письмо редактора «Times Literary Supplement» Набоков назвал этот роман (1913) Уэллса одним из самых незаслуженно забытых шедевров. «Мне было, должно быть, четырнадцать или пятнадцать лет, когда я открыл для себя вымыслы Уэллса после приблизительно пяти зим молчаливого разрешения пользоваться отцовской библиотекой. И теперь, в семьдесят семь лет, я отчетливо помню, как был поражен стилем, обаянием, грезой этой книги, вовсе не задумываясь о ее „посыле“ или „символах“, если таковые там имеются. С тех пор я ни разу ее не перечитывал и теперь сожалею, что красочная дымка оставила лишь несколько финальных деталей (со временем сделавшихся мне чуть ближе), все еще проступающих через нее.
Последняя встреча влюбленных проходит под надзором в летний день в незнакомом доме, где мебель покрыта белыми чехлами. Когда Стивен, простившись со своей возлюбленной, выходит из дома в обществе другого человека, он ему говорит (только чтобы сказать что-нибудь, он находит это жалкое короткое замечание об этих зачехленных стульях): „Это от мух“. Нота высокого искусства, недоступная Конраду или Лоуренсу» (Reputations Revisited // Times Literary Supplement. 21 января 1977). О том, что Набоков действительно не перечитывал этот роман, свидетельствует его ошибка памяти, он не совсем точно приводит начало гл. VII, в которой Стивен делает свое замечание о мухах перед стоявшей в холле дома «мраморной фигурой, укрытой желтым муслином».
(обратно)23
Может быть, Хаусмана? Я видел его много раз… — Альфред Хаусман (1859–1936), знаменитый английский поэт (почти неизвестный в России), выпустивший сборник прославивших его стихов «Шропширский парень» (1896), с 1911 г. и до самой смерти состоял профессором латинского языка в кембриджском Тринити-колледже, в котором в 1919–1922 гг. учился Набоков.
(обратно)24
…в текстуре времени… — «The Texture of Time» — название философского трактата Вана Вина, героя романа Набокова «Ада».
(обратно)25
…к участи леммингов… — Существует (ложное) представление о периодическом массовом самоубийстве этих грызунов.
(обратно)26
Гадара — полностью разрушенный в VIII в. вследствие землетрясения город в Восточной Палестине.
(обратно)27
Таухниц — крупнейшее в Германии издательство Tauchnitz, в начале XX в. широко печатавшее на английском языке популярных британских авторов.
(обратно)28
…ни рифм, ни мятежа… — У Набокова сказано «rhyme or treason» (рифмы или измена, мятеж), с прицелом, по-видимому, на созвучное «rhyme or crime» (рифмы или преступление) и напрашивающееся (и для переводчика наиболее простое) «rhyme or reason» (рифмы или суть), с подразумеваемым выражением «no rhyme or reason» — «вздор».
(обратно)29
…тот случай, когда в английском языке требуется три слова… — Being in love.
(обратно)30
Мы забываем что влюбленность… потусторонность… — В рукописи романа стихотворение (написанное латиницей с проставленными акутами) первоначально имело четыре катрена, третий из которых тщательно вымаран. Стихи намеренно сочинялись для романа (как это было, например, в «Даре»), о чем свидетельствует большое число исправлений. Они прочно связаны с его темами и набором метафор («ночная паника», «бездонность», сон и явь, «потусторонность»). Синтаксические особенности Набокова сохранены. (См. также раздел Примечаний «Русский текст в романе».)
На «главную тему Набокова» — «потусторонность», которой «пропитано все, что он писал» и которая «как некий водяной знак символизирует все его творчество», обратила внимание вдова писателя в своем предисловии к сборнику его «Стихов» (1979). Позднее вышло отдельное исследование этой темы — В. Александров. «Набоков и потусторонность» (1991).
Примечательно, что само слово «потусторонний», как указал В. Виноградов, «появилось в русском литературном языке не ранее 30–40-х годов XIX в. Оно было внушено идеалистическими системами немецкой философии, главным образом, влиянием Шеллинга.
…По ту сторону — потусторонний — это переводы немецких jenseits, jenseitig. ‹…› Слово потусторонний не отмечено ни одним толковым словарем русского языка до словаря Даля включительно. Широкое употребление этого слова в значении: „нездешний, загробный, неземной“ в стилях книжного языка наблюдается не ранее 80–90-х гг. XIX в. Впервые ввел это слово в толковый словарь русского языка И. А. Бодуэн де Куртенэ. Он поместил его в словаре Даля с пояснением и со скрытой цитатой, очевидно взятой из газетно-журнальной рецензии на русский перевод книги М. Корелли „История детской души“ (The Mighty Atom — «Могущественный Атом»), 1897 (изд. К. П. Победоносцева)» (В. Виноградов. История слов. М., 1999. С. 525).
Любопытно, что эту именно книгу Корелли, вышедшую в 1896 г., вспоминает и Набоков в «Других берегах», описывая своих английских бонн и гувернанток: «Помню еще ужасную старуху, которая читала мне вслух повесть Марии Корелли „Могучий Атом“ о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника» (гл. IV, 4).
(обратно)31
…здесь мне удалось передать четырехстопный ямб оригинала. — A swimmer’s panic in the night.
(обратно)32
Фотоматические фигуры — т. е. состоящие из серии снимков, соединенных вместе и последовательно проецируемых на экране.
(обратно)33
Виолетта Мак-Ди. — Имя Виолетта носит англичанка, героиня «Университетской поэмы» (1926) Набокова, действие которой происходит в Кембридже.
(обратно)34
Accroche-coeur — прилизанный по моде 20-х гг. завиток волос на виске, скуле или на лбу.
(обратно)35
„Дольних блондинок“. — В оригинале «Valley Blondies», в беглом произношении созвучное с «влюбленность».
(обратно)36
…фотографией Руперта Брука, той, где у него обнажена шея… — Имеется в виду фотопортрет Брука 1913 г., воспроизведенный в сборнике его стихов (Лондон, 1921). Этому английскому поэту (1887–1915), чье имя также связано с Кембриджем и чьи военные сонеты (сборник «1914 год и другие стихотворения», 1915) получили широкую известность, Набоков посвятил одно из первых своих эссе (1922), в которое включил собственные переводы нескольких стихотворений Брука. В этом эссе Набоков заметил: «Ни один поэт так часто, с такой мучительной и творческой зоркостью не вглядывался в сумрак потусторонности».
(обратно)37
…прелестной девочкой, как и эта французская сирота. Это ее бабка, в трауре, сидит на расстеленной „Cannice-Matin“ и занимается вязанием. — Еще одна из множества автореминисценций, на этот раз из повести «Волшебник» (1939): «Слева сидела старая краснолобая брюнетка в трауре, справа — белобрысая женщина с вялыми волосами, деятельно занимавшаяся вязанием». Под «Cannice-Matin» подразумевается газета «Nice-Matin», в которой 13 апреля 1961 г. было напечатано интервью Набокова о пойманной им в окрестностях Ниццы редкой бабочке (сцена, которой посвящена следующая глава романа).
(обратно)38
…доннам предпочитает донов… — Игра слов: донами называли преподавателей в Кембридже и Оксфорде.
(обратно)39
Каннер. — Набоков использует имя известного американского психиатра Лео Каннера (1894–1981), одного из основоположников детской психиатрии. С его книгами по детской психиатрии и аутизму («Детская психология», 1935, «Защищаясь от матерей», 1941) Набоков мог познакомиться во время работы над «Лолитой», когда он усиленно изучал детскую психологию. Это предположение подкрепляется тем, что в романе пианист Каннер — немец, а Лео Каннер родился в Австро-Венгерской империи и учился в Берлине. Кроме того, имя персонажа созвучно с немецким словом Kenner — знаток, ценитель.
(обратно)40
«Мирана Палас» — название фамильной гостиницы Гумберта Гумберта в «Лолите».
(обратно)41
Рапаллович и Чичерини. — Намек на Раппальский договор (1922), означавший окончание международной дипломатической изоляции Советской России. От РСФСР договор подписал Георгий Чичерин, чей род происходит от выехавшего из Италии в XV в. Афанасия Чичерни (Чичерини). Кроме того, «Рапаллович» отсылает к известной фамилии Рафаловичей и эмигрантскому поэту Сергею Рафаловичу (1875–1943), стихи которого Набоков рецензировал в 1927 г.
(обратно)42
…бродить совершенно нагим по чужому дому. — Этому «удовольствию» предавался герой «Камеры обскура» (1932) Роберт Горн.
(обратно)43
«Du côté de chez Swann». — «В сторону Свана» (1913) — первый том романа «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. В посвященном роману цикле лекций Набоков метафорически охарактеризовал его предмет так: «Вся книга сводится к поискам клада, где кладом служит время, а тайником — прошлое».
(обратно)44
…цветная фотокарточка… — Автохромный снимок по методу братьев Люмьер, бывший единственным массовым способом цветной фотосъемки в описываемое время.
(обратно)45
…Крессида со своей милой Нелл… — Имеются в виду герои трагедии Шекспира «Троил и Крессида»: Крессида — дочь Калхаса и Елена (Нелл) — жена Менелая.
(обратно)46
Хромодиаскоп — аппарат Луи Люмьера для просмотра автохромных изображений.
(обратно)47
Hora — по-испански означает «время» и «час».
(обратно)48
Безвинный. — Здесь отчасти удалось передать набоковский неологизм «wineless» (лишенный вина), образованный от прилагательного winless — бесславный.
(обратно)49
„Pandora“. — Argynnis pandora из семейства нимфалид; таксономическое название Pandoriana pandora. В этом как будто ничтожном замечании Каннера кроется исток важного ряда мотивов, пронизывающих роман созвучными «золотыми» (d’or) названиями и именами персонажей, связанными с роковыми событиями в жизни героев (Медор, «Paon d’Or», «Винедор», Дора, Гандора) и восходящими к мифологической «всем одаренной» Пандоре, открывшей злосчастный ларец.
(обратно)50
…Falter (бабочка). — Хороший пример незаметного введения в текст отсылок к «другим книгам» Набокова (отмечать которые сплошь здесь нет нужды, поскольку в одних случаях они заметны без подсказок, а в других их не стоит открывать ради сохранения интриги): имя Фальтер носит герой незавершенного русского романа Набокова, сочинявшегося перед войной в Париже, часть которого была опубликована под названием «Ultima Thule» (1942).
(обратно)51
Психея — в древнегреческой мифологии олицетворение души, представлялась в виде бабочки; Вельзельвул — упомянут здесь в ироническом ключе оттого, что имя этого божества филистимлян означает «повелитель мух» (ср. следующее далее упоминание «домашних мух»).
(обратно)52
Эргана. — Pieris ergane.
(обратно)53
…исполнение сюиты Грюнберга… — Набоков, по-видимому, имеет в виду американского композитора и пианиста Луиса Грюнберга (Gruenberg) (1884–1964).
(обратно)54
…в природе ce qu’on appelle гения. — Здесь Айрис подразумевает — возможно, неосознанно — известное положение Пруста во второй части «Поисков утраченного времени», романе «Под сенью девушек в цвету», где он рассуждает как раз о природе гения, его необычности и ограниченности влияния на современников: «Ce qu’on appelle la postérité, c’est la postérité de l’œuvre» («Так называемые будущие поколения — это будущие поколения произведения искусства»). Набоков любил повторять сходную мысль о том, что настоящий писатель сам создает своих читателей.
(обратно)55
„Dors, Médor!“ — Эта эпитафия («Спи, Медор!») отсылает к поэме Ариосто «Неистовый Роланд» (1532): юный рыцарь Медор — счастливый любовник принцессы Анжелики, их связь — причина неистовства влюбленного в нее Роланда (именно этот эпизод, когда Роланд по оставленным Анжеликой и Медором надписям на камнях и деревьях узнает, что она полюбила другого, Пушкин перевел на русский язык — «Из Ариостова „Orlando Furioso“», 1826). Таким образом здесь исподволь вводится тема ревности и неверности, пронизывающая первую часть романа. «Мертвый пес Медор» вновь возникнет в 4-й части в стихах Беллы, о которых повествователь заметит, что видит «сквозь их лучистый кристалл тот колоссальный комментарий», который он мог бы к ним написать.
(обратно)56
Автомобиль не совсем „Ройс“… руль-с. — В оригинале игра слов: Royce — rolls («it rolls»). Набоков обыгрывает название британской автомобильной компании «Роллс-Ройс» и «говорящую» фамилию одного из ее основателей Чарльза Роллса: англ. it rolls значит «катится», «везет».
(обратно)57
Селестиолог — знаток небес (вымышленная наука), от англ. celestial (небесный).
(обратно)58
…старательный мальчик, несчастный приживала, как и все наши собаки и попугаи. — Его имя — Jacquot — по-французски означает «серый попугай».
(обратно)59
Твоя нареченная, — сказал он по-английски… используя это слово (bride), как я догадался, в значении fiancée… — Т. е. в значении «невеста», а не «жена». У слова «bride», помимо этого, есть еще значение «молодая» (новобрачная).
(обратно)60
«Новости эмиграции». — Подразумеваются «Последние новости», самая авторитетная русская ежедневная газета в Париже, выходившая с 1920 по 1940 г. В ней Набоков напечатал несколько своих рассказов, в том числе последний свой русский рассказ-мистификацию «Василий Шишков» (1939).
(обратно)61
…в шестнадцатом округе по rue Despréaux… — Депрео — вторая часть фамилии французского поэта и критика Никола Буало. В конце 30-х гг. Набоковы снимали квартиру в Париже в том же 16-м округе на улице Буало.
(обратно)62
Нансенский паспорт. — Удостоверение личности, введенное комиссаром Лиги Наций по делам беженцев Нансеном в 1922 г. для русских эмигрантов и других беженцев без гражданства.
(обратно)63
…не лучшей шахматной доске. — Здесь у Набокова («second-best chessboard»), возможно, кроется намек на известное место в завещании Шекспира, оставившего жене только «не лучшую кровать» (second-best bed), что некоторыми исследователями истолковывается как указание на ее неверность.
(обратно)64
…склонившую русые кудри над широкими листами… — Один из многочисленных случаев в романе двойного (в данном случае — дополнительного) значения, пропадающего, к сожалению, в переводе: английское foolscap означает формат писчей бумаги, повсеместно использовавшийся в Западной Европе до наступления в 20-х гг. прошлого века эры более узкого формата А4, и в то же время это шутовской колпак с бубенцами и бумажный колпак, надевавшийся нерадивым ученикам в наказание.
(обратно)65
Журнал «Patria» — «Отечество», с намеком на «Отечественные записки» Краевского. Подразумеваются «Современные записки» (1920–1940), ведущий парижский журнал эмиграции, в котором в 1929–1930 гг., то есть в описываемое время, печаталась «Защита Лужина» Набокова. В рукописи романа журнал первоначально назывался «Expatria» (букв. «вне родины»); затем экономный Набоков отбросил предлог — вероятнее всего, оттого, что далее появляется таинственный ассистент повествователя по имени Экскюль.
(обратно)66
Ирида Осиповна. — Отчего в русифицированном имени Айрис добавлено отчество «Осиповна», сказать затруднительно (имени ее отца мы не знаем, и единственный персонаж романа, который может быть соотнесен с этим отчеством, — издатель Осип Львович Оксман), но имя Ирида указано не случайно: в греческой мифологии Ирида — олицетворение и богиня радуги, по имени которой назван цветок ирис (англ. iris).
(обратно)67
Демьян Василевский, «Простаков-Скотинин», Христофор Боярский. — В образах Василевского и Боярского Набоков отразил черты Георгия Адамовича (выведенного в «Даре» под именем Христофора Мортуса и разыгранного Набоковым в рассказе о выдуманном им поэте «Василии Шишкове», чьим именем Набоков подписал несколько своих стихотворений в конце 30-х — нач. 40-х гг.). Имя Демьяна Василевского (в оригинале Basilevski — Базилевский, от Basil — царственный), как и его русский эквивалент и как фамилия второго критика — Боярский, — обыгрывают псевдоним придворного советского поэта Демьяна Бедного, чье настоящее имя Ефим Придворов. В 1927 г. в газете «Правда» Д. Бедный поместил пародию на стихотворение Набокова «Билет» — это было одно из первых упоминаний Сирина в советской печати. В письме к Роману Гринбергу (14 сентября 1961 г.) Набоков упоминает этот случай: «Стишки неизвестного мне Елагина настолько похожи на те, которые лет тридцать пять тому назад посвятил мне в советской газете Демьян Бедный (рифмуя „фантазирен“ и „Сирин“), что у меня появилось подозрение, не одно и то же ли это лицо?» В отношении «Простакова-Скотинина» Омри Ронен (1937–2012) проницательно предположил, что в этом «фарсовом прозвище» (разумеется, помимо отсылки к «Недорослю» Фонвизина и фольклорному simpleton’у — простаку) Набоков зашифровал имя рецензента «Нью-Йорк таймс» Орвилла Прескотта, назвавшего «Лолиту» «скучной, скучной, скучной на претенциозный, напыщенный и нелепо игривый лад». Примечательно, что сын Прескотта, Питер, пойдя по стопам отца, в 1972 году разругал «Сквозняк из прошлого».
(обратно)68
…Диана, очаровательная кокетка с живым чувством юмора, позволяет Жюлю тешиться… — Французское слово jules означает, помимо прочего, «любовник» и «преступник» (оба эти значения воплощаются в финале этой части).
(обратно)69
Fairelamourir. — Как заметил Б. Бойд, в этом неологизме, образованном от фр. faire l’amour (предаваться любви), содержится глагол mourir — «умирать», что можно рассматривать как указание на смерть Айрис.
(обратно)70
I see you are in smoking. — Английское слово «smoking» (курение), которое ошибочно употребляет Старов вместо английского «dinner jacket», перешло в русский язык в значении черного вечернего пиджака с атласными или шелковыми лацканами от английского «smoking jacket» (пиджак для курения).
(обратно)71
«Пандер» — от англ. pander — сводник (это название вновь возникнет в третьей части).
(обратно)72
…«putty saw-lay»… — Возможно, название французского вина «Le Petit Soleil» в американском произношении. Бойд в своих примечаниях к роману полагает, что здесь речь идет о солонине — petit salé, имея в виду, по-видимому, блюдо Petit Salé aux Lentilles (свинина с овощами и чечевицей).
(обратно)73
…как в гейневском месяце мае… — Имеется в виду стихотворение Гейне «В чудеснейшем месяце мае…» из «Книги песен» (1827).
(обратно)74
…напоминало что-то из параллельного мира… — Рассказ Набокова «Возвращение Чорба» (1925).
(обратно)75
…Petiver, не то Petit Ver — червячок ли, стишок ли… — Игра слов с французским «ver» — червяк и английским «verse» — строфа, стихи. В топониме скрыта отсылка к имени английского аптекаря Джеймса Петивера (Petiver, ок. 1665–1718), автора нескольких энтомологических трудов о британских бабочках.
(обратно)76
…я сочинил несколько стихотворений <…> одно из которых, о группе акробатов, устроивших представление на церковной площади… — Набоков отсылает читателя к собственному стихотворению «Тень», сочиненному в Шварцвальде (1925): «К нам в городок приехал в гости / бродячий цирк на семь ночей. / Блистали трубы на помосте, / надулись щеки трубачей. // На площадь, убранную странно, / Мы все глядели — синий мрак, / собор Святого Иоанна / и сотня пестрая зевак. // ‹…› И в вышине, перед старинным / собором, на тугой канат, / шестом покачивая длинным, / шагнул, сияя, акробат …».
(обратно)77
…Степан Иванович Степанов, известный журналист… — Под именем Спепанова Набоков вывел И. И. Фондаминского (1880–1942), одного из лидеров партии эсеров, основателя и редактора «Современных записок», эмигрировавшего в Париж в 1906 г. В свой первый приезд в Париж в 1932 г. Набоков остановился в его просторной квартире, где познакомился со многими известными фигурами русской эмиграции, в том числе с Керенским. Как и Степанов в романе, Фондаминский всячески опекал Набокова в Париже и был устроителем его литературного вечера.
(обратно)78
…улица Кош? Рош? — Имеется в виду авеню Фош (названное в честь французского маршала Фердинанда Фоша) в 16-м округе, одна из самых фешенебельных улиц Парижа. Фондаминские жили в Пасси на улице Шерновиз, в том же 16-м округе.
(обратно)79
…Григорий Райх (1899–1942?)… под псевдонимом Лунин… по элегии в неделю… — Кого именно Набоков имеет в виду, установить не удалось; можно предположить, что — собственную персону под псевдонимом «Сирин» (сближается с «Лунин»), на что указывает и год рождения Лунина — 1899 (год рождения Набокова) и год его смерти (метафорически сближается с годом «смерти» Сирина: Набоков отказался от этого псевдонима и перешел на английский язык в 1940 г.). Кроме того, следует указать, что помимо отсылки к известному русскому дворянскому роду Луниных и намека на непременный атрибут элегической поэзии (луну), в псевдониме Райха содержится анаграмма имени пушкинского графа Нулина.
(обратно)80
…Александр Керенский, бесцеремонно наставлявший свой лорнет… — Этот лорнет неявно ассоциируется у Набокова с отмечавшейся многими мемуаристами театральностью, актерством политика (в молодости Керенский мечтал стать оперным певцом и брал уроки актерского мастерства). В 1932 г. Набоков из Парижа писал жене: «Потом пришел Керенский, похожий на старого, но еще бодрящегося актера: громко говорит, смотрит сквозь золотой лорнет, прижимая его к левому глазу». Сходным образом нелестно отнесся о Керенском отец писателя в книге «Временное правительство» (1923): «С упомянутым сейчас болезненным тщеславием в Керенском соединялось еще одно неприятное свойство: актерство, любовь к позе и вместе с тем ко всякой пышности и помпе».
(обратно)81
…Василий Соколовский… (странно прозванный И. А. «Иеремией»), с начала столетия выдававший том за томом мистико-социальную эпопею… богатой мифологией и фольклором. — В образе этого персонажа Набоков отразил черты Дмитрия Мережковского, автора исторической трилогии «Христос и Антихрист» (1895–1905) и других исторических романов. «Пророк Иеремия» (1887) — стихотворение Мережковского. С 1930 г. Мережковский претендовал на Нобелевскую премию, в 1933 г. ее получил Бунин (отчасти выведенный в образе Шипоградова). Комментаторы романа, отметившие здесь отсылку к Мережковскому, однако, не обратили внимания на то, что, как заметил Ронен, этот персонаж не случайно назван «Соколовским»: сокол по-английски falcon, что по произношению очень близко к фамилии американского писателя (нобелевского лауреата 1949 г.) Уильяма Фолкнера, придумавшего, подобно Соколовскому, округ Йокнапатофа на юге США, в котором разворачивается действие многих его произведений. В таком случае уточнение «богатой… фольклором» также призвано указать на Фолкнера (причем в его знаменитом «Шуме и ярости» происходит обратное тому, что описывал Соколовский: увядание одного из старейших семейств американского Юга в течение около 30 лет), а «Иеремия», возможно, — на его роман «Сойди, Моисей» (1942). Остается добавить, что Мережковского и Фолкнера Набоков ставил одинаково невысоко.
(обратно)82
Приятно было видеть старого знакомого Морозова, с его грубо вылепленным умным лицом, запущенной шевелюрой и яркими ледяными глазами… — В именах Морозова, Шипоградова и некоторых других, как было замечено О. Роненом, скрыты намеки не только на русских авторов, но и на американских писателей-современников Набокова. Так, Морозов, с его «ледяными» (frosty) глазами и грубым лицом, напоминает поэта Роберта Фроста (комплиментарно упомянутого в «Бледном огне»). Таким образом, «Морозов» — это русифицированный перевод значимой фамилии Фроста, в то время как Шипоградов — это буквальный перевод англ. Thornton, и, следовательно, помимо отсылки к «колючему» Бунину, указывает въедливому читателю на романиста Торнтона Вайлдера, роман которого «Мост короля Людовика Святого» (1927) значится среди книг Севастьяна Найта («Истинная жизнь Севастьяна Найта»).
(обратно)83
«Всегда нас радует красивая вещица». — Имеется в виду знаменитое начало «Эндимиона» (1818) Джона Китса: «A thing of beauty is a joy forever» (в переводе Пастернака: «Прекрасное пленяет навсегда»).
(обратно)84
…на левом берегу, «угол rue St. Supplice», как со зловещей неточностью сообщает моя карманная записная книжка. — Вместо правильного названия улицы, действительно на левом берегу Сены — rue Saint-Sulpice, — Набоков приводит французское слово «supplice» — казнь, пытка.
(обратно)85
Если бы проводился конкурс «Мисс Россия»… — Такие конкурсы действительно проводились в Париже в 20–30-х гг. среди русских эмигранток. Так, в 1933 г. победительницей конкурса «Мисс Россия» стала Т. А. Маслова.
(обратно)86
…ее раскаявшегося батюшки-террориста! — В этом упоминании раскрывается намек на Бориса Савинкова (1879–1925), одного из лидеров Боевой организации партии эсеров, сочетавшего террористическую деятельность с литературными занятиями. В его романе «То, чего не было» (1912–1913) главный герой — «кающийся террорист». Вместе с тем фамилия Любы напоминает о Н. В. Савиче (1869–1942), российском политическом деятеле, после эмиграции учредившем в Париже Народно-монархический союз конституционных монархистов и оставившем «Воспоминания».
(обратно)87
…отличные статьи Морозова и Яблокова… — Как заметили Ронен и Бойд, «Яблоков» указывает на американского слависта и друга Набокова Альфреда Аппеля младшего (англ. apple — яблоко), автора нескольких выдающихся работ о Набокове. Вместе с тем, на наш взгляд, Набоков мог иметь в виду также эмигрантского критика Сергея Яблоновского (псевдоним Владимира Потресова, 1870–1953), печатавшегося в той же берлинской газете «Руль», что и Набоков, и в 1930 г. напечатавшего в нем благожелательную рецензию на «Соглядатая». Яблоновский также был одним из немногих, кто приветствовал первые поэтические и прозаические публикации Набокова в «Руле» в 1921 г. Известно письмо Набокова, тогда еще кембриджского студента, к Яблоновскому (от 28 сентября 1921), в котором он писал: «…я был невыразимо тронут, необычайно ободрен письмом вашим. Такие вы сказали хорошие слова, что я и застыдился, и возгордился, и почувствовал ту чудесную теплоту, которую излучает человек зоркий и чуткий» (В. Набоков. Письмо к С. В. Потресову // Звезда. 1996. № 11. С. 90).
(обратно)88
…когда текст «Красного цилиндра»… был передан… редактору «Patria»… — «Приглашение на казнь» печаталось выпусками в «Современных записках» в 1935–1936 гг.
(обратно)89
…да, впрочем, Бог с ней, она была, в сущности, невинным созданием и теперь, надеюсь, счастливо нянчится с внуками. — Прототипом Любы Савич стала замужняя дама, с которой у Набокова был короткий роман в 1919 г. в Греции. Здесь совместились некоторые детали, связанные с ее образом в памяти Набокова. Вот что он в 1932 г. писал жене из Парижа о своем литературном выступлении: «Опять гром и затем перерыв. Тут меня затеснили окончательно, и какая-то ужасная женщина, от которой невозможно разило потом (оказалась фалерской моей приятельницей, Новотворцевой), — Бог знает, что она говорила». Эта встреча должна была показаться Набокову тем более удивительной, что незадолго до этого, в «Подвиге», он изобразил Новотворцеву в образе пошловатой поэтессы Аллы Черносвитовой и подробно описал фалерский роман героя с ней.
(обратно)90
Союз помощи нуждающимся русским дворянкам. — Подразумевается Союз Русских Дворян, основанный в Париже в 1925 г. графом Д. С. Шереметьевым и существующий по сей день.
(обратно)91
«Пасси на Руси». — В Пасси был сосредоточен «русский Париж»; Набоков жил с семьей в конце 30-х гг. в том же 16-м округе, недалеко от Пасси, на улице Буало.
(обратно)92
…читая об островном зверинце доктора Моро… «воющая фигура»… убегает из лаборатории! — В романе Уэллса «Остров доктора Моро» (1896) рассказывается об опытах над животными, придающих им получеловеческий вид. Убегающая «обмотанная фигура» появляется в 17-й главе. Далее, в описании трагической участи Оксмана Набоков проведет параллель между романом Уэллса и нацистскими экспериментами над людьми в лагерях смерти (см. предваряющий Примечания очерк).
(обратно)93
…мы с Морозовым печатались в «Медном всаднике»… — Набоков подразумевает не созданное в 1922 г. в Берлине издательство «Медный всадник» С. А. Соколова, печатавшее главным образом документальную публицистику о Белом движении, а берлинское издательство «Слово» (1920–1935), которым руководил И. В. Гессен, друг и коллега отца писателя, охотно печатавший произведения Набокова и Алданова, некоторые черты которого угадываются в составном образе Морозова. Экслибрис «Слова» представлял собой изображение памятника Фальконе. Вместе со «Словом» здесь совмещено, по-видимому, и другое берлинское издательство — «Петрополис» (в эмиграции: 1922–1939), с которым Набоков и Алданов также сотрудничали. В конце 30-х гг. в «Петрополисе» (переехавшем к тому времени в Брюссель) должно было выйти первое книжное издание «Дара», чему не суждено было случиться из-за начавшейся войны.
(обратно)94
Merlin de Malaune. — По-видимому, отсылка к Антуану Мерлену (Мерлен из Тионвиля, 1762–1833), деятелю Великой французской революции, одному из участников свержения якобинской диктатуры. Вместе с тем, поскольку в гл. 4, ч. IV появится леди Моргана, «вдова оксфордского медиевиста», можно предположить, что это имя отсылает также к мудрецу и волшебнику Мерлину, наставнику и советнику короля Артура, околдованному злой Морганой, выведавшей его тайны с помощью Озерной феи. В рыцарских романах рассказывается о том, как Озерная фея заманила влюбленного в нее Мерлина в ловушку и заточила его под горой или камнем, по другой версии — заключила его в колонну, — и поэтому, возможно, Набоков упоминает, что рядом с домом, некогда принадлежавшим семье Merlin de Malaune, находилась группа каменных нимф. Фамилия же de Malaune представляет собой анаграмму une malade (фр.) — больной, пациент; в переносном смысле — безумец.
(обратно)95
…Дмитрий де Мидов, устроивший в нем… штаб-квартиру тайной антидеспотической организации. — Набоков обыгрывает факты биографии И. П. Демидова (1873–1946) (из рода заводчиков Демидовых), политического деятеля, члена нелегального «Союза освобождения» (в котором состоял и В. Д. Набоков) и затем ЦК партии кадетов. Впоследствии он эмигрировал в Париж, где стал помощником редактора «Последних новостей». В Париже он был одним из создателей подрывной антисоветской организации «Центр действия» (1920–1923). Хотя Демидовы владели особняками и в Париже, здесь важнее отметить, что упомянутый в «Других берегах» особняк Демидовых (в котором до революции размещалось итальянское посольство) находился по соседству с особняком Набоковых на Большой Морской улице в Петербурге, где часто проходили собрания членов партии кадетов, одним из лидеров которых был В. Д. Набоков (и где И. П. Демидов, возможно, бывал не раз).
(обратно)96
Окс. — В письме к Самуилу Розову в 1937 г. Набоков вспоминает их однокашника по Тенишевскому училищу, «главного развлекателя и остроумца» Евгения Окса. После выхода романа один из рецензентов произвольно предположил, что в Осипе Оксмане Набоков вывел Николая Оцупа (основателя журнала «Числа»), на что Набоков в письме к Глебу Струве от 21 апреля 1975 г. заметил: «Я был изумлен и озадачен той чепухой, какую написал некто Пурье о „прототипе“ моего Оксмана (не читав „Остров доктора Моро“ и не зная, что я никогда не был знаком с поэтом Оксупом или Оцупом). То, что ты ввязался в потасовку, предложив своего кандидата — невинного старого пушкиниста [Юлиана Оксмана], изумило меня еще больше».
(обратно)97
…шарфом Тринити-колледжа. — Эти полосатые шарфы (цвета Тринити-колледжа — синий, желтый, красный) доныне продаются в Кембридже (например, в лавке «Ryder & Amies»). Набоков носил свой до конца 30-х гг.
(обратно)98
…стихотворных сборничков… со скованными безжизненными заглавиями, бывшими тогда в моде: «Прохлада», «Сдержанность». — Обыграны «сдержанные» названия, характерные для поэтов чуждой Набокову «парижской ноты», ср.: Юрий Мандельштам «Верность» (1932), Анатолий Штейгер «Неблагодарность» (1936), Лидия Червинская «Приближения» (1934). Свои зрелые поэтические книги Набоков оставлял без названий.
(обратно)99
«Камера обскура», «Камера люцида». — Камера-обскура (лат. «темная комната») — старинный оптический прибор для получения изображения объектов, название которого Набоков взял для своего романа (1933). Камера-люцида (лат. «светлая комната») — другой оптический прибор с иным принципом действия.
(обратно)100
…Азеф, знаменитый двойной агент. — Евно Азеф (1869–1918) — глава Боевой организации эсеров, под чьим руководством было осуществлено несколько успешных покушений на высших государственных деятелей России, в том числе на министра внутренних дел фон Плеве в Петербурге в 1904 г. В 1908 г. Азеф был разоблачен Владимиром Бурцевым как секретный агент Департамента полиции, выдавший многих эсеров-террористов; на внутрипартийном суде Азефа приговорили к смерти, но ему удалось скрыться (он ушел из-под надзора другого профессионального террориста, члена Боевой организации, Владимира Зензинова, с которым Набоков с конца 30-х гг. состоял в дружеских отношениях и длительной переписке, недавно опубликованной).
(обратно)101
Волшебный фонарь. — Laterna magica — аппарат для проекции изображений, бывший в XIX в. в повсеместном использовании и описанный Набоковым в «Других берегах».
(обратно)102
Сукновалов. — Профессор Ронен предположил, что под этим именем кроется Рой Фуллер (англ. fuller — валяльщик, сукновал), английский поэт, прозаик и критик, вызвавший недовольство Набокова (см. гневное письмо Набокова в «New Statesman», напечатанное 22 декабря 1972 г.).
(обратно)103
„Простые числа“. — Подразумевается откровенно враждебный по отношению к Набокову журнал «Числа» (гл. ред. Н. Оцуп), выходивший в Париже в 1930–1934 гг. и печатавший главным образом авторов младшего поколения эмиграции. В первом же номере этого журнала была помещена оскорбительная рецензия Георгия Иванова на произведения Набокова, обострившая многолетнюю литературную вражду Набокова с кругом Адамовича и Гиппиус, поддержавшей Иванова в своей антисиринской заметке.
(обратно)104
…Варламова в роли гоголевского Городничего… — Необычайно популярный актер Константин Варламов (1848–1915) играл Городничего в Александринском театре Санкт-Петербурга. В лекции «Ремесло драматурга» (1941) Набоков, рассуждая о законах театральной иллюзии, привел занятный случай, происшедший в одном из столичных театров, когда Варламов, наскучив старой ролью, со сцены обратился к его деду, И. В. Рукавишникову, с которым был дружен и в домашнем театре которого выступал: «„Кстати, Иван Василич, боюсь, не удастся мне закусить с вами завтра“. И только потому, что Варламов был великим волшебником, — пишет Набоков, — и ухитрился так натурально вставить эту фразу в сцену, моему деду даже в голову не пришло, что его друг действительно отменяет назначенное на завтра свидание».
(обратно)105
…сказал Шелли, имея в виду Шиллера. — Как будто случайное упоминание Шелли (как до того Барбеллиона и в дальнейшем Байрона) в действительности поддерживает важную группу мотивов в романе: следует указать, что Шелли (1792–1822), которого, кстати заметить, связывали многолетние дружеские отношения с Байроном, утонул в Средиземном море и что незадолго до гибели ему было видение — какая-то фигура позвала его за собой в гостиную и там, сняв покрывало, оказалась его двойником, исчезнувшим со словами: «Siete soddisfatto?» («Вы довольны?»).
(обратно)106
…«в часы одинокие ночи», говоря словами А. К. Толстого… — Из стихотворения «Средь шумного бала, случайно…» (1851).
(обратно)107
…исторический роман генерала Пудова-Узуровского «Царь Бронштейн»… — Под этим именем Набоков вывел генерала и казачьего атамана Петра Краснова (1869–1947), посредственного писателя и ярого антисемита, выпустившего в эмиграции несколько исторических романов, среди которых роман-эпопея «От Двуглавого орла к красному знамени» (1922), «Цареубийцы» (1938) и др. Во время Второй мировой войны Краснов сотрудничал с нацистами, в 1945 г. был выдан советским войскам и казнен в Москве. По странному совпадению (должно быть, позабавившему в свое время Набокова) Краснов выпустил в Париже (в издательстве Е. Сияльской) свой роман «Подвиг» (где он, между прочим, развивает идею «мирового масонского заговора»), в том же 1932 г., когда книгой вышел роман Набокова с тем же названием.
(обратно)108
…«L’Atlantide» (…Пьеру Бенуа, «romancier français né à Albi» — какой-то пробел в Тарне). — Пьер Бенуа (1886–1962), «французский романист родом из Альби» (на реке Тарн), получивший известность после выхода его приключенческого романа «Атлантида» (1919).
(обратно)109
…Сионские Мудрецы узурпировали власть на Святой Руси. — Источником подобных инсинуаций послужила известная антисемитская фальшивка «Протоколы сионских мудрецов», выпущенная Сергеем Нилусом в 1905 г. и множество раз переиздававшаяся на разных языках. Этот сборник текстов был представлен как протоколы докладов участников Сионистского конгресса в Базеле, на котором якобы обсуждались планы завоевания евреями мирового господства. Подложность «Протоколов» была доказана в 1921 г. в статье, напечатанной в «Таймс». В 1938 г. тот же Бурцев, который разоблачил Азефа, издал в Париже книгу «„Протоколы сионских мудрецов“. Доказанный подлог».
(обратно)110
…пятой девушкой слева — украшенной цветами белокурой красавицей с прямым носом и серьезными серыми глазами на Боттичеллиевой «Primavera», аллегории Весны… — Пятой девушкой слева на картине Боттичелли изображена Флора, богиня цветов, расцвета, весны и полевых плодов. Флора стала главным женским персонажем в последнем неоконченном романе Набокова «Лаура и ее оригинал», где она, впрочем, и наружностью и манерами напоминает не Аннетту, а третью жену повествователя — ветреную Луизу.
(обратно)111
Астрономистики. — В оригинале неологизм «astronomists» (astronomer — астроном и mist — туман).
(обратно)112
…«бесплодие пустынь, отрогов крутизну…» — Слова Отелло (акт I, сц. 3).
(обратно)113
(…изводит меня — слово, кстати сказать, родственное древнерусскому «водимая» — жена, супруга). — В оригинале Набоков раскрывает курьезную этимологию английского глагола «rankle» (гноиться, терзать), происходящего предположительно от лат. dracunculus — маленький дракон (змей).
(обратно)114
…добрейшего старика Степанова, который… принялся меня убеждать… соблюсти прекрасный христианский обычай. — В парижском письме к жене (в феврале 1936 г.) Набоков писал о Фондаминском: «Илюша очень трогательно старается на меня „повлиять“ в религиозном отношении, заводит, например, издалека разговор — вот какие дескать бывают замечательные священники, не хотел бы я послушать одну коротенькую проповедь и т. д.».
(обратно)115
…добрались до самой Венеции и Равенны, где я размышлял о Байроне и переводил Мюссе. — Набоков переводил Мюссе еще в 1915 г. (его перевод «Декабрьской ночи» был напечатан в журнале Тенишевского училища), затем в 20-х гг. в Берлине. Касательно Байрона стоит вспомнить, помимо прочего, что имя его жены было Анна-Изабелла (Анна — вторая жена рассказчика в нашем романе, Изабелла — их дочь), после развода с которой Байрон уехал в Венецию, а затем в Равенну.
(обратно)116
…rue Guevara (названной в честь андалузского драматурга былых времен)… — Луис Велес де Гевара (1578–1644), драматург, автор плутовского романа «Хромой бес» (1641).
(обратно)117
«Le Petit Diable Boiteux». — «Хромой бесенок» — намек на роман Лесажа «Le Diable Boiteux» (1709), написанный по мотивам романа Гевара.
(обратно)118
Адам Атропович. — Вновь намек на Адамовича и его «непреклонность» и влиятельность как критика: Атропос («неотвратимая», «неумолимая») — в греческой мифологии одна из трех Мойр, прерывающая нить жизни смертного.
(обратно)119
…Горького (перед которым он сам преклонялся)… — Нельзя сказать, чтобы Адамович, прототип Адама Атроповича, «преклонялся» перед Горьким, однако он много и нередко сочувственно писал о советской литературе и советских авторах. Здесь, возможно, Набоков имеет в виду программный очерк Адамовича «О литературе в эмиграции» (1931), который начинается словами: «Максим Горький высказал недавно московским журналистам свое мнение об эмигрантской литературе. Мнение это очень плохое: старые авторы окончательно исписались; новые — бледны, слабы, их произведения похожи на перевод с третьестепенного французского оригинала». Далее Адамович, не соглашаясь с Горьким, все же предостерегает эмигрантских писателей от «обольщения» развития и расцвета в отрыве от России, угрозы «зачахнуть в своих воображаемых катакомбах», и иронично отзывается о тех критиках, которые полагали, что литература возможна лишь в эмиграции: «Кто не совсем твердо убежден, что Сирин будет новым Львом Толстым, а Газданов новым Достоевским, — тот пораженец».
(обратно)120
…фильм «Мать»… — Картина Всеволода Пудовкина (премьера — 1927 г.) по повести Горького, запрещенная французской цензурой, была впервые показана в Париже для узкого круга в 1928 г.
(обратно)121
«The Red Topper». — Англ. «topper» (в отличие от более точного «top hat»), помимо разговорного употребления в значении «цилиндр», означает «превосходную вещь», «большую волну» и «короткое дамское пальто».
(обратно)122
…путали экземпляр с видом… — В английском языке эти два слова почти омонимы: specimen и species. Ту же ошибку допускает Гумберт Гумберт во II акте сценария «Лолиты», где появляется эпизодический персонаж — Владимир Набоков.
(обратно)123
…новую картину Ренэ Клера… — Последним предвоенным фильмом этого французского режиссера (1898–1981) была британская музыкальная комедия «Дурная весть» («Break the News»), вышедшая в прокат во Франции 21 мая 1938 г.
(обратно)124
…ковалевскую «отдушину»… — Вероятнее всего (этого нельзя утверждать, так как здесь в романе одно из многочисленных «темных мест», изложенных с нарочитой лаконичностью), Набоков имеет в виду малоудачные литературные занятия Софьи Ковалевской («Литературные сочинения С. В. Ковалевской», СПб., 1893), и в частности ее очерк об английской писательнице Мэри Эванс, писавшей под мужским псевдонимом Д. Элиот («Воспоминания о Джордже Эллиоте», 1886).
(обратно)125
…от петита к корпусу. — Т. е. шрифт постепенно увеличивается: петит (кегель равен 8 пунктам) используется для сносок, аннотаций и т. п.; корпус (кегель равен 10 пунктам) применяется для набора основного текста.
(обратно)126
«…в Парагонском университете, штат Орегон». — Город Парагон действительно существует, но не в Орегоне, а в Индиане, однако здесь важна не топонимика, а различные значения самого слова paragon — большой, лишенный изъянов алмаз; крупный типографский шрифт; образец совершенства.
(обратно)127
Проктор — надзиратель за студентами в Оксфорде и Кембридже.
(обратно)128
Черри Нипль. — Это имя (Cherry Neaple) насыщено эротическими ассоциациями: англ. «cherry» означает «девственница» и «вишневый цвет», а «neaple» созвучно с «nipple» — «сосок груди».
(обратно)129
«The Boy’s Own Paper» — английская иллюстрированная еженедельная (с 1913 г. — ежемесячная) «Газета для мальчиков» (1879–1967), печатавшая приключенческие рассказы, заметки по наблюдению за явлениями природы, игры, загадки и проч.
(обратно)130
«…„ни-о-чемным“ краем современной философской лингвистики!» — Прозрачный намек на известные работы американского лингвиста Аврама Ноама Хомского (Чомский, род. в 1928 г.) о «порождающей» (генеративной) и универсальной грамматике («Синтаксические структуры», 1957).
(обратно)131
…Ян Буниан… в последнем воскресном номере «Нью-Йорк таймс»…. — В оригинале Ian Bunyan, что можно прочесть и как Ян Баньян. Помимо более очевидной для англоязычного читателя отсылки к Джону Баньяну (или Беньяну, Буньяну), автору знаменитого аллегорического романа «Путь паломника» (1684), в этом имени содержится намек на Ивана Бунина («Яном» называла Бунина его жена, В. Н. Муромцева) и американского критика и писателя Эдмунда Вильсона, многолетнего друга и корреспондента Набокова, домашнее прозвище которого было «Bunny» (Банни, ласк. — зайчик). Сближение двух этих фигур может показаться менее произвольным (в этом нелинейном повествовании, с его «узорами перемешанного времени и перекрученного пространства»), если учесть, что и с Буниным и с Вильсоном у Набокова сначала складывались теплые дружеские отношения, перешедшие затем в неприкрытую вражду. Указание на «последний воскресный номер „Нью-Йорк таймс“» — заведомый анахронизм, поскольку Бунин умер в 1953 г., а Вильсон — в 1972 г., притом что В. В. пишет свои мемуары в 1974 г.
(обратно)132
…бессмертной гоголевской «Шинели». — В оригинале «Carrick». Набоков оспаривал верность распространенного перевода названия рассказа Гоголя на английский язык как «Great- (или over-) coat». В своих комментариях к «Евгению Онегину» он указывал, что правильный французский перевод слова «шинель» (происходящего от «chenille» — бархатистая шелковая ткань) — une karrick (от имени прославленного английского актера Дэвида Гаррика, 1717–1779, введшего моду на этот вид верхней одежды). Вернувшись в Англию, это слово превратилось в «carrick». Однако в английских толковых словарях (включая один из самых крупных — оксфордский) в этом значении слово «carrick» отсутствует; его можно найти лишь в словарях костюмов XIX в. и номенклатурах музейных каталогов. Кроме того, в других источниках (например, в одном из лучших энциклопедических словарей «Larousse») указывается, что «carrick» — это верхняя одежда кучеров или редингот (длинный сюртук широкого кроя), слово, происходящее от англ. riding coat — сюртук для верховой еды.
В первом издании (2012) моего перевода романа слово «carrick» было интерпретировано неверно.
(обратно)133
…«симболизирование», «мортидник». — Первое от англ. symbol (символ) — смешение сублимации и символизации, второе от «мортидо» — термин психоанализа, введенный в 1936 г. П. Федерном, одним из учеников Фрейда, и означающий влечение к смерти (по аналогии с либидо — половым влечением).
(обратно)134
«Slaughter in the Sun» — зеркально измененное название английского перевода «Камеры обскура» — «Laughter in the Dark» («Смех во мраке», 1938).
(обратно)135
…приобрести немалый вес, став полным профессором… — В американских университетах существует градация профессорских рангов, от ассистента-профессора до полного профессора (самый высокий ранг); англ. full имеет также (обыгрываемое здесь) значение «дородный». Во второй половине 40-х гг. Набоков, бросив курить, быстро «приобрел немалый вес», что стало предметом его шуток.
(обратно)136
…четверговый семинар по Джойсовому «Улиссу»… — Четверг выбран умышленно, поскольку в «Улиссе» описывается один день из жизни дублинских жителей, а именно четверг, 16 июня 1904 г.
(обратно)137
…щедро оплаченных «Денди и бабочкой», самым радушным журналом в мире… — Имеется в виду американский еженедельник «Нью-Йоркер» (издается с 1925 г.), в котором Набоков в 40–50-х гг. напечатал несколько рассказов. Придуманное Набоковым для него название «Денди и бабочка» обращено к знаменитой первой обложке журнала работы Ри Ирвина, на которой изображен неведомый английский денди в цилиндре, разглядывающий через монокль порхающую бабочку. Стоит заметить, что Набоков действительно получал высокие гонорары в этом «самом радушном журнале в мире», но не все его рассказы принимались. Так, лучший его английский рассказ «Сестры Вэйн» (1951) был отвергнут редактором «Нью-Йоркера» Катериной Вайт и напечатан лишь восемь лет спустя в другом журнале.
(обратно)138
«Княжество у моря» (1962). — Таково было у Набокова в 40-х гг. одно из рабочих названий (по рефрену из «Аннабеллы Ли» Эдгара По) задуманного им короткого романа, ставшего впоследствии знаменитой «Лолитой»; однако здесь указан не год публикации «Лолиты» (1955, американское издание — 1958), а год выхода картины С. Кубрика по «Лолите», за право экранизации которой и авторский сценарий Набоков получил целое состояние.
(обратно)139
Нинель Ильинишна Лэнгли, лицо перемещенное не только в прямом значении слова… — Перемещенное лицо — буквальный перевод англ. «displaced person» (Ди-Пи) — термин, введенный во Вторую мировую войну для людей, вынужденно покинувших место постоянного проживания и оказавшихся на Западе. «Перемещенным» также является ее имя, представляющее собой пробольшевистский палиндром.
(обратно)140
…моралист… и одержимый стенописец… — В оригинале игра слов: «moralist» и «muralist» — т. е. моралист и муралист, художник, пишущий мурали.
(обратно)141
…публичной лекцией «Трактор в советской литературе»… — В 1940-х гг. Набоков как приглашенный профессор с успехом читал в различных американских университетах лекции «Пролетарский роман» и «Советская драма».
(обратно)142
Мадам де Корчаков. — По-видимому, Набоков обыгрывает фамилию древнего княжеского рода Горчаковых, подобно тому, как Л. Н. Толстой в своей автобиографической трилогии вывел княжну Елену Горчакову (кстати заметить, педагога) под именем Корнаковой.
(обратно)143
Парадиз — персидское слово. — Греческое слово paradeisos (парк, райский сад) происходит из иранского источника и первоначально означало сад или охотничьи угодья в Персии.
(обратно)144
«…написал „Смарагд и пандору“». — В оригинале Долли вместо «Esmeralda and Her Parandrus» («Эсмеральда и ее парандр») говорит «Emerald and the Pander» — букв. «Смарагд и сводник». Игра со значением слова «смарагд» (изумруд) строится на том, что имя цыганской танцовщицы Эсмеральды из «Собора Парижской Богоматери» происходит от исп. «изумруд». Однако здесь важно возобновление зловещего мотива в названии парижского ресторана «Paon d’Оr» в первой части романа, который, как не случайно указано, американцы называли «Пандер» или «Пандора».
(обратно)145
«Синие тетради». — Так в американских университетах называются тетради для записи ответов на экзаменационные вопросы.
(обратно)146
…читала «Красную ниву», советский журнал. — Литературно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал (Москва, 1923–1931). Набоков дает в романе это название по-русски (латиницей), но переводит его (в скобках) намеренно неверно как «Red Corn» — «Красное зерно», с намеком на другие значения слова corn — мозоль, банальность (здесь же стоит отметить отсылку к прототипу Квирна — Корнельскому — Cornell — университету, в котором Набоков преподавал многие годы).
(обратно)147
«Думберт Думберт, Думбертон». — Название этого вымышленного города (призванное напомнить имя героя «Лолиты») созвучно с шотландским Думбартоном и поместьем Думбартон-Окс в Джорджтауне.
(обратно)148
…где меня положили между двух стариков, умиравших от воспаления мозга. — В этой сцене отразились впечатления Набокова от госпитализации в 1944 г., когда его с острым колитом поместили в палату «с ужасно и хрипло умиравшим стариком», как он писал к жене 9 июня 1944 г. В том же письме Набоков красочно описал свое бегство из госпиталя: «К концу моего пребывания я был в таком состоянии раздражения, что когда в субботу утром увидел из галереи (куда вышел покурить) приехавшую за мной Т. Н., то выскочил через fire-escape как был — в пижаме и халате, ринулся в автомобиль — и мы уже двинулись, когда выбежали совершенно бешеные сестры — но им не удалось меня задержать».
(обратно)149
…в своего рода преждевременном «научном отпуске»… — что обычно предоставляется в американских университетах каждый седьмой год.
(обратно)150
…«Белларгус», небесно-голубого цвета, который Белла сравнила с окрасом «морфиды». — Название этого вымышленного автомобиля позаимствовано у Polyommatus bellargus (голубянка прекрасная) — дневной бабочки из семейства голубянок (знатоком которых был Набоков) и, кроме того, призвано напомнить о великане Аргусе, многоочитом страже в греческой мифологии, что соотносится с названием первого автомобиля героя — «Икаром».
(обратно)151
…(«Mes Moteaux», как сказал бы Верлен!)… — Подразумеваются книги воспоминаний Поля Верлена «Mes Hôpitaux» («Мои госпитали», 1891) и «Mes prisons» («Мои тюрьмы», 1893).
(обратно)152
…«Двор пернатого змея» в Нью-Мексико… — Намек на роман Дэвида Герберта Лоуренса «Пернатый змей» (1926), написанный им на ранчо под Таосом в штате Нью-Мексико.
(обратно)153
Планка, планка арлекина! — В оригинале Набоков использует акроним названия романа — LATH (планка, рейка). Какое отношение планка имеет к арлекину, позволяет прояснить следующее место в заметке Исаака Дизраэли «Персонажи пантомимы» из его знаменитых «Литературных курьезов» (1791–1793; 1823), перевожу: «Д-р Кларк обнаружил легкий меч-планку [light lath sword] Арлекина, что доныне оставался загадкой в моих самых усердных изысканиях, среди темных мистерий древней мифологии! С равным изумлением и любопытством мы узнаём, что современная пантомима берет свое начало из языческих мистерий, что Арлекин — это Меркурий с его коротким мечом… или жезлом „кадуцеем“, позволявшим ему становиться невидимым и перемещаться из одного места на земле в другое». Этот золоченый деревянный меч был, по-видимому, также прообразом волшебной палочки, не случайно упомянутой в романе.
(обратно)154
…Ольдену Ландоверу, величайшему американскому беллетристу середины XX века. — Ольден (Alden) Ландовер, кроме уже упоминавшегося Алана Андовертона, недвусмысленно указывает на Уистена Одена — Auden, — с которым Набоков был знаком в Америке и которого ставил невысоко. Кроме того, в имени и фамилии этого закулисного персонажа кроется анаграмма имени Алданова, наст. фамилия Ландау (стихов не писавшего), с которым Набокова связывала многолетняя дружба и который также перебрался перед войной в Америку. Марк Алданов считался одним из самых плодовитых и популярных романистов в эмиграции.
(обратно)155
Мембрана Брунна — прозрачная эпителиальная пластина обонятельной области носа, названная по имени Альберта Брунна (1845–1895), немецкого анатома и гистолога.
(обратно)156
(…Вальдемар Экскюль, блестящий молодой остзеец… dixi, Экс!) — Его имя (Exkul) может быть прочитано как [прибывший] из холода (лат. предлог ex — «из», «от», «с», но также и «бывший» и англ. cool — прохлада). Как замечали исследователи, имя этого таинственного персонажа напоминает об эстляндском баронском роде фон Икскулей (Икскюль, Юкскюль), среди представителей которого можно найти по крайней мере двух авторов и ученых с именем Вальдемар фон Икскюль. Лат. dixi — «я сказал», т. е. высказал свое мнение.
(обратно)157
…как моя Ольга Репнина говорит… «…why your horseband wears such not modern costumes». — Это искаженное неверным произношением и выбором слов предложение можно передать так: «Я не знаю, отчего ваша банда наездников (вместо husband — муж) носит такие несовременные платья (вместо suits — костюмы)». Слово «costume» используется в современном английском в значении театральный, исторический костюм. В романе Набокова «Пнин» Лиза Боголепова, его бывшая жена, замечает Пнину, что его «коричневый костюм никуда не годится».
(обратно)158
…с несколько обезьяньим лицом человек, черную гриву волос которого к пятидесяти пяти годам… пленительно-талантливый поэт Одас… — В этом персонаже Набоков вывел своего друга, поэта и пушкиниста Владислава Ходасевича (умершего в Париже в 1939 г. в возрасте пятидесяти трех лет): его фамилия Audace (что по-французски значит «отвага», «дерзость») произносится как «Одас» — средняя часть фамилии Ходасевича; в его облике отражено и внешнее сходство с Ходасевичем: помимо прямого сравнения Набоковым в письме к жене (в 1932 г.) лица Ходасевича с обезьяньей мордочкой и подразумеваемого соотнесения с Пушкиным («Кажется, Грибоедов первый назвал его мартышкой», — писал Ходасевич в книге «О Пушкине»), здесь кроется намек на известное стихотворение Ходасевича «Обезьяна» (1919), которое Набоков высоко ценил и перевел на английский в 1941 г.
(обратно)159
Литературная известность Джеральда Адамсона <…> женившись на… красавице… — В этом персонаже Набоков воссоздал утрированный (пристрастие к спиртному, корпулентность, завистливость) образ своего американского покровителя (до выхода «Лолиты») и друга (до известной размолвки в 1964 г.), критика и писателя Эдмунда Вильсона, четвертой женой которого стала принадлежавшая к аристократическому роду фон Шварценштайнов и имевшая русские корни Елена Мумм. В то же время «Джерри Адамсон» представляет собой английский эквивалент Георгия — Жоржа — Адамовича. Вильсон и Адамович умерли в один год — 1972-й, незадолго до начала работы Набокова над «Арлекинами».
(обратно)160
«Laic Litanies» — «Мирские молитвы» (фр.) — намек на стихотворение Бодлера «Les Litanies de Satan» («Молитвы сатане», 1857) из «Цветов зла».
(обратно)161
Solus rex — одинокий король (лат.) — понятие в шахматной композиции и название неоконченного романа Набокова, над которым он работал в самом конце 30-х гг. до переезда в Америку.
(обратно)162
Клингзор. — Целый ряд аллюзий: Клингзор — злой волшебник в «Парсифале»; рассказ Германа Гессе «Последнее лето Клингзора» (1919) о последних месяцах жизни сорокадвухлетнего художника; Тристан Клингзор — псевдоним французского поэта Леона Леклера (1874–1966), сочетающий имена героев Вагнера.
(обратно)163
…картины Левитана «Облака над синей рекой» (то есть Волгой, недалеко от моего Марево), написанной около 1890 года. — Имеется в виду «Вечер на Волге» (1887–1888) Левитана.
(обратно)164
Сиринацин — распространенное успокоительное средство «serenace», русифицированное и соотнесенное с русским псевдонимом Набокова.
(обратно)165
«Страшный Омарус К.» — помимо очевидных русскоязычных ассоциаций, в оригинале (Omarus K.) обыгрываются англ. amorous (любовный, влюбленный) и лат. amarus (горький).
(обратно)166
…Кольридж! „Золотые змейки моря“. — Имеются в виду стихи из четвертой части «Поэмы о старом мореходе» (1799): «Beyond the shadow of the ship, / I watched the water snakes…> They coiled and swam; and every track / Was a flash of golden fire» («Где тень кончалась корабля, / Я видел змей морских ‹…› Свивались и неслись они, / И всплеском пламени златым / Был всякий их извив»).
(обратно)167
„Моя последняя герцогиня“ — загадочное стихотворение (1842) Браунинга, состоящее из 28 рифмованных двустиший ямбического пентаметра — размер, использованный Набоковым в поэме «Бледный огонь».
(обратно)168
„Черная вдова“. В ролях: Джин, Джинджер и Джордж. — Набоков сообщает точные сведения о нуаре 1954 г. режиссера Н. Джонсон. В ролях: Ван Хефлин, Джинджер Роджерс, Джин Тирни и Джордж Рафт. Любопытно, что в этой банальной «криминальной драме» жену героя зовут Айрис.
(обратно)169
Гудминтон. — Помимо невинной игры слов с «бадминтоном» (англ. badminton, что можно прочитать, как «плохой минтон», тогда как у Набокова goodminton — «хороший минтон»), в этом названии вымышленного издательства Набоков передает дружеский привет главе американского издательства «Путнам» Волтеру Дж. Минтону, выпустившему, несмотря на угрозу судебного запрета, первое американское издание «Лолиты» в 1958 г.
(обратно)170
«Сирень с пятью лепестками». — Здесь совмещено несколько работ Серова: «Открытое окно. Сирень», 1886, «Сирень в вазе», 1887, «Девочка с персиками», 1887. Цветок сирени обычно имеет венчик из четырех лепестков. Существует интернациональное поверье, что тому, кто найдет цветок сирени с пятью лепестками, выпадет счастье.
(обратно)171
…Адди Александер, «первой женщине, поднявшейся на Пик восемьдесят лет тому назад». — Примечательно, что из трех женщин, взошедших в 1873 г. на один из самых высоких пиков Скалистых гор (4346 метров над ур. м.), помимо Адди Александер и Анны Дикинсон, была Изабелла Бёрд (1831–1904), англичанка, написавшая детальный отчет о своем восхождении в книге «Жизнь леди в Скалистых горах» (1879). Таким образом, из трех англичанок-альпинисток одна носит имя второй жены, а другая — дочери рассказчика.
(обратно)172
Хвостатого Павлина озерцо… — В оригинале стихотворения (нерифмованном) в первой строке игра слов: Long’s Peacock (длиннохвостый павлин) и название вершины Скалистых гор — Longs Peak (Лонг-Пик).
(обратно)173
…и да истлеет Хамлет Годман с миром. — У Набокова написано «rot in peace», что обыгрывает выражение «rest in peace» — да упокоится с миром.
(обратно)174
Суфражистки. — Английские и американские суфражистки (от англ. suffrage — избирательное право) начиная с конца XIX в. боролись за равноправие женщин при голосовании. Они добились этого в США в 1920 г., в Великобритании — в 1928 г.
(обратно)175
…знакомством с «Прустом и Прево». — Упоминание вместе этих двух французских писателей не случайно: здесь намечается у Набокова тема бегства. Роман аббата Прево «Манон Леско» (1731) повествует о прекрасной девушке, которую родители решили отправить в монастырь, но которую юный кавалер де Гриё уговаривает бежать с ним. В «Пленнице» (1923) и «Беглянке» (1927), пятой и шестой частях романа «В поисках утраченного времени», возлюбленная героя Альбертина тайно покидает его.
(обратно)176
«Эльмаго» — от исп. El Mago — волшебник (намек на повесть Набокова, ставшую первым эскизом «Лолиты»).
(обратно)177
…в номере «Ремесленника»… — Название этого вымышленного журнала («Artisan») отсылает к американскому литературно-политическому ежеквартальному журналу Бостонского университета «Partisan Review» (1934–2003), в котором Набоков напечатал несколько своих произведений.
(обратно)178
…приветствовал меня своего рода романской акколадой… — Accolade — от фр. «объятие» — церемония посвящения в рыцари или принятия в рыцарский орден. После принятия посвящения гроссмейстер ордена или человек, совершавший посвящение, торжественно обнимал принимаемого, возлагая ему руки на шею (ad collum).
(обратно)179
«Светский календарь», «Кто есть кто». — Первое издание — ежегодно выпускаемый в США справочник знатных особ. Второе — широко известное на Западе собрание очерков об известных людях (впервые вышло в Англии в 1849 г. и было посвящено королевской семье и высшему дворянству).
(обратно)180
…Фебовый ужас… — Имеется в виду божество солнца Гелиос (одно из имен которого — Феб, лучезарный): находясь высоко в небе, Гелиос видит дела богов и людей, чаще всего дурные. Он изображался в ослепительном сиянии, с горящими страшными глазами.
(обратно)181
…мистером Твивдовым — имя, несущее определенный скрытый смысл… — Богатый английский неологизм «twidower» можно разложить на следующие основные значимые составляющие: tweed («твид», и все вместе звучит как «твидовый» в быстром произношении), разговорное «twee» («изящный», «элегантный»), widower («вдовец») и twice widower («дважды вдовец»), dower («дар») и, наконец, twice dowered («дважды одаренный» — что намекает на вклад героя и автора равно в русскую и английскую литературу).
(обратно)182
…до „Винной лавки Рехта“… — Нем. Recht означает «право», «закон», а также «правый» (в противоположность левому).
(обратно)183
…Доломитовых Долли… — Рассказчик не случайно называет девиц в тирольских платьях «доломитовыми»: в Доломитовых Альпах (названных именем французского геолога XVIII в. маркиза Деода де Доломьё) находится Южный Тироль.
(обратно)184
«Мир женщины». — Имеется в виду британский модный журнал «Woman’s Own» (издается с 1932 г.).
(обратно)185
Лакросс — от фр. «клюшка»; командная игра, в которой нужно поразить ворота соперника, ударяя по резиновому мячу снарядом, представляющим собой нечто среднее между рампеткой и теннисной ракеткой.
(обратно)186
Чарлз Доджсон. — Настоящее имя Льюиса Кэрролла, холостяка, питавшего влечение к отроковицам (новейшими исследователями утверждается, что его влечение было платоническим).
(обратно)187
«Геката». — Набоков вновь придумывает марку автомобиля, используя мифологически-значимое название (как было с «Икаром» и «Белларгусом»), имея в виду, что это божество лунного света, мрака и преисподней, освещавшее себе путь двумя факелами, представляли порхающим с душами умерших на перекрестках дорог.
(обратно)188
…Самую Престижную Премию… я непременно должен был получить в этом году. — Набоков не раз выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. Из документов недавно обнародованного архива Шведской академии следует, что в 1963 г. против кандидатуры Набокова выступил ее постоянный член А. Эстерлинг, который вынес свой вердикт: «Автор аморального и успешного романа „Лолита“ ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве кандидата на премию». После выхода самого крупного английского романа Набокова «Ада» в 1969 г. «Нью-Йорк таймс» писала, что «если он не получит Нобелевскую премию, то только потому, что она его недостойна». Лауреатом в 1970 г. стал А. И. Солженицын, который два года спустя обратился в Шведскую академию, выдвинув на соискание премии Набокова и вновь тщетно.
(обратно)189
…Лариве, между Хексом и Трексом… — Название первого вымышленного города образовано от фр. la rive — на берегу; второе произведено от англ. hex — ведьма, а третье — от лат. rex — король и англ. trek — горный поход, путешествие.
(обратно)190
Когда мне стукнет шестьдесят… — Эти стихи (в оригинале не рифмованные) представляют собой перепев начала оды Вордсворта «Знаки бессмертия в воспоминаниях раннего детства» (1803–1806): «Когда-то роща, луг, ручей, / Поля и всякий вид обычный / Казались мне облечены / Сиянием, красой и свежестью мечты. / Теперь не то, что раньше, — / Куда я ни взгляну, ни днем ни ночью, / Того, что видел я, не вижу больше» (пер. мой). Этот же источник, по-видимому, использован в следующем месте поэмы «Бледный огонь» (где на Вордсворта указывают и упомянутые следом имена собственные — Гольдсворт и Вордсмит): «Я не пойму, почему прежде с озера / Я мог различить наше крыльцо, идя / Озерной дорогой в школу, а нынче, хотя ни единое дерево / Не застит вида, я всматриваюсь и не разгляжу / Даже крыши» (пер. Веры Набоковой).
(обратно)191
Шато «Винедор» — от фр. vigne d’or — золотой виноград, что связывает его с другими роковыми «золотыми» названиями в романе.
(обратно)192
…как Каин, пожертвовал цветами моих летних месяцев и, как Авель, — овцами кампуса. — Чтобы понять эти сравнения, следует знать, что Авель был скотоводом, а Каин земледельцем; Авель принес в жертву Богу первородные головы своего стада, а Каин — плоды земли. Словом же campus (от лат. «поле») в Америке называют колледж или университет и их территорию.
(обратно)193
Аллан Гарден (по имени которого следовало бы назвать сорт жасминовидной гардении — столь внушительно… глядел этот цветок у него из петлицы)… сочетался узами брака с совсем еще молоденькой Вирджинией… — Гардения (род тропических растений семейства мареновых) названа в честь американского натуралиста Александра Гардена (1730–1791). Имя персонажа представляет собой анаграмму имени Эдгара Аллана По, женившегося на Вирджинии Клемм, своей двоюродной сестре, когда ей было 13 лет. Из дальнейшего описания сюжета «Княжества у моря» следует, что он представляет собой счастливый вариант трагической истории отношений По и Вирджинии, с одной стороны, и героев «Лолиты», с другой. Любопытно, что в имени этого персонажа содержится автобиографическая черта: Б. Бойд в биографии Набокова сообщает, что маленький сын Эдмунда Вильсона не мог выговорить имя Набокова и вместо этого говорил «гардения» (англ. gardenia созвучно «Владимиру»). Набокову нравилось это прозвище, Вильсон же провозгласил: «Ты гардения в петлице русской литературы!»
(обратно)194
«Гаттинара» — красное сухое вино из Пьемонта.
(обратно)195
Кирш — вишневая водка.
(обратно)196
Эту предпоследнюю часть «Арлекинов»… — Это противоречивое указание (поскольку в романе семь частей и предпоследней, стало быть, является шестая), на наш взгляд, следует понимать в том ключе, что собственно мемуарные записки завершаются в шестой части (седьмая же стала своего рода эпилогом).
(обратно)197
Petit Larousse — Petit Larousse Illustré — т. е. «Малый Ларусс» — французский энциклопедический словарь, выпущенный в 1905 г. (издательством Пьера Ларусса) в одном томе и содержавший 5800 иллюстраций.
(обратно)198
Лалага — от греч. «болтать, лепетать» — литературное прозвище, которое Гораций в своих «Одах» употреблял вместо настоящего имени своей возлюбленной.
(обратно)199
…clystère de Tchékhov… — Т. е. чеховским клистиром (фр.). Намек на врачебную практику Чехова, в письмах которого не раз упоминаются применявшиеся им для лечения клистиры.
(обратно)200
БИНТ — акроним British intelligence service (по первой букве первого слова и трем буквам второго слова). Кроме того, bint в разговорном английском означает «девушка» (от араб. «дочь»).
(обратно)201
Генерал Гурко — Василий Иосифович Гурко (1864–1937) — русский генерал, автор мемуарных книг и дальний родственник Набокова.
(обратно)202
Эфеб — в древнегреческом обществе юноша, достигший возраста, когда он обретал права гражданина, становясь членом эфебии — общности молодых людей — граждан полиса.
(обратно)203
…Россия… выступила на олимпийском футбольном турнире в 1912 году… проиграла Германии со счетом 0:12. — В действительности сборная Российской империи в том матче проиграла Германии со счетом 0:16.
(обратно)204
«L’Humanité» — газета французской компартии — одна из немногих западных газет, которую можно было купить в СССР.
(обратно)205
…в кинофильме «Война и мир». — Картина Сергея Бондарчука, первая часть которой вышла на экраны незадолго до описываемых событий, в 1966 году.
(обратно)206
«Кровавая Марсия» — коктейль из ассоциаций и аллюзий: «Кровавая Мэри» (водка с томатным соком), предположительно названная по прозвищу Марии I Тюдор, чье имя связано с кровавыми расправами над протестантами, с заменой имени на «Маршу» (Marsha), от лат. Марсия (от бога войны Марса), созвучную русской Маше (эквивалент англ. Mary), но с прицелом на «Битву на Кровавом болоте» («The Battle of the Bloody Marsh», 1742) между британскими и испанскими войсками за Джоржию, и — попутно — название первого романа Набокова (1926), английский перевод которого («Mary») вышел только в 1970 году.
(обратно)207
…мисс Сиренефф (ее почти невероятное имя)… — В оригинале «miss Havemayer», что с учетом стойкого мотива сирени в романе, а также облика этой дамы («с розовыми и лиловыми морщинами»), указывает на сорт сирени обыкновенной «Катерина Хавемейер» (Syringa vulgaris „Katherine Havemeyer“, выведен 1922), названной по имени жены Т. Хавемейера-младшего.
(обратно)208
…я тройной агент… — Это замечание (как и рассуждение повествователя о фальшивом паспорте и настоящем своем имени) относится скорее к писательской судьбе автора, сочинявшего на трех языках и в разное время подписывавшего свои произведения несколькими псевдонимами (среди которых Владимир Сирин, Василий Шишков, Vivian Darkbloom).
(обратно)209
…юной актрисочки, сыгравшей мою Вирджинию в недавней картине, превозносило скорее хорошенькую Лолу Слоан и ее карамельный леденец на палочке… — Пошлая рекламная афиша неудачной картины Кубрика «Лолита» (1962) со Сью Лайон, сосущей красный леденец. Отношение Набокова к этой картине на протяжении 60–70-х гг. менялось от сдержанно положительного до резко отрицательного (см. нашу статью: Подробности картины / Владимир Набоков. Лолита. Сценарий. СПб.: Азбука, 2010. С. 5–24).
(обратно)210
…молодого поэта, Олега Орлова, моего парижского знакомого двадцатых годов. — Этот персонаж указывает на эмигрантского писателя Александра Дроздова (1895–1963), берлинского знакомого Набокова, вместе с которым он входил в литературно-художественное содружество «Веретено». В 1922 г. Дроздов начал печататься в просоветской газете «Накануне», презрительно отзываясь об эмигрантах, а в 1923 г. опубликовал оскорбительный фельетон о «баловне литературной эмиграции» Набокове. Набоков потребовал сатисфакции, но Дроздов уклонился и отбыл на жительство в Москву. Таким образом, «боковой „свинг“», который Вадим Вадимыч наносит Орлову, — восполнение в литературном плане той пощечины, которой Набоков не имел возможности дать Дроздову за полвека перед тем в Берлине.
Советская литературная деятельность Дроздова, вопреки его ожиданиям, не задалась. Ходасевич писал о нем так: «Лет пять тому назад на нее [на русскую почву] переселились два молодых эмигрантских беллетриста: Глеб Алексеев и Дроздов. И что же? Много ли пользы принесло им переселение? Даже среди советской литературы не заняли они хоть сколько-нибудь заметного места» («Очередная тема», 1927).
(обратно)211
…трудовой лагерь в Вадиме… — Возможно, намек на город Надым, находящийся на Крайнем Севере России.
(обратно)212
Озимая совка — не птица, а бабочка из семейства совок; ее гусеницы являются опасными вредителями сельскохозяйственных культур.
(обратно)213
Хотел бы я получить несколько снимков… Беллы? Беллы, кормящей бурундука? Беллы на школьном балу? — Реминисценция из сценария «Лолиты»: «[Детектив] отдает Гумберту несколько карточек… Лолита… на школьном балу… кормит бурундука» (акт III).
(обратно)214
Девочка-либеллула — от лат. libellula — «стрекоза».
(обратно)215
…мой метод в конце концов avait du bon — какие бы чудовищные обвинения ни предъявлялись им… — Подразумевается скрупулезный комментированный перевод «Евгения Онегина», подготовленный Набоковым в 1963 г. и переработанный с еще большей педантичностью в 1969 г. (вот почему герой говорит, что те фотокопии «более недействительны») и получивший в целом отрицательный прием у критиков и вызвавший острую полемику между Набоковым и его другом Эдмундом Вильсоном.
(обратно)216
…Гандино, или Гандоры, или как там назывался этот городок… — Подразумевается Гардоне-Ривьера в Ломбардии, где Набоковы останавливались в «Гранд-отеле» в мае 1965 г.
(обратно)217
Лекошан. — Ирония этого названия в том, что фр. couchant, от которого Набоков образовал название госпиталя, означает «запад», «закат», а в геральдике — изображение животного в лежачем положении (a lion couchant — лежащий лев).
(обратно)218
Доктор Генфер. — Его имя намекает на фр. enfer — преисподняя, и — косвенно — на Харона (le nautonier des enfers).
(обратно)219
Ученый мавр… указкой из слоновой кости… — В оригинале ivory — слоновая кость, и Moor — мавр, указывают на «говорящую» фамилию Айвора Блэка.
(обратно)220
…как на «Уроке анатомии» кисти старого мастера. — Имеется в виду популярный в XVII в. у голландских живописцев сюжет «анатомических уроков» («Урок анатомии доктора Тульпа» Рембрандта, «Урок анатомии доктора Виллема Рюеля» Троста и др.).
(обратно)221
«The Graphic» — британская иллюстрированная еженедельная газета (название которой можно перевести как «наглядность»), учрежденная в 1869 г. и выходившая до 1932 г.
(обратно)222
Сильвиев акведук — канал, соединяющий в мозгу позвоночных полость третьего желудочка с четвертым и представляющий собой участок центрального мозгового канала.
(обратно)223
Подпалпебральные — т. е. скрытые за веками глаз (от лат. palpebra — веко).
(обратно)224
В лето Господне 1798-е слыхали, как Гаврила Петрович Каменев… посмеивался, сочиняя свою… подделку «Слово о полку Игореве». — Этот видный поэт (1773–1803) круга предромантиков не выдвигался в кандидаты на авторство «Слова» (среди исследователей, полагающих, что этот текст является подделкой), однако Андре Мазон, например, схожим образом приписывал сочинение «Слова» Н. Н. Бантышу-Каменскому. Набоков перевел «Слово» на английский язык и составил к нему подробные примечания в 1953 г. Любопытно, что со «Словом» довольно неожиданно связан шпионский мотив романа (история с БИНТом): взявшись за его перевод и комментарий в соавторстве с Романом Якобсоном, Набоков вынужден был отказаться от совместной работы с ним, узнав, что Якобсон совершает поездки в СССР. Считая, что Якобсон мог быть советским агентом, Набоков в то же время свел знакомство с агентом ФБР в Корнельском университете (см. также письмо Веры Набоковой к Стивену Паркеру, перевод отрывка которого помещен в Приложении к настоящему изданию).
(обратно)225
Где-то в Абиссинии пьяный Рембо читал… русскому путешественнику… «Le Tramway ivre» («…En blouse rouge, à face en pis de vache, le bourreau me trancha la tête aussi…»). — Здесь совмещены названия двух стихотворений — «Le Bateau ivre» («Пьяный корабль», 1871) Рембо, которое Набоков перевел в 1928 г., и «Заблудившийся трамвай» (1919) Гумилева, перевод двух строк из которого на французский Набоков и приводит. Эти строки, надо полагать, поразили Набокова как свидетельство провидческой силы поэта: Гумилев был казнен большевиками вскоре после сочинения стихотворения, в 1921 г. Упоминание Абиссинии связывает двух поэтов: Рембо перебрался в Абиссинию в 1880-м и прожил там до 1891 г., а Гумилев совершил свою первую поездку в эту страну в 1908 г.
Незадолго до начала работы над «Арлекинами» Набоков сочинил короткое стихотворение о Гумилеве: «Как любил я стихи Гумилева! / Перечитывать их не могу, / но следы, например, вот такого / перебора остались в мозгу: / „…И умру я не в летней беседке / от обжорства и от жары, / а с небесною бабочкой в сетке / на вершине дикой горы“» (22 июля 1972). Мистифицируя читателя (строки в кавычках лишь имитируют известное стихотворение Гумилева «Я и Вы», 1917), Набоков, однако, не мог предположить, что это его полушутливое стихотворение окажется пророческим: три года спустя, в июле 1975 г., Набоков, охотясь в горах на бабочек, сорвался со склона и упал. Он не получил серьезных травм, хотя и провел после этого падения несколько дней в постели, но здоровье его пошатнулось, одно обследование сменяло другое и в июле 1977 года писателя не стало.
(обратно)


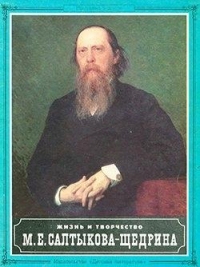

Комментарии к книге «Взгляни на арлекинов!», Владимир Владимирович Набоков
Всего 0 комментариев