Соловьёв Владимир, Елена Клепикова
Довлатов вверх ногами
НЕ ТОЛЬКО ДОВЛАТОВ
разговор соавторов
В чем повезло - мы были близко знакомы с Бродским и Довлатовым.
Бродский преподнес нам на совместный день рождения (мы родились с разницей в пять дней, а потому устраивали один на двоих) посвященный нам стишок - как он говорил, стихотворное подношение ("Позвольте, Клепикова Лена, пред вами преклонить колена. Позвольте преклонить их снова, пред вами, Соловьев и Вова..."), а Довлатов опубликовал про нас в своем "Новом американце"1 защитную от нападок разной окололитературной тусовки статью. Мы были двойными земляками - по Питеру и по Нью-Йорку. В Питере у нас были довольно тесные отношения с Осей - вплоть до его отъезда, а с Сережей скорее приятельские. Хотя именно Владимир Соловьев делал вступительное слово на единственном творческом вечере Довлатова в России - было это в ленинградском Доме писателей им. Маяковского на ул. Воинова. В среду 13 декабря 67-го. А Елена Клепикова пробивала его рассказы в печать, работая редактором отдела прозы журнала "Аврора", - увы, из этого ничего не вышло, и архивариус своей литературной судьбы, Довлатов запротоколировал эту печально-смешную историю в повести "Ремесло", где приводит письмо Клепиковой из редакции как свидетельство советско-кафкианского абсурда. Бродский вспоминает о встречах с Довлатовым в "помещениях тех немногих журналов, куда нас пускали". Уточним: в Ленинграде было тогда три литературных журнала, и "Аврора" была единственным, где у Бродского было три поклонника - помимо Елены Клепиковой, ответственный секретарь Саша Шарымов и машинистка Ирена.
В Нью-Йорке произошла рокировочка. Бродский, когда мы прибыли, пятью годами позже него, нас приветил, обласкал, подарил свои книжки, дружески пообщался со старым своим по Питеру знакомцем рыжим котом Вилли и повел нас с сыном в ресторан. Однако отношения, несмотря на следующие встречи, как-то не сложились. Точнее, не восстановились - питерские, в прежнем объёме.
Что тому виной?
Точнее, кто?
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. Mea culpa. Частично. Придет время, расскажу, но не сейчас и не здесь - эта книжка про Довлатова, а не про Бродского, хоть он и мелькнет в ней не раз, но, скорее, на обочине сюжета, на полях рукописи, побочным персонажем, несмотря что нобелевец: по касательной к Довлатову. С Сережей - наоборот: после пары лет случайных встреч в Куинсе вспыхнула дружба с ежевечерним - ввиду топографической близости - общением и длилась до самой его смерти. Дружба продолжается - с Леной Довлатовой.
ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Плюс Таллин, куда я приехала от "Авроры", а Сережа туда временно эмигрировал - перед тем, как эмигрировать окончательно и бесповоротно в Америку. Именно Таллин, на который он возлагал столько надежд, сломил его окончательно. Там у него начался тот грандиозный запой, который, с перерывами, длился до самой смерти.
СОЛОВЬЕВ. Образно выражаясь - да. С другой стороны, именно в этот срок - между фиаско в Таллине и смертью в Нью-Йорке - и состоялся Сергей Довлатов как писатель. А уже отсюда его посмертный триумф.
КЛЕПИКОВА. Мы пропустили и его смерть, и его похороны. Помнишь, он зашел к нам за экземпляром твоего "Романа с эпиграфами"?1 А на другой день мы отъехали с палатками в Канаду. На обратном пути, из Мэна, отправили ему открытку с днем рождения. А поздравлять уже было некого. Мы вернулись в огнедышащий Нью-Йорк из прохладного Квебека, ни о чем не подозревая. Вот тут и начался этот жуткий макабр. Точнее, продолжился. Как у Марии Петровых - "Я получала письма из-за гроба".
СОЛОВЬЕВ. С той разницей, что в нашем случае почта в оба конца: мы поздравляем с днем рождения мертвеца, мертвец присылает отзывы о "Романе с эпиграфами". Последняя книга, которую он прочел. Сережа принимал опосредованное участие в её издании - дал дельный совет нью-йоркской издательнице Ларисе Шенкер по дизайну обложки, хотя с текстом книги знаком ещё не был. И увидел сигнальный экземпляр "Романа с эпиграфами" раньше его автора - когда явился в издательство "WORD", а там как раз готовились к изданию его "Записные книжки" и "Филиал". Позвонил и сказал, что меня ждет сильное разочарование, а в чем дело - ни в какую. На следующий день я помчался в издательство - и действительно: в корейской типографии (самая дешевая) почему-то решили, что "Роман с эпиграфами" вдвое толще, и сделали соответствующий корешок. В итоге - на корешке крупно название книги, а имя автора на сгибе. Сережа меня утешал: книга важнее автора. В этом случае так и оказалось. А до двух своих книжек не дожил - вышли посмертно.
Уже после смерти Сережи стали доходить его отзывы о "Романе с эпиграфами". Сначала от издательницы - что "Роман с эпиграфами" Сережа прочел залпом. Потом от его вдовы: "К сожалению, всё правда", - сказал Сережа, дочитав роман. Я бы тоже предпочел, чтобы в Лениграде всё сложилось совсем, совсем иначе.
КЛЕПИКОВА. Но тогда бы и никакого "Романа с эпиграфами" не было.
СОЛОВЬЕВ. И никто бы не уехал из России: ни Довлатов, ни Бродский, ни мы с тобой.
КЛЕПИКОВА. И вот ты нажал не ту кнопку автоответчика, и мы услышали яркий, дивно живой голос мертвого Сережи. И потом ещё долго, когда возвращались вечером с Лонг-Айленда, мне мерещилась на наших улицах его фигура - так примелькался здесь, слился с куинсовским пейзажем.
СОЛОВЬЕВ. Я так и назвал свой мемуар: "Довлатов на автоответчике", превратив реальный случай в литературный прием.
КЛЕПИКОВА. А я свой - "Трижды начинающий писатель". Вот и получается складень.
СОЛОВЬЕВ. Но ещё не книжка.
КЛЕПИКОВА. Плюс твоя повесть "Призрак, кусающий себе локти". Здорово тебя за неё обложили - что ты под Сашей Баламутом Довлатова протащил. Дело прошлое, но я отчасти понимаю твоих критиков. Есть у тебя такая черта тащить в прозу всё как есть. Сырьем. В результате - литературный полуфабрикат. В том и задача писателя, чтобы сделать реальность неузнаваемой, зашифровать её. Чтобы для читателя было тайной, кто прототип твоего героя.
СОЛОВЬЕВ. Так не один же к одному. Из друзей перевел в приятели. Яшу, его небольшую и безобидную таксу, превратил в громадину кота разбойничьего нрава. В повести я помогаю герою овладеть азами автовождения, в жизни наоборот. В "Призраке, кусающем себе локти" я хотел сказать то, о чем умолчал в "Довлатове на автоответчике".
КЛЕПИКОВА. Ты знаешь, о чем я говорю.
СОЛОВЬЕВ. В том и пикантность, что тайна должна быть отгадываемой или казаться таковой. Не только документ превращается в анекдот, но и анекдот притворяется документом. Согласен: писатель зашифровывает реальность. А читатель дешифрует литературу. Иногда - неверно. Живые герои бунтуют против автора. Левитан рассорился с Чеховым после "Попрыгуньи", герцог д'Альбуфера - с Прустом, узнав себя в Сен-Лу, Тургенев никогда не простил Достоевскому Кармазинова, а Марк Поповский все ещё мстит Довлатову за то, что тот изобразил похожего на него резонёра. Марк так и написал: Довлатов родоначальник пасквилянтского жанра, а Соловьев - его последователь. В том смысле, что отыгрались кошке мышкины слезы: Соловьев поступил с Довлатовым тем же манером, что Довлатов со всеми нами. Сам Довлатов называл свой литературный метод псевдодокументализмом. А что прикажешь делать? "Налево беру и направо..." Окрестная реальность - кормовая база писателя. Та же история у меня повторилась с другой повестью - сборник моей прозы и эссеистики.
КЛЕПИКОВА. Так кто есть кто в "Сердцах четырех"?
СОЛОВЬЕВ. В описанном литературном квартете отгадывали Войновича, Искандера, Чухонцева и Камила Икрамова.
КЛЕПИКОВА. А как на самом деле?
СОЛОВЬЕВ. Человек не равен самому себе - привет Льву Николаевичу. Тем более литературный герой - своему прототипу.
КЛЕПИКОВА. Ты иногда путаешь жанры: документальную прозу с беллетристикой. Да и "Роман с эпиграфами" - никакой не роман, а в чистом виде документ, пусть в художественной форме, ценный как раз эвристически что ты написал его в России, по свежим следам, а не спустя многие годы, перевирая сознательно или по беспамятству. Как и твой рассказ "Умирающий голос моей мамы...", на который тоже набросились, а ты стал отмежевываться - это, мол, художественный образ. Но я-то знаю помимо прозы - и про твою маму, и про конфликт Бродский-Кушнер, тем более про Довлатова. И для Сережи "Роман с эпиграфами" - это документ. Отсюда его вывод: "К сожалению, всё правда".
СОЛОВЬЕВ. Неизвестно, где проходит эта невидимая граница. Где кончается документ и начинается художество? Тынянов: "Не верьте, дойдите до границы документа, продырявьте его. Там, где кончается документ, там я начинаю".
КЛЕПИКОВА. Это же историческая проза.
СОЛОВЬЕВ. Довлатов, Бродский - тоже история. Уже история. Я пишу историческую прозу о современности. Это касается и вспоминательного жанра. По сути, любые мемуары - антимемуары, а не только у Мальро. "Роман с эпиграфами" - это роман, пусть и с реальными персонажами. В отличие от "Воспоминаний" Надежды Мандельштам, с которыми сравнивал его Бродский. Не согласен ни с Бродским, ни с Довлатовым, ни с тобой. Это ты посоветовала снять вымышленные имена и поставить реальные: не И.Б., а Бродский, не Саша Рабинович, как было у меня, а Саша Кушнер, как на самом деле. И прочее. Жалею, что послушался. Аутентичность в урон художеству. Вместо дали свободного романа замкнутая перспектива документа. А так бы отгадывали, кто есть кто в "Романе с эпиграфами".
КЛЕПИКОВА. Кому дело заниматься раскрытием псевдонимов твоих героев, да и не те времена. А так - под своими именами, с открытым забралом - твой "Роман с эпиграфами" уже четверть века будоражит читателей - сначала в русской диаспоре, а теперь, наконец, и в метрополии, где одно за другим выходят издания этого твоего антиромана. Последнее, у Захарова, под таким шикарным названием - "Три еврея".
СОЛОВЬЕВ. Копирайт на название у издателя. Мое - "Роман с эпиграфами" - ушло в подзаголовок.
КЛЕПИКОВА. Где ему и положено быть - это жанровое определение.
СОЛОВЬЕВ. Как и "Роман без вранья" или "Роман с кокаином", да? Или "Шестеро персонажей в поисках автора"? Подзаголовки, вынесенные в названия - жанровая инверсия. Что такое "Портрет художника в молодости"? Название или подзаголовок? А мой новый докуроман называется "Портрет художника на пороге смерти". Не о самом Бродском, а о человеке, похожем на Бродского. Единственная возможность сказать о нем правду. То, о чем писал Стивенсон: часами говорить о каком-нибудь предмете или человеке, не именуя его. Вот я и хочу, чтобы художественный образ потеснил и заслонил мнимореальный, созданный самим И.Б. по высокому принципу "Молчи, скрывайся и таи..." и его клевретами по низким, то есть утилитарным, принципам. Пусть даже из благих намерений, но мы-то знаем, куда ими вымощена дорога. Очистить образ Бродского от патины - задача из крупных, под стать объекту.
КЛЕПИКОВА. Как и образ Довлатова - от наслоения мифов.
СОЛОВЬЕВ. Хорошо, что ты вспомнила рассказ про маму. У меня два некрологических рассказа - "Умирающий голос моей мамы..." и "Призрак, кусающий себе локти". Мама и Сережа умерли с разницей в три месяца - и оба раза мы были в отъезде: когда мама - в России. Отсутствие суть присутствие. То есть так: если бы я в обоих случаях не уезжал из Нью-Йорка, не было бы такой мучительной реакции. Мгновение чужой смерти растянулось для меня в вечность. Единственное спасение - литература. Извини за банальность: катарсис. Если честно, то прозаиком я стал в 90-м году - как следствие этой двойной потери. Некрофильский импульс. Страшно сказать: смерть как вдохновение, потеря как творческий импульс. "Роман с эпиграфами", моя несомненная и одинокая удача, возник на таком скрещении обстоятельств, что следует счесть случайностью. Как превращение обезьяны в человека. Продолжения, увы, не последовало, пусть я и сочинил на его инерции роман-эпизод "Не плачь обо мне...". Бродский был прав, признав "Роман с эпиграфами" и ругнув "Не плачь обо мне...", хоть автору было обидно. А тут меня понесло: за 10 лет тридцать рассказов и три романа. За скобками статьи, скрипты и наши с тобой политологические триллеры. Смерть Бродского ещё больше укрепила меня в моих планах. Я обязан работать за мертвых. В меру отпущенных мне сил. Таков стимул, если его из подсознанки вывести наружу. Что-то подобное я писал в своем дневнике, а здесь шпарю по памяти, близко к тексту. Помнишь, что говорит Гэвин Стивенс у Фолкнера? "Ну вот, я уезжаю, теперь вам держать форпост".
КЛЕПИКОВА. Снова тянешь на себя.
СОЛОВЬЕВ. Просто эту нашу книгу - как и фильм про Сережу1 рассматриваю как наш долг покойнику.
КЛЕПИКОВА. И позабудем про его эпистолярные характеристики.
СОЛОВЬЕВ. Тебе что! Тебе, наоборот, неплохо бы выучить их наизусть. Ты одна из немногих, о ком он отзывается положительно: "Лена Клепикова, миловидная, таинственная, с богатой внутренней жизнью". Ложка меда в бочке дегтя. А каково мне! "Этот поганец хапнул больше 100 000 (ста тысяч, об этом писали в "Паблишерс викли") аванс за книгу об Андропове". Самое смешное, что аванс мы хапнули вдвоем, это наша совместная книжка, но ты миловидная, таинственная, с богатой внутренней жизнью, а я - поганец!
КЛЕПИКОВА. Ты что, забыл - кому эти письма? Твоему лучшему врагу. Ефимов попрекает Сережу знакомством с тобой устно и письменно. А Сережа то подыгрывает ему, то оправдывается, завися как от издателя. Он даже пытается тебя защитить: "Соловьев не так ужасен. Ужасен, конечно, но менее, чем Парамоха". Или отстаивает свое право как главреда "Нового американца" тебя печатать, а Ефимов, с его совковской психикой, будь его воля, перекрыл бы тебе все кислородные пути. Помнишь, Воронели, когда мы сидели с ними в ресторане "Цезарь Борджиа", рассказали, как Ефимов им в Израиль прислал письмо, чтобы не печатали твой роман в журнале "22".
СОЛОВЬЕВ. Самое смешное - взамен он предлагал свой собственный.
КЛЕПИКОВА. А Сереже скажи спасибо - ты ещё не самый худший в его эпистолярном паноптикуме. А кто самый худший, знаешь? В его собственном ощущении - он сам. Его мизантропство - "всех ненавижу" - от недовольства своей жизнью и отвращения к себе.
СОЛОВЬЕВ. Все говно поднялось со дна души - его собственное выражение. Чего не скажешь в сердцах!
КЛЕПИКОВА. Это частная переписка - не для печати. А подвиг дружбы это единоличный акт Ефимова, её опубликовавшего, несмотря на отчаянные протесты из могилы. Я говорю о завещании: письма не печатать.
СОЛОВЬЕВ. Есть другая крайность: Нора Сергеевна, Сережина мама, все его письма, адресованные ей, уничтожила. Если третьего не дано, то лучше уж печатать, чем уничтожать.
КЛЕПИКОВА. Сереже нужно было время, чтобы сориентироваться и понять, кто есть кто. Встал же он печатно на твою защиту, когда на тебя набросились за ещё не напечатанный "Роман с эпиграфами". Это было в период добрососедских отношений - до дружбы. Поступок, который требовал мужества. Как и разрыв с Ефимовым, на которого он в Ленинграде смотрел снизу вверх, как на мэтра, а в последние годы при одном упоминании Ефимова делал стойку, ни о ком не говорил с таким отвращением, как о твоем Игоре.
СОЛОВЬЕВ. Бывший мой. Хотя таких горячих негативных реакций, как у Сережи, у меня не вызывает. Честно говоря - никаких. Но и мэтром я его никогда не считал - в отличие от Довлатова. "Чем тесней единенье, тем кромешней разрыв".
КЛЕПИКОВА. Вот, кстати, сюжет, уж коли ты цитируешь Бродского: "Довлатов - Бродский". В фильме у тебя про них отдельная новелла.
СОЛОВЬЕВ. С известной натяжкой. И то потому, что это фильм о Довлатове. В фильме о Бродском - а я такой тоже попытаюсь снять - новеллы "Бродский-Довлатов" не будет. Не думаю, что эту пару нужно в нашей книжке вычленять в отдельную главу. Зачем облегчать читателю жизнь - пусть сам рыщет в поисках клубнички.
КЛЕПИКОВА. Нельзя перекладывать на читателя то, что самому делать лень. С него достаточно Довлатова в "Призраке, кусающем себе локти".
СОЛОВЬЕВ. Почему лень? Не хочу композиционно и сюжетно корежить уже готовые мемуарные блоки - и моего "Довлатова на автоответчике", и твоего "Трижды начинающего писателя". И там и там Бродский довольно крупным планом - в контексте. The right man in the right place1.
КЛЕПИКОВА. What about the right time? 2
СОЛОВЬЕВ. Помнишь его формулу тюрьмы: отсутствие пространства за счет бездны времени. Что-то в этом роде.
КЛЕПИКОВА. С фактами ты обращаешься так же вольно, как с цитатами? Я о "Портрете художника на пороге смерти".
СОЛОВЬЕВ. Вовсе нет! Перелопатил тьму материалов - о реальном человеке, и вот, слегка перетасовав, передаю все это безымянно-анонимному персонажу. Судьба, био, поступки, комплексы, взгляды, раскавыченные цитаты, словечки, интонация - с подлинным верно, но цель, как у Тынянова - дойти до границы документа и продырявить его к чертовой матери. Между прочим, Довлатов близко к Тынянову считал, что художественными средствами можно создать документ. Что я и делаю. Потому герой "Портрета художника на пороге смерти" и обозначен одной буквой - игра, так сказать, эквивалентами, знакомый незнакомец.
КЛЕПИКОВА. "О" - потому, что Ося?
СОЛОВЬЕВ. Конечно. Кому надо, поймет, но никакой при этом юридической ответственности. Только художественная, которая выше юридической. Художник создает более точный портрет, чем фотограф. Как у Пикассо - "Портрет мадемуазель Z.". Зато окружение - от Солжа до Барыша - поименованы как есть.
КЛЕПИКОВА. То есть как называл их, коверкая, сам Бродский: Борух, Евтух, Солж, Барыш, Лимон, АА, Карлик.
СОЛОВЬЕВ. Меня он иногда называл Вовой, а Довлатов - Вольдемаром или Володищей.
КЛЕПИКОВА. А как Бродский звал Довлатова?
СОЛОВЬЕВ. Как мы с тобой: Сережей. Иногда Сержем. Либо Сергуней. Никогда - Сергеем.
КЛЕПИКОВА. А в "Портрете художника на пороге смерти" у тебя будет глава про эту парочку?
СОЛОВЬЕВ. Под вопросом.
КЛЕПИКОВА. Какой тут вопрос! Два классика русского зарубежья.
СОЛОВЬЕВ. Почему только зарубежья? Это напоминание тем, кто у нас на географической родине отрицает литературную диаспору. Но я говорю не о литературе, а о жизни. В их отношениях не было равенства. "Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существование для тебя" - передадим Осины стихи Сереже и повернем их обратно к автору. Довлатов никогда не воспринимал Бродского ровней. Да тот бы и не позволил, а кто забывался, того ставил на место. Когда при их первой встрече в Нью-Йорке Сережа обратился к Осе на "ты", Бродский тут же его осадил. В "Портрете художника на пороге смерти" я пишу об этом подробно и ищу причины тиранства Бродского над Довлатовым. С помощью Фрейда. Вот отличие мемуаристики от прозы: первая занимается верхами, вторая - корешками. В "Портрете художника на пороге смерти" я доискиваюсь до причин этой напряжки между ними. Чем не сюжет: и взаимное притяжение, и отталкивание, и соперничество, и зависимость с неизбежными унижениями...
КЛЕПИКОВА. ...понятно кого кем.
СОЛОВЬЕВ. Не так буквально. Это с нью-йоркской точки зрения Бродского, Довлатов - маргинал. Несмотря на свои раблезианские габариты. В Питере все было иначе. Довлатов был застрельщиком обструкции Бродского после того, как тот прочел у него на дому "Шествие". Такое не забывается. Плюс сherchez la femme. Здесь, в Нью-Йорке, они поменялись местами. Потому Бродский и порекомендовал Сережины рассказы в "Нью-Йоркер", что уже не считал его соперником. Одновременно зарубил роман Аксенова и огрызался, когда его упрекали в некошерности поступка: "Имею я право на собственное мнение!"
КЛЕПИКОВА. Как в том анекдоте про веропослушного неудачника, которому Бог в конце концов, не выдержав, выкладывает: "Ну, не люблю я тебя!"
СОЛОВЬЕВ. Апология волюнтаризма. Что позволено Юпитеру, нельзя быку.
КЛЕПИКОВА. Сережа как-то сказал, что Бродский теперь ему завидует никак не ожидал, что "Нью-Йоркер" возьмет рекомендованные им рассказы.
СОЛОВЬЕВ. Знал бы - не рекомендовал, да? Не знаю. Покровительствовал только тем, кого считал ниже себя - ровней не выносил.
КЛЕПИКОВА. Ярко выраженное самцовое начало.
СОЛОВЬЕВ. А сам потом отмежевывался от самцовости. Помнишь наш спор, когда он пришел к нам в отель "Люцерн" в Манхэттене: стоячим писать или не стоячим. "Стоячий период позади" - его собственная шутка.
КЛЕПИКОВА. А кончил тем, что за пару месяцев до смерти сочинил свой Momentum aere perennius. То есть в его варианте - в отличие от горациево-пушкинского - не памятник крепче меди, а памятник крепче пениса, и не слово тленья избежит, а семя, заброшенное в вечность. Это памятник собственному члену, что очевидно из названия, тем более - из стиха:
А тот камень-кость, гвоздь моей красы
Он скучает по вам с мезозоя, псы,
От него в веках борозда длинней,
Чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней.
СОЛОВЬЕВ. Христианином его не назовешь, несмотря на ежегодные поздравления Иисусу с днем рождения. К каждому Рождеству - по стихотворению. Соцзаказ.
КЛЕПИКОВА. Возвращаясь к теме "Довлатов-Бродский", - написал же последний о первом памятную статью.
СОЛОВЬЕВ. Предполагалось наоборот: Довлатов - о Бродском.
КЛЕПИКОВА. Если в компьютерах "Нью-Йорк таймс" лежат пачки заготовленных впрок некрологов живых пока что знаменитостей, кто бросит камень в Сережу за то, что замыслил книгу о Бродском на случай его смерти? А та казалась не за горами. Довлатов был профессионал, следовательно - по ту сторону добра и зла.
СОЛОВЬЕВ. У Сережи и про других коллег были схожие некропредсказания, а те живы до сих пор наперекор им.
КЛЕПИКОВА. О Бродском и говорить нечего - он сам регулярно прощался с жизнью в стихах, прозе и интервью.
СОЛОВЬЕВ. На что были физические основания: сердечник, инфарктник, несколько операций, одна неудачная.
КЛЕПИКОВА. Сереже было что сказать про Бродского: глаз у Довлатова зоркий, память цепкая, перо точное. Это была бы одна из лучших его книг, может быть.
СОЛОВЬЕВ. Судьба распорядилась иначе: Сережа умер первым. Вот Бродский и сочинил о нем - не книгу, а пару вымученных страничек...
КЛЕПИКОВА. ...в которых ухитрился сделать пять фактических ошибок. Написал, к примеру, что "всю жизнь, сколько его помню, он проходил с одной и той же прической: я не помню его ни длинноволосым, ни бородатым". На самом деле Сережа только и делал, что менял свою внешность, о чем можно судить по снимкам, - то стригся коротко, то отпускал волосы, то регулярно брился, а то вдруг обрастал буйной растительностью на "запущенной физиономии", и бородатым мы его видели довольно часто. "Я был на пару лет старше", - пишет Бродский, хотя разница в год с небольшим.
СОЛОВЬЕВ. Смешно ловить Бродского на ошибках - в его исторических экскурсах их куда больше, что нисколько не умаляет ни "Письма к Горацию", ни "Путешествия в Стамбул". Тем более такие аберрации. Через несколько лет после смерти Пушкина его друзья спорили, какого цвета у него глаза. А Довлатов с Бродским, по словам последнего, "виделись не так уж часто".
КЛЕПИКОВА. Та же приблизительность у Бродского в оценках и обобщениях, что и в фактах. Вот он говорит о пиетете, который испытывал Сережа к поэтам, а отсюда уже, что его рассказы написаны как стихотворения - высшая похвала в его устах. Ничего подобного! Это Бродский внушает Довлатову свою иерархию литературы, где поэзия на первом месте, а поэт в роли демиурга. Довлатов никогда так не думал, Бродского не любил ни как человека, ни как поэта, а оторопь испытывал не к поэту, а к литературному боссу, в руках которого бразды правления.
СОЛОВЬЕВ. Не оторопь, а страх. Бродский тиранил Довлатова, беря реванш за былое унижение.
КЛЕПИКОВА. Какое?
СОЛОВЬЕВ. Подробности в "Портрете художника на пороге смерти".
А у Сережи скромность паче гордости. Называя себя литературным середнячком, он лукавил. На самом деле знал себе цену. В этом тайна Довлатова. Не принимай все его слова на веру.
КЛЕПИКОВА. Помнишь, мы как-то зашли к Сереже с нашим московским гостем, и тот стал высчитывать шансы Чингиза Айтматова на нобелевку. Вежливый Сережа ввинтился в спор с какой-то кровной, личной обидой.
СОЛОВЬЕВ. Не боги горшки лепят. Да и столько среди нобелевцев случайных людей. Этой премией замкнут горизонт чуть ли не любого литературного честолюбца в России. Когда Бродский получил нобелевку, вся русская поэзия оделась в траур - от Евтуха с Вознесенкой до Кушнeра с Коржёй.
КЛЕПИКОВА. Поразительно, что даже завистник Найман рассказывает о Нобелевской премии, полученной Бродским, как о личном несчастье, хотя ему-то уж, при его поэтическом ничтожестве, ничего не светило.
СОЛОВЬЕВ. А его проза! Человеку, который пишет о себе "Я потупился", надо запретить заниматься литературой.
КЛЕПИКОВА. Не согласна. Когда Найман дает полную волю злобе и зависти, то находит отличную литературную форму.
СОЛОВЬЕВ. Касаемо Довлатова: он, конечно, не рассчитывал на нобелевку, но огорчился бы, узнав, что её получил другой русский прозаик.
КЛЕПИКОВА. Нормально. Достичь такого пика популярности, как Довлатов в России, - выше любых премий. Бесконечные переиздания, собрания сочинений, спектакли, фильмы, наконец, книги о Сереже, вплоть до последней воспоминаний его первой жены.
СОЛОВЬЕВ. Забавная книга. Сцена ревности чего стоит! Как кавказский человек, Довлатов палит из двустволки по Асе Пекуровской1.
КЛЕПИКОВА. Если это правда. Сережа рассказывал иначе - как он пытался покончить с собой в её присутствии, а она и ухом не повела.
СОЛОВЬЕВ. Ну, знаешь, такие демонстративные самоубийства...
КЛЕПИКОВА. Любопытная гипотеза, что Сережа не сын своего отца.
СОЛОВЬЕВ. То есть его официальный отец Донат Мечик не является его биологическим отцом?
КЛЕПИКОВА. Еще одна тайна Довлатова.
СОЛОВЬЕВ. О которой он сам не подозревал.
КЛЕПИКОВА. Или подозревал.
СОЛОВЬЕВ. Дежидовизация Довлатова. Такие попытки уже делались. При той всенародной славе, как посмертная у Сережи, лучше бы он был без жидовской примеси. Кой для кого. Не его первого, не его последнего отлучают от еврейства. Пусть будет лицо кавказской национальности.
КЛЕПИКОВА. Не в том дело. Меня всегда поражало, до чего Сережа не похож на Доната. Да и внешность чисто кавказская - без семитских признаков. Вот Ася Пекуровская и озвучила эти подозрения, приведя несколько слухов. Но в целом её книга - реванш у мертвеца.
СОЛОВЬЕВ. Для жен и слуг нет великих людей.
КЛЕПИКОВА. Довлатова отрицают те, кто знал его близко и для кого его нынешняя фантастическая популярность - ножом по сердцу. Даже для тех, кто делает хорошую мину при плохой игре. Когда Валерия Попова спросили, знал ли он, с каким великим писателем был знаком в Питере, он отшутился: "Нет, это он после смерти так обнаглел". "Воспоминания о Довлатове" существуют уже как литературный жанр.
СОЛОВЬЕВ. Если не индустрия!
КЛЕПИКОВА. Как и воспоминания о Бродском. Литературные идолы в качестве пьедестала под памятник самому себе. Пора мемуаристов-реваншистов.
СОЛОВЬЕВ. А тебе не кажется, что любые мемуары по изначальному импульсу - реваншистские? Если бы Осип Эмильевич не оставил жену дожидаться в прихожей, пока сам разговаривал с Мариной Ивановной о поэзии, кто знает были бы написаны Надеждой Яковлевной два её блестящих мемуарных тома, да ещё с привеском?
КЛЕПИКОВА. При чем тут Надежда Яковлевна? У Пекуровской жалкие потуги добрать с помощью воспоминаний то, чем обделила жизнь и что не удалось в литературе.
СОЛОВЬЕВ. Как сказал Парамонов про Сережу, не дает мне покоя покойник. И дабы нейтрализовать, причислил Довлатова к масскультуре. Каков поп, таков и приход. Соответственно - наоборот. Близко к тому, что написал Бондаренко в "Нашем современнике" о "плебейской прозе Сергея Довлатова" статья так и называется. Вот цитата: "В сущности, он и победил, как писатель плебеев". А кто прозвал его "трубадуром отточенной банальности"?
КЛЕПИКОВА. Безотносительно к Парамонову и Бондаренко. Это соответствует действительности и Довлатова не умаляет. Шекспир и Диккенс тоже явления масскультуры. Каждый - своего времени.
СОЛОВЬЕВ. И обращение Шекспира к массовой аудитории нисколько не снимало таинственности с его пьес. У Довлатова-писателя есть своя тайна, несмотря на прозрачность, ясность его литературного письма. А вспоминальщики и литературоведы сводят к дважды два четыре. Он идолизирован и превращен в китч.
КЛЕПИКОВА. Вот я и говорю: у нас колоссальная конкуренция.
СОЛОВЬЕВ. Зато мы работаем в четыре руки. Совокупными усилиями справимся.
КЛЕПИКОВА. Довлатовым сейчас удивить читателя невозможно. Разве что дать его вверх ногами. Он и сам писал: "Пятый год хожу вверх ногами", имея в виду, правда, Америку - по отношению к России.
СОЛОВЬЕВ. Замётано. Ведь это значит, что и в России он ходил вверх ногами - по отношению к Америке. Так и прожил всю жизнь - вверх ногами. Отличное название для книжки: "Довлатов вверх ногами". А подзаголовок "трагедия веселого человека".
КЛЕПИКОВА. Книга как продолжение твоего фильма "Мой сосед Сережа Довлатов"? Там видеоряд для россиянина экзотический. Начиная с пролога у Сережиной могилы на еврейском кладбище в Куинсе.
СОЛОВЬЕВ. Представляешь, он видел это кладбище из своей квартиры на шестом этаже. Его могила - в десяти минутах езды от дома.
КЛЕПИКОВА. А потом Сережин кабинет, точнее - уголок, который он вычленил из гостиной и сам превратил в микромузей с фотографиями и рисунками на стене, а в фильме Лена Довлатова ведет зрителей по нему как заправский гид. Что в этом фильме хорошо, так это личная, домашняя интонация. Как тебе удалось её разговорить, да ещё перед камерой!
СОЛОВЬЕВ. Не удалось. Мы ходим вокруг да около. Лена - типичная интровертка. К тому же она за парадный подъезд и против черного входа. Да я сам многое знаю - с её слов, со слов самого Сережи, Гриши Поляка, а уж ему все было доверено, семейный чичисбей - знаю столько подробностей их семейной жизни, но без её разрешения вынужден помалкивать. Увы.
КЛЕПИКОВА. У нас в книге и без того достаточно пикантных деталей, которые Лене Довлатовой не всегда по душе. Помнишь, как она тебя в фильме одергивает, когда тебя заносит. Но главное в фильме - сам Сережа. Редчайшие кадры, снятые Поротовым: Сережа - изустный рассказчик, сказитель, storyteller. Каким мы его и знали, а рассказчик он был блестящий. Из рассказчика и писатель возник. А теперь, благодаря фильму, об этом знают его читатели.
СОЛОВЬЕВ. Точнее - зрители. В том числе те его устные рассказы, которые не успели стать письменными.
КЛЕПИКОВА. А ты не хочешь включить несколько фрагментов из "Художника на пороге смерти"?
СОЛОВЬЕВ. А что? Мысль. Первая половина книги - мемуары, вторая проза. О Довлатове - под скрещением двух жанров. Наша задача - сделать лучшую книгу о нем. Объемный, разножанровый, парадоксальный образ: сочетание довлатовской меморабилии с беллетризованным, но узнаваемым образом.
КЛЕПИКОВА. Попробуем совместно разгадать тайну Довлатова.
СОЛОВЬЕВ. А если у него не одна?
1
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
ДОВЛАТОВ НА АВТООТВЕТЧИКЕ
Вернувшись однажды домой и прослушав записи на автоответчике, я нажал не ту кнопку, и комната огласилась голосами мертвецов: мама, мой друг и переводчик Гай Дэниэлс, писатель Эрвинг Хау, который печатал наши с Леной Клепиковой статьи в своем журнале "Диссент", наш спонсор Харрисон Солсбери, но больше всего оказалось записей с голосом моего соседа Сережи Довлатова минут на двадцать, наверно. Все, что сохранилось, потому что поверх большинства старых записей - новые. Странное такое ощущение, макабр какой-то, что-то потустороннее, словно на машине времени марки "Автоответчик" перенесся в элизиум, загробный мир.
На фоне большей частью деловых сообщений довлатовские "мемо" выделялись интонационно и стилистически, были изящными и остроумными. В отличие от писателей, которые идеально укладываются в свои книги, а может, скупятся проявлять себя в иных ипостасях, по-кавказски щедрый Довлатов был универсально талантлив, то есть не экономил себя на литературу, а вкладывал божий дар в любые мелочи, будь то журналистика, разговоры, кулинарные приготовления, рисунки либо ювелирная бижутерия, которую он время от времени кустарил. У меня есть знакомые, которые до сих пор стесняются говорить на автоответчик. Довлатов как раз не только освоил этот телефоножанр, но использовал его - рискну сказать - для стилистического самовыражения. А стиль, прошу прощения за банальность, и есть человек. Его реплики и сообщения на моем автоответчике сродни его записным книжкам тоже жанр, пусть не совсем литературный, но несомненно в литературных окрестностях.
Нигде не служа и будучи надомниками, мы, конечно, чаще с ним болтали по телефону либо прогуливались по 108-й улице, главной эмигрантской артерии Куинса, чем отмечались друг у друга на автоответчиках. Тем более на ответчике особо не разгуляешься - этот жанр краток и информативен. Но Довлатов и в прозе был миниатюристом - отсюда небольшой размер его книжек и скрупулезная выписанность деталей. Если краткость - сестра таланта, то его таланту краткость была не только сестрой, но также женой, любовницей и дочкой. Касалось это в том числе его устных рассказов - из трех блестящих, чистой пробы, рассказчиков, на которых мне повезло в жизни, Довлатов был самым лаконичным.
Любопытно, что двум другим - Камилу Икрамову и Жене Рейну - так и не удалось переиначить свои изустные новеллы в письменную форму. Рейн рассказчик-импровизатор, а потому органически не способен не то что записать, но даже повторить свою собственную историю: каждый раз она звучит наново, с пропусками, добавлениями, ответвлениями. Покойный Икрамов, который вывез свои рассказы из тюрем и лагерей, где провел двенадцать лет как сын расстрелянного Сталиным партийного лидера Узбекистана, собирал нас в кружок, сам садился посередке в неизменной своей тюбетейке, скрестив по-среднеазиатски ноги, и Окуджава, Слуцкий, Чухонцев, Искандер, которые слышали его новеллы по многу раз, просто называли сюжеты, и Камил выполнял заказ, рассказывая свои жуткие и невероятно смешные истории. Он был профессиональный литератор, выпустил несколько книг, написал замечательный комментарий к делу своего отца, но, когда я спросил у него, почему он не запишет свои устные новеллы, Камил печально развел руками: пытался много раз, ничего не получается.
В отличие от них, Довлатову удалось перевести свои устные миниатюры в письменную форму, но это вовсе не значит, что устный рассказчик в нем превосходил письменного, что он "исполнял свои истории лучше, чем писал", как пытаются теперь представить некоторые его знакомцы, засталбливая тем самым свое одинокое превосходство над миллионами довлатовских читателей. К счастью, это не так. Довлатов был насквозь литературным человеком, никак не импровизатором, и "исполнял" обычно рассказы, уже отлитые в литературную форму, отрепетированные и литературно апробированные, хоть и не записанные. Свидетельствую как человек, прослушавший сотни Сережиных рассказов, некоторые дважды и трижды - он их именно исполнял: без вариаций, один к одному. Его устные рассказы были литературными - в том числе те, что не стали, не успели стать литературой. В моем двухчасовом фильме "Мой сосед Сережа Довлатов" герой показан живьем - он выдает перед камерой пару своих блестящих баек, ненаписанных и даже незаписанных, но по своей законченной литературной форме они так и просятся на бумагу.
Из таких именно анекдотов и реприз и состоят обе части его "Записных книжек", которые он в нарушение литературных правил торопился издать прижизненно, словно предчувствуя близкий конец. Чуткий к техническим веяниям времени, он назвал одну, ленинградскую - "Соло на ундервуде", а другую, нью-йоркскую - "Соло на IBM", хотя на электронной машинке работала Лена Довлатова, а Сережа предпочитал стучать на ручной, но как раз ундервуда у него никакого не было. Вернувшись из армии, он приобрел "Ройал Континенталь" и прозвал за красоту "Мэрилин Монро", хоть это была огромная, под стать ему самому, машинка с длиннющей многофункциональной кареткой Сережа грохнул эту чугунную махину об пол во время семейного скандала, а вышедшую из её чрева рукопись разорвал и покидал в печь с зелеными изразцами, главную достопримечательность его комнаты в коммуналке на Рубинштейна, но Лена Довлатова героически кинулась спасать, обжигая руки. Еще одну иностранку - "Олимпию" - подарил ему отец Донат, а тому прислал Леопольд, родственник из Бельгии, но и её постигла схожая судьба - уже в пересылочной Вене пришедший в гости Юз Алешковский неловким движением смахнул машинку на пол. В Нью-Йорке оказалось дешевле купить новую "Адлер", которая до сих пор стоит на его мемориальном письменном столе, чем чинить подранка. Такова природа художественного домысливания Довлатова: вместо "Континенталя", "Олимпии" и "Адлера" соло были им будто бы сыграны на старомодном, времен Очакова и покоренья Крыма, ундервуде и ультрасовременной IBM - какой контраст! Так вот, если б у других его приятелей сохранились записи Довлатова на автоответчиках, можно было бы, уверен, составить третью часть этой книги, снабдив его телефонные реплики соответствующим комментарием и назвав - "Соло на автоответчике".
А пока что вот некоторые из его телефонограмм, которые воспроизвожу вместе с междометиями, вводными словами, неизбежными в устной речи, а тем более когда общаться приходится не с живым человеком, а с автоматом. Зато ручаюсь за подлинность, слово в слово - ведь ничто так не искажают (пусть поневоле) мемуаристы, как именно прямую речь.
Володя, привет. Это Довлатов. У меня, к сожалению, есть к вам просьба, и я бы даже с некоторым ужасом сказал, что довольно обременительная. (Смешок.) Я её вам потом, когда вас застану, выражу. Ага. Но тем не менее не пугайтесь, все-таки ничего страшного. Всех приветствую и обнимаю.
И в самом деле, это была пустяковая просьба. У Довлатова вышла из строя старая машина, он купил новую - вот его и надо было прокатить по Нортерн-бульвару к дилеру, а потом на Джамайку к прежнему владельцу, что я с удовольствием сделал, тем более был у него в машинном долгу: он освоил вождение на несколько месяцев раньше меня и давал мне уроки на своей старой машине (той самой, что сломалась). Эти уроки я бы объяснил не только его альтруизмом, а и желанием лишний раз пообщаться, но какой собеседник из начинающего водителя! Я не оправдал его ожиданий: вцеплялся в руль и больше жал на тормоз, чем на газ, раздражая Сережу своей неконтактностью и медленной ездой.
- Может, выйдем и будем толкать машину сзади? - в отчаянии предложил он мне.
А потом всем рассказывал, как, делая разворот на его машине, я врезался в запаркованный "роллс-ройс". Это, конечно, преувеличение: никаких "роллс-ройсов" у нас в районе не водится (Форест-Хиллс - не Москва, где их сейчас, говорят, навалом), но какая-то машина действительно попалась на моем пути и, при моем водительском невежестве, мне было ну никак с ней не разминуться. Здесь как раз секрет его искусства рассказчика, его литературных мистификаций и лжедокументализма: он не пересказывал реальность, а переписывал её наново, смещал, искажал, перевирал, усиливал, творчески преображал. Создавал художественный фальшак, которому суждено было перечеркнуть жизнь. Кому из его слушателей было бы интересно узнать, как я, грубо разворачиваясь, слегка задел ничтожный какой-нибудь "бьюик" или "олдсмобил"!
На некоторое время езда стала для нас, начинающих водителей, следующей - после литературы - темой разговоров. Помню один такой обмен опытом, когда наше с ним водительское мастерство приблизительно выровнялось. Речь шла о дорожных знаках на автострадах - Сережа удивлялся, как я в них разбираюсь:
- Это ж надо успеть их прочесть на ходу!
Подумав, добавил:
- А потом перевести с английского на русский!
Сам он ориентировался по приметам, которые старался запомнить, цветущее дерево, "Макдоналдс", что-нибудь в этом роде. И впадал в панику, когда путевой пейзаж менялся - скажем, дерево отцветало. Пересказываю его собственные жалобы, в которых, несомненно, была доля творческого преувеличения, как и в его рассказе о моем столкновении с "роллс-ройсом".
Как-то у меня лопнула шина, надо было поставить запасное колесо. Я позвал Сережу, полагая, что у него богатырские руки - под стать его гигантскому росту. Оказался слабак, как и я. Мы провозились с полчаса и, отчаявшись, вызвали на подмогу коротышку и толстяка Гришу Поляка, издателя "Серебряного века", который жил неподалеку - вот у кого атлетические конечности! В считанные минуты он справился с поставленной задачей, посрамив нас обоих.
А в тот раз, помню, на обратном пути из Джамайки мы так увлеклись разговором, что я чуть не проехал на красный свет, тормознув в самый последний момент. Когда первый испуг прошел, Сережа с похвалой отозвался не обо мне, конечно:
- У вас должны быть хорошие тормоза. Коли вы так рискуете.
Я был рад, что плачу Сереже старый должок - не тут-то было! Вечером он повел нас с Леной Клепиковой и художника Сергея Блюмина, ещё одного ассистента в покупке автомобиля, в китайский ресторан: не любил оставаться в долгу.
Чему свидетельство ещё одно его "мемо":
Володя и Лена, это Довлатов, который купил козла, кусок козла, и хотел бы его совместно с вами съесть в ближайшие дни в качестве некоторой экзотики. Напоминаю, что ваша очередь теперь к нам приходить. Я вам буду ещё звонить. И вы тоже позвоните. Пока.
На самом деле, очередь не соблюдалась - куда чаще я бывал у Довлатова, чем он у меня. Мы были соседями, именно топографией объяснялась регулярность наших встреч, хотя как-то на мой вопрос, с кем он дружит, Сережа с удивлением на меня воззрился: "Вот с вами и дружу. С кем еще?" Топографический принцип я и положил в основу своего видео "Мой сосед Сережа Довлатов", а начал его с Сережиной могилы - еврейское кладбище "Mount Hebron", где он похоронен, видно из окна его квартиры на шестом этаже. Не на нем ли буду похоронен и я, когда придет пора?
Топография нас объединяла поневоле - мы посещали одни и те же магазины и рестораны, отправляли письма и посылки с одной и той же почты, спускались в подземку на одной станции, у нас был общий дантист и даже учитель вождения Миша, которого мы прозвали "учителем жизни". Как-то, по Сережиной инициативе, отправились втроем (с Жекой, моим сыном) к ближайшему, загаженному мусором водоему удить, ничего не поймали, хотя Сережа, чувствуя себя виноватым, клялся, что рыба водится, и даже подарил Жеке удочку.
Между нами было несколько минут ходьбы, но Сережа жил ближе к 108-й улице, где мы с ним ежедневно вечером встречались у магазина "Моня и Миша" - прямо из типографии туда доставлялся завтрашний номер "Нового русского слова", который Сережа нетерпеливо разворачивал - в поисках новостей (англоязычную прессу он не читал) или собственной статьи. (Помню, кстати, как он измерял линейкой, чей портрет больше - его или Татьяны Толстой, когда "Нью-Йорк таймс Бук Ревю" поместила рецензии на их книги на одной странице.) Приходил он не один, а с Яшей, своей таксой, часто в тапках на босу ногу, даже в мороз, хотя какие в Нью-Йорке морозы!
Иногда к нам присоединялся архивист и книгарь Гриша Поляк либо одна из Лен - Довлатова или Клепикова. В ожидании газеты мы делали круги по ближайшим улицам. Кто бы ни входил в компанию, Сережа возвышался над нами, как Монблан, прохожие часто его узнавали, оборачивались, ему это, понятно, льстило. В "Записных книжках" он по этому поводу пишет: "Степень моей литературной известности такова, что, когда меня знают, я удивляюсь. И когда меня не знают, я тоже удивляюсь". Он жил в самой гуще эмиграции, и мне кажется, здешние дела его волновали больше, чем тамошние, на нашей географической родине. Во всяком случае моей первой поездке в Москву весной 1990 года он удивился, отговаривал и даже пугал: "А если вас там побьют?" Сам ехать не собирался - шутил, что у него там столько знакомых, что он окончательно сопьется.
Поездка у меня оказалась более печальной, чем я ожидал: когда я был в Москве, в Нью-Йорке неожиданно умерла моя мама. Сережа несколько раз звонил мне в Москву, а когда я вернулся, похоже, осуждал, что я не поспел к похоронам. Когда я пытался оправдаться, он сказал несколько высокопарно:
- Это вам надо говорить Богу, а не мне.
Сам он был очень гостеприимен к столичным и питерским визитерам, когда они наладились к нам, тратя уйму энергии, нервов и денег, а проводив гостя, злословил по его адресу, будь то даже его друг, как Андрей Арьев или Юнна Мориц. Последнюю - а я довольно близко сошелся с Юнной в мою недолгую бытность в Москве - он буквально отбил у меня в Нью-Йорке, чему я был, честно говоря, только рад: Юнна Мориц - прекрасный поэт, но довольно беспомощный в быту человек, тем более в быту иноземном. Помню, сидел у нас в гостях Виктор Ерофеев с женой и сыном, а я только и делал, что подбегал к телефону - это непрерывно - часа два - звонил Сережа с автобусной станции, где встречал Юнну, а её все не было. Он весь извелся - потом выяснилось, что она задержалась в гостях и уехала другим автобусом, не предупредив Довлатова. Понятно, что в такой экстремальной ситуации он не удержался и запил, не дождавшись отъезда своей гостьи в Москву. А когда та уехала, дал себе волю, пытаясь взять хотя бы словесный реванш за все свои унижения и треволненья.
Злоречие вообще было одним из излюбленных им устных жанров, он вкладывал в него талант, его характеристики не всегда были справедливы, но почти всегда прилипчивы. Помню такую историю.
В отличие от меня, он жил жизнью общины, и я иногда обращался к нему за справками. Так случилось и в тот раз. Мне позвонила незнакомая женщина, сказала, что ей нравятся мои сочинения, и предложила встретиться. Я поинтересовался у Сережи, не знает ли, кто такая.
- Поздравляю, - сказал Сережа. - Ее внимание - показатель известности. Она предлагается каждому, кто, с её точки зрения, достаточно известен. Секс для неё как автограф - чтобы каждая знаменитость там у неё расписалась. Через её п...у прошла вся эмигрантская литература, а сейчас в связи с гласностью она расширяет поле своей сексуальной активности за счет необъятной нашей родины, не забывая при этом и об эмигрантах. Вам вот позвонила. Коллекционерка!
Не знаю, насколько Сережа был прав, но, сталкиваясь время от времени с этой женщиной, я воспринимал её уже согласно данной ей Сережей характеристике и всячески избегал участия в этом перекрестном сексе.
И так было не только с ней, но и со многими другими общими знакомыми. Удерживаюсь от пересказа таких анекдотов, чтобы не сместить мемуарный жанр в сторону сплетни, хотя кто знает, где кончается одно и начинается другое. Одному недописанному опусу я дал подзаголовок: роман-сплетня. Кто-то назвал литературное письмо Довлатова анекдотическим реализмом - не вижу в этом ничего уничижительного. Он и в самом деле хранил в своей памяти и частично использовал в прозе обширную коллекцию анекдотов своих знакомых (и незнакомых) либо про них самих. Кое-кто теперь жалуется, что Довлатов их обобрал, присвоил чужое. Я - не жалуюсь, но вот история, которая приключилась со мной.
Как-то я шутя сказал Сереже, что у моей жены комплекс моей неполноценности, а потом увидел свою реплику в его записных книжках приписанной другой Лене - Довлатовой. Самое смешное, что эта история имела продолжение. Действуя по принципу "чужого не надо, своё не отдам", я передал эту реплику героине моего романа "Похищение Данаи". Роман, ещё в рукописи, прочла Лена Довлатова. Против кочевой этой реплики она деликатно пометила на полях: "Это уже было". Так я был уличен в плагиате, которого не совершал. А Вагрич Бахчанян жаловался мне, что половина шуток у Довлатова в "Записных книжках" - не Сережины, а его, Вагрича, но если он когда-нибудь издаст их как свои, его будут судить за плагиат.
Больше жалоб, однако, не со стороны обиженных авторов, а героев его литературных, эпистолярных и письменных анекдотов. Я ещё расскажу о персонажах в поисках автора.
А что он рассказывал другим обо мне?
По нескольким репликам в опубликованных письмах судить не берусь они написаны до нашей дружбы и, как он сам говорил, "в некотором беспамятстве".
Главной причиной его злословия была, мне кажется, вовсе не любовь к красному словцу, которого он был великий мастер, а прорывавшаяся время от времени наружу затаенная обида на людей, на жизнь, на судьбу, а та повернулась к нему лицом, увы, посмертно. Я говорю о его нынешней славе на родине.
В последние год-два жизни он тщательно устраивал свои литературные дела в совдепии: газетные интервью, журнальные публикации, первые книжки. Гласность только зачиналась, журналисты и редакторы осторожничали, и помню, какое-то издательство - то ли "Совпис", то ли "Пик" - поставило его книгу в план 1991 года, что казалось мне тогда очень не скоро, но Сережа не согласился:
- Но 91-й год ведь тоже наступит. Рано или поздно.
Для него - не наступил.
Купив "Новое русское слово" и заодно немного провизии, мы отправлялись к Довлатовым чаевничать, сплетничать и трепаться о литературе. Как раз "приемы" друг другу мы устраивали редко ввиду территориальной близости и ежевечерних встреч - отсюда возбуждение Сережи в связи с "козлом":
Володя, добавление к предыдущему mes... предыдущему messagе'у. Лена уже приступила к изготовлению козла, так что отступление невозможно. Я вам буду звонить. Привет.
А вот приглашение, которое Довлатов вынужден был через пару часов отменить:
Володя! Привет! Это Довлатовы говорят, у которых скопились какие-то излишки пищи. Я хотел... Я думал, может, мы что-нибудь съедим. По пирожному или по какой-нибудь диковинной пельмене? А вас нету дома. О, по телевизору Турчина показывают. Как это неожиданно. И невозможно. Ого!.. Ну, потом разберемся. Я вам буду звонить. Искать вас.
Сам он был, мне кажется, не очень привередлив в еде - его больше увлекало готовить другим, чем есть самому. А пельмени готовил замечательно - из трех сортов мяса, ловко скручивая по кругу купленное у китайцев специальное тесто, которое называется "skin", то есть кожа, оболочка. Получалось куда вкуснее, чем русские или сибирские пельмени.
Володя! Это Довлатов говорит. Значит, сегодня, к сожалению, отменяются возможные встречи, даже если бы удалось уговорить вас. Дело в том, что у моей матери сестра умерла в Ленинграде, и она очень горюет, естественно. То есть тетка моя. Одна из двух. Так что... Ага. Надеюсь, что с котом все в порядке будет. Я вам завтра позвоню. Всего доброго.
Сережа был тесно связан со своей родней, а с матерью, Норой Сергеевной, у них была тесная связь, пуповина не перерезана, с чем мне, признаться, никогда прежде не приходилось сталкиваться - слишком велик был разрыв между отцами и детьми в нашем поколении. Он вообще был человеком семейственным, несмотря на загулы, и не только любил свою жену ("Столько лет прожили, а она меня до сих пор сексуально волнует", - говорил при ней полушутя-полусерьезно), но и гордился её красотой, хотя само слово "красивый" было не из его лексикона - по-моему, он не очень даже понимал, что это такое: красивая женщина или красивый пейзаж. Одна из лучших его книг "Наши" - о родственниках: по его словам, косвенный автопортрет - через родных и близких. Его чувство семейной спайки и ответственности ещё усилилось, когда родился Коля (дочь Катя была уже взрослой).
За месяц до смерти он позвонил мне, рассказал о спорах на радио "Свобода" о моем "Романе с эпиграфами" и напрямик спросил:
- Если не хотите мне дарить, скажите - я сам куплю.
Он зашел за экземпляром романа, которому суждено было стать последней из прочитанных им книг. А в тот день Сережа засиделся. Стояла августовская жара, он пришел прямо из парикмахерской и панамки не снимал - считал, что стрижка оглупляет. Нас он застал за предотъездными хлопотами - мы готовились к нашему привычному в это время броску на север.
- Вы можете себе позволить отдых? - изумился он. - Я - не могу.
И в самом деле - не мог. Жил на полную катушку и, что называется, сгорел, даже если сделать поправку на традиционную русскую болезнь, которая свела в могилу Высоцкого, Шукшина, Юрия Казакова, Венечку Ерофеева. Сердце не выдерживает такой нагрузки, а Довлатов расходовался до упора, что бы ни делал - писал, пил, любил, ненавидел, да хоть гостей из России принимал: весь выкладывался. Он себя не щадил, но и другие его не щадили, и, сгибаясь под тяжестью крупных и мелких дел, он неотвратимо шел к своему концу. Этого самого удачливого посмертно русского прозаика всю жизнь преследовало чувство неудачи, и он сам себя называл "озлобленным неудачником". И уходил он из жизни, окончательно в ней запутавшись. Его раздражительность, злоба, ненависть отчасти связаны с его болезнью, он сам объяснял их депрессией и насильственной трезвостью, мраком души и даже помрачением рассудка. Я понимал всю бесполезность разговоров с ним о нем самом. Он однажды сказал:
- Вы хотите мне прочесть лекцию о вреде алкоголизма?
Ему была близка литература, восходящая через сотни авторских поколений к историям, рассказанным у неандертальских костров, за которые рассказчикам позволяли не трудиться и не воевать - его собственное сравнение. Увы, в отличие от неандертальских бардов, Довлатову до конца своих дней пришлось трудиться и воевать, чтобы заработать на хлеб насущный, и его рассказы, публикуемые в престижном "Нью-Йоркере" и издаваемые на нескольких языках, не приносили ему достаточного дохода.
"Мое бешенство вызвано как раз тем, что я-то претендую на сущую ерунду. Хочу издавать книжки для широкой публики, написанные старательно и откровенно, а мне приходится корпеть над сценариями. Я думаю, идти к себе на какой-нибудь третий этаж лучше снизу - не с чердака, а из подвала. Это гарантирует большую точность оценок.
Я написал трагически много - под стать моему весу. На ощупь - больше Гоголя. У меня есть эпопея с красивым названием "Один на ринге". Вещь килограмма на полтора. 18 листов! Семь повестей и около ста рассказов. О качестве не скажу, вид - фундаментальный. Это я к тому, что не бездельник и не денди". (Из неопубликованного письма.)
Так писал Довлатов ещё в Советском Союзе, где его литературная судьба не сложилась. С тех пор он сочинил, наверное, ещё столько же, если не больше, а та "сущая ерунда", на которую он претендовал, так и осталась мечтой.
Он мечтал заработать кучу денег либо получить какую-нибудь престижную денежную премию и расплеваться с радио "Свобода".
- Лежу иногда и мечтаю. Звонят мне из редакции, предлагают тему, а я этак вежливо: "Иди-ка ты, Юра, на х..!"
Хоть он и был на радио нештатным сотрудником и наловчился сочинять скрипты по нескольку в день, халтура отнимала у него все время, высасывала жизненные и литературные силы - ни на что больше не оставалось. Год за годом он получал отказы от фонда Гугенхейма. Особенно удивился, когда ему пришел очередной отказ, а Аня Фридман, его переводчица, премию получила. В неудачах с грантами винил своих спонсоров, что недостаточно расхвалили. В том числе - Бродского, другой протеже которого (Юз Алешковский) "Гугенхейма" получил.
Нельзя сказать, что Ося Сереже не помогал - напротив: свел его с переводчицей, рекомендовал на международные писательские конференции, отнес его рассказы в "Нью-Йоркер". И тем не менее их связывали далеко не простые отношения.
"Иосиф, унизьте, но помогите", - обратился он как-то к Бродскому, зная за ним эту черту: помочь, предварительно потоптав. Это была абсолютно адекватная формула: Бродский унижал, помогая, - или помогал, унижая, - не очень представляя одно без другого. Довлатов зависел от Бродского и боялся его - и было чего! Не он один. Помню, как Сережа, не утерпев, прямо на улице развернул "Новое русское слово" и прочел мою рецензию на новый сборник Бродского. Мне самому она казалась комплиментарной - я был сдержан в критике и неумерен в похвалах. А Сережа, дочитав, ахнул:
- Иосиф вас вызовет на дуэль.
К тому времени Бродский стал неприкасаем, чувствовал вокруг себя сияние, не выносил никакой критики, а тем более панибратства.
Сережа не унимался:
- Как вы осмелились сказать, что половина стихов в книге плохая?
Любая интрига, пусть воображаемая, приводила Довлатова в дикое возбуждение.
- Это значит, что другая половина хорошая.
- Как в том анекдоте: зал был наполовину пуст или наполовину полон? рассмеялся Сережа.
В другой раз, прочитав мою похвальную статью на совместную, Бобышева и Шемякина, книжку "Звери св. Антония", сказал:
- Иосиф вам этого не простит, - имея в виду известное - не только поэтическое - соперничество двух поэтов, бывших друзей.
Как Янус, Бродский был обращен на две стороны разными ликами: предупредительный к американам и пренебрежительный к эмигре, демократ и тиран. Однажды, предварительно договорившись о встрече, Довлатовы явились к нему в гости, но он принимал некоего важного визитера и заставил их часа два прождать на улице, пока не освободился. Сережа со страшной силой переживал эти унижения, но шел на них - не только из меркантильных соображений, но и бескорыстно, из услужливости, из пиетета перед гением. Говорун от природы, он испытывал оторопь в присутствии Бродского, дивясь самому себе: "Язык прилипает к гортани". Среди литераторов-эмигрантов шла ожесточенная борьба за доступ к телу Бродского (при его жизни, понятно): соперничество, интриги, ревность, обиды - будто он женщина. Довлатов жаловался: "Бродский недоступен", но часто выигрывал, только чего ему стоили эти победы! И чего он добивался? Быть у гения на посылках?
Помню такой случай. Приехал в Нью-Йорк Саша Кушнер, с которым Бродский в Ленинграде всегда был на ножах, раздражаясь на его благополучную советскую судьбу, что и составило сюжетную основу моего "Романа с эпиграфами". И вот Саше понадобилась теперь индульгенция от нобелевского лауреата - в частности, из-за того же "Романа с эпиграфами". Мало того, что вынудил Бродского сказать вступительное слово на его вечере, он хотел теперь получить это выступление в письменном виде в качестве пропуска в вечность. Бродский в конце концов уступил, но предпочел с Сашей больше не встречаться, а в качестве письмоносца выбрал Довлатова. "Никогда не видел Иосифа таким гневным", - рассказывал Сережа. Гнев этот прорвался в поэзию, когда Бродский обозвал Кушнера "амбарным котом", и эта стиховая характеристика перечеркивает все его вынужденные дежурные похвалы.
В мемуаре Андрея Сергеева (лучшем из того, что я читал о Бродском) рассказывается о встрече с Бродским в Нью-Йорке в аккурат перед вечером Кушнера, которого тот вынужден был представлять аудитории. А заглазно повторил о нем то, что говорил всегда: "Посредственный человек, посредственный стихотворец".
Довлатов рассказывал, как ещё в Ленинграде они с Бродским приударили за одной девицей, но та в конце концов предпочла Бродского. Бродский дает противоположный исход этого любовного поединка: в его отсутствие девица выбрала Довлатова. Странно, правда? В таких случаях ошибаются обычно в другую сторону. Кто-то из них запамятовал, но кто? А спросить теперь не у кого. Разве что у бывшей девицы, но женщины в таких случаях предпочитают фантазии.
Довлатов был журналистом поневоле, главной страстью оставалась литература, он был тонким стилистом, его проза прозрачна, иронична, жалостлива - я бы назвал её сентиментальной, отбросив приставшее к этому слову негативное значение. Он любил разных писателей - Хемингуэя, Фолкнера, Зощенко, Чехова, Куприна, но примером для себя полагал прозу Пушкина и, может быть, единственный из современных русских прозаиков слегка приблизился к этому высокому образцу. Пущенное в оборот акмеистами слово "кларизм" казалось мне как нельзя более подходящим к его прозе, я ему сказал об этом, слово ему понравилось, хоть мне и пришлось объяснить его происхождение от латинского clarus - ясный.
Иногда, правда, его стилевой пуризм переходил в пуританство, корректор брал верх над стилистом, но проявлялось это скорее в критике других, чем в собственной прозе, которой стилевая аскеза была к лицу. Он ополчался на разговорные "пару дней" или "полвторого", а я ему искренне сочувствовал, когда он произносил полностью "половина второго":
- И не лень вам?
Звонил по ночам, обнаружив в моей или общего знакомого публикации ошибку. Или то, что считал ошибкой, потому что случалось, естественно, и ему ошибаться. Сделал мне втык, что я употребляю слово "менструация" в единственном числе, а можно только во множественном. Я опешил. Минут через пятнадцать он перезвонил и извинился: спутал "менструацию" с "месячными". Помню нелепый спор по поводу "диатрибы" - я употребил в общепринятом смысле как пример злоречия, а он настаивал на изначальном: созданный киниками литературный жанр небольшой проповеди. Поймал меня на прямой ошибке: вместо "халифа на час", я написал "факир на час". Но и я "отомстил", заметив патетическое восклицание в конце его статьи о выборах нью-йоркского мэра что-то вроде "доживу ли я до того времени, когда мэром Ленинграда будет еврей, итальянец или негр".
Из-за ранней смерти, однако, его педантизм не успел превратиться в дотошность. Отчасти, наверно, его языковой пуризм был связан с работой на радио "Свобода" и с семейным окружением: Лена Довлатова, Нора Сергеевна и даже его тетка - все были профессиональными корректорами. Однако главная причина крылась в подкорке: как и многие алкоголики, он боялся хаоса в самом себе, противопоставляя ему самодисциплину. Я видел его в запое как-то спозаранок, когда торговля алкоголем в городе запрещена и ему нечем опохмелиться, притаранил ему, с разрешения Лены Довлатовой, початую бутыль водяры - не берусь описать, каков он был в то утро. Помню, он целый день названивал мне от одной дамы в Бруклине, куда уползал, как зверь-подранок в нору ("Не вздумай появляться в таком виде перед Леной", - предупредила его Нора Сергеевна за день до смерти), и, пересказывая мне мучившие его галлюцинации, говорил, что Босх, скорее всего, тоже был алкаш. К сожалению, ничем помочь я ему не мог. И никто не мог. За полгода до смерти, выкарабкавшись из очередного запоя, он сказал мне, что следующего ему не выдержать. Но я так привык к его запоям, что значения этим словам не придал.
Давным-давно, ещё в Ленинграде, я делал вступительное слово на его вечере в Доме писателей, но так ни разу при его жизни не написал о нем, хотя одна из моих литературных профессий - критика. Тем более сам он обо мне написал; когда на меня со всех сторон напали за опубликованную в "Нью-Йорк таймс" статью об академике Сахарове и не опубликованный тогда ещё "Роман с эпиграфами", Довлатов напечатал в редактируемом им "Новом американце" остроумную статью в мою (и Лены Клепиковой) защиту под названием "Вор, судья, палач". Теперь, перечитав эту статью, я понял, почему ему так не терпелось получить экземпляр "Романа с эпиграфами", когда он наконец был издан, - у него была на то личная причина. В той давней статье Довлатов приводит слова воображаемого оппонента:
"А знаете ли вы, что Соловьев оклеветал бывших друзей?! Есть у него такой "Роман с эпиграфами". Там, между прочим, и вы упомянуты. И в довольно гнусном свете... Как Вам это нравится?"
"По-моему, это жуткое свинство. Жаль, что роман ещё не опубликован. Вот напечатают его, тогда и поговорим".
"Вы считаете, его нужно печатать?"
"Безусловно. Если роман талантливо написан. А если бездарно - ни в коем случае. Даже если он меня там ставит выше Шекспира..."
К слову, в "Романе с эпиграфами" Довлатов упомянут бегло и нейтрально: когда разворачивается основной сюжет романа, в Питере его нет Сережа временно мигрировал в Таллин. Еще одна собака, зря на меня навешанная.
А в той своей "защитной" статье Довлатов к бочке меда добавил ложку дегтя:
"Согласен, - отвечал он имяреку. - В нем есть очень неприятные черты. Он самоуверенный, дерзкий и тщеславный. Честно говоря, я не дружу с ним. Да и Соловьев ко мне абсолютно равнодушен. Мы почти не видимся, хоть и рядом живем. Но это - частная сфера. К литературе отношения не имеет".
Статья Довлатова обо мне опубликована летом 1980 года - через какое-то время после неё мы и подружились. Он печатал нас с Леной в "Новом американце" и аккуратно приносил небольшие гонорары. Первым из нас двоих преодолев остракизм "Нового русского слова", он бескорыстно содействовал моим контактам с этим главным печатным органом русской диаспоры в Америке. Он же связал меня с радио "Свобода", где Лена Клепикова и я стали выступать с регулярными культурными комментариями. Мое литературное содействие ему скромнее: свел его с Колей Анастасьевым из "Иностранной литературы" и дал несколько советов, прочитав рукопись эссе "Переводные картинки", которое Сережа сочинил для этого журнала, а спустя полгода получил в Москве Сережин гонорар и передал его в Нью-Йорке его вдове.
На этот промежуток - с середины 80-х - и пришлась наша с ним дружба. На подаренной нам с Леной книге он написал: "Соловьеву и Клепиковой, которые являются полной противоположностью всему тому, что о них говорит, пишет и думает эмигрантская общественность. С.Довлатов".
Почему же я отмолчался о нем при жизни как литературный критик, о чем жалею сейчас? В наших отношениях были перепады, и мне не хотелось вносить в них ни меркантильный, ни потенциально конфликтный элемент. Довлатов вроде бы со мной соглашался:
- Что обо мне писать? Еще поссоримся ненароком... Да я и сам о себе все знаю.
Хотя на самом деле тосковал по серьезной критике, не будучи ею избалован. "Я не интересуюсь тем, что пишут обо мне. Я обижаюсь, когда не пишут" - ещё одна цитата из "Записных книжек".
Во всех отношениях я остался у него долгу - он помог мне освоить шоферское мастерство, написал обо мне защитную статью, принимал у себя и угощал чаще, чем я его, дарил мне разные мелочи, оказывал тьму милых услуг и даже предлагал зашнуровать мне ботинок и мигом вылечить от триппера, которого у меня не было, чему Сережа искренне удивился:
- Какой-то вы стерильный, Володя...
Мы откровенно высказывались о сочинениях друг друга, даже когда они нам не нравились, как, к примеру, в случае с его "Иностранкой" и моей "Операцией "Мавзолей", где я отдал спивающемуся герою босховские видения Сережи. Зато мне, единственному из его нью-йоркского окружения, понравился "Филиал", который он по-быстрому сварганил из своего неопубликованного питерского любовного романа "Пять углов" и журналистских замет о поездке в Калифорнию на славистскую конференцию. Теперь я понимаю причину такого читательского разночтения: у меня был испепеляющий любовный опыт, схожий с описанным в "Филиале", а у других его читателей из общих знакомых - не было. Им не с чем было сравнивать. В самом деле, как понять читателю без любовного опыта "Я вздрагивал. Я загорался и гас...", а я знал "Марбург" наизусть с седьмого класса, когда встретил свою первую (и единственную) любовь.
Недавно я прочел показания другой стороны описанного в "Филиале" любовного конфликта - реваншистские воспоминания первой жены Довлатова Аси Пекуровской (в повести она - Тася). К каждой главе Ася-Тася берет эпиграфом слова Бориса Поплавского про Аполлона Безобразова, с помощью этого оксюморонного имени характеризуя своего бывшего мужа, с которым продолжает, уже post mortem, любовную дуэль. Какой, однако, контраст: страстного, исступленного, безумствующего, травмированного любовью героя - и безлюбой самоупоённой фригидки.
Слава Довлатова такова, что можно ожидать половодья воспоминаний прототипов его псевдодокументальной прозы - реальных и мнимых. Он мифологизировал своих знакомцев, как бабелевский пан Аполек - приятелей, коллег, друзей, врагов, жен и любовниц. Слово за ними. Демифологизируясь, освобождаясь от литературных пут, они пользуются славой Довлатова, чтобы взять у него посмертный реванш и самоутвердиться.
Восстание литературных персонажей против мертвого автора.
Мыши кота на погост волокут.
А самые близкие, к сожалению, помалкивают.
В упомянутом фильме "Мой сосед Сережа Довлатов" интервьюер (то есть я) довольно агрессивно набрасывается на Лену Довлатову:
- Почему вы, самый близкий ему человек, с которым он прожил столько лет - двое детей, семейный быт, теснота общежития, споры, ссоры, скандалы, выяснения отношений - почему вы, которая знала его, как никто, ничего о нем не напишете? Как вам не стыдно, Лена!
И далее ей в укор привожу примеры двух других вдов - Бабеля и Мандельштама.
На что Лена резонно мне отвечает:
- Наверно, для одной семьи одного писателя достаточно.
Хотя в частных разговорах Лена рассказывает множество смешных и грустных историй: от повязанного ею бантиком к приходу гостей Сережиного пениса до прогулки втроем с Довлатовым и Бродским по белоночному Питеру, когда Ося прыгнул через разводящийся мост за упавшим с платья Лены ремешком, а потом - тем же манером - обратно.
Вполне в духе Бродского: помню, как он оттолкнул других претендентов (включая мужа) и, взгромоздив на руки, задыхаясь, попер пьяненькую Лену Клепикову по крутой лестнице к нам на четвертый этаж, после того как мы её приводили в чувство на февральском снегу. Было это в один из наших дней рождения, но убей бог, не припомню, в каком году. В 70-м? В 71-м?
Но это к слову.
А ещё я уговаривал ненадолго пережившего Сережу нашего общего соседа и его самого близкого друга Гришу Поляка сочинить мемуар о Довлатове. Поляк был человек, с которым - единственным - застенчивый Сережа не стеснялся. Он мог его обзывать тюфяком, засранцем и поцем, как-то спьяну даже заехал ему в ухо и разбил очки, и хотя близорукий Гриша без очков - не человек, он никак не отреагировал на удар, и на их дружбе этот эпизод не отразился. Гриша успел дать своим мемуарам, которые никогда уже не напишет, соответствующее название: "Заметки Фимы Друкера". Под этим именем Довлатов вывел его в повести "Иностранка". Образ ироничный и доброжелательный. В жизни Сережа тоже подшучивал над Поляком, но беззлобно:
- Гриша - книголюб, а не книгочей. Книг не читает, а только собирает и издает. Не верите, Володя? Спросите у него, чем кончается "Анна Каренина"?
Я любил Сережины рассказы, но мне не всегда нравился сглаженный, умиленный автопортрет в них.
- Уж слишком вы к себе жалостливо относитесь, - попенял я ему однажды.
- А кто ещё нас пожалеет, кроме нас самих? - парировал он. - Меня никто.
- Хотите стать великим писателем? - наступал я. - Напишите, как Руссо, про себя, что говно.
- Еще чего! Вот вы написали в "Романе с эпиграфами", и что из этого вышло? - напомнил мне Сережа о бурной реакции на публикацию глав из моего покаянного романа в "Новом русском слове".
Что же до упомянутого на ответчике четвероногого - "Надеюсь, что с котом все в порядке..." - то Сережа на редкость чутко относился к моим кошачьим страстям, хотя сам был собачником (до Яши у него была весьма интеллигентная фокстерьерша Глаша; как он говорил, "личность"). Дело в том, что, помимо двух котов-домочадцев - Чарли и Князя Мышкина, у нас время от времени появлялись временные, пришлые, подобранные на улице, которым мы потом приискивали хозяина, обзванивая знакомых. Тогда как раз я нашел кошку редкой турецко-ангорской породы и развесил повсюду объявления, ища её хозяина. Сережа, естественно, был в курсе. Прихожу домой и слышу на ответчике его возбужденный голос: он списал объявление, где безутешный хозяин предлагал за свою пропавшую кошку пятьсот долларов. Я тут же позвонил, но увы: пропавшая кошка оказалась заурядной дворняжьей породы. Плакали наши пятьсот долларов, которые я решил поделить пополам с Сережей. Да и хозяина пропавшей кошки жаль.
Еще Сережа повадился дарить мне разные кошачьи сувениры, коих здесь, в Америке - тьма-тьмущая. То я получал от него коробку экслибрисов с котами, то кошачий календарь, то бронзовую статуэтку кота, то кошачью копилку, а какое-то приобретенное для меня изображение кота так и не успел мне вручить: за несколько недель до его смерти я укатил в Квебек. Неожиданно он расширил сувенирную тематику и котов стал перемежать эротикой - копиями античных непристойностей. Звонил мне прямо с блошиного рынка дико возбужденный (само собой, не эротически): "Володище, я приобрел для вас такую статуэтку - закачаетесь!" Мне кажется, он привирал, называя ничтожную сумму, которую на них тратил, - был щедр и умел опутывать близких сетью мелких услуг и подарков. А вот я так и не отдарил ему ничего собачьего, хотя он однажды и намекнул мне - у меня были печати с котами для писем, Сереже они приглянулись, и он спросил: а нет ли таких же собачьих? И вот незадача - печати с собаками мне попадались, но в основном с пуделями и немецкими овчарками, а с таксами или фокстерьерами - ни разу. Так что и в этом отношении я его должник.
Слушая его "мемо" на моем автоответчике, я не всегда могу вспомнить, о чем в них речь - столько времени прошло, контекст утерян. Вот, к примеру:
Хозяин востребовал Горького, черт побери. Я, это самое, позвонил вот вам, а вас нет. Ну, ладно, я вас буду искать. Вы, так сказать, не виноваты. Но в общем имейте в виду, что... Надеюсь, что вы ненадолго уехали.
Понятно, речь идет о Максиме Горьком, но, убей меня Бог, никак не припомню, чтоб брал у него Горького, которого не перечитывал со студенческих лет и не собираюсь. Или он говорит о статье Парамонова про Горького? А в другой раз интересуется, "как там Ахматова, за которой уже некоторый хвост выстроился?". Сборников её стихов и прозы у меня самого навалом - может, на этот раз речь шла о мемуарах Лидии Чуковской?
Вспомнил! Он дал мне прочесть рукопись книги Наймана об Ахматовой, которая удивила меня незначительностью наблюдений и плоским стилем. Вообще, если говорить честно, среди "ахматовских сирот" было два таланта (Бобышев, Рейн), один гений (Бродский) и один бездарь (Найман). А про его мемуар об Ахматовой я так и сказал Сереже: унылая книга. Он с удовольствием согласился, но добавил:
- Хорошо, что это вы говорите, а не я.
К слову, он и саму Ахматову не больно жаловал, считая, что её стихи мало чем отличаются от песен Утесова.
В отличие от меня, Довлатов по нескольку раз в неделю бывал на радио "Свобода", откуда иногда приносил нужные мне для работы книги и регулярно "мониторинги", дайджесты советской прессы. (После Сережиной смерти эти "курьерные" функции взял на себя Боря Парамонов - спасибо обоим.) В таких делах Довлатов был исключительно аккуратен и безотказен - для него было удовольствием выполнять чужие просьбы, даже если они были обременительны, и, выполнив их, он ворчал. А часто не дожидался просьб - сам предлагал свои услуги.
Он был перфекционистом и педантом не только в прозе, но и в жизни развязавшиеся шнурки, неточное слово, неверное ударение либо неблагодарность одинаково действовали ему на нервы, с возрастом он становился раздражителен и придирчив. Зато как он был благодарен за любую мелочь! Накануне отъезда Юнны Мориц в Москву, он пришел с ней и Гришей Поляком к нам в гости и проговорился: наслаждается, когда за ним ухаживают и ему подают, но это так редко выпадает! Со стыдом вспоминаю, что был у него в гостях намного чаще, чем приглашал, хоть мы и пытались одно время соблюдать очередность, но из этого ничего не вышло.
Жаловался, что никто из друзей не помнит его дня рождения, и в день его смерти, не подозревая о ней, я послал ему из Мэна поздравительную открытку, которую получила уже его вдова - он не дожил до 49-летия десять дней.
У меня на ответчике несколько его "киношных" реплик - приглашений посмотреть у него по видео какой-нибудь фильм либо, наоборот, предупреждений против плохих фильмов, как, к примеру, в случае с "Невыносимой легкостью бытия":
Володя, это Довлатов. Я звоню всего лишь для того, чтобы вас предостеречь. Боже упаси, не пойдите смотреть фильм по Кундере. Это три с половиной часа невообразимой херни. Это не тот случай, когда одному нравится, другому нет. А это недвусмысленная, отвратительная, отвратительная грязная дичь. Привет.
А в другой раз приглашал на кинопросмотр:
Володище, это Довлатов. Я совершенно забыл, что вы отъехали с палаткой. Я вас хотел зазвать на модный советский кинофильм "Человек с бульвара Капуцинов". Значит, теперь, когда вы вернетесь, мы, скорее всего, уже уедем. Но порыв был, что и отметьте. Целуем.
Действительно, каждое лето мы разъезжали с палаткой - а теперь даже для пущего комфорта с двумя - по американским штатам и канадским провинциям. Купив дом в Катскилских горах, Сережа всячески зазывал в гости, объяснял, как доехать, рисовал план. Я сказал, что рядом кемпграунды, где мы можем остановиться, но он предлагал разбить палатку прямо у него на участке, хвастая его размерами. Так я и не воспользовался его приглашением, и впервые побывал в их доме недели две спустя после его смерти, когда мы с Леной Довлатовой приехали забрать восьмилетнего Колю с дачи - в тот день он узнал о смерти отца.
Вот подряд три приглашения на кино, которые я обнаружил, однажды вернувшись домой, и которые сохранились на автоответчике:
Володя, это Довлатов. Я звоню, чтобы убедиться в следующем. Я... мы сейчас поедем по делам, в часа два или в час, или в два вернемся, и вот... Я хотел бы вас заручить в промежутке от шести до восьми кино смотреть, с чаем и с сосиской. Просто я не знаю, будете ли вы в это время дома. Я буду еше в течение дня звонить, раз уж я вас сейчас не застал. Ну, всего доброго, всех приветствую.
*
Володя, Довлатов опять домогается вас. Во-первых, по-моему, у вас отвратительное произношение английское, извините за прямоту. С другой стороны, я вас как бы разыскиваю так напряженно, потому что я хочу кино. Я не знаю, то ли вы надолго уехали... Але!..
*
Володя, это Довлатов опять. Меня прервали в прошлый раз. Я вас продолжаю разыскивать напряженно. Если... Как только вернетесь, позвоните, пожалуйста. Привет. Всех обнимаю. Я приобрел редкостной итальянской колбасы в расчете на ваш изысканный вкус. И желаю вас угощать колбасой и смотреть кино. Привет.
Кажется, это был фильм об американском саксофонисте Чарли Паркере в Париже - как он спивается и погибает. Сережа его смотрел множество раз, и его так и распирало поделиться с другими. Только после смерти Сережи я понял, какие параллели с собственной судьбой высматривал он в этом фильме.
О смерти Довлатов думал много и часто - особенно после того, как врач сказал ему, чтоб предостеречь от запоев - ложь во спасение, - что у него цирроз печени. В "Записных книжках" есть на эту всегда злободневную тему несколько смешных и серьезных записей:
"Не думал я, что самым трудным будет преодоление жизни, как таковой".
"Возраст у меня такой, что, покупая обувь, я каждый раз задумываюсь:
А не в этих ли штиблетах меня будут хоронить?"
"Все интересуются - что там будет после смерти?
После смерти - начинается история".
"Божий дар как сокровище. То есть буквально - как деньги. Или ценные бумаги. А может, ювелирное изделие. Отсюда - боязнь лишиться. Страх, что украдут. Тревога, что обесценится со временем. И ещё - что умрешь, так и не потратив".
Пошли умирать знакомые и ровесники, и Довлатов говорил об этом с каким-то священным ужасом, словно примеряя смерть на себя. В связи со смертью Карла Проффера, издателя "Ардиса", он больше всего удивлялся, что смерть одолела такого физически большого человека. На что я ему сказал, что мухе умирать так же тяжело, как слону. Повесился Яша Виньковецкий - и Довлатов рассказывал такие подробности, словно сам присутствовал при этом. Был уверен, что переживет сердечника Бродского, и даже планировал выпустить о нем посмертную книжку - и ему было о чем рассказать. Заболевшему Аксенову предсказывал скорую кончину - тот, слава богу, жив до сих пор. У себя на ответчике я обнаружил Сережино сообщение об умирающем Геннадии Шмакове, нашем общем, ещё по Ленинграду, знакомом:
Володя, я не помню, сообщал ли я вам довольно-таки ужасную новость. Дело в том, что у Шмакова, у Гены, опухоль в мозгу и он в общем совсем плох. В больнице. Операция там и так далее. Счастливо.
О смерти он говорил часто и даже признался, что сделал некоторые распоряжения на её случай - в частности, не хотел, чтобы печатали его скрипты и письма. Как-то, уже в прихожей, провожая меня, спросил, будут ли в "Нью-Йорк таймс" наши некрологи. Я пошутил, что человек фактически всю жизнь работает на свой некролог, и предсказал, что его - в "Нью-Йорк таймс" - будет с портретом, как и оказалось.
Настал последний, трагический август в его жизни. Лена, Нора Сергеевна и восьмилетний Коля на даче, в Нью-Йорке липкая, мерзкая, чудовищная жара, постылая и постыдная халтура, что бы там ни говорили его коллеги, на радио "Свобода" с ежедневными возлияниями, наплыв совков, которые высасывали остатние силы, случайные приставучие бабы, хоть он давно уже, по собственному признанию, ушел из Большого Секса. И со всеми надо пить, а питие, да ещё в такую жару - погибель. Можно сказать и так: угощал обычно он, а спаивали - его.
Нет ничего страшнее в его предсмертной судьбе, чем друзья и женщины. У меня записан рассказ той, с которой он встретился за несколько дней до смерти (та самая коллекционерка, о которой Сережа говорил, что через её п...у прошла вся русская литература в изгнании), - она и сама считает, что виновата в его смерти. Так, не так - не мне судить, это её mea culpa, а мне ничего не остается, как наложить замок на уста мои. Рассказ о его последних днях вынужденно, поневоле неполный.
Когда он умер, Нора Сергеевна, которая, томясь, могла заставить Сережу повезти её после полуночи смотреть с моста на Манхэттен, крикнула мне на грани истерики:
- Как вы не понимаете! Я потеряла не сына, а друга.
Услышать такие слова от матери было жутковато.
Трагедия веселого человека.
Хочу, однако, кончить это его посмертное "соло" на веселой ноте.
Он никак не мог свыкнуться не только со смертью, но с возрастом, оставаясь в собственном представлении "Сережей" - как в юности, хоть и подкатывало уже к пятидесяти, до которых ему не суждено было дожить год и несколько дней. Время от времени он - не скажу, что раздражался, скорее удивлялся, что я его моложе, хотя разница была всего ничего: мы оба военного разлива, но Довлатов родился в сентябре 41-го, а я в феврале 42-го. И вот однажды прихожу домой, включаю ответчик и слышу ликующий голос Сережи, который до сих пор стоит у меня в ушах:
Володя, это Довлатов. Я только хотел сказать, что с удовольствием прочитал вашу статью во "Время и мы". Потом подробнее скажу. И ухмыльнулся, потому что Перельман [редактор журнала] в справке об авторах написал, что вы в 33-м году родились. Теперь я знаю, что вы старый хрен на самом деле. Всех целую. Привет.
ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА
ТРИЖДЫ НАЧИНАЮЩИЙ ПИСАТЕЛЬ
Недавно (но уже в прошлом столетии) Соловьев в Нью-Йорке делал фильм "Мой сосед Сережа Довлатов". Помимо самого Довлатова, в фильме были задействованы те, кто мог о нем интересно вспомнить. Пригласили и меня вспоминать. Оказалось, мне было что. Более того, моя память о Сереже (я только так его звала и впредь буду), и прежде всего - о ленинградском горемычном Сереже, безуспешно обивающем четырнадцать лет напролет пороги журнальных редакций, - заработала так интенсивно, что фильмовой вставки не хватило и захотелось оглянуться ещё раз уже на бумаге.
Как-то повелось вспоминать и писать о Довлатове - с легкой руки его автогероя - иронично, светло и в мажоре. По мотивам его эмоционально бестрепетной прозы и в тон ей. У меня в дневнике за ноябрь 1971 года записано: "Снова приходил Довлатов. Совершенно замученный человек. Сказал, что он - писатель-середняк, без всяких претензий, и в этом качестве его можно и нужно печатать".
Вспоминаю мытаря, поставившего рекорд долготерпения. Убившего годы, чтобы настичь советского гутенберга. И не напечатавшего ни строчки. Выделяю три исхода - по месту действия - Сережиных попыток материализоваться в печатном слове - в Ленинграде, Таллине, Нью-Йорке.
Ленинград: хождение по мукам
Семидесятые, их первая половина. Я работала в "Авроре" редактором прозы. Был такой молодежный журнал, как бы ленинградский подвид "Юности". Его давно и бесславно схоронили как никому не интересный и ничем не памятный труп.
Однако рождение "Авроры" летом 1969 года было событием чрезвычайным и крайне желательным для всех пишущих питерцев. Было отчего ликовать впервые за много-много лет, чуть ли не с зачина советской власти, в городе возник новый литературный, и притом молодежный, журнал. То, что это был ежемесячник для молодых, предполагало - даже для идеологических кураторов журнала - необходимую дозу экспериментаторства, хотя бы тонового куража, хотя бы стилевого модернизма.
Короче, журналу была дана некоторая, очень скудная и загадочная, свобода в выборе авторов и их текстов. На их партийной фене молодежный журнал должен быть боевым, задорным, зубастым и клыкастым. Не знаю, куда уполз этот крокодил. На самом деле быстро набирала убойную силу реакция после оттепельной эйфории, которая и так не слишком была сильна в городе на Неве. Новорожденная "Аврора", начав неплохо ползать, самостоятельно ходить так и не научилась. Ее грозно опекали со всех сторон обком партии, комсомола и кураторы из КГБ.
Не только питерцы радовались и питали надежды. Новый печатный орган был моментально замечен и взят на прицел и такими, казалось бы, оттепельными суперменами, вкусившими кумирную славу, как Евтушенко, Окуджава, Фазиль Искандер, Аксенов, Стругацкие и злополучный (о чем ниже) Владимир Высоцкий. Не говоря уже о всесоюзных писателях среднего и ниже разбора. Просто к тому времени от оттепельного творческого разлива по стране не осталось ни ручейка, ни просто капели.
На первых порах "Аврора" была бездомна, и вся редакция - тринадцать человек - ютилась в двух комнатенках, уступленных из своих барственных апартаментов детским журналом "Костер". Горела плитка, на ней вздорно клокотал чайник, машинистка стучала застуженными пальцами с утра до позднего вечера и с обидой намекала на повышение зарплаты. Нагая лампочка в двести ватт тщетно силилась прострелить в упор дымовую завесу от курева. Это было время беспочвенного энтузиазма, либеральных замахов и совершенно утопических раскладов будущего "Авроры". Готовили по три варианта - если "там" зарежут - одного журнального номера.
Однажды возник на пороге, хватанув дверь настежь, совершенно не литературный на вид и уж точно тогда без всякого личного шарма, мастодонтный в зимнем прикиде Сережа Довлатов. И главная редакторша, не знавшая в лицо творческую молодежь, ещё успела с раздражением крикнуть ему, что не туда сунулся, ошибся дверью, вот и закрой её, сделай милость, с другой стороны. Сережа остолбенел, но быстро справился и даже пошутил о прелестях военного коммунизма. Так я впервые с ним встретилась в рабочем, так сказать, порядке. Прослышав об "Авроре", он принес сразу целую пачку своих рассказов, чего никогда не делал впоследствии, тщательно их дозируя. Очевидно, он где-то прослышал байку о левацком уклоне и дерзости нового журнала.
Я хорошо запомнила наш разговор с Сережей по причине совершенно посторонней, хотя нелепой и досадной и преследовавшей его до конца его хождений в "Аврору". При переезде редакции в новое помещение на Литейном Сережины рукописи затерялись в общем бардаке и были очень нескоро, года через два, найдены в архивах журнала "Костер".
А тогда в моем углу, где было ни присесть, ни притулиться, Сережа прошелся насчет образной скудости названия журнала по крейсеру. Совсем нет, говорю в шутку, журнал назван в честь розоперстной богини, дочери Посейдона, встающей - что ни утро - из синих океанских вод. Коли так, мгновенно реагирует Сережа, смотрите - вот орудийные жерла легендарного крейсера берут на прицел вашу розоперстную, ни о чем таком не подозревающую богиню. Ба-бах! - и нет богини. Только засранный крейсер. Да и тот заношен до дыр. Есть дрянные сигареты "Аврора", есть соименное швейное объединение, бассейн, кинотеатр, спортивный комплекс, ясли, мукомольный комбинат, закрытый военный завод и дом для престарелых коммунистов. Великий-могучий, отчего ты так иссяк? И Сережа, дурачась, изобразил идейно-лексическое триединство питерских взрослых журналов такой картинкой: течет революционная река "Нева", над ней горит пятиконечная "Звезда", стоит на приколе "Аврора". А на берегу возле Смольного пылает в экстазе патриотизма "Костер", зажженный внуками Ильича.
Что-то в этом роде. Сережина версия была точней и смешней. Он стоял в пальто, тщетно апеллируя к аудитории - никто его не слушал. Был старателен и суетлив. Очень хотел понравиться как перспективный автор. Но главная редактриса смотрела хмуро. И ни один, из толстой папки, его рассказ не был даже пробно, в запас, на замену рассмотрен для первых авроровских залпов.
Когда "Аврора" переехала в свои апартаменты на Литейном, Довлатов стал регулярно, примерно раз в два-три месяца, забегать с новой порцией рассказов. До "Авроры" он успевал побывать и уже получить отказы в "Неве" и "Звезде". Ему было за тридцать, он не утратил веру в разумность вещей и производил впечатление начинающего.
В первые авроровские годы сюда заходили взволнованно и мечтательно Стругацкие, Битов, Вахтин, Валерий Попов, Володин, Рейн, Соснора, Голявкин - весь питерский либерально-литературный истеблишмент. Да и московский наведывался. Случалось, их мечты сбывались. Бывало и так, что "Аврора", по принципиальному самодурству питерской цензуры, печатала то, что запрещалось цензурой московской. Так случилось с Фазилем Искандером, Стругацкими, Петрушевской. Так никогда не случилось с Бродским, Высоцким, Довлатовым. Чемпионом в пробивании своих вещей был Битов. У него была своя отработанная тактика давления на главного редактора. При отказе он изображал кровную, готовую в слезы, обиду. Стоял надувшись в редакторском кабинете, смотрел в пол, поигрывая ключами в кармане брюк, говорил глухо, отрывисто, горько - и неизменно выговаривал аванс, кавказскую командировку и печатный верняк.
Именно в "Авроре" была похоронена последняя надежда приникнуть к советскому печатному слову у Владимира Высоцкого. Несмотря на его гремучую славу, на то, что его основные тексты были на всеобщем - по Союзу - слуху, он как-то умильно, застенчиво, скромно мечтал их напечатать в какой-нибудь журнальной книжке. Или - совсем запредельная мечта - в своей собственной книге стихов. Он мечтал слыть поэтом, а не бардом. Бардностью он тогда начинал тяготиться.
Был ему от ворот поворот во всех столичных и периферийных журналах. От издательств - ещё и покруче. И тут в Ленинграде взошла незаметно и непонятно как "Аврора". Высоцкий выслал подборку стихов - почти все о войне. Горько патриотичны, скупо лиричны, тонально на диво - для неистового барда - умеренны, - стихи эти не только не выставляли, а как бы даже скрывали свое скандальное авторство и были актуально приурочены к какой-то годовщине с начала или с конца войны.
Комар носу не подточит. И у обкома не нашлось аргументов, хотя искали и продолжали искать. Цепенели от взрывного авторского имени. Помню эту подборку стихов Высоцкого сначала в гранках, затем в верстке, в таких больших открытых листах. С картинками в духе сурового реализма военной тематики. Поздно вечером Высоцкий с гитарой (обещалась и Марина Влади, но не прельстилась "Авророй") прибыл в редакцию, где его поджидали, помимо авроровских сотрудников и гостей, кое-кто и без приглашения, но это было нормально. И два часа - с одним перерывом - Высоцкий честно отрабатывал пока не потерял голос - свой единственный шанс стать советским поэтом. Только тогда обком среагировал как надо. Очень неприятно, судя по реакции Высоцкого, когда тебя подбивают у самого финиша. Вскоре и Довлатову предстояло, и ещё круче, испытать такое в Таллине.
Когда Довлатов допытывался однажды, отчего его не печатают, я привела идиотский, как я теперь понимаю, пример тотальной обструкции, которую ленинградские власти устроили поэме Евгения Евтушенко, отрезав все пути для компромиссного лавирования, к чему поэт был очень склонен. Но Довлатова этот случай глубоко поразил - не редкостной стервозностью питерской цензуры, а готовностью к любым компромиссам и отсутствию всяких творческих притязаний у самого поэта. Каторжные и стыдные условия советского успеха высветились тогда перед Сережей, ещё питавшим кой-какие иллюзии на этот счет, с резкой четкостью. Вот как было дело.
Весной 1970 года Евтушенко самолично прибыл в "Аврору" с поэмой об Америке. Позднее она была названа с некрофильским душком - "Под кожей статуи Свободы".
Открыто выступив против оккупации Чехословакии, глашатай хрущевских свобод был временно отлучен от печатного слова и даже стал на полгода невыездным, что явилось для поэта-гастролера неописуемой трагедией.
Абсурд зашел так далеко, что Евтушенко не мог напечатать свою антиамериканскую поэму в разгар антиамериканской истерии. Одна надежда была на провинцию. Точнее, на столицу русской провинции - Ленинград: на прогрессивный по неведению молодежный журнал "Аврора".
К поэме прилагались шикарные фотографии: Евтушенко и Роберт Кеннеди с бокалами в руках, поэт и все одиннадцать детей претендента на американский престол, поэт в обнимку со статуей Свободы.
Рукопись немедленно исчезла из редакции. "Там" её читали страстно, въедливо, с идеологической лупой в руках, с миноискателем. Читали про себя и вслух, с утра и до позднего вечера. Выискивали подвохи, засады, западни и ловушки, теракты и склады с оружием. Читали сразу несколько организаций ревниво, ревностно и не делясь результатами.
В итоге замечаний по существу набралось тридцать одно. Евтушенко в веселой ярости кусал заграничный паркер. Как ни странно, но эта адская работа вызывала в нем приступ азарта, похожий на мстительное вдохновение.
В кабинете главного редактора поэт быстро просмотрел цензурованную рукопись, задернул шторы, включил свет, попросил бумаги и черный кофе. К шести вечера он встал из-за стола. Тридцать одна правка - вставки, замены и подмены - была сделана.
К следующему вечеру поэма легла на редакторский стол с двадцатью четырьмя тактическими замечаниями, не считая курьезных. Евтушенко просидел в редакции ночь, и к утру новую поэму (ибо уже не оставалось ни одной неправленой строки) уже читали "там". К вечеру они внесли восемнадцать конструктивных предложений по коренной переделке поэмы. Евтушенко удовлетворил их все и даже - наугад - четыре сверх нормы.
Тогда, наконец, обком сдался. На четвертые сутки этого яростного поединка поэта с цензурой в редакции заурчал черный телефон, и обмирающая от страха наша редакторша выслушала грозный вердикт: передайте Евгению Евтушенко, что его поэма, несмотря на многократные исправления, напечатана быть не может, ибо дает повод к ухудшению отношений между СССР и США.
Довлатов высказался так: у Евтушенко стих не натуральный, а из синтетики.
Сдается мне, что из этого эпизода Довлатов извлек для себя мрачноватый итог: если всесоюзный кумир Евтушенко из кожи лезет ублажить цензуру, то как быть ему, безвестному автору, склонному к прямоговорению, пусть и утепленному юмором, но юмор этот репризен и в упор, как в анекдоте? Получая из редакций абсолютно немотивированные отказы, только - "не подходит" и "не годится", Довлатов пытался рационально вычислить признаки своего несоответствия печатным стандартам эпохи. Он не хотел, да и не мог виртуозно, как Евтушенко, халтурить, но был совсем не прочь достойно "соответствовать".
Изо всех сил он избегал, пока мог, социального отщепенства, литературного андеграунда, запальчивого нонконформизма. Он даже трогательно пробовал по редакциям настаивать на своих правах, на липовых правах автора-профессионала, каким себя ощущал, публиковаться в отечестве. Этот правовой напор в Довлатове исходил, конечно, из его четырехлетней работы в государственном секторе, когда он был хоть и малым, но полномочным представителем власти в зоне. И легализация его писательства одновременно бы утолила его ущемленное гражданское чувство.
Никто его не принимал всерьез - как оригинального писателя или даже вообще как писателя. Помню, у Битова, у Бродского, у Марамзина, у Ефимова, да у многих такой пренебрежительный - на мой вопрос - отмах: "А-а, Довлатов" - как легковеса. Наперекор его телесному громоздью.
Володя Торопыгин, следующий главный редактор "Авроры", посильно либеральный и верный всем подряд оттепельным идолам, обижался, когда я давала ему на одобрение Сережины рассказы. Он не считал, что ради Довлатова стоит нарываться на неприятности с цензурными людьми, на которые Торопыгин шел ради Стругацких, Володина, Валерия Попова, Битова, Сосноры и других.
На вечеринках у Игоря Ефимова, где гостей сажали, как в Кремле или Ватикане, по рангам, Сережа помещался в самом конце стола без права на женщину. То есть из тридцати гостей у педантичного Игоря трое самых ничтожных не могли приводить своих женщин. И Сережа, давя в себе позывы встрять, весь вечер слушал парный конферанс Наймана и Рейна, сидящих по обеим сторонам от сопредседателей - Ефимова и его жены. Находясь в загоне, Сережа сильно киксовал и развлекал таких же, как он, аутсайдеров в конце стола. "Смотрите все!" - и подымал с пола стул за одну ножку на вытянутой руке. Говорил, что так может он и ещё один австралиец. Единственное, что ему оставалось.
Сережа не обижался. Он признавал эту табель о рангах. Соглашался на низшие ступени в этой иерархии талантов. Мечтал когда-нибудь стать полноправным членом их элитарного клуба. Но, как всегда, опоздал. Бродский эмигрировал в Америку, Битов, Рейн и Найман - в Москву, Ефимов какое-то время удачно изображал остров - в изоляции от чумного литературного материка. Но это позднее. А пока что Довлатов ходил по редакциям.
Сразу взял такой, к общению не влекущий, тон: мол, его проза, её достоинства и недостатки, не обсуждается. И все допытывался, отчего не печатают. Трудоемко от низовых, как он называл, журнальных чиновников добивался до начальства - да так и не узнал, кто управляет литературой. Идиотская, на мой взгляд, пытливость. Иногда Сережа малодушничал. Раза два ловил меня на слове: если я соглашусь изменить, где вы сказали, есть гарантия - хотя бы на 50 процентов - что напечатают?
А добивался он, казалось, малого - не славы, не чинов, не денег просто работать по специальности, стать литератором. Чтоб, как он однажды съязвил на свой счет, малому кораблю - малое плавание, но плавание, черт возьми, а не простой в порту.
Кто тогда из молодых, талантливых, гонимых не пытался поймать за хвост советского гутенберга?
Бродский, вернувшись из ссылки, как, впрочем, и до, мечтал напечататься в отечестве. Носил стихи во все питерские журналы. Вещал на подъеме в отделах поэзии. В срок справлялся о результате. Огорчался не сильно, но все-таки заметно огорчался. И никогда не интересовался резонами, полагая отказ в порядке вещей.
В "Аврору" он забегал не только со стихами, но и поболтать с приятелями в просторном холле, заглянуть к юмористам, ко мне, к обожавшей его машинистке Ирене, пообщаться с Сашей Шарымовым, ответственным секретарем и англоманом - он тогда тайком переводил стихотворную часть набоковского "Бледного огня". Как раз в отдел поэзии, в котором хозяйничала невежественная поэтесса, полагавшая кентавра сидящим на лошади, а Райнера Марию Рильке - женщиной, Бродский заходил только по крайней надобности.
С печатаньем было глухо, он был, что называется, на пределе и уже намыливался - тогда ещё только книжно - за границу. И обком, и опекуны-соседи из КГБ прекрасно понимали, какое это чреватое состояние.
Насчет гэбистского опекунства. Бродский заметил, что если взять за вершину разнобедренного треугольника, поставленного на Литейном проспекте, "Аврору", то две другие точки этого треугольника упрутся слева в логовище КГБ, справа - в дом Бродского. "Аврора" таким путем - это пункт связи между ним, к "Авроре" приближающимся, и гэбистами, ведущими за ним неусыпный надзор. Ход конем через "Аврору" - и он, хочешь не хочешь, в гостях у КГБ. Или - обратный ход конем - КГБ в гостях у него. В этом не было позерства. Однажды, когда Ося, договорившись зайти в "Аврору", передумал, гэбист под видом автора напрасно прождал его в фойе битый час.
Итак, в начале 70-го года Бродскому было внятно предложено занести в "Аврору" подборку стихов на предмет публикации. Бродский занес стремительно. Заметно приободрился. Всегда потрясает этот сияющий эффект надежды посреди кромешной тьмы безнадежности. Авроровская машинистка Ирена, и так в отпаде от Бродского, вдохновенно печатала его стихи. Затаивший надежду, как спартанского лисенка, Бродский излучал на всю редакцию уже нечеловеческое обаяние. Даже тогдашний главный редактор, партийная, но с либеральным уклоном дама Косарева подпала - заручившись, правда, поддержкой обкома - под интенсивные поэтовы чары.
В обкоме, просмотрев Осину подборку, предложили, как положено, что-то изменить. Не сильно и не обидно для автора. Бродский отказался, но заменил другим стихом. Еще пару раз обком и Бродский поиграли в эту чехарду со стишками. И одобренная свыше подборка была, впервые на Осиной памяти, поставлена в номер.
Ося так расслабился, что стал, по своему обыкновению, напускать мрак и ужас. Подпустил мне что-то о сестрорецком кладбище, где скоро будет и он лежать - это по поводу предстоящей ему в тамошней больнице операции геморроя. Так он заговаривал зубы своей, ни на какие компромиссы не идущей, советской судьбе.
Впрочем, перспектива сверления больного зуба также связывалась у него напрямую со смертной мукой. И в итоге - с кладбищем. Он вообще охотно и часто себя хоронил. Короче, обком с КГБ на компромисс с публикацией Бродского пошли, а вот Осины коллеги - группа маститых и влиятельных поэтов - бурно воспротивились.
Поздним вечером в пустой "Авроре" собралась в экстренном порядке редколлегия молодежного журнала, средний возраст шестьдесят семь, исключительно по поводу стихов Бродского, уже готовых в номер. Ретивые мастодонты раздолбали подборку за малую художественность и сознательное затемнение смысла. "Пижон! - ласково укоряла Вера Кетлинская. - Зачем пишет: "...в недальнее время, брюнет иль блондин, появится дух мой, в двух лицах один"? Это же безграмотно: блондин-брюнет-шатен. Да разве и дух в волосах ходит? Ему, сопляку, ещё учиться и учиться. А сколько гонору!" - и много смеялись над волосатым духом. Не уловив простейшего метафорического парафраза. А если б и уловили - ещё бы больше куражились. Ангел-демон-Бог откуда у советского поэта религиозные позывы?
На публикацию Бродского в "Авроре" был наложен категорический запрет. Помню опрокинутое лицо партийной дамы Косаревой. Ну никак она не ожидала, что литературная своя братия окажется погромнее официальной. Помню, как Ося приходил, растравляя обиду и скорбь, забрать стихи. Ему бы с большим удовольствием отослали почтой или с курьершей - жил он рядом. Но послессылочный Бродский уже не позволял, когда мог, топтать его глухо, под ковром. Тоскливое и скучное его лицо показывало, как далеко зашла в нем последний раз в отечестве - надежда напечататься. Хотя бы в такой вшивой дыре, как "Аврора".
Вот он выходит из отдела поэзии в коридор, где я его поджидаю и завлекаю в свой кабинет - объясниться. Он нехотя идет, садится на угол стола, обхватив себя, как бы ежась, руками - типичная у него неприязненная поза, - я рассказываю, как Кетля задурила на блондина и брюнета, и вдруг скорби как не бывало. Ося как бы очнулся, сообразив, в какое болото попал.
И тут вошел, заняв собой всю дверь, Сережа Довлатов. Страшно оживился, увидев Бродского. Брякнул некстати: "Ага, и ты сюда ходишь!" Бродский вспыхнул, схватил со стола свою папку и был таков. "Что такое, что с ним такое?" - удивился Довлатов и стал выспрашивать подробности.
Между ними тогда не было притяжения, скорее - отталкивание. Довлатов был до мозга костей прозаик. Бродский - маниакально зациклен на стихах. К тому же у них были разные представления о художественном. И как ни пытается, после смерти Довлатова, Бродский, ратуя за первородство поэзии, возвысить Сережину прозу в ранг стиха, остается в силе пушкинское "общее место" по поводу их, поэзии и прозы, равноценной полярности: стихи и проза столь различны меж собой, как вода и камень, лед и пламень. Но это - к слову.
Кстати, больше Бродский стихи не носил в "Аврору". И вообще завязал с советским печатным словом. Ценил свое время и нервы. Довлатов продолжал, и даже с большей частотой, обивать пороги непреклонных редакций. Его упорство - уже десятилетнее, страдальческое, без проблеска надежды походило на истерику. Когда, в ответ на Сережины жалобы, я приводила примеры редакционных мытарств Бродского, Наймана, Рейна, даже Высоцкого, стихи которого у нас рассыпали в верстке, Сережа всегда возражал: они особый случай, они - со славой, он - рядовой писатель и в этом качестве должен иметь рутинный доступ к читателю. Это, говорю, из Вяземского с пренебрежением - "рядовое дарование". Ни в коем случае, возражал Сережа, никакого пренебрежения, тем более - снижения. Примите за факт.
Никто из знакомых мне по "Авроре" пишущих людей - ни начинающий автор, ни тем более маститый - не имел столь мизерного сознания своей авторской величины. Много позднее Довлатов, мучимый даже в Нью-Йорке тотальным непечатанием его на родине, нашел, как ему казалось, исчерпывающий ответ:
"Я начал писать в самый разгар хрущевской оттепели. Издавали прогрессивные книжки... Я мечтал опубликоваться в журнале "Юность". Или в "Новом мире"... Короче, я мечтал опубликоваться где угодно. Я завалил редакции своими произведениями. И получил не менее ста отказов. Это было странно. Я не был мятежным автором. Не интересовался политикой. Не допускал в своих писаниях чрезмерного эротизма. Не затрагивал еврейской проблемы... Я писал о страданиях молодого вохровца, которого хорошо знал. О спившихся низах большого города. О мелких фарцовщиках... Я не был антисоветским писателем, и все же меня не публиковали. Я все думал - почему? И, наконец, понял. Того, о чем я пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует".
Возвращаюсь к Довлатову в Ленинграде. У него была любопытная для тех лет убежденность, что он со своей прозой попадает в яблочко времени, что его заждался читатель, что его точно ждет успех - только бы напечатали. Он изнывал по читателю. По массовому, всесоюзному. Элитного не ценил, не знал, ему не верил.
Однажды я, утомившись отказывать, посоветовала ему оставить раз и навсегда надежду и соответственно стратегию (в его случае трудоемкую) напечататься в отечестве во что бы то ни стало и чего бы ни стоило. А стоило, говорю, многого. Большего, чем мог он вынести пристойно. Только что не ревел при очередном отказе. Боялся, что время, его время пройдет, так и не узнав его, любимого. А в любви к нему сегодняшнего дня не сомневался. Знал свою цену, щедро отводил себе роль мухи-однодневки в текущей прозе. Тогда он страшно оскорбился, этот сумрачный гигант-кавказец с глазом пугливой газели, и процедил мне сквозь зубы, упирая на каждый слог: "Вы никогда не писали и потому не знаете, как дозарезу необходим иногда читатель". Его слова.
Его как-то ощутимо подпирало время. Была жгучая потребность реализации. Я была потрясена, когда он, разговорившись, выдал что-то вроде своего писательского манифеста. Приблизительно так: я - писатель-середняк, упирающий на мастерство. Приличный третий сорт. Массовик-затейник. Неизящный беллетрист. У меня нет тяги в будущее. Я - муха-однодневка, заряженная энергией и талантом, но только на этот день. А её заставляют ждать завтра и послезавтра. А вы предлагаете мне писать для себя и в стол. Все равно что живым - в гроб.
Весной 1975-го Довлатов зачастил в "Аврору". Это была чисто волевая, на последнем отчаянии, его осада советской печатной крепости. Рукописи Сережа держал в таких очень изящных, даже щегольских папках. Ручной работы. Он приносил эти папочки, и я их, поскольку печатать это было невозможно, очень аккуратно складывала в шкаф для отказов. Как сейчас вижу: нижняя полка шкафа и там такая стопка папок, а наверху надпись от руки, от моей руки - возвратить Сергею Довлатову.
Сережа суеверно за рукописями не приходил. Последнее его приношение, к счастью, лежало у меня в столе. Как раз в это время в отделе прозы появился новый заведующий - Вильям Козлов. Человек глубоко невежественный и склонный к моментальным, без всяких сомнений поступкам. В свой первый рабочий день Козлов заявился в редакцию рано утром, и вскоре туда забежала ватага пионеров за макулатурой. Страна переживала очередной бумажный кризис. И кто-то, видно, в райкоме дал пионерам наводку на "Аврору" как этакий резервуар макулатуры. Секунды не подумав, Козлов пригласил их в отдел прозы и предложил весь шкаф со всеми рукописями, включая Сережины папки.
Не хочется вспоминать реакцию Довлатова, когда он пришел, наконец, за рукописями. Были там гнев, желчь, недоумение, обида. Но была для него в этом макулатурном применении его рассказов и мрачная символика. Как будто все, что он делал эти годы, уничтожено и никому не нужно. Перерезано. И он снова становился начинающим писателем.
Таллин: бросок на ближний Запад
Начинающим писателем он поехал в Таллин. Никому там был неизвестен. Попал в Эстонию случайно. Главное для него тогда было - рвануть из Ленинграда, где в силу сцепления негативных обстоятельств ему стало беспросветно и удушливо. Без метафоры и без гиперболы, как пояснял позднее Сережа, - просто нечем дышать.
В повести "Ремесло" Довлатов пишет об этом своем внезапном броске на ближний Запад бесстрастно и скупо:
"Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья?.. Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности".
Он отрицал в прозе слишком сильные отрицательные эмоции. Равно как и положительные, но их ему на жизнь перепало не так много. Так мало, что он счел необходимым - для душевного баланса - изобретать их, форсировать да попросту измышлять. Вот как он пишет об этой самотерапии "призраком счастья":
"В чем причина моей тоски? Откуда у меня чувство безнадежной жизненной непригодности? Я хочу в этом разобраться. Постоянно думаю об этом. Мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья".
Он был настолько обделен дарами счастья и хорошо это знал о себе, что однажды воспринял как откровение мое сообщение о том, что если поставить губы в позицию улыбки, то чисто рефлекторно человек испытает прилив радости. Или даже небольшой душевный подъем. И чем проникновенней, с большим расплывом выйдет улыбка, тем сильнее прихлынет эта даровая, поддельная радость. И Сережа тут же испробовал рефлекторную реакцию нервов на несколько разных улыбок. Но я отвлеклась от Довлатова в Таллине.
А тогда, перед Таллином, ситуация сложилась для многотерпеливого Сережи настолько травматическая, да попросту убойная, что он, по личному признанию, был близок к помешательству. Рывок в Таллин - и он пришел в себя. Трезво оглядел окрестности. Это была спасительная - на мощном у него тогда инстинкте выживания - авантюра. Он начинал все сначала. Но и за спиной его питерской жизни был нуль достижений. Как-то в "Авроре" я показала ему латинскую формулу nullo numero homo - нулевой человек, т.е. полное ничтожество. Сережа мгновенно сказал: это я. К слову о его питерском самочувствии.
Поэтому начинал он в Таллине кропотливо, с большим запасом терпения, готовясь к обычным советским мытарствам. Пустил в ход свой обаятельный дар налаживать знакомства, контакты, полезные и опасные связи, любовь и вражду. Никакой стратегии у него на тамошний отсек Союза писателей не было. Он даже не надеялся печатно обустроить свое авторство. Начинал с газетной халтуры. Его писательство было так унижено и оскорблено, что он, по свидетельству его эстонской подруги, придумал термин "автор текста", считая, что называть себя "прозаик" - слишком заносчиво.
Но все это - в самом начале. А потом подул, впервые в Сережиной авторской судьбе, встречный ветер. Появилась возможность издать свою первую книгу. И вероятность стать членом Союза писателей. Положительная, внутри издательства, рецензия на рассказы. Подписание договора. И все это - в крайне смешные сроки. Гранки, вторая корректура. Это была какая-то волшебная феерия успеха. Встречный ветер дул не переставая почти до самого конца.
В "Авроре" о Довлатове не вспоминали. Заметив, что в почте нет его рассказов, я поинтересовалась, что с ним. Кто-то мило пошутил, что Довлатов попросил политическое убежище в Эстонии, стал эстонцем, женился на эстонке и вообще обуржуазился вполне по-эстонски. Одним словом, процветает.
Затем, с большим промежутком, восторженно завистливый гул: выпускает сразу две книжки - взрослую и детскую, метит в ихний Союз писателей. И все. Больше о Довлатове - ни звука. Что обе книжки были зарублены на стадии верстки местным КГБ, я узнала случайно именно в Таллине и при самых мрачных обстоятельствах.
Кажется, в марте и точно в 1975 году "Аврора", вместе со своим авторским активом отправилась пропагандировать себя в соседний Таллин. Эстонское мероприятие называлось так - "У нас в гостях журнал "Аврора". Собственно, знакомство "Авроры" с русскими писателями Эстонии состоялось давно. У меня - всегда под рукой на случай цензурного выброса в самый последний момент - хранились две папки: одна с переводными рассказами западных классиков, другая с рассказами русских эстонцев. В отличие от питерских авторов, которых цензура все больше браковала, эстонские авторы писали патриотично, лирично и серо. То что надо.
Нас поселили в шикарной гостинице. В холле с живым кустарником, дорической колоннадой и купольным потолком можно было гулять, как в саду. Экзотические напитки с соломинками в бокалах отпускались неограниченно и безвозмездно. Было волнующее ощущение заграницы. Потом выступали ленинградские и таллинские авторы "Авроры", читали стихи, рассказы, юморески. Сидя за столом на сцене, я искала в зале бывшего ленинградца, а теперь преуспевающего таллинца Сережу Довлатова. Ну не мог он не прийти на встречу с "Авророй", с питерскими друзьями и коллегами. Но Довлатова нигде не было.
После выступлений мы с поэтом Сашей Кушнером прогуливались по Таллину, и вдруг он говорит: "А сейчас я вам покажу что-то очень любопытное".
Несколько слов о моем спутнике. Кушнер тогда крепчал как советский поэт. С отъездом Бродского стал своего рода анти-Бродским: тоже еврей, тоже интеллигент, тоже неофициозный поэт. А вот ни он не мешает советской власти, ни она ему. Регулярные публикации в журналах и сборники стихов, союзписательские льготы и привилегии. Такова была точка зрения на него властей. А его собственная? Мирное и даже с оттенком лиризма сосуществование литературы и власти. В России можно жить, жить можно только в ней, в ней нужно жить и можно печататься.
При такой, с сердечным позывом, лояльности и ненавязчивом, а главное - абсолютно искреннем сервилизме, Кушнер был поэтом на все времена. Его душевный конформизм обеспечивал ему вполне комфортное существование при всех режимах - и в житейском плане, и в творчестве. Он к этому благополучию привык и свое редкое литературное везение счел за норму.
Лично мне и в голову не пришло бы в те дальние годы упрекнуть Сашу Кушнера в ловком приспособленчестве, которое к тому же как-то органично увязывалось с его непритязательным - всегда на иждивении у русской классической музы - талантом.
Но полюбовно-примирительное решение Кушнером всегда крутого на Руси конфликта "поэт и власть" было уязвимо. Годилось на одноразовое - лично для Кушнера - применение. И было подвергнуто разносной критике со стороны той части творческой интеллигенции, которая не нашла этого паллиативного пути и вынуждена была вступить в конфронтацию с властями либо покинуть страну.
К сожалению, Кушнер счел нужным защищать свою поэтическую крепость. Это была какая-то оргия самооправданий. Своим критикам он предъявлял доказательства от противного, которых было навалом в стране, а несколько наглядных примеров имелось и в Питере. Вот чем кончилось у тех, кто пытался, в обход государства, создать непечатную литературу: их ждет либо тюрьма, как Марамзина, либо высылка, как Бродского, а там уже творческий упадок (чему примером все, доходящие из-за бугра, стихи того же Бродского), либо призрачное существование литературного андеграунда. Либо... именно в Таллине, где мы прогуливались с Сашей Кушнером, находился тогда важный для него контраргумент в споре с теми, кто упрекал его в сервилизме.
И вот он предложил мне что-то очень любопытное - с видом заговорщика, с азартным огоньком в глазах. Я не знала что, это была его тайна. Предвкушала изящно-сюрпризное - что-нибудь в таллинском стиле.
Пару слов обо мне. По сугубой нужде контекста. Я тогда довольно часто выступала с литературной критикой в "Новом мире", "Литературном обозрении", "Звезде", "Неве" и т. д. В издательстве "Советский писатель" только что одобрили в печать мою книгу о Пришвине, но в конце концов зарубили. Саша тогда прислушивался к моим литературным оценкам. Мы с ним прохладно дружили.
Мы вышли из старинного центра Таллина, архитектура становилась скучней - все менее эстонской, все более окраинно советской. Тревожное ощущение заграницы - всегда его испытывала в Таллине - пропало. Что-то вроде доходного - огромного, облезлого и старого - дома. Темная и пахучая заскорузлым жильем - лестница. Мне неловко - без приглашения в чужой домашний интим. Ничего, успокаивал Саша, меня здесь знают, всё удобно.
Помню, мы вошли в очень большую и почти без мебели комнату, и в углу - по диагонали от входа - сидел на полу Довлатов. Человек, убитый наповал. Но живущий ещё из-за крепости своих могучих, воистину былинных, богом отпущенных ему лет на сто хорошей жизни - физических сил.
Он сидел на полу, широко расставив ноги, как Гулливер с известной картинки, а перед ним - как-то очень ладно составленные в ряд - стояли шеренги бутылок. На глаз около ста. Может быть, больше ста, - винных, водочных и, кажется, даже коньячных. Неизвестно, сколько времени он пил может быть, две недели. Это было страшное зрелище. Я и сейчас вспоминаю его с дрожью. Во-первых, невозможно столько выпить - фактически, весь винно-водочный погребок средней руки - и остаться живым. А во-вторых, передо мной сидел не алкоголик, конечно. Передо мной - в нелепой позе поверженного Гулливера - сидел человек, потерпевший полное крушение своей жизни. И алкоголизм - все эти бутылки - был самым адекватным выражением этой катастрофы его жизни, его писательской жизни - иной Довлатов для себя не разумел.
Тягостно было смотреть, как он - ещё на полпути к сознанию - силился вникнуть в Саши Кушнера расспросы да ещё держать при том достойный стиль. Было его ужасно, дико жаль. Мне казалось, иного - не сочувственного отклика на этот крах всех надежд человека и быть не могло.
Потому так поразила меня реакция Кушнера: торжество победителя. Он откровенно веселился над фигурой Довлатова у разбитого корыта своей писательской судьбы. И хихикал всю обратную дорогу. Был отвратителен. И этого не понимал совсем.
Любопытно, что эстонский кульбит Довлатова повторил буквально - ход в ход - через семь лет писатель Михаил Веллер. Буквально, но - не в пример Довлатову - хэппи-эндно. Ему, как и Довлатову, ничего не светило в Ленинграде. Откуда он отбыл, в довлатовском возрасте тридцать одного года, в Таллин. С единственной целью издать там, по стопам Довлатова, свою первую книгу. В Таллине получил, как и Довлатов, штатную должность в той же, что и Довлатов, газете. Но, в отличие от своего предтечи, Веллеру удалось выпустить книжку в таллинском издательстве и стать членом Союза писателей. Ко всему прочему Довлатову ещё редкостно, стервозно не везло.
Веллер до сих пор проживает в Таллине. Городе его золотой мечты. Очень живо и свежо ненавидит одиннадцатилетнего покойника Довлатова. Это нормально для эпигона.
Дико соблазняет проиграть Сережину судьбу по Веллеру. С эстонским хэппи-эндом. Ведь он мог, вполне мог, вкусив печатного счастья, остаться в Таллине навсегда, как Веллер. И - никаких Америк. Какой бы вышел тогда из него, интересно, писатель?
Однако после всех этих авторских бедствий и неудачной - опять же литературной - эмиграции в Эстонию Довлатову ничего не оставалось, как эмигрировать по-настоящему - в Америку.
Нью-Йорк: дебют - триумф - смерть
В Америку приехал начинающий снова писатель. Он получил здесь то, что никогда не пробовал, даже не знал на вкус - неограниченную творческую свободу. Понравилось чрезвычайно. Оказалось, что в его случае - это первое условие, залог и гарант настоящей творческой удачи. Только в Америке Довлатов узнал, наконец, и правильно понял себя-свою авторскую потенцию, запросы, вкусы, цели, фобии и притязания, - ведь до сих пор он был совершенно непритязательным автором. О чем не раз писал. В своем ремесле он был приверженцем литературного блеска. Так сказал о себе Валерий Попов, который тогда писал лучше Довлатова, но бросил эту тяжкую стезю и стал многоводным реалистом. Довлатов был верен блеску до конца.
В Нью-Йорке он, как и в Таллине, приготовился начать с нуля. Уехал в эмиграцию с горя, с отчаяния, износив до дыр и умертвив, наконец, свою патологически живучую надежду напечататься на родине. На Америку надежд не набежало. Он утратил способность к их производству. Уехал, как мотылек летит из тьмы на любой источник света.
Первый год в Нью-Йорке производил впечатление оглушенного - в смуте, в тревоге, но без отчаяния. О литературе не помышлял. Не знал и не видел, с какого боку к ней здесь подступиться. Пытался трудоустроиться вне литературы. Ходил на ювелирные курсы в Манхэттене, реквизировав у жены на расплав в сырье серебряные кольца и браслет. Стоически убеждал себя и других, что способен делать бижутерию лучше мастеров, что руки его отлично приспособлены к микропредметному ремеслу, что это у него от Бога и хватит на жизнь. Чуть позже Сережа загорелся на сильно денежную, по его словам, работу швейцара - в пунцовом мундире с галунами - в роскошном отеле Манхэттена. Говорил, что исключительно приспособлен - ростом, статью и мордой - для этой должности. Что кто-то из очень влиятельных русских обещался её достать по блату. Что он уже освоил по-английски весь словарный запас учтивого швейцара: "Эй, такси!", "Позвольте подсадить", "Ваши чемоданы!", "Премного благодарен". И что-то ещё из низменных профессий он на полном серьезе осваивал.
Эта его - на целый год - заминка в дельной ориентации случилась из-за его совковых предрассудков. Тот год он прожил в Нью-Йорке как окончательно заблудившийся человек, но с точным знанием, в какую сторону ему надо выбираться. В Союзе Сережа добивался официального признания своего писательства. Издательства, журналы, газеты, которых он вожделел так же сильно и столь же безнадежно, как землемер у Кафки свой Замок, были государственными институтами - на государственном обеспечении и режиме работы. В русском Нью-Йорке Довлатов таких учреждений не нашел и принял это за неизбежность, смирился.
Что печатный орган может возникнуть из частной инициативы, из личных усилий - пришло как откровение. Не всегда радостное. Долго еще, готовя в печать свои домодельные книжки-тетрадки, со своими рисунками, дизайном, набором, в бумажных обложках и ничтожным тиражом, Довлатов сокрушался по недоступным ему советским типографиям с их высоким профессионализмом, громадными тиражами и щедрыми гонорарами. Участь советских писателей на дотациях у велферного государства была ему завидна. Но постепенно особенно в связи с американским успехом - эти сожаления ушли. Хотя все свои книги он издавал в убыток. И широко раздаривал друзьям.
Короче, именно в эмиграции, в русской колонии Нью-Йорка питерский американец Довлатов стал крепким писателем с хорошо различимой авторской физиономией. Он уже не называл себя "рядовым писателем". Он притязал на большее. Он был словарный пурист, он сжимал фразу до предельной выразительной энергетики, был скуп со словами, укрощал их, запугивал - ни одно не смело поменять свое место в тексте. При этом в его рассказах легко и просторно, как в хорошо начищенной паркетной зале. Это была та самая изящная и даже изысканная беллетристика, которой так стращали писателей в советские времена. Трудно ему было с сюжетом. Случалось связывать обрывки анекдотом, причем портативным, переносным - из рассказа в рассказ. Но в основном он был здесь в хорошей писательской форме.
Оглядываясь сейчас на Довлатова в Нью-Йорке, дивишься его изобретательской энергии, его экспрессивной затейности, его, совершенно недоходной, но бурной предприимчивости. Он подбил здешних журналистов и литераторов на массу убыточных изданий - от "Нового американца" до "Русского плейбоя". Попутно были другие, довольно трудоемкие, затеи. Вроде устного журнала "Берег". К своим литературным начинаниям Довлатов привлекал эмигрантов, живущих разобщенно - надомниками - в разных углах Нью-Йорка. Вокруг него всегда клубился народ. Он любил сталкивать и стравлять людей, высекая сильные чувства и яркие реакции. Всеми силами и приемами, не заботясь об этике, Довлатов добивался расцветить "тусклый литературный пейзаж русского Нью-Йорка" - кормовую базу его эмигрантской прозы. Совершенно сознательно он обеспечивал себя литературной средой, без которой - он это твердо знал - писателя не существует.
О себе, о своей "рядовой, честной, единственной склонности" Довлатов действительно знал все. Знал, например, что не сможет сделать длинную вещь. Что склонен к человеческой экзотике, к маскарадным характерам. Что его психологизация - условная, игровая, летучая, не закрепленная в персонаже. И что все это вместе взятое - не порок, а свойство его писательского мастерства, личная мета.
Он также знал и часто повторял, что человек, тем паче - писатель стоит столько, во сколько сам себя ценит. И в нью-йоркские годы, когда Довлатов-писатель окончательно состоялся, он приложил немало усилий на выработку у своей прозы этой достойной, уверенной, без тени сомнения или слабости, осанки. Которая есть точный знак нажитого мастерства.
Вспоминаю, что Довлатов говорил о своем ремесле.
Потому он не употребляет мата и непристоя, что это не функциональные слова, а декоративные, вычурные, выспренние, слишком нарядные, красивые наоборот, такое словесное барокко. А у него в текстах всякое слово, междометия включая, - на строгом производственном отчете и учете. И никакого выпендрежа, тем более - описательных пустот.
Говорил, что у него - как в писательстве, так и в жизни - нет совсем воображения. Ну абсолютно всегда должен держаться за землю. Оттого, возможно, что эта вот земля - все зримое, тривиальное, будничное, прямо перед глазами поставленное - ему безумно и единственно что интересно. Зачем ещё выдумывать? Ему невнятна - ну просто ни с какого боку - любая фантастика, включая научную, и всякие - построенные на усилении - боевики, триллеры и детективы. "Мне совершенно безразлично, кто кого и зачем убил. Сама постановка вопроса непостижима".
Не любил в прозе - как и в стихах - высокого и умного. Говорил, что писатель не создает сознательно высокое искусство. Что если он работает с такой установкой, то результат будет художественно ущербный - не на высоте писательских претензий. Это - в огород Бродского, которого Сережа тогда побаивался, считал влиятельным литературным вельможей, зависел от его, Бродского, милостей, отпускаемых Сереже скупо, туго и оскорбительно. Довлатов был так подавлен, а скорее - затравлен авторитарностью Бродского, что при случае выпаливал как клятву: он - гений, классик, идолище, лучший из русских поэтов, критиковать его не смею и, чтобы не было позыва, книг его последних не читаю вовсе.
Но, конечно, примириться или принять за норму литературный деспотизм Бродского Сережа не мог - хотя бы из юмора, и, случалось, бунтовал напрямую или, чаще, вприглядку. Помню очень смешную сценку у нас дома, когда Сережа с упоением и священным ужасом внимал, как я рискнула "дать по шапке гению" (его слова).
Говорили о наклоне Бродского в прозе рассуждать наугад, наобум и в лоб, прикрываясь тоновой спесью и крутостью стиля. Я не могла простить ему оплошной фразы - а их десятки! - что по России, как и в жестковатом семействе Бродских, плачут редко.
Я возражала:
"Кабы так, другая бы жизнь была у страны - порезвей, добыточней, умственней. А так - вся морда России в слезах. Слезы очень расслабляют нацию - до полного изнеможения. Особенно в 50-е годы - как их должен был помнить мальчиком Бродский, - когда отходили от шока войны и массовых казней. И вот зашлась, захлюпала вся нация, со всеми своими нацменьшинствами и невзирая на их темпераменты и разные нравы. Так оттаивает стекло после снежных и крутых морозов.
Плачу, и рыдаю, и захожусь в плаче, и уже не хочу перестать, такая экзальтация рыданий, а потом бурные всхлипы и икота на полчаса - до упадка сил и потери сознания. Это нервы гудят и воют у тронутой России - как провода под токами высокой частоты. Куда ни глянь по улице, в квартире, на природе - всюду слезоточивый настрой, у мужиков и баб едино.
Готовность к плачу в народе моментальна, и повод нужен самый ничтожный - чем радостнее, тем рыдательней. При радости, от дуновения счастья особенно обильно льются российские слезы, до истерики. Не унять, как ни старайся, ни кривись.
Мужчины плачут тайком и втихомолку. Женщины в России плачут в охотку и не таясь. Как рыбы в воде, в рыдательной стихии отечества.
Всего этого, лезущего в глаза и в душу, Бродский не схватывал. "Я, Боже, глуховат. Я, Боже, слеповат". В стихах не врал почти никогда".
"Еще!" - инфантильно потребовал Сережа, когда я, наконец, иссякла. Он был услащен критикой Бродского. Не из злорадства, конечно. Он ликовал, когда элементарные нормы литературного общежития, попранные Бродским, были - хотя бы частично и мимолетно - но восстановлены. Это как бы отлаживало систему мер и веса в Сережиной пунктуальной душе.
Бродский эмигрантскую публику - единственный тогда Сережин читательский контингент - третировал. Поставил себя безусловно вне критики и даже обсуждения. Так замордовал читателя-соотчича, что тот и пикнуть невпопад страшился. Впопад и в жилу было: корифей-титан-кумир. В ином для себя контексте Бродский в дискурс не вступал.
Мы его шутя звали генералиссимусом русской поэзии. Он любил раздавать генеральские чины своим поэзо-соратникам и однопоколенникам. Имитируя славу Пушкина и его плеядников. В стихах был аристократом. В стратегии и тактике по добыванию славы и деньжат - плебей и жлоб. Что не могло не сказаться и на стихах.
Что ещё мне тогда хотелось сказать о Бродском? Точнее, самому Бродскому. Как много раз бывало в Ленинграде, и он выслушивал по поводу стихов - однажды целую ночь напролет в его комнате в компании с Соловьевым и Кушнером - внимательно и охотно.
А вот что:
"Стихи он писал в России. В Америке - обеспечивал им гениальное авторство, мировую славу, нобелевский статус. Поэтическая судьба его закончилась в России. За границей он стал судьбу делать сам.
Канонизировался в классики. Взращивал у себя на Мортон-стрит лавровое деревце на венок от Нобеля. Сооружал пьедесталы для памятников себе. Страдал неодолимой статуйностью. Дал понять современникам и потомкам, что мрамор предпочтительнее бронзы. Эстетичней и долговечней. Это когда побывал в Риме и прикинул на себя статую римского императора. Тотчас признался в стихах, что чувствует мрамор в жилах.
Все это ужасно смешно.
Ося, окстись. Перестань осанниться. Приди в себя, наконец. Не суфлируй потомкам, это смешно. Сойди с пьедестала, не позируй в классика, это нелепо. Не бронзовей и не мрамори по собственному почину, это уже фарс. Не надо работать за потомков. Не стоит создавать высокое искусство. Мифы, слава и бессмертие - дело времени, а не личных усилий.
Говоря о стихах, очень бы советовала Бродскому забыть сумму углов треугольника, печоринский скептицизм, площадь квадрата в круге, дрязги пространства со временем и стебный жест рукой крест-накрест".
"Все! Я этого не слышал! - выкрикивал Сережа с наигранным ужасом. - Я ухожу. Я уже ушел!" Вот так мы с ним однажды, незадолго до его смерти, поговорили.
Насчет смерти. Несмотря на грандиозные запои, из которых выползал все с большими потерями - для здоровья, Сережа о смерти не помышлял. Просто не держал в уме. Смерть не входила в круг его интересов, размышлений и планов. Исключая последние три месяца жизни. Он мог говорить, что из следующего запоя не выкарабкается, он собирал и пристраивал свой литературный архив, но в глубине души и до мозга костей он в смерть для себя не верил. Или запретил её для себя даже в предположении. Часто прикидывал старость. Заботился её обеспечить. К смерти, к мертвому у него была резко эстетическая неприязнь. Мертвого - друга, приятеля, родственника - он сразу отметал. Как-то глумливо самоутверждался на смерти ровесников. Чужая смерть давала ему допинг на жизнь.
Сережа был фанатом - и в работе, и в жизни - настоящего протяженного. Отсюда - выпуклый животрепещущий сюр его рассказов. В жизнь это вносило привкус сиюминутной вечности. Довлатов принадлежал к числу тех жизнеодержимых людей, которые, взглянув на старинную картину, гравюру или фотографию с людьми, тут же воскликнут: все - мертвецы.
Интенсивно, в упор переживая настоящее, Сережа не интересовался будущим временем. Говорил, что будущее для него - это завтра, в крайнем случае - послезавтра. Дальше не заглядывал. Прошедшее его не угрызало - он отправлялся туда исключительно по писательской нужде. Был равнодушен к памяти - она его не жгла. Он также был не большой охотник кота назад прогуливать. В пережитое наведывался только по делу, за конкретностью, которой был фанатик.
Раз заходит ко мне Сережа с необычным для него предложением - вместе вспомнить старое. Не из сентиментальности, а для работы. Что-то заело в его фактографе из 50-х годов. Давняя конкретность ускользала. Вот он и предложил прогуляться по словарю вспять - до вещного мира нашего детства.
Были извлечены из 35-летней могилы чернильницы-непроливашки в школьных партах, промокашки, вставочки и лучшие номерные перья. Обдирный хлеб, толокно, грушевый крюшон и сливовый "спотыкач" (Сережа не вспомнил), "песочное кольцо", слойки и груша Бере зимняя Мичурина. Среди прочего чулки фильдекосовые и фильдеперсовые, трикотажные кальсоны с начесом и с гульфиком - в бежевых ходили по квартире и принимали гостей. Как в лагере выкладывали линейку еловыми шишками. Вечерние рыдания пионерского горна: спаать спаать по па-лааа-там.
И тут моя память переплюнула Сережину. Забежав по привычке в кондитерский магазин, я там уцепила, среди киевской помадки, подушечек в сахаре, всевозможных тянучек, ирисок и сосулек, в соседстве с жестянками монпансье, но на самом дальнем краю детства - крохотный, сработанный под спичечный, коробок. Драже "Октябрята" - белые и розовые, со сладкой водичкой внутри и тусклой этикеткой хохочущих октябрят. Кажется, это был первый послевоенный выпуск карамели с жидким наполнением. Во всяком случае, тогда открытие этих драже было для меня сладким откровением. Сережа "Октябрят" не помнил, да и не знал. Но был дико уязвлен - он забыл само слово "драже".
Свой писательский эгоцентризм Довлатов постепенно - не имея долгое время печатного исхода - развил до истовости, до чистого маньячества. Он считал, например, что счастливо ограничен для своего единственного призвания. Как пчела, он обрабатывал только те цветы, с которых мог собрать продуктивный - в свои рассказы - мед. Остальные цветы на пестром лугу жизни он игнорировал. То есть поначалу он, пестуя в себе писателя, по-рахметовски давил в себе иные, посторонние главному делу, интересы и пристрастия, а затем уже и не имел их. И, освободившись от лишнего груза, счел себя идеальным инструментом писательства. На самом деле он был прикован к своей мечте, как колодник к цепям. С той разницей, что свои цепи он любил и лелеял.
Довлатов не понимал страсти к путешествиям, к ближним и дальним странствиям, да просто к перемене мест. Он клеймил такие, чуждые ему, порывы с брезгливостью: "Туризм - жизнедеятельность праздных". То, что он не понимал, он отрицал.
Отрицал музеи, любовь и тягу к природе, само понятие живописности. Был равнодушен к старому Петербургу, белым ночам и пушкинским местам. Бедность в разбросе интересов Довлатов почитал своей силой, несомненным преимуществом над коллегами, вожделеющими не только писательства. Многосторонность интересов, влечений и отвлечений в писателе Довлатов осуждал, как слабость или даже как профессиональный порок. В самом деле, его автогерой в прозе - тоже писатель - удивительно самодостаточен и плотно набит всякой жизнью. Сам же автор паниковал и мучился - не имея куда отступить - в моменты рабочего простоя или кризиса. Зона его уязвимости была необычайно велика.
Не стоит прижимать писателя к его авторскому персонажу. Они не близнецы и даже не близкие родственники. Даже если анкетные данные у них совпадают точка в точку. У довлатовского автогероя - легкий покладистый характер, у него иммунитет против жизненных дрязг и трагедий, он относится с терпимой иронией к себе, сочувственным юмором к людям, у него вообще огромный запас терпимости, и среди житейского абсурда - то нелепого, то смешного, то симпатичного - ему живется в общем не худо.
Оттого герою в рассказах живется легко и смешливо, что сам автор в реальной жизни склонен к мраку, пессимизму и отчаянию. Литература, которой Довлатов жил, не была для него - как для очень многих писателей отдушиной, куда сбросить тяжкое, стыдное, мучительное, непереносимое - и освободиться. Не было у него под рукой этой спасительной лазейки.
Я помню Сережу угрюмым, мрачным, сосредоточенным на своем горе, которому не давал не то чтобы излиться, но даже выглянуть наружу. Помню типично довлатовскую хмурую улыбку - в ответ на мои неуклюжие попытки его расшевелить. Особенно тяжко ему приходилось в тот год перед последним в его жизни 24 августа. Вернувшись из перестроечной Москвы с чудесными вестями, я первым делом отправилась к Сереже его обрадовать: в редакциях о нем спрашивают, хотят печатать, кто-то из маститых отозвался с восторгом, это настоящая слава.
Сережа был безучастен. Радости не было. Его уже не радовали ни здешние, ни тамошние публикации, ни его невероятное регулярное авторство в "Нью-Йоркере", ни переводные издания его книг. Он говорил: "Слишком поздно". Все, о чем он мечтал, чего так душедробительно добивался - к нему пришло. Но слишком поздно. Даже сын у него родился, которого вымечтал после двух или трех разноматочных дочерей. И на этот мой безусловный довод к радости Довлатов, Колю обожавший, сурово ответил: "Слишком поздно". Дело в том, думала я, что за долгие годы непечатания и мыканья по советским редакциям у Сережи скопилось слишком много отрицательных эмоций. И буквально ни одной положительной. Если принять во внимание его одну, но пламенную страсть на всю жизнь - к литературе. И те клетки в его организме, что ведают радостью, просто отмерли. Вот он и отравился этим негативным сплошняком.
Причин для безрадостности в тот последний Сережин год было много: и радиохалтура, и набеги московско-питерских гостей, и, как следствие, его запои на жутком фоне необычайно знойного, даже по нью-йоркским меркам, того лета. Что скрывать - у Довлатова был затяжной творческий кризис. Ему не писалось - как он хотел. У него вообще не писалось. Была исчерпанность материала, сюжетов - не только литературных, но и жизненных. Его страдальческий алкоголизм в эти месяцы - попытка уйти, хоть на время, из этого тупика, о который он бился и бился. Очень тяжко ему было перед смертью. Смерть, хотя внезапная и случайная, не захватила его совсем врасплох.
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
ПРИЗРАК , КУСАЮЩИЙ СЕБЕ ЛОКТИ повесть
После "Романа с эпиграфами", который стал эпицентром самого крупного в русской диаспоре литературного скандала, ни один другой мой опус не вызывал такой бурной реакции, как повесть "Призрак, кусающий себе локти". Может, не сама даже повесть, сколько её главный герой, в котором многие читатели опознали Сережу Довлатова. Хотя у меня он назван иначе: Саша Баламут - в первой публикации этой повести в периодике (ежеквартальник Артема Боровика "Детектив и политика") и в моем московском сборнике, на обложку которого я вынес название этой повести ("Культура", Москва, 1992). Публикуя эту повесть заново под этой обложкой, я решил снять нарочитую фамилию героя - пусть будет Саша Б. или просто Саша.
Что любопытно - хотя повесть опубликована была в Москве, скандал разыгрался в Нью-Йорке, где проживали её автор, герой и прототип. Газета "Новое русское слово", флагман русской печати в Америке, несколько месяцев кряду печатало статьи по поводу допустимого и недопустимого в литературе. Начал дискуссию публицист Марк Поповский статьей "Зачем писателю совесть?" - он узнал себя в одном из героев Довлатова, страшно на него обиделся и отнес его прозу к жанру пасквиля ("... именно Довлатов в течение многих лет оставался главным в жанре пасквиля", "Во всех без исключения книгах Довлатова... нет ни одного созданного автором художественного образа", "Критики упорно обходили нравственную, а точнее, безнравственную сторону его творчества"), а заодно подверстал в пасквилянты Валентина Катаева, Владимира Войновича, Эдуарда Лимонова и других авторов. Затесался в эту дурную компанию и Владимир Соловьев с повестью "Призрак, кусающий себе локти".
Я принял участие в этой дискуссии дважды. Сначала со статьей "В защиту Сергея Довлатова", а потом, когда эпицентром скандала стал я, со следующей статьей - "В защиту Владимира Соловьева".
Поиски прообразов литературных персонажей - занятие само по себе безвредное, я отношу его к занимательному литературоведению. Другое дело, что с отождествлением вымышленных персонажей с их реальными вроде бы прототипами надо быть предельно осторожным. Даже в таких очевидных вроде бы случаях, как Карнавалов в романе Войновича "Москва-2042" либо Кармазинов у Достоевского в "Бесах". Несомненно, писатели пародируют своих собратьев по перу - соответственно Солженицына и Тургенева. Но пародия - это не копия, писатель - не копировальная машина. С другой стороны, пародия - не пасквиль. В сталинские времена "Бесы" и в самом деле проходили по разряду пасквиля, и мне было жаль, что дискуссия возвращает читателей к той примитивной эпохе - примитивной в обоих планах: эстетическом и нравственном.
Что касается Довлатова, то этот большой, сложный, трагический человек входил в прозу, как в храм, сбросив у его дверей все, что полагал в себе дурным и грязным. У меня иной подход к литературе, мы с Сережей об этом часто спорили в наших бесконечных прогулках окрест 108-й улицы в Форест-Хиллз. Мне казалось, что даже из литературы нельзя творить кумира, но уж никак я не могу назвать его тонко стилизованную прозу безнравственной. Бессмысленно превращать писателя Довлатова в какого-нибудь Селина, маркиза де Сада или, на худой конец, Андрея Битова. Другой почерк, другой литературный тип, но люди с деревянным ухом этого не улавливают. Так же, как мнимого автобиографизма прозы Довлатова: все его персонажи смещены супротив реальных, присочинены, а то и полностью вымышлены, хоть и кивают, и намекают на какие-то реальные модели.
Куда труднее мне говорить о повести "Призрак, кусающий себе локти" и её герое. В своих ответах моим зоилам я ссылался на формулу Флобера, который на вопрос, с кого он написал свою слабую на передок героиню, ответил: "Эмма Бовари - это я!" Тем более мне - ввиду гендерного сопадения - позволено сказать: Саша Баламут - это я, хоть я и увеличил ему рост по сравнению с моим, умножил число любовных похождений и сделал куда более обаятельным, чем являюсь я - увы. С пониманием этих вот элементарных законов художества можно уже подыскивать прототипы, которых часто несколько для одного литературного героя. Даже в самой великой автобиографии всех времен и народов - "В поисках утраченного времени" - у каждого из главных героев по три-четыре прототипа, тогда как сам Марсель Пруст растраивается на Марселя, Свана и Блока, а свой гомосексуализм раздает и вовсе неавтобиографическим героям.
Так я оправдывался, но критики железно видели в герое повести "Призрак, кусающий себе локти" Довлатова и ссылались на то, что Саша Баламут был пьяница и бабник, пока не умер от излишеств. "Ну мало ли в нашей литературной среде пьяниц и бабников..." - и я перечислял знаменитые имена. Я приводил пример с другим моим рассказом, "Вдовьи слезы, вдовьи чары", - по крайней мере четыре вдовы в России и три в эмиграции решили, что это про них, причем с двумя я не был даже знаком.
Почему я вспоминаю о том уже давнем скандале, публикуя заново повесть "Призрак, кусающий себе локти" в книге о Довлатове? Я хочу дать возможность читателю сравнить вымышленный все-таки персонаж с мемуарно-документальным. Не исключаю, что художественным способом можно достичь бoльшего приближения к реальности, глубже постичь человеческую трагедию писателя Сергея Довлатова.
Он умер в воскресенье вечером, вызвав своей смертью смятение в нашей иммигрантской общине. Больше всего поразился бы он сам, узнай о своей кончине.
По официальной версии, смерть наступила от разрыва сердца, по неофициальной - от запоя, хотя одно не исключает другого: его запои были грандиозными и катастрофическими, как потоп, даже каменное сердце не выдержало бы и лопнуло. Скорее странно, что, несмотря на них, он ухитрился дожить до своих пятидесяти, а не отдал Богу душу раньше. Есть ещё одна гипотеза - будто он захлебнулся в собственной блевотине в машине "скорой помощи", где его растрясло, а он лежал на спине, привязанный к носилкам, и не мог пошевельнуться. Все это, однако, побочные обстоятельства, а не главная причина его смерти, которая мне доподлинно известна от самого покойника.
Не могу сказать, что мы были очень близки - не друзья и не родственники, просто соседи, хотя встречались довольно часто, но больше по бытовой нужде, чем по душевной. Помню, я дал ему несколько уроков автовождения, так как он заваливал экзамен за экзаменом и сильно комплексовал, а он, в свою очередь, выручал меня, оставляя ключ от квартиры, когда всем семейством уезжал на дачу. Не знаю, насколько полезны оказались мои уроки, но меня обладание ключом от пустой квартиры делало более инициативным - как-то даже было неловко оттого, что его квартира зря простаивает из-за моей нерешительности. Так мы помогли друг другу избавиться от комплексов, а я заодно кормил его бандитских наклонностей кота, которого на дачу на этот раз не взяли, так как в прошлом году он терроризировал там всех местных собак, а у одной даже отхватил пол-уха. Вручая мне ключ, Сережа сказал, что полностью мне доверяет, и посмотрел на меня со значением - вряд ли его напутствие относилось к коту, а смущавший меня его многозначительный взгляд я разгадал значительно позднее.
Формально я не оправдал его доверия, но, как оказалось, это входило в его планы - сам того не сознавая, я стал периферийным персонажем сюжета, главным, хоть и страдательным героем которого был он сам.
Пусть только читатель не поймет меня превратно. Я не заморил голодом его кота, хотя тот и действовал мне на нервы своей неблагодарностью - хоть бы раз руку лизнул или, на худой конец, мурлыкнул! Я не стянул из квартиры ни цента, хотя и обнаружил тщательно замаскированный тайник, о котором сразу же после похорон сообщил его ни о чем не подозревавшей жене - может быть, и это мое побочное открытие также входило в его разветвленный замысел? Я не позаимствовал у него ни одной книги, хотя в его библиотеке были экземпляры, отсутствующие в моей и позарез мне нужные для работы, а книжную клептоманию я считаю вполне извинительной и прощаю её своим друзьям, когда недосчитываюсь той или иной книги после их ухода. Но с чем я не мог совладать, так это со своим любопытством, на что покойник, как впоследствии выяснилось, и рассчитывал - в знании человеческой природы ему не откажешь, недаром что писатель, особенно тонко разбирался он в человеческих слабостях, мою же просек с ходу.
В конце концов, вместо того чтобы водить девочек на хату - так, кажется, выражались в пору моей советской юности, я стал наведываться в его квартиру один, считывая сообщения с автоответчика, который он использовал в качестве секретаря и включал, даже когда был дома, и листая ученическую тетрадь, которую поначалу принял за дневник, пока до меня не дошло, что это заготовки к повести, изначальный её набросок. Если бы ему удалось её дописать, это, несомненно, была бы его лучшая книга - говорю это со всей ответственностью профессионального литературного критика. Но он её никак не мог дописать, потому что не он её писал, а она его писала - он был одновременно её субъектом и объектом, автором и героем, и она его писала, пока не уничтожила, и его конец совпал с её концом, она закончилась вместе с ним. А так как живому не дано изведать свой предел и стать хроникером собственной смерти, то мой долг как невольного душеприказчика довести эту повесть до формального конца, может быть, изменив её жанр на рассказ именно ввиду незаконченности и фрагментарности рукописи, то есть недостаточности оставленного мне прозаического и фактического материала. Или оставить повестью, пусть неоконченной? Такова природа моего соавторства, которое началось с подглядывания и подслушивания - считаю долгом предупредить об этом заранее, чтобы читатель с более высоким, чем у меня, нравственным чутьем мог немедленно прекратить чтение этого, по сути, бюллетеня о смерти моего соседа Саши Б., записанного посмертно с его собственных слов.
Когда я впервые обнаружил эту тетрадь, что было не так уж трудно, так как она лежала прямо на его письменном столе, пригласительно открытая на последней записи, в ней было всего несколько заметок, но с каждым моим приходом - а точнее, с каждым приездом Саши с дачи - тетрадка пополнялась все новыми и новыми записями. Последние, предсмертные, сделаны нетвердой рукой, мне стоило большого труда разобрать эти каракули, но я не могу с полной уверенностью установить, что тому причиной - истощение жизненных сил или алкогольный токсикоз?
Вот первая запись в его тетради:
Хуже нет этих утренних коллект коллз, звонков из Ньюфаундленда, где делает последнюю перед Нью-Йорком посадку аэрофлотовский самолет! Это звонят самые отчаянные, которые, не решившись ввиду поверхностного знакомства предупредить о своем приезде заранее, идут ва-банк и объявляются за несколько часов до встречи в Ди-эф-кей. Конечно, мне не на кого пенять, кроме как на себя - за полвека пребывания на поверхности Земли я оброс людьми и женщинами, как осенний пень опятами. Но в данном случае мое амикошонство было совершенно ни при чем, потому что плачущий голос из Ньюфаундленда принадлежал дочери моего одноклассника, с которым мы учились с 4-го по 7-й, дальше наши пути разошлись, его следы теряются, я не помню его лица, над которым к тому же основательно поработало время, о его дочери и вовсе ни слухом не ведал, ни духом, а потому стоял в толпе встречающих и держал плакат с её именем, вглядываясь в молодых девушек и смутно надеясь, что моя гостья окажется секс-бомбой - простительная слабость для человека, неуклонно приближающегося к возрасту одного из двух старцев, которые из-за кустов подглядывали за купающейся Сусанной. (Какая, однако, прустовская фраза получилась - обязательно в окончательном варианте разбить по крайней мере на три!)
Моя Сусанночка и в самом деле оказалась смазливой и сговорчивой, но мне это стало в копейку, плюс украденный из моей жизни месяц, не написал ни строчки, так как она не знала ни слова по-английски, и, помимо прочего, служил при ней чичероне. Измучившись от присутствия в квартире ещё одной женщины, Тата закатила мне скандал, а другой скандал устроила своему старцу Сусанночка после того, как я, очутившись меж двух огней, предпочел семейное счастье и деликатно намекнул моей ласточке, что наше гостеприимство на исходе - пусть хоть сообщит, когда она собирается осчастливить нас своим отъездом (как и у всех у них, обратный билет у неё с открытой датой). Мне стоило больших усилий её спровадить, сама бы она задержалась на неопределенный срок, ибо, как выяснилось, была послана семьей на разведку и её время было несчитано, в то время как у меня тотальный цейтнот - ничего не успеваю! И боюсь, уже не успею: жизненное пространство мое сужается, все, что осталось, - сморщенная шагреневая шкурка. Мы, кстати, приезжали без всяких разведок, втемную - не упрекаю, а констатирую. С ходу отметаю её крикливые обвинения, будто я её совратил - пробы негде ставить, Бог свидетель!
И при чем здесь, скажите, моя кавказская натура, о которой мне Тата талдычит с утра до вечера, когда мы ни с кем так не намучились, как с её мамашей! Шутка ли - четыре месяца непрерывной нервотрепки вместо предполагаемого примирения! За десять лет ни одного письма, хотя Тата исправно посылала в Москву посылки для нее, для своей сестры и непрерывно растущей семьи - сестра усердно рожала детей, дети росли, менялись их размеры, я стал крупнейшим в Америке специалистом по детской одежде, обуви и игрушкам. Самое поразительное, что чем больше Тата посылала в Москву этой прорве посылок, тем сильнее у неё было чувство вины перед не откликающейся на подарки матерью, хотя по всем понятиям виноватой должна была чувствовать себя не Тата, а Екатерина Васильевна за то, что, напутствуя нас в эмиграцию, предала анафеме собственную дочь, никто её за язык не тянул, наоборот, в редакции всячески противились публикации её письма, и она добилась через горком партии, где служила когда-то в отделе пропаганды или как он там называется?
И вот, сбросив теперь идеологический покров, она приехала к нам, как сама выразилась, отовариться - понятная забота советского человека, но полностью поглощающая все остальные его чувства, в случае с моей тещей материнские. Если материнское проклятье перед отъездом ещё можно как-то списать на идеологическую муть либо объяснить страхом и перестраховкой, то нынешнее леденящее равнодушие Екатерины Васильевны к Тате объяснить совершенно нечем, Тату оно сводило с ума - в том числе то, что Екатерина Васильевна постоянно оговаривалась и называла её именем оставшейся в Москве дочери, ради семьи которой она, собственно, и пожаловала к нам. Такое у меня подозрение, что Екатерина Васильевна продолжала в глубине души считать нас с Татой предателями, но за что могу ручаться - не то что материнских, а хотя бы родственных чувств к Тате она не испытывала никаких, скорее наоборот. Что-то её раздражало в нашей здесь жизни, либо сам факт, что мы здесь, а они там. В конце концов я стал прозревать истинную причину её к нам приезда - разрушить нашу семью, которая и без того неизвестно на чем держится.
Бегая с Екатериной Васильевной по магазинам, чтобы одеть и обуть ораву московских родственников, и чувствуя глухое, но растущее раздражение матери, Тата уже на второй месяц выбилась из сил и слегла с нервным истощением, что вызвало у Екатерины Васильевны, с её комсомольской закалкой 30-х годов, разве что любопытство вперемежку с презрением, а не исключено, что и злорадство. Дело в том, что ко мне Екатерине Васильевне было не подступиться, и она вымещала свою злобу на дочери. Мне нечего добавить к тому, что сказал о моей теще поэт, имея в виду все её закаленное, как сталь, поколение: "Гвозди бы делать из этих людей, в мире не было бы крепче гвоздей".
Чуть ли не каждый день у них с Татой возникали ссоры, в одну из которых я имел неосторожность вмешаться, и ещё немного - взял бы грех на душу: Тата буквально оттащила меня от Екатерины Васильевны, когда я пытался её задушить. Мне невыносимо было смотреть, как мать измывается над дочерью, но измученная Тата уже мало что соображала и накопившееся раздражение обрушила на меня, решив со мной развестись и уйти в монастырь, чтобы вообще больше не видеть человеческие лица. Из рабы любви она превратилась в рабу нелюбви и, осознав это, пришла в отчаяние.
В таких абсолютно тупиковых ситуациях я прибегаю обычно к испытанному средству, и весь последний месяц жизни у нас Екатерины Васильевны пробыл в отключке, надеясь, что мое непотребство ускорит отъезд тещи. Не тут-то было - от звонка до звонка. Мы с Татой были на пределе и разрыдались, не веря собственному счастью, когда самолет "Аэрофлота" с Екатериной Васильевной на борту взмыл, наконец, в наше нью-йоркское небо. По-настоящему же очнулись только в лесной адирондакской глуши - побаловали себя заслуженным отдыхом, но приближается новое испытание - приезд Татиной сестры, который мы из последних сил оттягиваем. Какое все-таки счастье, что хоть моя сестра умерла в детстве от скарлатины. Двух сестер нам ну никак не выдержать!
Судя по законченности обоих эпизодов - с Сусанночкой и тещей, которые требовали минимальной авторской редактуры, а её направление было обозначено заметкой на полях о необходимости разбить "прустовскую" фразу по крайней мере на три, Саша Б. писал повесть, а не просто вел дневник. Да и не из тех он был людей, чтобы вести дневник для самого себя - был он профессиональный литератор и к написанному относился меркантильно. Как и к окрестной реальности, которую норовил всю перенести на бумагу, пусть даже под прозрачными псевдонимами и с едва заметными смещениями. Я бы назвал его остроумную, изящную и облегченную прозу стилизованным натурализмом, а помещенный в самый её центр портрет рассказчика - стилизованным автопортретом. До сих пор он верховодил действительностью, и вдруг она стала ускользать от него, выходить из-под его контроля, доминировать над ним. Он хотел написать веселую, с элементами пасквиля и зубоскальства, повесть о советских визитерах и успел даже придумать ей остроумное название - "Гость пошел косяком", которое я бы у него позаимствовал, не подвернись более удачное, но реальность превзошла все его ожидания, давила на него, изначальный замысел стал коренным образом меняться.
У меня есть основания полагать, что роковое это изменение застало Сашу врасплох - в его планы никак не входило отдать Богу душу в ходе сюжета, который он взял за основу своей комической повести, а ей суждено было стать последней и трагической. Повелитель слова, властелин реальности, он растерялся, когда скорее почувствовал, чем понял, что повесть, которую задумал и начал сочинять, вырвалась из-под его управления и сама стала им управлять, ведя автобиографического героя к неизбежному концу. Саша попытался было сопротивляться и, пользуясь творческой инерцией, продолжал заносить в тетрадку свои наблюдения над советскими гостями, но, помимо его воли, в комические записки закладывалась тревога, и чем дальше, тем сильнее сквозили в них растерянность и тоска обреченного человека. Записи становились короче и бесцельнее, за ироническим покровом все чаще сквозило отчаяние.
Стремясь если не нейтрализовать, то по крайней мере амортизировать обрушившиеся на него удары судьбы, Саша использует автоответчик с единственной целью отбора нужных и отсева ненужных звонков. Однако любопытство возобладало над осторожностью, и понять его можно - рассказы Саши Б. стали печататься у него на родине, и каждый советский гость был потенциальным благовестником, хотя любая благая весть сопровождалась обычно просьбой, чаще всего - несколькими. За советскую публикацию и даже за весть о ней Саше приходилось дорого платить. Весть о его авторском честолюбии широко распространилась в Советском Союзе, и гости оттуда всегда могли рассчитывать на постой в его тесной квартирке в Вашингтон-Хайтс, прихватив с собой в качестве презента его публикацию либо даже только информацию о ней. Его автоответчик гудит советскими голосами - большинство звонящих сначала представляются, так как лично незнакомы с Сашей, а потом сообщают, что у них для него хорошая новость - сообщение из журнала, письмо из издательства, гранки рассказа, верстка книжки, свежий оттиск еженедельника с его сочинением либо критическая статья о нем.
Слово - Саше Б.:
Ловлю себя на противоречии, которое, по сути, есть лабиринт, а из него уже не вижу никакого выхода. Неужели мне суждено погибнуть в лабиринте, архитектором которого я сам и являюсь? С одной стороны, я хочу казаться моим бывшим соотечественникам удачливым и богатым, а с другой - у меня нет ни сил, ни денег, ни времени, ни желания тратиться на этих бесстыжих попрошаек и хапуг. Они никак не могут понять, что за наш здешний высокий уровень жизни заплачено тяжким трудом и, чтобы его поддерживать, приходится работать в поте лица своего. И не затем я вкалываю, чтобы водить их по ресторанам, возить на такси и покупать подарок за подарком. Кто они мне? Я вижу эту женщину впервые, но знакомство встало мне в добрую сотню не слишком ли дорогая цена за привезенный ею журнал с моим рассказом? Не слишком ли дорого мне обходятся советские публикации - у меня там скапливаются уцененные, макулатурные деревянные рубли, а я пока что трачу самую что ни на есть твердую валюту? Мое хвастовство стимулирует их аппетит и подстегивает их сознание - почему бы мне в самом деле не поделиться с ними по-людски, по-товарищески, по-христиански?
Тата ругает меня, что я говорю им о нашей даче в Адирондаке, а они по даче судят о моем благосостоянии и статусе. Видели бы они этот кусок деревянного дерьма - с фанерными декоративными перегородками, протекающей крышей, испорченным водопроводом, без фундамента, я уж не говорю, что у черта на рогах. Надо быть идиотом, чтобы его купить, и этот идиот - я. Купить дом, чтобы мечтать его продать, только кому он нужен? Но откуда, скажите, мне взять деньги на настоящий дом?
Мать говорит про меня, что в большом теле мелкий дух, - какой есть, будто я выбирал, чем заселить мое и в самом деле крупногабаритное тело? Я люблю бижутерию, мелких животных, миниатюрных женщин - если бы не стал писателем, пошел бы в часовщики либо ювелиры и разводил бы канареек на досуге. Моя любимая поговорка наполовину ювелирная: "У кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий". Так вот, у меня жемчуг мелкий, а потому я не в состоянии помочь людям с жидким супом. Как и они мне с моим мелким жемчугом.
Странные все-таки они люди - хотят соединить свою бесплатную медицину с "байераспирином" и другими чудесами американской фармацевтики, свои даровые квартиры с нашими видиками и прочей электроникой, хотят жить там и пользоваться всеми здешними благами. Чем чаще я с ними встречаюсь, тем хуже о них думаю: нахлебники, дармоеды, паразиты. Даже о лучших среди них, о бессребрениках, о святых. Господи, как я неправ, как несправедлив! Но это именно они делают из меня мизантропа, которого я в детстве путал с филантропом. Благодаря им, я становлюсь хуже, чем я есть - при одной мысли о них все говно моей души закипает во мне и выходит наружу. Вот почему мне противопоказано с ними встречаться. А пока что - вперед, к холодильнику, за заветной, а по пути проверим, не забыл ли я включить моего дружка, подмигивает ли он мне своим красным заговорщицким глазом?
*
Мой сосед, которому я завидую, так как его не одолевает советский гость1, пошутил сегодня, что я стану первой жертвой гласности и перестройки. Ему легко шутить, а если в самом деле так случится? Как хорошо, как счастливо мы жили здесь до их шалостей с демократией, надежно защищенные от наших бывших сограждан железным занавесом. Один доброжелатель написал мне в стихах: "...для тебя территория, а для меня - это родина, сукин ты сын!" На самом деле не территория и не родина, но антиродина, а настоящая родина для меня теперь Америка - извини, Стасик! Но на той, географической, родине остался мой читатель, хотя он и переехал частично вместе со мной на другие берега. Увы - только частично. И вот теперь неожиданно нас начали печатать, и у меня есть надежда стать там самым популярным писателем - для женщин всех возрастов, для урок, для подростков, для евреев, даже для бывшего партактива, который весь испекся. Я там котируюсь выше, чем я есть, потому что импортные товары там всегда ценились выше отечественных. И вот я, как импорт, там нарасхват. К сожалению, я и здесь нарасхват - вот что меня сводит с ума и от чего все время тянет удариться в разврат! Готов отказаться от славы там и от гостей здесь. Как говорили, обращаясь к пчеле, мои далекие предки по отцовской: ни жала, ни меда.
*
Кажется, выход из лабиринта найден! Я имею в виду противоречие между моим хвастовством, с помощью которого я добираю то, что недополучил в действительности, и нежеланием делиться моим воображаемым богатством с приезжими. С сегодняшнего дня оставляю все свои кавказские замашки и притворяюсь скупым, коим по сокровенной сути и являюсь. Да, богат, не счесть алмазов каменных, но - скуп. Помешался на зелененьких - был щедр рублями и стал скуп долларами. Сказать Тате, чтобы всем жаловалась на мою патологическую скупость - настоящий, мол, жид!
Что связывает меня с редактором этого ультрапрогрессивного журнала либо с министром их гражданской авиации? Я не был с ними даже знаком в СССР, а теперь мы закадычные друзья и пьем на брудершафт (угощаю, естественно, я). Министр, чья фамилия то ли Психов, то ли Психеев, разрешил нам с Татой купить в "Аэрофлоте" два билета до Москвы и обратно на капусту, которую я там нарубил, а не на валюту, как полагается иностранцам, а редактор печатает в ближайших номерах мою повесть из здешней эмигрантской жизни. Интересно, возьмет он повесть, которую я сейчас пишу и, даст Бог, все-таки допишу, несмотря на то, что героев оказалось больше, чем я предполагал поначалу - нет на них никакого удержу, так и прут, отвлекая от повести о них же, вот черти! Никогда не пил столько, как сейчас, - за компанию, за знакомство, на радостях от сообщений о моих там успехах и от неописуемого счастья, когда они наконец уезжают и я остаюсь один. Вдобавок родственники - в том числе те, о существовании которых не подозревал, живя там.
Я боялся туда ехать, чтобы окончательно не спиться с друзьями и близкими родственниками, а спиваюсь здесь с дальними, а то и вовсе не знакомыми мне людьми. Смогу ли я когда-нибудь воспользоваться билетами, которые лично вручил мне министр гражданской авиации по фамилии не то Психов, не то Психеев - так вот, этот Психов-Психеев обошелся мне в несколько сотен долларов плюс десятидневная отключка: три дня пил с ним, а потом уже не мог остановиться и пил с кем попало, включая самого себя, когда не находилось кого попало. Пил даже с котом: я водку, он валерьянку. Лучшего собеседника не встречал - я ему рассказал всю повесть, кроме конца, которого не знаю. От восторга он заурчал и даже лизнул мне руку, которой я открывал советский пузырек с валерьянкой. Кто сменит меня на писательской вахте, если я свалюсь - сосед-соглядатай либо мой кот Мурр, тем более был прецедент, потому я его так предусмотрительно и назвал в честь знаменитого предшественника? "Житейские воззрения кота Мурра-второго" - недурно, а? Или все-таки оставить "Гость пошел косяком"? Или назвать недвусмысленно и лапидарно - "Жертва гласности", ибо чувствую, к этому дело идет. А коли так, пусть выбирает сосед - ему и карты в руки1.
На министра гражданской авиации, который оказался бывшим летчиком, я не в обиде, - довольно занятный человек, пить с ним одно удовольствие, но сколько я в его приезд набухарил! Как только он нас покинул - кстати, почему-то на самолете "Пан-Америкэн", - у нас поселился редактор, который, говорят, когда-то застойничал, был лизоблюдом и реакционером, но в новые времена перековался и ходит в записных либералах, что меня, конечно, радует, но при чем здесь, скажите, я? Я с таким трудом вышел из запоя, лакал молочко, как котенок, но благодаря перековавшему мечи на орала без всякой передышки вошел в новый. Мы сидели с ним на кухне, он потягивал купленный мной джин с купленным мною тоником, а я глушил привезенную им сивуху под названием "Сибирская водка" - если бы я не был профессиональный алкаш, мы могли бы купаться в привозимой ими водяре и даже устроить второй Всемирный потоп. Редактор опьянел, расслабился и после того, как я сказал, что Горбачев накрылся со своей партией, решил внести в защиту своего покровителя лирическую ноту.
- Океюшки! - примирительно сказал мой гость и расплылся в известной телезрителям многих стран улыбке на своем колобочном лице. - Но разве мы могли даже представить себе каких-нибудь всего пять лет назад, что будем так вот запросто сидеть за бутылкой джина? - Он почему-то не обратил внимания на то, что я, сберегая ему джин, лакаю его сибирскую сивуху, да мне к тому времени уже было без разницы. - Я - редактор советского журнала, и ты - антисоветский писатель и журналист? Хотя бы за это мы должны быть благодарны Горбачеву...
То ли я уже нажрался как следует, но до меня никак что-то не доходило, почему я должен благодарить Горбачева за то, что у меня в квартире вот уже вторую неделю живет незнакомый человек, загнавший нас с мамой, женой и детьми в одну комнату, откуда мы все боимся теперь выглянуть, чтобы не наткнуться на него - праздного, пьющего и алчущего задушевных разговоров. Теперь я, наконец, понимаю, что значит жить в осажденной крепости: "синдром Мосада" - так это, кажется, называется в психологии? Из комнаты не выйти, в сортир не войти, Тата только и делает, что бегает в магазин, по пути испепеляя меня взглядом, - а сам я что, не страдаю? А эта прорва тем временем пожирает качественный алкоголь и закусь, будто приехал из голодного края, что так и есть, да и я пью не просыхая это с моим-то сердцем! Дом, в котором я больше не хозяин, превратился в проходной либо постоялый двор, а точнее, в корчму, а мы все - в корчмарей: генетический рецидив, ибо отцовские предки этим и промышляли, спаивая великий русский народ.
Или он имеет в виду, что при Горбачеве стал свободно разъезжать по заграницам? Так он всегда был выездной, сызмальства, благодаря папаше-маршалу - и какой ещё выездной: в одной Америке - шестнадцать раз!
Допер наконец - мы должны быть благодарны Михаилу Сергеевичу за то, что встретились и познакомились, потому что в предыдущие свои многочисленные сюда наезды он и помыслить, естественно, не мог мне позвонить, а тем более у меня остановиться. Вот тут я не выдерживаю сколько можно испытывать мое кавказское гостеприимство!
- Ну, знаешь, за то, что мы здесь сидим - извини - мы должны благодарить Брежнева, который разрешил эмиграцию. Где бы мы с тобой иначе сидели? В Москве? Так там мы вроде и знакомы не были, а уж о том, чтобы дружить домами и в гости друг к дружке, - речи не было.
Мой гость насупился, я извинился, сказав, что ничего дурного в виду не имел, а просто хотел уточнить и, опорожнив его сибирскую, достал из холодильника "Абсолют". Двум смертям не бывать, одной не миновать.
Если я умру, пусть моя смерть послужит в назидание всем другим "новым американцам".
Что доконало его? Все увеличивающийся поток советских гостей - иногда в его и без того набитой домочадцами квартире останавливалось сразу несколько? Шестичленная делегация из ленинградского журнала, которая приехала готовить специальный номер, посвященный русскому зарубежью, и Саша водил их к Тимуру покупать электронику, на Орчард-стрит за дубленками и к Веронике за даровыми книгами - традиционный маршрут советских людей по Нью-Йорку? Старичок-парикмахер из "Чародейки", который прибыл с юной женой и её любовником, вынудил Сашу купить у него кассету с наговоренными воспоминаниями о причесанных им кремлевских вождях и открыл в Сашиной квартире временный салон красоты, и Саша должен был поставлять ему клиентуру? Каждый такой наезд сопровождался запоями, один страшнее другого. С трудом налаженная было жизнь в эмиграции пошла прахом - все заработанные деньги уходили, чтобы не ударить лицом в грязь перед советскими людьми. Тяжелее всех, конечно, Саше обошлась теща, к которой он в своих записях возвращается неоднократно - я далеко не все из них привел.
К примеру, он вспоминает, как теща обиделась, когда он предложил ей тряхнуть стариной и сварить борщ: "Если не ошибаюсь, - гордо ответила Екатерина Васильевна, - я ваша гостья". Что ж, борщ у нас здесь продается в стеклянных банках и считается еврейским национальным блюдом - Саша прикупил недостающие ингредиенты, решив поразить тещу своими кулинарными талантами. Теща навалилась на борщ, а откушав, заявила, что у них, в России, готовят куда лучше. "Как была партийной дамой, так и осталась", - записывает Саша Б. А в другом месте утверждает, что покинул Советский Союз главным образом для того, чтобы никогда больше не видеть своей тещи, иначе она неминуемо разбила бы их с Татой семью, и вот она снова появилась с той же целью, а вслед за собой собирается ещё прислать другую свою дочь с её "выводком выродков" - запись злобная и нервозная, и единственное ей объяснение, что Саша дошел до ручки за четыре месяца жизни у них Екатерины Васильевны. Я её видел только однажды, и даже со стороны она производит страхолюдное впечатление - Саше можно здесь только посочувствовать. Он мне успел шепнуть тогда: "Это мой выкуп за Тату..." После отъезда тещи он ещё долго нервно хихикал, потом прошло.
В тетради много совсем коротких записей-заготовок типа "Плачу Ярославной", "Золотая рыбка на посылках", "У них совершенно вылетело из головы слово "спасибо", все принимают как должное". Часто повторяется одна и та же фраза: "Как хорошо все-таки мы жили до гласности!" Есть несколько реплик, имеющих лишь косвенное отношение к сюжету задуманной повести:
- У вашего мужа испортился характер.
- Там нечему портиться.
- Я пишу не для вашего журнала, а для вечности.
- Нет худшего адресата.
Три любимых занятия: сидеть за рулем, стучать на машинке и скакать на женщине.
Он записывает слова одного нашего общего знакомого, которому, по-видимому, жаловался на засилье гостей: "У меня не остановится ни человек, ни полчеловека", - сказал Саше этот наш стойкий приятель. Далее следует запись, как Саша с Татой повели очередного гостя в магазин покупать его жене блузку. Гость забыл размер, а потому воззрился на грудь Таты и даже уже было протянул руку, но вовремя был остановлен Сашей. Гостя это нисколько не смутило, и он сказал:
"У моей, пожалуй, на полпальца больше".
В разгар лета наступил небольшой передых - и вовсе не потому, что, оставив мне ключ и кота, Саша жил на даче и физически становился недоступен для советского гостя, но главным образом благодаря распространившемуся в советской писательской среде слуху, что в нью-йоркскую жару жить у него невозможно, так как квартира на последнем этаже и без кондиционеров. На месте Саши я бы сам распространил подобные слухи, а он, когда до него это дошло, обиделся и снова запил - вот какой гордый был человек! Всего-то в нем и была грузинская четвертинка, но натура насквозь кавказская гостеприимство, душа нараспашку, хвастовство.
Хвастовство его и сгубило.
Литература не была для Саши Б. ни изначальным выбором, ни единственной и самодостаточной страстью, но я бы сказал - покойник меня простит, надеюсь - чем-то вроде вторичных половых признаков, тем самым украшением, типа павлиньего, которым самец соблазняет самку. Другими словами, помимо красивого лица, печальных глаз и бархатного голоса, он обладал ещё писательскими способностями. Я вовсе не хочу свести это к примитиву - был у меня, к примеру, приятель в Ленинграде, ничтожный поэт, который хвастал, что любую уломает, показав ей удостоверение члена Союза писателей. У Саши все это было глубже и тоньше, да и писатель он, безусловно, одаренный, но суть сводилась к тому же, только предъявлял он женщинам не писательское удостоверение, которого у него не было, а писательский талант, который у него был. Я бы даже не назвал его кобелем, бабником, сластолюбцем либо донжуаном, хотя потаскун он был отменный, но тип совершенно другой. Ему и женщины нужны были не сами по себе, а главным образом для самоутверждения, потому что человек он был закомплексованный и комплексующий. По своей природе, он был, скорее, женоненавистник, если только женоненавистничество не было частью его человеконенавистничества. Но последнее он считал благоприобретением и прямо связывал с обрушившейся на него ордой советских гостей. И вот что поразительно: как он был услужлив и угодлив с гостями, а потом говорил и писал о них гадости, точно так же с женщинами - презирал тех, с кем спал. Причем презирал за то, что те ему отдавались, и иного слова, чем "шлюхи", у него для них не было. Да и одна его подружка рассказывала мне, как ужасен он бывал по утрам - зол, раздражителен, ворчлив, придирчив, груб. Или это своего рода любовное похмелье?
Мне трудно понять Сашу - слишком разные мы с ним. Если бы не оставленная им тетрадь с неоконченной повестью, которую я пытаюсь превратить в законченный рассказ, ни при каких условиях не взял бы его в герои. Живя в СССР, я не поддерживал никаких отношений с многочисленными моими родственниками, с ленинградскими друзьями успел разругаться почти со всеми, а московскими не успел обзавестись за два моих предотъездных года в столице, парочкой-другой, не больше - так что советский гость мне необременителен, я всегда готов разделить с ним хлеб и кров. Что касается женщин, то я вел и тем более веду сейчас, по причине СПИДа, гигиенический образ жизни, и мои связи на стороне случайны, редки и кратковременны - даже ключ от Сашиной квартиры не сильно их увеличил. Саша - полная мне противоположность, особенно в отношении женщин. Он любил прихвастнуть своими победами, а когда бывал навеселе, у него вырывались и вовсе непотребные признания: "Да я со всеми его бабами спал, включая обеих жен", - говорил он мне об одном нашем общем знакомом, близком своем друге. Хотя послужной его список и без того был не мал, он добавлял в него и тех женщин, с которыми не был близок, - вот почему я и утверждаю, что это вовсе не тип Селадона или Дон Жуана, которые не стали бы хвастать мнимыми победами.
К примеру, переспав с секретаршей одной голливудской звезды и раззвонив об этом, Саша спустя некоторое время стал утверждать, что спал с самой актеркой. "Раньше говорил, что с её секретаршей", - удивился я. "С обеими!" - нашелся Саша. Я понимал, что он лжет, мне было за него неловко, он почувствовал это и после небольшой паузы сказал: "Я пошутил". И тут я догадался, что для самоутверждения ему уже мало количества женщин, но важно их качество - говорю сейчас не об их женских прелестях либо любовном мастерстве, но об их статусе. Связь с известной артисткой льстила его самолюбию и добавляла ему славы - он измыслил эту связь ради красного словца, коего, кстати, был великий мастер. Он застыдился передо мной за свою ложь, а ещё больше - за то, что в ней признался. "Деградант!" выругал самого себя. Перед другими он продолжал хвастать своей актеркой, и та, даже не подозревая об этом, ходила в его любовницах - ложь совершенно безопасная ввиду герметической замкнутости нашей эмигрантской жизни, в которой существовала воображаемая голливудская подруга Саши.
Помимо трех детей, нажитых с единственной женой (еще одно доказательство, что он не был донжуаном), у него был внебрачный сын где-то, положим, в Кишиневе, которому Саша исправно посылал вещи и переводил деньги и совершеннолетия которого страшился, - этот сын, виденный Сашей только однажды во младенчестве, сейчас был подросток и мечтал приехать к отцу в Америку. С другой стороны, однако, количество детей, и особенно наличие среди них внебрачного, казалось Саше наглядной демонстрацией его мужских способностей, что, возможно, так и было - я в этом деле небольшой знаток, у меня всего-навсего один сын, да и тот, с нашей родительской точки зрения, пусть даже необъективной, - непутевый (сейчас, к примеру, зачем-то улетел на полгода в Индию и Непал).
И вот неожиданно Саша стал всем говорить, что у него не один внебрачный ребенок, а, по его подсчетам, несколько и они разбросаны по городам и весям необъятной нашей географической родины. Все это было маловероятно и даже невероятно, учитывая, с какой неохотой даже замужняя советская женщина заводит лишнего ребенка, а уж тем более - незамужняя. Впрочем, Саша претендовал и на несколько детей от замужних женщин, хотя у тех вроде бы были вполне законные, признанные отцы. По-видимому, внебрачные дети казались Саше лишним и более, что ли, убедительным доказательством его мужских достоинств, чем внебрачные связи, ибо означали, что женщины не просто предпочитают его другим мужчинам, но и детей предпочитают иметь от него, а не от других мужчин, будь то даже их законные и ни о чем не подозревающие мужья. "Этого никогда нельзя знать наверняка", - усомнился я как-то, когда речь зашла об одной довольно дружной семье, которую я слишком хорошо знал, живя в Москве, а потому сомневался в претензиях Саши на отцовство их единственного отпрыска. "Какой смысл мне врать?" - возразил Саша, и я не нашелся, что ему ответить.
Слухи о его внебрачных детях достигли в конце концов Советского Союза и имели самые неожиданные последствия - воображаемые либо реальные, но внебрачные дети материализовались, заявили о своем существовании и потребовали от новоявленного папаши внимания и помощи. Больше всех, естественно, был потрясен их явлением Саша Б.
Сначала он стал получать письма от незнакомых ему молодых людей со смутными намеками на его отцовство. Первое такое письмо его рассмешило - он позвал меня, обещал показать "такое, что закачаетесь", я прочел письмо и сказал, что это чистейшей воды шантаж. Однако такое объяснение его тоже не устраивало - он не хотел, да и не мог, брать на себя дополнительные отцовские обязательства, однако и отказываться от растущей мужской славы не входило в его планы. Он решил не отвечать на письма, но повсюду о них рассказывал: "Может, конечно, и вымогатель, а может, и настоящий сын, поди разбери! А разве настоящий сын не может быть одновременно шантажистом?" говорил он с плутовской улыбкой на все ещё красивом, хоть и опухшем от пьянства лице. Такое было ощущение, что он всех перехитрил, но жизнь уже взяла его в оборот, только никто об этом не подозревал, а он гнал от себя подобные мысли.
В очередной его отъезд на дачу я прочел следующие записи на ответчике и в тетради:
Ответчик. Это Петя, говорит Петя. Вы меня не знаете, и я вас не знаю. Но у нас есть одна общая знакомая (хихиканье) - моя мама. Помните Машу Туркину? Семнадцать лет тому в Баку? Я там и родился, мне шестнадцать лет, зовут Петей... Мама сказала, что вы сразу вспомните, как только я скажу "Маша Туркина, Баку, семнадцать лет назад". Мама просила передать, что все помнит... (всхлипы). Извините, это я так, нервы не выдержали... У меня было тяжелое детство - сами понимаете: безотцовщина. Ребята в школе дразнили. А сейчас русским вообще в Баку жизни нет. Вот я и приехал... Я здесь совсем один, никого не знаю... По-английски ни гугу. Мама сказала, что вы поможете... Она велела сказать вам одно только слово, всего одно слово... Я никогда никому его не говорил... Папа... (плач). Здравствуй, папочка!
Тетрадь. "Уже третий! Две дочери и один сын. Чувствую себя, как зверь в загоне. Если бы не ответчик, пропал бы совсем. Домой возвращаюсь теперь поздно, под покровом ночной тьмы, надвинув на глаза панамку, чтобы не признал незваный сын, если подкарауливает - почему у нас в доме нет черного хода? Машу Туркину помню, один из шести моих бакинских романов, забавная была - только почему она не сообщила мне о нашем совместном чаде, пока я жил в Советском Союзе? Мой сосед-соглядатай скорее всего прав - шантаж. Либо розыгрыш. Если ко мне явятся дети всех моих любовниц, мне - каюк. Даже если это мои дети, какое мне до них дело? Неужели невидимый простым взглядом сперматозоид должен быть причиной жизненной привязанности? У меня есть обязанность по отношению к моей семье и трем моим законным, мною взращенным детям, плюс к сыну в ближнем зарубежье - до всех остальных нет никакого дела. Каждому из претендентов я могу вручить сто долларов - и дело с концом, никаких обязательств. Из всех женщин, с которыми спал, я любил только одну: для меня это единственная любовь, а для неё - случайная, быстро наскучившая ей связь. Это было перед самым отъездом, я даже хотел просить обратно советское гражданство. Одного её слова было бы достаточно! Но какие там слова, как она была ко мне равнодушна, даже в постели, будто я её умыкнул и взял насильно. Я человек бесслезный, не плакал с пяти лет, это обо мне Пушкин сказал: "Суровый славянин, я слез не проливал", хотя я не славянин, а Пушкин плакал по любому поводу. А я плакал только из-за Лены, и сейчас, вспоминая - плачу. Единственная, от кого я бы признал сына не глядя".
Здесь я как читатель насторожился, заподозрив Сашу в сюжетной натяжке - какая-то фальшивая нота зазвучала в этом, несомненно, искреннем его признании, что единственная любовь в жизни этого самоутверждающегося за счет женщин беспутника была безответной. Я закрыл тетрадь, боясь читать дальше - ведь даже если сын от любимой женщины и позвонил Саше, то в повести это бы прозвучало натянуто, неправдоподобно. О чем я позабыл, увлекшись чтением, - что это не Саша писал повесть, а повесть писала его, он уже не властен был над её сюжетными ходами. Жизнь сама позаботилась, чтобы Саша Б. избежал тавтологии, хотя его предчувствия оправдались, но в несколько измененном, я бы даже сказал - искаженном, гротескном виде. Пока он прятался от телефонных звонков, раздался дверной, и дормен по домофону попросил его спуститься.
- К вам тут пришли, - сказал мне Руди.
- Пусть поднимется.
- Думаю, лучше вам самому спуститься. С чемоданом.
- Какого черта! Ты не ошибся, Руди? Ты не путаешь меня с другим русским?
- Никаких сомнений - к вам! - сказал Руди и почему-то хихикнул. Я живо представил себе белозубый оскал на его иссиня-черном лице.
Передо мной стояла высокая красивая девушка - действительно с чемоданом, скорее, с чемоданчиком, но Руди смеялся не из-за этого, его смех был скабрезным и относился к недвусмысленному животу - девушка была на сносях. Смех Руди означал, что теперь уж мне не отвертеться, хорошо еще, что жена на даче и так далее, в том же роде - у наших негров юмор всегда на таком приблизительно уровне. Руди показал пальцем на улицу - там ждало такси. Положение у меня было пиковое - я видел эту восточную красавицу первый раз в жизни, но, с другой стороны, она была беременной, и я без лишних разговоров, ни о чем не спрашивая, расплатился с таксистом, взял чемодан и повел девушку к лифту.
В квартире девушка повела себя как дома. Пожаловалась, что устала с дороги, попросила халат, полотенце и отправилась в ванную, откуда вышла через полчаса ослепительно красивая, напоминая мне смутно кого-то - скорее всего, какую-нибудь актрису. Какую это, впрочем, играло роль - я втюрился в эту высокую девушку с семимесячным животом с первого взгляда. Как говорят в таких случаях - наповал.
Усадил мою гостью на кухне, выложил на стол то немногое, что обнаружил в нашем обычно полупустом летом холодильнике, и, продолжая мучительно припоминать, на кого похожа моя гостья, приступил к расспросам, ибо она явно была не из разговорчивых и не торопилась представиться. Я вытягивал из неё ответ за ответом.
- Откуда ты, прекрасное дитя? - попытался я внести ясность пошловатой шуткой, всегда полагая пошлость необходимой смазкой человеческих отношений, так почему не попробовать сейчас?
Она, однако, не откликнулась ни на юмор, ни на пошлость, а просто ответила, что она из Москвы и зовут её Аня.
Дальше наступила пауза - я суетился у газовой плиты, разогревая сосиски, Аня рассматривала кухню, а заодно и меня - в качестве кухонного аксессуара.
Я налил себе стакан водки, надеясь с его помощью снять напряжение, и пребывал в нерешительности в отношении Ани:
- Вам, наверно, не стoит...
- Нет, почему же? Налейте. Это в первые два месяца не советуют, а сейчас вряд ли повредит плоду.
Про себя я отметил слово "плод" - любая из моих знакомых употребила бы иное, а вслух спросил, не лучше ли тогда ей выпить что-нибудь полегче у меня была почата бутылка дешевого испанского хереса.
- Я бы предпочла виски, - сказала Аня, и я грешным делом подумал, не принимает ли она мою квартиру за бар, а меня за бармена.
- Виски нет, - сказал я ей. - Но я могу сбегать, здесь рядом, за углом.
Мне и в самом деле хотелось хоть на десять минут остаться одному, чтобы поразмыслить над странной ситуацией, в которую я влип.
- Зачем суетиться, - сказала Аня. - Что вы пьете, то и я выпью.
Мне стало стыдно за ту дрянь, которую я из экономии пил, но алкоголику не до тонкостей, и я повернул к ней этикеткой полиэтиленовую бутылку самой дешевой здешней водки - "Алексий". В конце концов лучше того дерьма, которое они там лакают и сюда привозят в качестве сувениров.
Гостья воззрилась на "Алексия" с любопытством, налила себе полстакана и залпом выпила - я только и успел поднять свой и сказать: "С приездом".
- Говорят, вы окончательно спиваетесь.
- Ну, это может затянуться на годы, - успокоил я её.
- Вы не подумайте - я не вмешиваюсь. Спивайтесь на здоровье. А правда, что у вас обнаружили цирроз в запущенной форме?
- Я тоже так думал, но оказалось, что это меня пытались запугать, чтобы я бросил пить. Жена сговорилась с врачом.
- И помогло?
- Как видишь, нет. Кто начал пить, тот будет пить. Что бы у него ни обнаружили.
Вместо того чтобы ей отвечать на мои вопросы, она задает их мне, и я, как школьник, отвечаю.
Впрочем, я услышал и нечто утвердительное по форме, хотя и негативное по содержанию:
- Я читала вашу повесть "Русская Кармен". Мне она не понравилась. Сказать почему?
Господи, этого ещё не хватало - сначала допрос с пристрастием, а потом литературная критика. Я попытался её избежать:
- Мне и самому не нравится, что я пишу - так что можешь не утруждать себя.
Не тут-то было!
- Не кокетничайте. Не нравилось бы - не писали. По крайней мере - не печатали бы.
- Ты права - я бы и не печатал, а может быть, и не писал, но это единственный известный мне способ зарабатывать деньги. К тому же читатели ждут и требуют.
- Вот-вот! Вы и пишете на потребу читателя - отсюда такой сюсюкающий и заискивающий тон ваших сочинений. Вы заняты психологией читателя больше, чем психологией героев. А герой у вас один - вы сами. И к себе вы относитесь умильно. Правда, на отдельные свои недостатки указываете, но в целом такой душка получается, такую жалость у читателя вышибаете, что стыдно читать. Вы для женщин пишете, на них рассчитываете? - И без всякого перехода следующий вопрос: - И вообще, вы кого-нибудь, помимо себя, любите?
Гнать - и немедленно! Несмотря на шестимесячное пузо и сходство неизвестно с кем. Взашей! Высокорослая шлюха! Нае..а где-то живот и, пользуясь им, бьет по авторскому самолюбию! Кто такая? Откуда свалилась?
От растерянности и обиды я выпил ещё один стакан - даже от Лены я такого не слыхал, хотя уж как она меня унижала за время нашего краткосрочного романа. Из-за неё и уехал - чтобы доказать себя ей. Только что проку - сижу с этой брюхатой потаскухой и выслушиваю гадости.
Тем временем Аня налила себе тоже.
- Вы уже догадались, кто я такая? - спросила она напрямик.
И тут до меня, наконец, дошло - я узнал её по интонации, ни у кого в мире больше нет такой интонации! И сразу же понял, кого напоминает мне эта высокая девушка. Вот уж действительно деградант - как сразу не досек? Да и не только интонация! Кто ещё таким жестом поправляет упавшие на глаза волосы? Интонации, жесты, даже мимика - все совпадало, а вот лицо было другим.
Аня поняла, что я её узнал, точнее, не её узнал, а в ней узнал ту единственную, которую я любил и чье имя в любовном отчаянии вытатуировал на левом плече - потому и никогда не раздеваюсь на пляже и сплю с женщинами, только выключив свет. А совсем не из-за того, что у меня непропорционально тощие ноги. Это я сам пустил такой слух для отвода глаз.
- Я боюсь, вы очень примитивный человек и подумаете бог весть что. Мама и не подозревает, что я к вам зайду, она и адреса вашего не знает и не интересуется. Мама замужем, у меня есть сестренка, ей шесть лет, я живу отдельно, снимаю комнату, в Нью-Йорк приехала по приглашению своего одноклассника, он был в меня влюблен, но это, - Аня показала на живот, - не от него. Он будет удивлен, но я не по любви, а чтобы, родив здесь, стать американской гражданкой и никому не быть в тягость. Вам менее всего, я уйду через полчаса, вот вам, кстати, деньги на такси, у меня есть, мне обменяли.
И она вынула из сумочки свои жалкие доллары.
- А к вам я приехала, чтобы посмотреть на вас. Шантажировать вас не собираюсь, тем более никакой уверенности, что вы мой отец. Мама мне ничего никогда не говорила. Я провела самостоятельное расследование. Кое-что сходится - сроки, рост, отдельные черты лица, вот я тоже решила стать писателем, как вы... - Она осеклась и тут же добавила: - Но не таким, как вы. Я хочу писать голую правду про то, как мы несчастны, отвратительны и похотливы. Никаких соплей - все как есть. Я привезла с собой две повести, вам даже не покажу, потому что, судя по вашей прозе, вы страшный ханжа.
Ее неожиданную болтливость я объясняю тем, что она выпила. Я в самом деле ханжа, и она права во всем, что касается моих текстов и их главного героя. Мне и в самом деле себя жалко, но кто ещё меня пожалеет на этом свете? Да, у меня роман с самим собой, а этот роман, как известно, никогда не кончается. Мне и сейчас себя жалко, обижаемого этой незнакомой мне девушкой, у которой жесты и интонации той единственной и далекой, а черты лица - мои. Даже если ты не моя дочь, но я признаю в тебе мою, потому что от любимой и нелюбящей. И все, что у меня есть, принадлежит тебе, моя знакомая незнакомка, я помогу тебе родить американского гражданина, хоть это и обойдется мне тысяч в семь, если без осложнений - дай бог, чтобы без осложнений! А так как это не приблизит тебя к американскому гражданству ни на йоту, я женюсь на тебе, уйдя от моей нынешней семьи, потому что люблю тебя как собственную дочь, либо как дочь любимой женищны, либо как саму тебя. А прозу писать больше не буду - давно хотел бросить, никчемное занятие. И пить брошу - сегодня последний раз.
Это действительно был его последний запой - из него он уже не вышел. Он заснул прямо на кухне, уронив голову на стол, а когда проснулся - ни девушки, ни чемоданчика. Это было похоже на сон, тем более его поиски, в которых я ему помогал, оказались безрезультатными. Девушка с шестимесячным животом и небольшим чемоданчиком исчезла бесследно, как будто её никогда и не было.
А была ли она на самом деле? Чем больше он пил, тем сильнее сомневался в её существовании. Дормен Руди качал головой и, скалясь своей белозубой на иссиня-черном, говорил, что в доме шестьсот квартир и упомнить всех посетителей он не в состоянии - и негр беспомощно разводил руками. Саше становилось все хуже, и он склонялся к мысли, что видeние беременной девушки было началом белой горячки и сопутствующих ей галлюцинаций, которые мучили его теперь беспрерывно. Он тосковал и пил, надеясь вызвать прекрасное видение снова, но беременная девушка ему больше в галлюцинациях не являлась, а все какие-то невыносимые упыри и уроды. А потом он и вовсе перестал кого-либо узнавать, но время от времени произносил в бреду её имя - Анечка.
Я тоже склонен был считать описанную Сашей Б. в его последней заметке встречу небывшей, но художественным вымыслом, в который он сам поверил, либо действительно плодом уже больного воображения. Что-то вроде шизофренического раздвоения личности: беременная девушка олицетворяла его растревоженную совесть либо страх перед наступающей смертью - я не силен во всех этих фрейдистских штучках, говорю наугад. А потом я и вовсе забыл о ней думать за событиями, которые последовали: смерть Саши, панихида, похороны. Пришло много телеграмм из Советского Союза, в том числе от редактора суперрадикального журнала: он выражал глубокое сочувствие семье и просил прислать ему "Сашин гардероб", так как был одного роста с покойным.
Мы хоронили Сашу в ненастный день, американский дождь лил без передышки, все стояли, раскрыв зонты, казалось, что и покойник не выдержит и раскроет свой. "Его призрак кусает сейчас себе локти", - сказал его коллега по здешней газете, где Саша подхалтуривал. Я трусовато обернулся настолько точно это было сказано. Слава богу, призрак невидим - по крайней мере, его, кусающий себе локти, - мне, который единственный знает истинную причину его смерти. Однако, обернувшись в поисках призрака, я заметил высокую беременную девушку с чемоданчиком в руке - она стояла в стороне и одна среди нас была без зонта.
Она промокла до нитки. Я подошел к ней и предложил свой зонт, сказав, что знаю её. Разговор не клеился, а похоронную церемонию из-за ливня пришлось свернуть. Мне было жаль с ней расставаться, я спросил у неё номер телефона. Она сказала, что телефона у неё здесь нет, но она может дать московский, так как сегодня уже улетает. Не знаю зачем, но я записал её московский телефон.
Вот он:
151-43-93.
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ
POST MORTEM фрагменты из будущей книги "ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА НА ПОРОГЕ СМЕРТИ"
Новая книга Владимира Соловьева "Портрет художника на пороге смерти" написана от лица юной особы, которая, благодаря родителям (художник и критикесса), с младых ногтей вращалась среди великих мира сего от литературы и искусства, а после отвала за кордон снова оказалась в том же плюс-минус - кругу. Здесь, в Америке, она определилась как профессиональный фотограф, к её услугам частенько прибегают русско-американские знаменитости - Барышников, Шемякин, Ростропович, Довлатов и другие, она у них - а иногда между ними - мальчик на побегушках (несмотря на гендерное отличие от последнего). Самый близкий ей из этой разношерстной компании семейный друг, по её подозрениям б. чичисбей её матери, мнимотаинственный персонаж, обозначенный в докуромане, ему посвященном, буквой "О": поэт, изгнанник, нобелевец и прочее. Читатель вправе подставить под этого литературного героя какой угодно реальный прототип - автор снимает с себя ответственность за разгул читательской фантазии. Как и за высказывания рассказчицы, которая отнюдь не его altеr ego. Он и так поступает легкомысленно, предлагая читателю эти вырванные из контекста фрагменты - не исключено, что они подвергнутся кой-каким, а то и весьма значительным переменам, помещенные в магнитное поле целого, пока ещё недосозданного. Однако эти отрывки имеют прямое отношение к Довлатову, герою уже законченной о нем книги - соблазн их тиснуть сюда был слишком велик, чтобы пытаться с ним совладать.
Автор и не пытался.
По жанру "Портрет художника на пороге смерти" - роман, хоть и с реальными героями, а потому, при портретном сходстве основных персонажей и аутентичности их поступков, реплик, словечек и интонаций, неизбежны и преднамеренны беллетристические швы, топографические подмены и хронологические смещения. Скажем, реальный - слово в слово - разговор переносится из питерской квартиры на Второй Красноармейской в московскую на Малой Филевской или из кафе "Флориан" на Сан-Марко в кафе "Моцарт" в Гринвич-Вилледж. Либо событие 93-го года помечается 95-м. Делается это намеренно, автор исходит из требований сюжета, контекста, концепции и ритма прозы. Да и герой под псевдонимом "О" среди поименованных и реальных - как кукла среди живых людей. Пусть автору даже, если повезет, удастся сделать его "живее всех живых" - включая его прототипа, который в последние годы жизни сильно забронзовел и покрылся патиной. Цель автора: превратить условное в безусловное, маловероятное и даже невероятное - в абсолют. Чтобы художественный образ подменил и затмил своим сюрреализмом реального человека - задача под стать человеку, с которого О списан. В его энергичный - как он сам говорил, "стоячий" - период.
В жанровом контексте "Портрета художника на пороге смерти" такое смешение оправдано, а здесь автор вынужден объясняться курсивом. И ещё одно курсивное пояснение: О описан когда в третьем лице, а когда во втором рассказчица ведет с покойником бесконечный воображаемый диалог.
Зато Довлатов дан под своим реальным именем.
C подлинным верно.
Приводимые куски, так или иначе связанные с Довлатовым, насильственно (резать пришлось по живому) извлечены из четырех начальных глав - "Post mortem", "Еще не изобретена была виагра", "Проблема сходства и несходства" и "Вуайеристка", однако в этой публикации фрагментам даны условные межзаголовки, отсутствующие в "Портрете художника на пороге смерти".
ДВОЙНИК С ЧУЖИМ ЛИЦОМ
Чему только меня не учили в детстве: музыке, танцам, стихосложению, рисованию, даже шахматам, да только не в коня корм. Единственное, что в жизни пригодилось, - это подаренный папой на день рождения фотоаппарат "Зенит", а уже поэт подсказал мне объект - "Крыши Петербурга", превратив хобби в приключение. Сколько чердаков и крыш мы с ним облазили в поисках удачного ракурса! Заодно его пощелкала - кривлялся и вставал в позу. Пока не свалил за бугор, а столько-то лет спустя и мы вслед. Я так думаю, если б не его отвал, культурная эмиграция из Питера была бы не такой буйной половина бы осталась. "Я сплел большую паутину" - его собственные слова. Мы были частью этой паутины. Можно и так сказать: вывез постепенно с собой своих читателей. Нынешняя его всероссийская слава, которая началась после нобелевки, а посмертно разгорелась ярким пламенем, - это уже нечто иное, чем широко известен в узких кругах времен моего питерского тинейджерства.
Сам взялся проталкивать мои питерские "крыши" в американские издательства, но книга вышла уже после его смерти. В соответствующей - он бы сказал "спекулятивной" - модификации: я добавила несколько его питерских фоток, редакторша придумала подзаголовок "Поэт и его город", а наш общий земляк Сол Беллоу сочинил предисловие. Может, сделать второй том про Нью-Йорк - не меньше ему родной город, чем СПб, да и списан с того же оригинала: оба - Нью-Амстердамы. А третий том про Венецию, метафизическую копию Петербурга: тот самый ландшафт, частью которого охота быть, то есть осесть навсегда - его мечта.
Сбылось: нигде столько не жил, сколько ему предстоит на Сан-Микеле.
Отец у него, кстати, был фотограф-газетчик.
Короче, ему я обязана профессией, хоть он и отрицал за фотографией статус искусства:
- Еще чего! Тогда и зеркало - искусство, да? В смысле психологии ноль, а как память - предпочитаю сетчатку глаза. Точность гарантирована, никакой ретуши.
- А как документ? - спрашиваю.
- Только как пиар и реклама.
Сама свидетель (и участник) такого использования им фотографии.
Звонит как-то чуть свет:
- Подработать хочешь, Воробышек?
- Без вариантов.
- И поработать. Снимаю на весь день.
- Какой ненасытный!
- Путаешь меня с Мопассаном.
- А ты, дядюшка, кто?
- Разговорчики! На выход. Не забудь прихватить технику. Мы вас ждем.
То есть вдвоем с котом, которого тоже нащелкала: фотогеничен.
Было это ещё до нобелевки. "Тайм" взял у него интервью для своей престижной рубрики "Профайл" и предложил прислать того же фотографа, что пару лет тому сделал снимок для его статьи в "My turn". На что он ответил: фотограф уже есть, и вызвал меня.
Я ему благодарна - снимок в "Тайм", думала, откроет мне двери ведущих газет и журналов, поможет в издании "Крыш", которые, несмотря на его протекцию, кочевали из одного издательства в другое. Не могу сказать, что заказы посыпались один за другим, но виной тому навязанная мне специализация. Мне предлагали снимать одних русских эмигре, а их здесь раз-два и обчелся. То есть знаменитых: Барыш да Ростр, да и те на излете артистической славы. До Солжа допущена не была, а потом он укатил на историческую родину. По означенной причине так и не стала папарацци. Единственный мой постоянный клиент - Мишель (не путать с другим Мишелем, которого ты предпочитал называть Мишуля, а моего Мишеля - Шемякой; коверкал всех подряд, и мы вослед, каждый значился у тебя под своим иероглифом, а то и двумя: Маяк, Лимон (он же Лимоша, а когда рассорились, обменявшись любезностями - ты его Свидригайловым от прозы, а он тебя поэтом-бухгалтером, - Лимошка), АА, Серж-Сергуня, Бора-Борух (он же Ребе), Карлик, Женюра, он же - Женька (не Евтух) - вот тебе, читатель, ребус-кроссворд на затравку). С Мишелем-Шемякой мы разъезжаем время от времени по свету, и я запечатлеваю его художественные достижения и встречи с великими мира сего для истории. Когда была с ним в Венеции - по случаю установки памятника Казанове, - узнала о смерти О.
Первая смерть в моей жизни.
Не считая Чарли.
Моего кота.
Вот что нас ещё сближало - любовь к кошкам, хоть наши фавориты и разнополы. Как и мы с тобой. У меня - самцы, у тебя - самки. Само собой: кошачьи. А Шемяка тот и вовсе двуногим предпочитает четвероногих - любых: котов, псов, жеребцов. У него целый зверинец. К сожалению, все породистые. И все - мужеского пола. Животных он считает непадшими ангелами - в отличие от человека: падшего.
Касаемо "Крыш Петербурга", то О помог не сам, а его смерть. Так получалось: я тоже имею с неё гешефт.
Однако в посмертной вакханалии все-таки не участвовала. Один мой коллега, который снимал его на вечерах поэзии, выпустил в здешнем русском издательстве огромный альбом, по тридцать-сорок снимков с каждого вечера, где один снимок от другого разнится во времени несколькими секундами. Фактически одна и та же фотография, помноженная на сто. Альбом фоточерновиков. Выпущенный во славу поэта, этот альбом на самом деле, набивая оскомину его "физией", развенчивает миф о нем. До России, слава богу, не дошел.
А вызвал он меня тогда в свой гринвич-вилледжский полуподвал, поразительно смахивавший на его питерские полторы комнаты, само собой, не одной меня ради. Мы с ним промучились четыре дня, которые я теперь вспоминаю как самые счастливые в моей жизни.
Тоном ниже: пусть не самые - одни из.
- Старичок такой из польских евреев, всех под одну гребенку, то бишь по своему образу и подобию, даже гоя превратит в аида, а меня и подавно сделал жидом, что не трудно, - объяснял он про отвергнутого фотографа, пока я устанавливала аппаратуру. - Мы с тобой, Воробышек, пойдем другим путем, как говорил пролетарский вождь. Моя жидовская мордочка мне - во где. Посему сотворим другую. Знаешь, древние китайцы каждые семь лет меняли имя?
- Не понимаю, - сказала я.
- Возьми телефонный справочник, открой на моей фамилии. Сколько там моих двойников? Сосчитай.
- Да на это полдня уйдет!
- Вот именно! Господи, что за имя для гения! Банальнейшая еврейская фамилия. Как там Иванов, а здесь Смит. С той разницей, что моя - и там, и здесь плюс в Лондоне, Париже, Иерусалиме и на Северном полюсе.
Так и есть. Однажды знакомила с ним американа (опять его выраженьице, да и вообще он весьма повлиял на формирование моего русского, который благодаря ему и сохранила в чужеязычной среде), прихвастнув, что нобелевец. "Как же, помню, - подтвердил американ. - В области медицины, если не ошибаюсь". И крепко пожал руку новоиспеченному доку.
О плеснул себе в стакан водяры, а на мой удивленный взгляд:
- В качестве лекарства - для расширения коронарных сосудов.
Плюс дымил как паровоз, прикуривая одну сигарету от другой и сплевывая фильтры. При его-то сердце. Одно слово: крейзи. Пусть и не это его сгубило.
- Тебе не предлагаю. Ты на работе. И работа предстоит не из легких: сделать из старого еврея моложавого ирландца.
- Да ты, дядюшка, еврей от лысины до пяток!
- При чем тут лысина? - обиделся или сделал вид. - Лысина как этническое клише, да? Не пойдет! Лысина - интернациональна. Пятка - тем более. Еврейская у меня только одна часть тела, да и то не в Америке, где 80 процентов обрезанцев, от этноса независимо, ирландцев включая. В этом отличие американских айриш от ирландских и британских. Но ты же будешь фотографировать не моего ваньку-встаньку, а физию ирландца-обрезанца. Похож, да?
И состроил гримасу.
В Питере у него была ирландская, в клетку, кепочка, которой он ужасно гордился. Не оттуда ли его мечта о перевоплощении именно в ирландца? Тут, правда, и "мой друг Шеймус Хини" - "насквозь поэт, хоть, как все ирландцы, говорит, не раскрывая рта". Ирландия была его слабостью. Ах, зачем я не ирландец!
- Природа нас, согласись, большим разнообразием не балует: у всех один и тот же овал, а в нем - точка, точка, запятая, минус - рожица кривая. (Снова гримаса.) Выбор не так чтобы велик, а потому всё пойдет в дело: белесые голубые глаза, веснушки, рыжие волосы... - и, глянув в мои большие глаза, что у нас означало понятно что: - Будь по-твоему, их остатки. Ингредиенты - налицо. Точнее - на лице. А теперь перетасуем их как карты. Новая генетическая комбинация из старых хромосом. Сделаем меня не похожим на меня, хоть и узнаваемым. Знакомый незнакомец. Двойник с чужим лицом. А разве в зеркале это я? Да никогда! Вот и пусть дивятся, узнавая неузнаваемое. Или не узнавая узнаваемое. Задание понятно?
В конце концов, путем многих проб, добились в итоге этого четырехдневного марафона с редкими передыхами, чего он хотел. Вот и передо мной стоит теперь задача: сделать его похожим и непохожим.
Одновременно.
Чтобы укоры сыпались отовсюду:
- Непохож!
- Так это же не он.
- Похож!
- По чистой случайности.
И что сочту за комплимент - уличение в сходстве или упрек в неточности? Сам-то ты сравнивал себя с Зевсом, который родил Афину из собственной головы.
Без чьей-либо помощи.
КТО КОМУ СОЧИНИТ НЕКРОЛОГ?
Годом раньше, на следующий день после нашего переезда на запасную родину - так он называл Америку, - О повел всех нас в кафе "Моцарт", а оттуда - мама с папой помчались на встречу в "НАЙАНУ", которая занималась вновь прибывшими, - мы пошли с тобой, в твою гринвич-вилледжскую берлогу. Столько лет прошло - ты продолжаешь мне "тыкать", я с тобой, как в детстве, - на "вы".
- Что будем делать? - спрашивает. - Или ты переходишь на ты, или я на вы. А то как-то недемократично получается.
- Какой из вас демократ! - говорю и напоминаю ему историю с Довлатовым, которая докатилась до Питера.
Со слов Сергуни, который жаловался на О в письме к нам.
Самое замечательное в ней была реплика Довлатова, которую он - увы и ах! - не произнес. В отличие от О, который в разговоре был сверхнаходчив, всё схватывал на лету и мгновенно отбивал любой словесный мяч, у Сергуни была замедленная реакция, да ещё глуховат на левое ухо, импровизатор никакой, а свои реплики заучивал заранее наизусть либо придумывал опосля, как в тот раз.
При их первой встрече в Нью-Йорке Довлатов обратился к нему на "ты", но О тут же, прилюдно, поставил его на место: "Мне кажется, мы с вами на "вы". - "С вами хоть на "их", - не сказал ему Сергуня, как потом всем пересказывал эту историю, проглотив обиду - будто ему что ещё оставалось. "На "их" - хорошая реплика, увы, запоздалая, непроизнесенная, то есть реваншистская.
Услышав от меня о присочиненном довлатовском ответе, О удовлетворенно хмыкает:
- Не посмел бы...
Почему ты был так строг с ним?
Надо бы разобраться.
- Демократ никакой, - соглашается он со мной. - Одно дело - Серж, ты - совсем другое. Приятно, когда юная газель с тобой на "ты".
- Приятно передо мной или перед другими?
- Перед собой, Воробышек. Я в том возрасте, когда мне, как женщине, пора скрывать свои годы. Может, это я так к тебе подъезжаю, чтобы сократить расстояние. А то всё дочь приятелей, тогда как ты уже сама по себе. - И без перехода: - Еще девица?
- Много будешь знать - состаришься, а ты и так старик.
- Мгновенный старик, - поправил он, не ссылаясь на Пушкина.
Так уж у нас повелось - перебрасываться общеизвестными цитатами анонимно либо обманно: лжеатрибуция называется.
- Тем более. Оставим как есть. Ты же сам этого не хочешь, дядюшка, сказала я, переходя на "ты".
- Почему не хочу? - удивился он.
И тут же:
- Не хочу. Давно не хочу. С тех самых пор.
- Ты не подходишь мне по возрасту, я тебе - по имени.
Намек на лингвистический принцип, который срабатывал у него на сексуальном уровне: делал стойку на любую деваху с именем той изначальной, главной, единственной.
Тогда он зашел к вопросу о нашей гипотетической близости с другого конца.
- В мои лета не желание есть причина близости, а близость - причина желания.
- В мои - наоборот. На кой мне твои безжеланные желания! А возраст у тебя в самом деле для этих дел не очень шикарный, - вставляю одно из любимых его словечек.
- Много ты знаешь, пигалица! Мой друг Уистан (указание, что был накоротке с Оденом) очень точно однажды выразился: никто ещё не пожалел о полученном удовольствии. Сожалеют не о том, что поддались искушению, а о том, что устояли.
- Как сказать! - ответила ему многоопытная дива, и он расхохотался.
Вот тогда он и сказал мне:
- Не хочешь быть моей гёрлой, назначаю тебя моим Босуэлом.
- Это ещё кто такой?
- Про Сэмюэля Джонсона слыхала? Босуэл был ему друг и сочинил его жизнеописание.
- А как насчет Светония? Жизнь 13-го цезаря?
- Тебе все смехуечки и пиздихаханьки, - огрызнулся он и вкратце ознакомил со своими соображениями о латинских мраморах и их реальных прототипах, которые неоднократно варьировал в стихах, пьесах, лекциях и эссе, вплоть до мрамора, застрявшего у него в аорте из его предсмертного цикла.
А знакомством с великими мира сего продолжал гордиться даже после того, как сам примкнул к их ареопагу, а некоторых превзошел: "Только что звонил мой друг Октавио...", "Получил письмо от моего друга Шеймуса...", "Должен зайти мой друг Дерек..." - литературная викторина, читатель, продолжается, из легких. А уж про тех, у кого титул, и говорить нечего: "Мой друг сэр Исайя", - говорил он чуть не с придыханием (а после следовала пауза) о довольно заурядном британце русско-рижско-еврейского происхождения, единственная заслуга которого перед человечеством заключалась в том, что он заново ввел в литературный обиход слова Архилоха о лисах и ежах. Печалился, что нет ни одной фотки его с Ахматовой, кроме той знаменитой, где он стоит, сжав рукой рот, над её гробом. Всякий раз призывал меня "с аппаратурой" на встречи с Барышниковым, Ростроповичем, Плисецкой и прочими, хотя не уступал им в достижениях, но поприще их деятельности соприкасалось с масскультурой, а его - нет. Комплекс недоучки, я так думаю. Шемяка, мой основной работодатель, и вовсе помешан на знаменитостях: снимается со всякой приезжей швалью из шестидесятников, которые ему в подметки не годятся, включая власти предержащие: когда там у них в России была чехарда с премьерами, он ухитрился сфотографироваться с каждым из них - от Черномырдина до Путина.
"И все-таки жаль, что я не балерина", - шутанул О как-то, а всерьез предлагал продавать сборники стихов в супермаркетах и держать их в отелях и мотелях наравне с Библией, которая тоже суть стишата: не лучше не хуже прочей классики. С его подачи в нью-йоркском сабвее появились сменные плакатики с логотипом "Poetry in Motion" и стихами Данте, Уитмена, Йейтса, Фроста, Лорки, Эмили Дикинсон, пока не дошла очередь до инициатора. О в это время как раз был на взводе, что с ним в последнее время случалось всё реже и реже, и тиснул туда довольно эффектное двустишие:
Ты, парень, крут, но крут и я.
Посмотрим, кому чья будет эпитафия.
И вот звонит мне в сильном возбуждении:
- На выход. С вещами.
То есть с техникой.
Ну, думаю, опять знаменитость. Прокручиваю в уме знакомые имена, тужась вспомнить, кто из них жив, а кто помер. Пальцем в небо. Коп при регалиях - прочел стишок в сабвее и явился за разъяснением: кому адресовано, спрашивает.
- А ты как думаешь? - О ему вопросом на вопрос.
- Тирану.
То есть исходя из того, что О - русский, да ещё поэт и еврей, а в России тирания.
- Нет, коллеге. - И добавил, исходя из личного опыта: - Поэт - тиран по определению.
Коп над разъяснением задумался ещё крепче, чем над стишком, - не ожидал, что меж русскими писателями такие же разборки, как среди криминалов. О гордился этим полицейским читателем - больше, чем другими. Как представителем, с одной стороны, народа, а с другой - власти. Единственный мой снимок, который повесил у себя кабинете.
Двустишие это обросло комментариями: кому оно посвящено? Я знаю доподлинно и в надлежащем месте сообщу. А пока что: зря О хорохорился. Он обречен был проиграть в том споре - и проиграл: моська одолела слона. И тот, кто его на этот стих подзавел, сочинил эпитафию, самую лживую и отвратную из всех. Если бы О прочел, в гробу перевернулся.
Единственный, кого О пережил из гипотетических антагонистов этого стишка, чему сам страшно удивился, - Довлатов. Довлатов, думаю, удивился бы ещё больше, узнав, что О все ещё жив, а он, Сережа, умер. Интересно, дано ему знать это там, за пределами жизни? Или это всё суета сует и жизни мышья беготня перед лицом вечности, а есть ли та - на самом деле под большим вопросом?
А Довлатов и не скрывал, что книжка о тебе на случай твоей смерти, а та казалась не за горами, у него уже вся готова: "Вот здесь", - и показывал на свою огромную, как и всё у него, голову.
Он заранее занял место на старте будущих вспоминальщиков об О, который к месту и не к месту прощался в стихах и в прозе с жизнью, на что у него имелись веские физические показания. Довлатов был единственным, кому не довелось литературно, то есть профессионально, воспользоваться смертью О, которого он обогнал сначала в смерти, а благодаря ей - в славе.
Говорю о России.
О знал, что плакальщицы и плакальщики по нему давно уже приведены в состояние наивысшей боевой готовности.
Рассказывал, как Раневскую спросили, почему она не напишет воспоминания об Ахматовой. "А она мне поручала? - огрызнулась Раневская. Воспоминания друзей - посмертная казнь".
- Это бы ещё полбеды, - говорил О. - А как насчет воспоминаний шапочных знакомых и даже незнакомых, которые будут клясться в дружбе с покойником? Конец света! Я бы запретил сочинять мемуары про мертвых, коли те не могут ни подтвердить, ни опровергнуть. Как говорил не помню кто: дальнейшее - молчание. Если мертвецам не дано говорить, то никто из живых не должен отымать у них право на молчание. Коли зуд воспоминаний, вспоминай про живых. Нормально?
- А как насчет некрологов?
- Что некрологи! Некрологи на всех знаменитостей написаны в "Нью-Йорк таймс" впрок и лежат в специальном "танке", дожидаясь своего часа, как сперматозоиды гениев. Мой - в том числе.
Как всегда в таких случаях, сделала большие глаза.
Хихикнул.
- Ты же понимаешь, я не об этих живчиках - со спермой как раз все хуже и хуже. У них там есть даже штатный некрологист, подвалил как-то ко мне с вопросником, не скрывая шакальего некрофильства. Гробовых дел мастер, замеры делал! А сам возьми да помри через полгода. О чем стало известно из некролога в той же "Нью-Йорк таймс". Сам же и сочинил загодя, в чем честно в собственном некрологе признался. Юморевич фамилия. Из наших.
Имея в виду понятно кого.
- А почему бы тебе, дядюшка, тоже не сочинить себе некролог, пока есть такая возможность?
- То есть пока не помер?
- Хоть бы так, - говорю.
- Был прецедент. Эпитафия себе заживо. Стишок. Князь Вяземский написал в преклонны годы.
- Тем более. Возьми за образец. Коли ты другим отказываешь в праве писать о себе.
- С чего ты взяла? Я не отказываю. Вранья не хочу.
- А правды?
- Правды - боюсь.
И добавил:
- От себя прячусь. Всю жизнь играю с собой в прятки.
- Не надоело?
С одной стороны, прижизненная слава, конечно, кружила голову, внюхивался в фимиам, кокетливо отшучивался: "Там, на родине, вокруг моей мордочки нимб, да?" - "Дядюшка, а твоя фамилия случаем не Кумиров? спрашиваю. - Ты сам с собой, наверно, на "вы", а не только с Довлатовым". С другой стороны, однако, опасался, что после смерти, которую напряженно ждал вот уже четверть века и навсегда прощался с близкими, ложась на операцию геморроя или идя к дантисту, слава его пойдет если не на убыль, то наперекосяк, что ещё хуже.
Сам творил о себе прижизненный миф и боялся, что посмертно его собственный миф будет заменен чужим, сотканным из слухов и сплетен.
- Стишата забудутся, а мемуары незнакомцев останутся. Кошмар.
- Но не кошмар, кошмар, кошмар!
Анекдот из его любимых - про блядей.
Ухмылялся:
- Предпочитаю червей мухам.
Мухи над твоим будущим трупом начали кружить задолго до смерти. В Израиле или в Италии, а может, и там и там поставили про тебя спектакль, так ты трясся от возмущения:
- Какой-то слюнявый хлыст под моим именем по сцене бегает и мои стихи читает. Каково мне, когда спёрли моё айдентити!
Раз психанул и выгнал одного трупоеда - тот успешно издавал том за томом сочиненные им разговоры с покойными знаменитостями, несмотря, на то, что некоторые умерли, когда он был ещё в столь нежном возрасте, что ни о каких беседах на равных и речи быть не могло (как, впрочем, и позже), а к тебе стал подступаться, не дожидаясь смерти. Ты как-то не выдержал: "А если ты раньше помрешь?" Грозил ему судом, если начнет публиковать разговоры, но тот решил сделать это насильственно, явочным путем, игнорируя протесты:
- Трепались часа три в общей сложности, от силы четыре, а он теперь норовит выпустить двухтомник и называет себя Эккерманом.
- Он что, тебя за язык тянул? - сказал папа. - Никто тебя не неволил. Не хотел бы - не трепался. Жорж Данден!
- Как ты не понимаешь! В вечной запарке после нобельки - сплошная нервуха. Не успеваю выразить себя самолично, письменным образом. Вот и остается прибегать, прошу прощения за непристойность - Воробышек, заткни уши! - к оральному жанру. Лекции, интервью, все такое прочее. А там я неадекватен сам себе. Написал в завещании, чтоб не печатали писем, интервью и раннего графоманства. Шутливые стихи на случай - сколько угодно. Ничего не имею против. Даже наоборот.
- Что до самовыражения, ты уже исчерпал себя до самого донышка, сказала мама, которая присвоила себе право резать правду-матку всем в глаза. Зато за глаза могла убить человека, тебя защищая.
- Пуст так, что видно дно, - без ссылки на Теннисона, но нам круг цитируемых им авторов был более-менее знаком. - Ты это хочешь сказать?
- Не слишком рано ты занялся самомифологизацией? Хотя это уж точно не твоя прерогатива. А с ним, пусть и паразит, вел себя, как плохой мальчик.
- У него после трепа с вами весь организм разладился, - выдал справку Довлатов, который сам проглатывал язык в твоем присутствии. - Месяцами приходил в себя.
- Он не имеет права писать обо мне, как о мертвом. Пусть дождется моей смерти. Недолго осталось.
- Я бы на вашем месте был счастлив, - сказал Довлатов почтительно. Если он Эккерман, вы, простите, - Гете.
Сергуня был тонкий льстец. Он доводил прижизненные дифирамбы О до абсурда, который, однако, не дано заметить обольщаемому лестью. "Он не первый. Он, к сожалению, единственный" - вот одна из печатных нелепиц Довлатова про тебя, которая тебе так понравилась. "А как же остальные, включая Довлатова?" - вякнула я. Но его уже было не остановить: доведя свою мысль-лесть до абсурда, Довлатов сам абсурд возводил в некую степень: лесть становилась изощреннее, абсурд - соответственно - ещё абсурднее. Альбом снимков знаменитых русских с анекдотами про них Довлатов выпустил под названием "Не только Бродский" - в том смысле, что и другие тоже, хотя его одного хватило бы для этой воображаемой доски почета русской культуры.
Само собой, изощренная эта лесть льстила О, не говоря уже о том запредельном эффекте от противного, когда этот верзила, который мог тебе запросто врезать, отправив в нокаут с первого удара, льстит и унижается. Довлатовские габариты не давали О покоя, и время от времени он проходился на их счет: "2 м х 150 кг = легковес", имея в виду его прозрачную, легкую, ювелирную прозу. На самом деле до двух метров не хватало четырех сантиметров, а вес ты и вовсе гиперболизировал, скруглил. Да и главная причина этого настороженно-реваншистского отношения к Сергуне была в другом. См. ниже.
- С его цыплячьим умишком? - кипятился О по поводу Эккермана. - Поц он, а не Эккерман. Если б только обокрал, так ещё исказит до неузнаваемости. Как принято теперь говорить, виртуальная реальность. Выпрямит, переврет, сделает банальным и пошлым. Пес с ним! А воспоминания друзей! Плоский буду, каки блин.
- Могу тебя успокоить. Из нас никто не напишет про тебя ни слова, сказала мама. - Если, конечно, переживем тебя, а не ты нас.
- Еще чего!
- Всё возможно.
- Теоретически.
Я промолчала, хотя и не собиралась сочинять гипотетический мемуар на случай твоей смерти. Но от слова свободна, да и не мемуары это вовсе.
СКОЛЬКО У ДОВЛАТОВА ВДОВ?
Со стороны могло казаться, что ты добился чего хотел и должен быть если не счастлив (как же, как же - на свете счастья нет и проч.), то хотя бы доволен. Вышло наоборот. Именно осуществление большинства твоих желаний и привело тебя к беспричинной, казалось бы, тоске, а молодая жена ещё больше усугубила преследующее тебя всю жизнь чувство неудачи: тебе снова пришлось доказывать себя без никакой надежды доказать.
- Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты, - напел ты мне как-то на ухо словно по секрету.
Сделала большие глаза.
- Всю жизнь я чего-то ждал: каникул, женщины, публикаций, переводов, заграницы, профессуры, гонораров, нобельки, наконец. Удачи не так радуют, как огорчают неудачи, да?
- Какие у тебя неудачи, когда ты всего добился?
- А знаешь, что говорил самый знаменитый венецианец?
- Марко Поло?
- Да нет! Куда ему до Джакомо Казановы, которому твой Шемяка творит памятник. Человек может добиться чего угодно, писал этот старый трахаль, стать папой римским или свергнуть короля, стоит только захотеть по-настоящему, и только возраст ставит естественную преграду всемогуществу желаний. Ибо человеку уже ничего не достичь, коли он в возрасте, презренном для Фортуны, а без её помощи надеяться не на что. Цитирую близко к тексту. А Бэкон что утверждал? Надежда - хороший завтрак, но плохой ужин. Фрэнсис, а не Роджер. Не путай, Воробышек. Как и братьев Шлегелей, Гримм, Гонкуров, Стругацких и даже Вайнеров - хер с ними. У меня все уже позади, ждать больше нечего, источники радости иссякли.
- И никаких больше желаний? Ни одной мечты?
- Ну уж никаких! Кое-какие остались на самом донышке. Реальные сбылись, а нереальные, неосуществимые - затаились. Как у большевиков: программа-минимум и программа-максимум.
- И какая же у тебя программа-максимум, дядюшка?
- Сколотить капитал и обрести бессмертие.
- Первым условием бессмертия является смерть, как сказал Ежи Лец.
- Нежилец, - скаламбурил ты. - Как и я.
- Тебе воздвигнут мавзолей на Дворцовой площади. Посмотри в зеркало ты и так уже мумия: и сам по себе, и во что тебя превратили литературные иждивенцы. А у питерцев давно уже московский комплекс, и они помирают от зависти: у тех есть, а у нас нет. А кого всунуть в мавзолей - без разницы.
- Меня зароют в шар земной, - процитировал ты незнамо кого, и спросить не у кого.
Когда допишу эту книгу, к ней понадобится комментарий: не к моим словам, а к твоим. Особенно цитатам - тем, источник которых мне неведом, а тобой сознательно замутнён. Не могу даже поручиться за их точность.
- Бог отвратил свое лицо от меня. - И тут же - от высокого к низкому: - Знаешь такого грузинского поэта по имени Какия?
- Ни то, ни другое тебе не грозит, - возвратила я тебя к мечтам о башлях и бессмертии.
- Не скажи! Рубль доллар бережет.
- Так то в России!
- Ты спрашивала о мечтах, а мечты, по сути, и должны относиться к сфере несбыточного. Как сказал твой Нежилец, сумма углов, по которым я тоскую, явно превышает 360 градусов. А сбыточные, укороченные - лажа. Суета и хлопоты, а не мечты. Плюс-минус несколько лет - без разницы тому, для кого мера времени - вечность.
- Так ты, дядюшка, больше не хлопотун?
- Не о чем больше хлопотать, Воробышек. У людей я уже всё выхлопотал. А Бог ещё никому не делал поблажки. Зловредина.
Но я-то знала, что гложет тебя нечто другое.
Несмотря на все свои внешние успехи, с собственной точки зрения, ты недоосуществился, не успел, а потому и считал свою жизнь неудачей - от измены любимой женщины и предательства друга (совместный акт) до - трудно поверить, но так - эмигре. Твои собственные слова:
- Отвал за окоём был, наверно, ошибкой. Для карьеры - ОК, зато стишкам - капут. А нобельку так и так отхватил бы. Жил бы в Питере - ещё раньше дали. Был бы самый молодой лауреат. А так алкаш-ирландец обскакал, будь проклят.
Пару секунд спустя:
- Шутка.
Твой постоянный рефрен - то ли из страха быть непонятым, то ли из кокетства.
В разгар борьбы за нобелевку возбужденный Довлатов передавал всем по секрету слова Сьюзан Зонтаг:
- Им там дали понять, в их гребаном комитете, что у него с сердцем швах и он не доживет до их возрастного ценза.
Вот тебе и поспешили дать премию, отступя от геронтологического принципа.
Больше, чем не дожить, ты боялся, что нобелевку получит Евтух или кто-нибудь из той Ко.
После премии ты прожил ещё восемь лет.
А Довлатов, так и не дождавшись твоей смерти, на случай которой собирал о тебе анекдоты и варганил книжку, сам помер, когда его растрясло в "скорой", и он захлебнулся, привязанный к носилкам. Кто бы догадался перевернуть его на бок! Или сама судьба выбрала в качестве исполнителей двух дебилов-латинос? "Как грудной младенец помер", - так отреагировал на его смерть ты, который из всех смертей интересовался только своей.
- Слишком большое ты ей придаешь значение.
Так и сказала.
- Цыц, малявка! Это я своей жизни придаю значение, потому что исказят до неузнаваемости. Уже сейчас, а что будет, когда стану хладный труп! Покойник не желает, чтобы под его именем фигурировал самозванец.
Хотела сказать, что и своей жизни он придает излишнее значение, но вспомнила: "Берегите меня - я сосуд..." Что-то в этом роде у Гоголя, от тебя же узнала, точно не помню. В том смысле, что не само по себе бренное мое тело ("Уж слишком оно бренное. Там бо-бо, здесь, здесь" - твоя рефренная жалоба), а огонь, мерцающий в сосуде, хоть это уже и не Гоголь. Пусть не огонь - Божья искра. И ещё говорил, что Бог шельму метит, имея в виду свой дар. Гению мстит сама природа. Сиречь он сам.
Неоднократно предсказанная в стихах и разговорах, долгожданная тобою смерть грянула тем не менее как гром среди ясного неба. Убил бы меня за клише. "Не чужесловь - своеобразен гений", изобрел свой афоризм из двух чужих. Тавтологии боялся не меньше, чем смерти. Другим не прощал, себе тем более.
- Страх толпы. Демофобия, как говорят у нас в деревне. Извне и изнутри. Хуже нет, когда толпа толпится в самом тебе. Один человек может быть толпой так же, как толпа - одним человеком.
Твое собственное объяснение.
- Он так часто прощался с читателями, что грех было бы обмануть их ожидания, - откомментировал его смерть один пофигист из твоих друзей, ставший врагом номер один.
Этот твой бывший друг, который время от времени уводил у тебя фемину, единственный из ахматовского квартета, не разразился пока что воспоминаниями и вообще никак печатно не отреагировал на твою смерть, хотя когда-то, пока не стряслась беда, вас связывала тесная и почтительная дружба на бытовом, литературном и даже метафизическом уровне. Прямым доказательством чему - вы так и остались на "вы", единственные в вашей питерской ложе, все дивились этому вашему выканью. (Довлатов не в счет - он из дальнего окружения.) Чем тесней единенье, тем кромешней разрыв, как сказал бы ты, анонимно сам себя цитируя. А потом, с разрывом, ваша связь тайно упрочилась: уже на физиологическом уровне, через общую - "вагину" зачеркиваю и вставляю "минжу", из любимых тобой словечек, хотя лично мне больше нравится "разиня". Не знаю, надолго ли хватит его молчания.
Понятно я говорю?
К кому этот вопрос?
Ты бы понял с полуслова. Sapienti sat - из твоих присловий, хоть и жаловался, что латынь у тебя паршивая, но какая есть: от тебя и поднабралась. Прерывал на полуслове, разъяснение равняя с тавтологией и считая, что повторы сокращают жизнь.
Папа говорит, что Бобышев войдет в историю, как Дантес, зато мама настаивает на свободе любовного волеизъявления, тем более ты сам погуливал на стороне: "Да стоило ему поманить - никакой катастрофы не случилось. Почему он не женился, когда родился ребенок?" В самом деле - почему? Когда родился ребенок, папа предоставил незарегистрированной семье один из двух принадлежащих ему в коммуналке на Герцена пенальчиков, но ты сбежал от семейного счастья на третий день. Спустя год в эти спаренные крошечной прихожей комнаты вселилась мама на четвертом месяце. Здесь и состоялось наше первое с тобой свидание, которое не удержала моя младенческая память, тогда как ты помнил и рассказывал подробности. От этой встречи сохранилась фотография, которой я всегда стыдилась - ты, при галстуке и в черном парадном костюме, держишь на руках голую девочку с гримасой младенческого идиотизма на рожице и внятной половой щелью между ног. Стыдно мне, само собой, первого.
А мама и Дантеса защищает - того, настоящего, пушкинского. Бобышева тем более. В том смысле, что легче всего его какашкой объявить, а он с твоим ребенком возился как со своим, когда ты отвалил.
- К интервью готова? - спросил меня этот бывший друг, а теперь уже и бывший враг.
- Всегда готова, - в тон ему ответила я, и тут же стало стыдно покойника, беззащитного, беспомощного и бесправного перед ордой профессиональных отпевальщиков.
Точнее, плакальщиков.
То есть - вспоминальщиков.
Даже те, кто знал тебя близко по Питеру и часто там с тобой встречался, вспоминают почему-то редкие, случайные встречи в Америке и Италии - блеск нобелевской славы затмил, заслонил того городского сумасшедшего, кем ты был, хоть и не хотел быть, в родном городе. А про Питер или Москву - путаясь в реалиях и опуская детали. Потеря кода? Аберрация памяти? Амнезия? Прошлое смертно, как человек, который теряет сначала свое вчера и только потом свое сегодня. А завтра ему и вовсе не принадлежит, хоть и тешит себя иллюзией.
Соревнование вспоминальщиков - а те как с цепи сорвались, не успело остыть твое тело - выиграл упомянутый трупоед, издавший на нескольких языках пусть не два, как грозился, но один довольно увесистый том мнимых разговоров с покойником, дополнив несколькочасовой треп стенограммами твоих лекций в Колумбийском, которые разбил вопросами и выдал за обмен репликами. Униженный и изгнанный своим героем, он-таки взял реванш и, нахлебавшись от тебя, тайно мстил теперь своей книгой, ходил гоголем, утверждая равенство собеседников и даже то, что послужил тебе Пегасом, пусть ты его порой и пришпоривал, но он терпел во имя истории и литературы - именно его мудрые вопросы провоцировали покойника на нестандартный, парадоксальный ход мышления, и кто знает, быть может, эти беседы потомки оценят выше, чем барочные, витиеватые, перегруженные, манерные, противоестественные и противоречивые стихи. В самом деле, зачем обливаться слезами над вымыслом, когда можно обратиться напрямик к докудраме, пусть драма спрямлена, а документ - отчасти фикция?
Между прочим, с Довлатовым произошла схожая история, когда посмертно он стал самым знаменитым русским прозаиком и начался шабаш округ его имени. А так как он жил, в отличие от тебя, не в гордом одиночестве на Олимпе "на Парнасе", слышу твою замогильную поправку, - но в самой гуще эмигре, то и вспоминальщиков о нем ещё больше.
Одних вдов - несколько штук: питерская, эстонская и две американские, хотя женат он был всего дважды. Точнее, трижды, но жен - только две. Когда Сергуня сбежал в Эстонию, чтобы издать там книжку и поступить в Союз писателей, не учтя, что руки гэбухи длиннее ног беглеца, то да - прижил там дочку от сожительницы. Да ещё на Брайтон-Бич к одной доброй душе уползал во время запоев, как в нору, чтобы просохнуть и оклематься, но женат на ней не был, да та и не претендует на вдовий статус. Попробовала бы она! Даже её попытка поухаживать за Сережиной могилой была в корне (буквально!) пресечена его аутентичной вдовой: высаженный брайтонкой куст азалии был с корнем вырван его главной, последней, куинсовской женой, которую можно обозначить как дваждыжена. Ибо вторая и третья его жены - на самом деле одно лицо, хоть и перемещенное в пространстве через Атлантику. На этой своей жене он был женат, разведен и снова женат уже в иммиграции. Что касается первой, то это была, по его словам, жена-предтеча, femme fatale, которая оттянула все его мужские и человеческие силы, выхолостила и бросила, а потом, уже после его смерти, объявила свою дочь, которая родилась незнамо от кого несколько лет спустя после того, как они расстались, - Сережиной. В жанре племянников лейтенанта Шмидта. В общей сложности, вместе с самозваной, Довлатов становился отцом трех дочерей (уверена, что ещё объявятся), а тосковал по сыну, который у него и родился после его смерти. Интересно: пол ребенка он хоть успел узнать?
"Что ты несешь, Воробышек!" - слышу возмущенный голос О с того света.
"А художественный вымысел? - отвечаю. - Мечтать о сыне, который родится только после его смерти, куда эффектнее, чем умереть, когда твоему сынку уже восемь, и радость отцовства нейтрализована запоями, халтурой, и не пишется".
Как и было на самом деле.
Сергуне, однако, удалось - уже из могилы - отмстить неразумным хазарам - и тем, кто успел сочинить о нем воспоминания, и тем, кто только собирался это сделать. Один из его адресатов опубликовал том переписки с ним, несмотря на завещательный запрет Довлатова на публикацию писем. Вот где злоязычный Сережа отвел душу и всем выдал на орехи, не пощадив отца родного, о своих посмертных вспоминальщиках и говорить нечего. Скандал в благородном семействе. Кто бы повеселился от этого скандала, тайно ему завидуя, так это ты!
КОМПЛЕКС ГРАФА МОНТЕ-КРИСТО
Не будучи так эпистолярно словоохотлив, как Довлатов, ты, наоборот, оставил после себя сплошные дифирамбы и панегирики, хотя мизантроп был не меньше, чем тот. Скорее, правда, мизогинист. Несмотря на позднюю женитьбу. Женатый мизогин. Мизогиния как часть мизантропии. Как тот же Сергуня говорил про Парамоху: антисемитизм - только часть его говнистости.
С другой стороны, пожалеть можно: антисемит, вынужденный притворяться жидофилом.
А что ему ещё остается?
В твоей мизантропии мы ещё разберемся - воленс-неволенс, как ты бы выразился. Равнодушный ко всей современной русской литературе, ты раздавал налево и направо в устном и письменном виде комплименты литературным лилипутам, и те пользуются ими теперь как пропуском на тот самый литературный Олимп (он же Парнас), где ты восседал в гордом одиночестве, зато теперь там тесно от вскарабкавшихся - в том числе с твоей помощью пигмеев. Вообще, после твоей смерти они сильно распоясались. Как после твоего отвала за бугор - питерцы. А тем более после твоего окончательного отвала: отсюда - в никуда. Само твое присутствие держало всех в узде. Ты бы их не узнал.
Кого ты терпеть не мог, так это соизмеримых, то есть конкурентоспособных авторов. Кого мог, мордовал, давил, топтал. Даже тех, кому помог однажды, мурыжил и третировал. "Унизьте, но помогите", - сказал тебе Сергуня в пересказе "Соловьева и Вовы" (опять твоя кликуха, а Довлатов называл его "Володищей", подчеркивая, от обратного, малый рост). Мол, ты и помогал Довлатову, унижая, и унижал, помогая. Как и все у Соловьева, с касаниями, но по касательной, без углублений. Нет, чтобы копнуть, но его листочки интересуют, а не корешки. Спасибо дяде Вове: мне и карты в руки.
Чего больше было от твоей помощи - пользы или вреда? Не знаю. Практически - да, пользы. А в остальном? После каждой такой просьбы Довлатов ударялся в запой. Такого нервного напряга стоила ему любая.
Как и само общение с тобой.
Потрясный рассказчик, он терял в твоем присутствии дар речи.
- Язык прилипает к гортани.
- Он тебя гипнотизирует как известно кто известно кого, - говорю Сергуне.
Он и тут тебя оправдал:
- Его гипноз - это мой страх.
А тебе забавляло, что такой большой и сильный у тебя на посылках.
Я бы однако избегла тут обобщений, хоть ты и тиранил свой кордебалет, держал в ежовых рукавицах свиту, третировал литературных нахлебников. У тебя была своя империя, коей ты был тиран. Не зря тебя назвали в честь вождя всех народов. Недаром Рим был твой идеал. Однако с Довлатовым у тебя был свой счет - с питерских времен. Двойной: женщина и литература. Память о юношеских унижениях. Как сказал известно кто: травмах.
В одной ты признался, но иронично, свысока, равнодушно, уже будучи мизогином: что осаждали с ним одну и ту же коротко стриженную, миловидную крепость, но из-за поездки в Среднюю Азию, чтобы хайджакнуть там самолет (все равно куда - не в, а из), ты вынужден был снять осаду, а когда вернулся после самолетной неудачи, крепость уже пала. То есть дело в отсутствии и присутствии: останься ты на месте поединка, его исход не вызывал никаких сомнений. А вообще - не очень и хотелось.
Хорошая мина при проигранной игре.
На самом деле другая мина: замедленного действия.
Боясь твоей мести, Довлатов официально, то есть прилюдно, отрицал свою победу, но как-то шептанул мне, что победил в честном поединке ещё до того, как ты отправился.
На роль этой миловидной крепости претендует теперь с полдюжины шестидесятилетних дам, и каждая сочиняет воспоминания.
Равнодушие и ирония вовсе не означали, что ты забыл и простил Довлатову тот свой проигрыш. Точнее, его выигрыш. А ты бы предпочел, чтобы это был твой проигрыш, а не его выигрыш. Что и дикобразу понятно. Тем более этот Сережин выигрыш - не единственный. Ваш с ним счет: 2:0.
Ты не забыл ни общий счет не в твою пользу, ни тесную связь между двумя его выигрышами, но о том, другом предпочитал молчать - ни одного печатного да хоть просто изустного проговора. Тем более молчал в тряпочку Сергуня, который предпочел бы, чтобы того выигрыша, который вы оба скрывали, и вовсе не было. Очень надеялся, что ты о нем позабыл, хотя и знал, что помнишь.
Довлатов боялся не гения русской литературы, а распределителя литературных благ.
Он погружался в пучину ужаса, когда думал, что нобелевский лауреат и литературный босс помнит как, когда и, главное, кем был освистан на заре туманной юности.
Помнили - оба.
Еще вопрос, какое унижение для тебя страшнее - любовное или поэтическое.
У кого самая лучшая, самая цепкая память?
У злопамятного графа Монте-Кристо.
Память у него - злоебучая.
Как у тебя.
Ты и был граф Монте-Кристо во плоти и крови. Со всеми вытекающими последствиями. Ты помнил все свои унижения, и было их не так мало. А может Дантес Бобышев и не преувеличивал, когда говорил, что ты ему перекрыл кислородные пути?
- Обида - женского рода, унижение - мужеского, - вспоминаю чеканную твою формулу.
- А месть?
- Месть - среднего.
И ещё:
- Странная штука! Любое унижение - все равно какое, без этнической окраски - напоминает мне, что я жид. Сам удивляюсь. Моя ахиллесова пята? Уязвим, как еврей?
Папа считал, что ты бы меньше, наверно, переживал ту, главную измену, которая перевернула твою жизнь и сделала нечувствительным ко всем прочим несчастьям, включая арест, психушку и ссылку, если бы твоим соперником был соплеменник, но мама отрезала: "Чушь!", с ходу перечеркнув саму гипотезу. А я так думаю, что даже антисемитизм твоего соперника, если он есть на самом деле, в чем сомневаюсь, связан с вашим соперничеством.
Осторожней на поворотах! Особенно здесь, в жидовизированной, как ты говорил, Америке, где обвинение в антисемитизме сродни доносу - как там когда-то в антисоветизме. Вредный стук, как сказал Довлатов. На него стучали, что лжееврей, только притворяется, на самом деле - антисемит. Даже Парамоху оставим в покое с его тайными страстями. Тебя самого попрекали, что так ни разу не побывал в Израиле. Мой Шемяка, тот и вовсе ходит в махровых, ты ему даже обещал дать в рыло при встрече, хотя всё куда сложнее. Мама говорит, что и на своих питерских тещу и тестя, которые ими так и не стали, ты возвел напраслину - они не любили тебя лично, а не как еврея. Никто же не обвиняет твоих родителей, что они не любили свою несостоявшуюся невестку как шиксу, а тем более в русофобии. Условие твоих встреч с сыном было - чтобы тот не знал, что ты его отец. "Гнусность, конечно, но почему антисемитизм?" - спрашивает мама. "А Гитлер антисемит?" - слышу глухой голос из Сан-Микеле, где ты лежишь рядом с антисемитом Эзрой Паундом.
Никуда тебе не деться от антисемитов.
Как Эзре - от евреев.
Еврей притаился в тебе где-то на самой глубине, но время от времени давал о себе знать. Напишу об этом отдельно.
Неужели и тогда, в той огромной, в одно окно, довлатовской комнате в коммуналке на улице выкреста Рубинштейна, освистанный после чтения поэмы, ты почувствовал себя жидом?
В оправдание Сергуни хочу сказать, что в тот злосчастный для обоих вечер он был литературно искренен, а не из одних только низких побуждений, коварства и интриганства, пусть интриги и были всю жизнь его кормовой базой: он не любил твои стихи ни тогда, ни потом. Не мог любить - вы противоположны, чужды друг дружке по поэтике. Ты, как экскаватор, тащил в свои стихи все, что попадалось на пути, а Серж фильтровал базар отцеживал, пропускал сквозь сито, добиваясь кларизма и прозрачности своей прозы. Литература была храм, точнее, мечеть, куда правоверный входит, оставив обувь за порогом. Главный опыт его жизни был вынесен за скобки литературы, так и остался невостребованным за её пределами. Для Довлатова проза - последний бастион, единственная защита от хаоса и безумия, а ты, наоборот, мазохистически погружался вместе со стихами в хаос. Не думаю, чтобы Сергуня был среди твоих читателей, а тем более почитателей. То есть читал, конечно, но не вчитывался - через пень-колоду. Не читал, а перелистывал - чтобы быть в курсе на всякий случай.
Зато ты его прозу читал и снисходительно похваливал за её читабельность: "Это по крайней мере можно читать". Потому что прозу не признавал, как таковую, а редкие фавориты - Достоевский, Платонов, ты их называл старшеклассниками - были полной противоположностью Довлатову.
Наверно, тебе было бы обидно узнать, что у нас на родине Сергуня далеко обошел тебя в славе. Мгновенный классик. И никакие нобельки не нужны. Еще одно твое унижение: посмертное. Не только личное, но ещё иерархическое: телега впереди лошади, торжество прозы над поэзией. Ты считал наоборот и в посмертной статье о Довлатове написал о пиетете, который тот испытывал перед поэтами, а значит, перед поэзией. Никогда! Довлатов сам пописывал стишки, но не придавал значения ни своим, ни чужим, а проза стояла у него на таком же недосягаемом пьедестале, как у тебя поэзия. Цеховое отличие: вы принадлежали к разным ремесленным гильдиям. Среди литературных фаворитов Довлатова не было ни одного поэта. А оторопь точнее, страх - он испытывал перед авторитетами, перед начальниками, перед паханами, независимо от их профессий. Таким паханом Довлатов тебя и воспринимал - вот причина его смертельного страха перед тобой.
В Питере ты им не был - в Нью-Йорке им стал.
Литературный пахан, не в обиду тебе будет сказано, дядюшка.
Что нисколько не умаляет твой поэтический гений.
Случалось и похуже: Фет - тот и вовсе был говнюшонок.
Поэт - патология: как человек, мыслящий стихами. Нелепо ждать от него нормальности в остальном. Тем более - предъявлять претензии.
Твоя железная формула: недостаток эгоизма есть недостаток таланта.
У тебя с избытком было того и другого.
Были и вовсе некошерные поступки, но я ещё не решила, буду ли про них.
Даже если не Довлатов был организатором и застрельщиком остракизма, которому тебя тогда подвергли, все равно ты бы не простил ему как хозяину квартиры. Точнее, комнаты. Ни от тебя, ни от Сергуни я той истории не слышала. Как говорит, не помню где, Борхес, все свидетели поклялись молчать, хотя в нашем случае ни один не принёс клятвы, а просто как-то выветрилось из памяти, заслоненное прижизненным пиететом Довлатова к тебе и посмертной твоей статьей о нем. Да и как представить сквозь пространство и время, что самый великий русский поэт и самый известный русский прозаик, дважды земляки по Питеру и Нью-Йорку, были связаны чем иным, нежели дружбой и взаимоуважением?
Информация о том вечере тем не менее просачивается.
"Сегодня освистали гения", - предупредил, покидая благородное собрание, граф Монте-Кристо.
Так рассказывает мама, которая увидела тебя там впервые. Еще до того, как познакомилась с папой, который зато был знаком с твоей будущей присухой, когда ты не подозревал о её существовании - причина моих невнятных в детстве подозрений. Читал ты, облокотясь о прокатный рояль, главную достопримечательность той комнаты, если не считать высокой изразцовой печи малахитной окраски с медным листом на полу. "Гением он тогда ещё не был, - добавляет мама. - А поэма была длиной в Невский проспект вместе со Старо-Невским". Папа не согласен: "Гениями не становятся, а рождаются". У меня своего мнения нет - я ту поэму не читала. Что знаю точно - не в поэме дело. А в миловидной крепости. Хотя нужна тебе была вовсе не крепость, а победа. Победа досталась другому. Вдобавок этот другой освистал поэму. С тех пор ты и сам её разлюбил. Двойное унижение. Такое не забывается.
Дружбы между вами не было - никогда. И не могло быть. Наоборот: взаимная антипатия. Да и встречи с той поры нечастые: случайные в Питере и подстроенные либо выпрошенные Сережей в Нью-Йорке. Что же до чувств: у одного - страх, у другого - чувство реванша. Говорю об Америке. Униженный в Питере - унижает в Нью-Йорке. Человек есть не то, что он любит, а совсем наоборот. Помощь - это зависимость, зависимость - подавление, подавление унижение. Вот природа твоего покровительства Довлатову, и вы оба об этом знали. А теперь, разобравшись, - спасибо, дедушка Зигмунд, - знаю я.
А что, если твои преувеличенные похвалы той же природы, что и твои неоправданные филиппики, пусть и с противоположным знaком?
Из последних: разгромная внутренняя рецензия на роман Аксёныча и выход из Американской академии когда туда приняли Евтуха.
- А почему ты не отказался от нобелевки в знак протеста, что её давали разным там Иксам и Игрекам? - спросил папа. - Тому же Шолохову?
Больше всего нас поразило, когда ты согласился сделать вступительное слово на вечере гастролера из Питера, которого ты там терпеть не мог - ни как стихоплёта, ни как человека. Обрушил на того каскад похвал, но прочел текст скороговоркой, чтобы скорее отвязаться, сам чувствуя фальшь и стыдясь сказанного.
Имени не называю - не заслуживает. Кому надо - и так поймет.
- Ты с ума сошел! - изумилась тогда мама. - Это не ты о нем говорил, что серый, как вошь? Что любовь к его стихам - стыд и позор русского читателя?
- Я что, спорю? - огрызнулся ты. - Противноватый. Самая выдающаяся посредственность русской поэзии. Но как не пособить родному человечку! Как-никак еврей.
- Придворный еврей, - уточнил папа. - Хуже Евтушенко с Вознесенским.
- Может, я его таким образом унизить хотел, да?
- Унизить? - удивилась мама. - Да ты ему путевку в вечность выдал. Он теперь будет размахивать твоей индульгенцией перед апостолом Петром.
- А может, у тебя комплекс твоего библейского тезки? - предположила я.
Парентс на меня воззрились, а ты, как всегда, с полуслова:
- О чем мечтал Иосиф в Египте? Простить своих предателей, - пояснил слова дочери её родителям, хотя терпеть не мог пускаться в объяснения. Пусть так. Что с того? Я - поэт, а не читатель. Мне настолько не интересны чужие стихи, что уж лучше я на всякий случай похвалю. Давным-давно всех обскакал, за мной не дует.
- Крутой лидер.
Мой подковыр.
- Простить предателя - это поощрить его на новое предательство, сказала мама с пережимом в назидательность.
Как в воду глядела.
До тебя там в новой среде не дошло?
- Прокол вышел, - согласился вдруг ты и ткнул себя вилкой в щеку. Даже капля крови выступила, но не так все-таки, как когда ты у нас в гостях вилкой проткнул насквозь руку одному нашему гостю, который по незнанию приударил за твоей нареченной. - Уломал. На коленях ползал. Говорил, его из-за меня травят. Вот я и дал слабину. Самому стыдно. Но поправимо.
Скруглил разговор и быстро смылся.
Часа через три - за полночь - всех разбудил: прочел по телефону стих, в котором съездил тому по морде, сведя на нет собственные дифирамбы. Один из немногих у тебя в последнее время поэтических прорывов. Так подзавел тебя, поганец. А потом прибыли послы из отечества белых головок и уговаривали повременить с публикацией; когда не удалось, умолили снять посвящение. Ты даже хотел всю книгу, которой суждено было стать последней и которая вышла после твоей смерти, озаглавить по этому стихотворению, но один доброхот из твоей свиты - точнее, Семьи, то есть мафии - упросил тебя не делать этого: мол, слишком большой семантический вес придашь ты тогда этому стиху и тем самым уничтожишь его адресата. А какая гениальная вышла бы перекличка сквозь четверть века, какое мощное эхо, в твоем духе - одна книга отозвалась в другой, и круг замкнулся на пороге смерти:
"Остановка в пустыне" - "Письмо в оазис".
Ты был окружен в последние годы не только приживалами и подхвостниками, но и идиотами. Ты сам окружил себя идиотами, когда у тебя притупилась художественная бдительность, атрофировался инстинкт интеллектуального самосохранения. Вот почему мы так обрадовались тогда этому стиху, надеялись, что это не рецидив, а возвращение.
- Ты ему должен быть благодарен, - сказала я. - Послужил тебе музой.
- То есть антимузой? Подзарядил севшие батареи? Ты это хочешь сказать? Нестыдный стишок, да? Это называется отрицательным вдохновением. В смысле: от паршивой овцы хоть шерсти клок.
Что муза забыла к нему дорогу, жалился неоднократно.
- Она тебе давала клятву верности?
- С кем она сейчас? - меланхолично, без никакого любопытства спросил как-то ты.
- А если ни с кем? Если она поменяла профессию?
- Стала блядью? Так эта девка всегда слаба на передок. Знаешь, Ахматова, когда узнала про мои любовные нелады сама знаешь с кем, выговорила мне, что пора бы уже отличать музу от бляди. А я с тех пор разницы не вижу.
- Тогда представь, она - я о музе, а не о твоей арктической красавице - с другим. Да, да - с тем самым. Ты так его тогда расхвалил, что и музу убедил. Вот она и переметнулась от исписавшегося пиита к фавориту. С твоей подсказки. Теперь он её ублажает ежедневной порцией рифмованных строчек. У него стихи как вода из крана.
- Не ублажает, а насилует, крошка. А надо наоборот.
- Невпродёр.
- Не поэт музу, а муза насилует поэта. Господи, какое это блаженство - быть изнасилованным музой!
- А ты, дядюшка, ещё и мазохист. Коли ждешь насильницу. А представь, твоя муза пошла покакать.
- Так долго? У неё что, запор?
- А ты не дожидаясь вдохновенья.
- То есть без эрекции?
Треп трепом, но иногда мне казалось, что музу, путая, ты отождествляешь вовсе не с блядью, а с мамашей всей этой великолепной девятки: Мнемозиной. Как говаривал поэт, с которым тебя сравнивают твои фаны: "Усладить его страданья Мнемозина притекла". А к тебе она перестала притекать, забыла адрес. Тем более ты его сменил. Вот твоя память и стала давать сбои. Не в буквальном, конечно, смысле. Всё, что тебе оставалось теперь - следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминанья. В памяти, а не в душе! Может, потому тебе Тютчев и не по ноздре? Как реалист романтику? И тот твой антилюбовный эпилог к любовному циклу, который ты писал всю жизнь, а тут решил опровергнуть, есть результат душевной амнезии? Она же атрофия. Проще говоря - энтропия. Я ничего не путаю? Сиречь смерть.
Ты умер до того, как ты умер.
А как, кстати, величать эту переметчицу - с заглавной или с прописной? муза или Муза? Одна из или единственная? Нисходящая метафора: муза - блядь. Восходящая метафора: Муза - старшая жена в гареме поэта; не альтернатива любовнице, а её предтеча, метафизический прообраз всех физических возлюбленных поэта.
Ты писал Музу с большой буквы. Наперекор тебе, я буду писать музу с маленькой. Понял, почему?
- Ты пользуешься тем, что я не могу тебе ответить, - слышу картавый голос.
Да. Пользуюсь. Ты забивал всех словами, обрывал на полуслове, слушал только себя, каждую вторую фразу начинал с "нет" - даже когда в конце фразы приходил к тому же, что утверждал собеседник. Собеседник! Тебе был нужен слушатель, а не собеседник. Ушная раковина - чем больше, тем лучше.
Ты привык к многолюдному одиночеству. Лучшие годы своей жизни ты прожил в стране, где у стен уши - даже когда один в своей питерской берлоге, у тебя был слушатель. Это твой идеал: слушатель, у которого нет голоса. И вот теперь безголосые берут реванш у монологиста за свое вынужденное немотство.
В том числе - я.
Вот и выходит, что главный предатель - это я, решившись на эту книгу незнамо для кого. Для тебя? За тебя? Написать то, на что сам ты так и не решился? Приходил в ужас от самой такой возможности - что кто-нибудь обнаглеет настолько, что сочинит за тебя твое био. Присвоил себе эту прерогативу: о себе только я сам. Отрицал биографов как вуайеристов. А разве писатель не вуайерист по определению - за другими или за собой, без разницы? А вместе с ним - и читатель. Литература есть подглядывание за жизнью: сопереживание, возбуждение, катарсис. Театральная сцена, где отсутствует четвертая стена - наглядный пример массового вуайеризма. Писатель - скорее в замочную скважину, хоть и устарелое понятие.
То есть замочная скважина.
С кем я спорю? Перед кем оправдываюсь? Почему не выложила всё тебе при жизни?
Знаю, ненавидишь меня из могилы за подглядывание, за вуайеризм, за предательство, за эту книгу-сплетню, которую пишу. А ты за мной сейчас не подглядываешь из-за гроба? Кто из нас соглядай? Кто вуайерист?
Слышу твой шёпот прямо мне в ухо:
- От кого-кого, а от тебя, детка, не ожидал такой подлянки.
- Но ты же сам назначил меня Босуэлом, - хнычу я, стыдясь своей затеи.
- Вот именно - Босуэлом. Без права на собственное мнение. Тем более на подгляд. Знаешь, кто ты?
- Вуайеристка.
- Хуже, Воробышек. Стукачка. Стучишь на меня читателям. Пользуясь тем, что я лишен права голоса отсюда.
- У тебя была возможность. Наплел про себя в три короба. Теперь моя очередь.
Да, я - вуайеристка. Да, стукачка. А что мне остаётся? Я одна знаю о тебе то, что ты тщательно скрывал от всех. Как сказал не ты: сокрытый двигатель. Никто не просек даже, что ты имел в виду вовсе не пространство, а время, когда написал, что человек никогда не вернется туда, где был унижен.
Ты уже никогда не вернешься.
Какой у меня выбор? Выполнить твою волю и оставить современников и потомков в тумане невежества о самой яркой литературной фигуре нашего времени? Или продолжать говорить правду, нарушив волю самого близкого мне человека, а ты доверял мне, как никому? Лояльность мертвецу или ответственность перед истиной?
А как бы ты поступил на моем месте? Нет, не на своем, а именно на моем: сокрыть истину согласно волеизъявлению покойника или наперекор сказать всё как есть?
Эта книга как первое соитие: наперекор стыду и страху.
На этом обрывается публикация отрывков из будущей книги Владимира Соловьева "Портрет художника на пороге смерти".
"Довлатов вверх ногами" - пятая совместная книга известных писателей русского зарубежья Владимира Соловьева и Елены Клепиковой. Предыдущие "Юрий Андропов: тайный ход в Кремль", "Борьба в Кремле: от Андропова до Горбачева", "Ельцин: политические метаморфозы" и "Парадоксы русского фашизма" - изданы на тринадцати языках. Однако главные достижения авторов в одиночных заплывах.



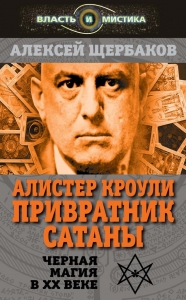
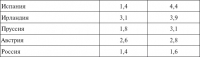
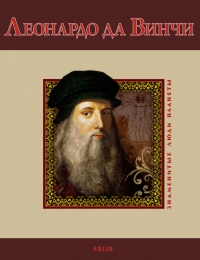
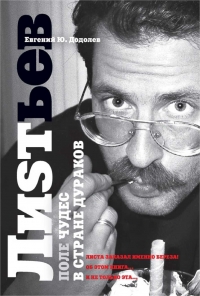
Комментарии к книге «Довлатов вверх ногами», Е. Клепикова
Всего 0 комментариев