Михаил Гулякин полковник медицинской службы Герой Социалистического Труда заслуженный врач РСФСР «БУДЕТ ЖИТЬ!..» Алексей Фомин полковник НА СЕМИ ФРОНТАХ
М. Ф. Гулякин, полковник медицинской службы «БУДЕТ ЖИТЬ!..»
Глава первая «ОПЕРИРОВАТЬ НАДЛЕЖИТ ВАМ!»
Парашют не раскрылся… — Будет ли жить сержант? — «Не теряйте времени!» — Как я стал хирургом. — Эшелоны мчатся к Москве. — На карте — родные места. — Бросок во вражеский тыл.
Прозвучала команда, и я вслед за очередным бойцом выбрался на крыло большого десантного самолета. Ослепила сияющая синева неба — день стоял ясный, солнечный, какими не часто балует ноябрь, предвестник зимних вьюг и лютой стужи.
Еще один шаг — и вот уже меня охватило ни с чем не сравнимое ощущение свободного, полета. Внизу серебрился и сверкал девственный снежный покров, а над ним плыли, медленно снижаясь, одуванчики парашютов.
Я приземлился в числе первых. Быстро освободился от строп, стряхнул с комбинезона снег и огляделся, отыскивая глазами подчиненных, — вместе со мной прыгали военфельдшер Василий Мялковский и санинструктор старшина Виктор Тараканов.
Гасли на снегу купола парашютов, но не гасла радость, наполнившая меня после удачного прыжка. Редким было такое настроение в те суровые дни, когда враг стоял у стен Москвы. И все-таки молодость брала свое, да и, откровенно говоря, не испытал я еще в ту пору всех ужасов войны, не впитал в себя горя людского, не познал боль личных утрат.
С парашютом доводилось прыгать и прежде, еще в период учебы во 2-м Московском медицинском институте. Но то были обычные спортивные прыжки в аэроклубе. Теперь же рядом со мной лежал на снегу армейский десантный парашют; с которым в скором времени предстояло выбрасываться в тыл врага. Это казалось загадочным, влекло неизведанностью и таинственностью. Пока же продолжалась боевая подготовка, и я радовался, испытывая уверенность в себе и своих силах, а главное, сознавая, что нахожусь в одном строю с людьми самой, на мой взгляд, мужественной военной профессии.
И вдруг все как-то переменилось. Я сразу не понял отчего — тревога мгновенно передалась мне от окружающих. Раздался крик. Еще не разобрав, что кричал, указывая в небо, военфельдшер Мялковский, я понял: случилась беда. Подняв голову, увидел, что один десантник падает комом.
— Парашют не раскрылся! — крикнул кто-то рядом со мной и добавил потерянно: — Теперь все…
Десантник упал на окраине населенного пункта, к которому примыкало широкое ровное поле — район нашего приземления. Я бросился к месту происшествия, краем глаза успев заметить, что Мялковский и Тараканов, не ожидая распоряжений, побежали следом.
Преодолев огороды, по которым из-за наметенных сугробов пробираться было особенно трудно, мы оказались на небольшой улочке. Десантника помогли отыскать местные жители. Он лежал в глубоком сугробе у плетня.
— Это сержант Черных! — определил Тараканов, видно знавший его лично.
Я еще не запомнил всех по фамилиям, ибо батальон, медицинскую службу которого доверили мне, сравнительно недавно был доведен до полного штата.
Склонившись над сержантом, стал нащупывать у него пульс. Повисшую плетью руку брал без всякой надежды, но — и это показалось невероятным — под моими пальцами пульс слабо, однако все же чувствовался.
— Что с ним? Что? — встревоженно спрашивал Тараканов без малейшей надежды в голосе.
— Жив, — отозвался я и попросил: — Помогите осмотреть!
Вокруг нас уже собирались люди. Причитала женщина в черной шали, полагая, что десантник погиб.
Вдали послышался гул мотора, и вскоре возле нас остановилась машина. Из нее вышли начальник санитарной службы бригады военврач 2 ранга К. Кириченко и начальник парашютно-десантной службы батальона лейтенант М. Поляков.
— В чем дело? — спросил Кириченко.
— Жив, — ответил я и доложил, что, судя по первому осмотру, у сержанта множественный перелом ребер и признаки внутреннего кровотечения.
— Сугроб спас, смягчил удар, — добавил военфельдшер Мялковский.
В этот момент Черных, приоткрыв глаза, прошептал:
— Я еще буду прыгать, доктор…
Он не спрашивал, он утверждал! Признаться, все опешили: жизнь едва теплилась в человеке, а он говорил о прыжках!
— Будешь, конечно будешь! — поспешил сказать ему Тараканов.
— Ваше решение? — спросил меня Кириченко.
— Есть показания к срочной операции, — неожиданно для себя самого, как-то уж чересчур по-книжному ответил я и предложил доставить пострадавшего в городскую больницу, где наверняка должны быть и квалифицированный хирург, и хирургические сестры.
— Довезем? — спросил Кириченко.
Я пояснил, что иного выхода нет. И тут заговорила одна из женщин:
— Так у нас же есть больница, это вон там, — показала она, — недалеко совсем.
— Едем! — решил Кириченко.
Мы положили сержанта на заднее сиденье легкового автомобиля, поехали осторожно, чтобы не причинить ему боль. Я понимал, что Кириченко сделал правильно, избрав сельскую больницу, — до города мы бы сержанта не довезли. Сомневался в одном: есть ли здесь хирург и квалифицированный средний персонал.
Мои опасения оправдались. Нас встретил фельдшер. Он проводил в операционную — небольшую светлую и чистую комнату на втором этаже. Необходимое оборудование в ней было, стоял у стены и шкаф со стеклянными дверцами, сквозь которые виднелись различные медикаменты.
— К сожалению, ничем помочь не могу, — сказал фельдшер. — Но сейчас пришлю операционную сестру из хирургического отделения.
— А врач будет? — с надеждой спросил я.
— Хирурга нет, ушел на фронт…
Между тем сержанта внесли в операционную и аккуратно положили на стол. Лицо его казалось белее простыни, пульс стал еще слабее. Прибежала операционная сестра — это была женщина пожилая, сухонькая, подвижная. Едва взглянув на пострадавшего, она сразу бросилась к шкафчику и стала готовить шприц.
— Нужно сделать инъекцию морфия и камфоры с кофеином, — сказал я. — Еще хорошо бы подготовить внутривенное вливание физиологического раствора.
— Знаю, знаю, — заверила медсестра.
Медицинские сестры районных и сельских больниц…
Не раз мне приходилось удивляться их разносторонним знаниям, в основе которых лежал многолетний опыт лечебной работы, знаниям, которым могли по-хорошему позавидовать иные выпускники мединститутов.
Мялковский осторожно раздел сержанта. Открылись кровоподтеки на левом плече и левой ноге. Нижняя часть груди была деформирована с левой стороны. Я понял, что вполне можно ожидать повреждения селезенки, печени и легких. Предстоявшая задача была по плечу лишь многоопытному хирургу в хорошо оборудованной клинике.
— Кто будет оперировать? — спросила медсестра.
— Вот он, Гулякин, — указал на меня Кириченко и прибавил: — Он у нас хирург.
— Товарищ военврач второго ранга, — растерянно начал я, — здесь такое дело… К тому же мне не приходилось самостоятельно оперировать…
Кириченко заявил строго:
— Не мне же, терапевту, становиться к столу. Оперировать надлежит вам. Не теряйте времени!
Вот так, совершенно неожиданно, свалилось на меня испытание. А готов ли я был к нему? Конечно, понимал и раньше, что настанет час, когда придется взяться за скальпель и вступить в борьбу за жизнь человека самому, без помощи опытного учителя. Но все это словно бы отодвинулось на потом, особенно в связи с назначением на должность начальника медицинской службы батальона, которая была связана главным образом с организаторской работой. И вдруг…
Из оцепенения меня вывел голос медсестры:
— Все готово!
Вымыть руки, надеть халат, шапочку и перчатки, поданные медсестрой, было делом минуты. Я шагнул к операционному столу и остановился, собираясь с мыслями.
Наступал момент, ради которого я несколько лет учился сначала на лечебном, а затем на военном факультете 2-го Московского медицинского института, куда привели меня не совсем обычные обстоятельства. Дело в том, что в детстве, в школе, я не мечтал стать хирургом. Значительно больше привлекала профессия строителя. После окончания семилетки поступил в машиностроительный техникум в Орле. Отучился год, с большим удовольствием и интересом посещая занятия. Но в середине второго курса пришлось расстаться со студенческой жизнью. Голод и холод заставили вернуться домой, поступить на работу в совхоз «Спартак» в Чернском районе Тульской области, неподалеку от своего родного села Акинтьево.
Учебу, однако, не бросил. Сочетал работу о самостоятельными занятиями. Позднее, когда отца, трудившегося в Чернском райземотделе, перевели под Тулу, где он возглавил крупный лесхоз, я сдал экстерном за вечерний рабфак. Трудно сказать, как бы сложилась моя судьба дальше, если бы не случай. Как-то в гости к нам пришел старый приятель отца хирург Павел Федосеевич Федосеев. Я видел его и прежде, причем он всегда как-то особенно пристально смотрел на меня, часто принимался увлеченно рассказывать о своей профессии, а тут прямо заявил:
— Думаю, Миша, добрый из тебя хирург получиться может. Характер спокойный, выдержанный, а главное — руки. У тебя руки хирурга. Уж ты мне поверь!
Конечно, не эти, или не только эти слова повлияли на мою судьбу, но с того дня я все чаще стал задумываться о медицине, о благородной профессии врача. А тут еще закадычные друзья Константин Гостеев и Михаил Шерстнев собрались в Москву поступать в медицинский институт. Позвали с собой. Согласился, долго не раздумывая.
В институте начиная с третьего курса занимался в хирургическом научном кружке. Посчастливилось несколько раз участвовать вторым ассистентом в сложных операциях, которые делали профессор И. Г. Руфанов, доценты И. И. Михалевский и М. Д. Веревкин. Доверяли мне, правда под контролем, простейшие хирургические вмешательства, но все это ни в какое сравнение не шло с тем, что выпало испытать теперь в сельской больнице.
Опыта я не имел, но были прочные знания, полученные за годы учебы, — тогда мы учились на совесть, со всей ответственностью, никогда не пропуская лекций и кропотливо готовясь к каждому практическому занятию. Многое еще не привыкли делать руки, но что нужно было делать — я знал твердо. Прежде всего попросил подготовить аппаратуру для общего наркоза, заставив удивиться медсестру.
— Что? — переспросила она, и тут же отрезала: — У нас такой нет.
Я, признаться, смутился — сам должен был догадаться насчет аппаратуры, ведь не в клинике институтской находился.
— Ну а анестезирующие средства есть?
— Это сейчас, — кивнула медсестра.
Операцию решил проводить под местным наркозом. Аккуратно обработав поверхность грудной клетки, взял из рук медсестры шприц с новокаином и ввел анестезирующий раствор в места, где были повреждены ребра.
У каждого хирурга есть свой личный почерк, свой опыт, свое мастерство. Все это постепенно появилось и у меня. А во время той первой моей операции я мог лишь вспомнить наставления своих учителей, в том числе и напутствия начальника кафедры военно-полевой хирургии военврача 1 ранга профессора В. С. Левита. Одна из его лекций так и называлась: «Как поступать на фронте».
На фронте… Впрочем, в той сельской больнице, расположенной за сотни километров от передовой, тоже был своего рода передний край, ибо здесь шла схватка за жизнь человека.
«Как поступать на фронте»… Так как же все-таки? И передо мной словно бы возник наш медленно расхаживавший по кафедре профессор, который спокойно, без излишней назидательности говорил:
— Огнестрельную рану всегда сопровождают кровотечение, шок, инфекция. Первейшая обязанность врача — остановить кровотечение, ввести анестезирующий раствор в места переломов костей…
Рана моего пациента не была огнестрельной, но следы внутреннего кровотечения говорили о том, что надо следовать профессорскому совету. Сделав рассечение брюшной стенки, убедился в этом — в полости живота оказалось много крови.
Вот написал теперь, много лет спустя, обычные для хирурга слова: «Сделав рассечение брюшной стенки…» Но каким необычным и непривычным тогда было для меня это простейшее действие! Я решился на операцию, но мне было не по себе, я пребывал в страшном волнении вот до этого самого первого разреза. Он как бы отделил мое собственное «вчера» от моего неведомого еще «завтра». Скальпель не дрогнул в моей руке, но, когда поднес его к телу человека, показалось, будто на мгновение остановилось мое дыхание и замерло сердце. P-раз… И все! Первый шаг сделан. Обратной дороги нет. Словно какой-то невидимый движитель включился во мне.
Самые худшие предположения о травмах сержанта подтвердились, и тем не менее волнение исчезло. Я все забыл, сосредоточив внимание на одном, на ожидавшем меня деле — ведь не только не приходилось самому оперировать на селезенке, но и не доводилось ни разу даже присутствовать на подобной операции.
Кириченко, очевидно, тоже сразу понял и мое состояние, и то, какая предстоит работа. Он тихо произнес:
— Спокойно, Миша, соберись. Ты все знаешь, ты сумеешь.
Приступив к операции, известной мне лишь в теоретическом плане, я подумал о том, что общий наркоз все-таки необходим. Вслух высказал свое мнение. Помог Мялковский. Он разыскал эфир и приготовил примитивную маску. С ее помощью удалось усыпить пациента.
Не стану описывать все тонкости и подробности операции. Пришлось выполнить огромное количество всевозможных действий — осушить полость живота, осмотреть селезенку и, перевязав кровоточащие сосуды, удалить ее, предпринять другие меры. Я был собран до предела, находился в полном напряжении, но словно бы и не чувствовал этого.
Наконец наложил последний шов и распорядился:
— Необходимо сделать переливание крови.
— Два донора ждут в предоперационной, — сказал Кириченко. — Доставлена и консервированная кровь.
— Хорошо, — заключил я, — но все-таки лучше прямое переливание.
С этим могли справиться фельдшер и медсестра. Я же, сняв халат, шапочку и перчатки, вышел из операционной. В коридоре ждали командир батальона капитан Степан Жихарев и комиссар старший политрук Николай Коробочкин.
— Ну что? — почти одновременно воскликнули они.
— Будет жить! — коротко ответил я и впервые испытал удивительное состояние — это и сознание исполненного долга, и радость от того, что справился с нелегким делом, а главное, счастье, ибо может быть по-настоящему счастлив человек, спасший жизнь другому человеку.
Сержанта мы оставили в больнице, поскольку он был нетранспортабелен. Дежурить возле него поручил Мялковскому. Всем остальным пора было возвращаться в бригаду, где ждали неотложные дела.
Ехали молча, все были потрясены случившимся, ведь, кроме Коробочкина, никто из нас еще не был в боях, не испытал горечи потерь товарищей.
Наш 2-й батальон 1-й воздушно-десантной бригады 1-го воздушно-десантного корпуса располагался на окраине небольшого приволжского городка. Получив пополнение, мы готовились к грядущим боям.
Корпус с первых дней войны сражался с врагом на Юго-Западном фронте, а затем по приказу командования с конца августа 1941 года находился в резерве. В начале сентября его снова ввели в бой в составе 5-й общевойсковой армии, которая оборонялась на южном берегу Десны. В сентябрьских ожесточенных схватках с гитлеровцами корпус понес значительные потери и был выведен на доукомплектование в глубокий тыл.
В тот период, когда соединение участвовало в боях, я еще пребывал на студенческой скамье. Война застала нас, слушателей военного факультета 2-го Московского медицинского института, в летних лагерях под Ржевом. Надолго остались в памяти та короткая летняя ночь и тревога, прозвучавшая под утро, после которой отбоя уже не было. 22 июня наш курс вернулся в Москву. Приехали мы поздним вечером и без малейшего промедления, буквально на следующий день, приступили к занятиям по специально разработанной программе. Последний курс завершили в несколько месяцев и уже 25 сентября 1941 года получили дипломы. После выпускных экзаменов нас собрали в Центральном Доме Красной Армии имени М. В. Фрунзе. В торжественной обстановке зачитали приказ о присвоении звания военврача 3 ранга, а уже 28 сентября состоялось распределение.
Узнав, что мои лучшие друзья направляются в Приволжский военный округ, где доукомплектовываются воздушно-десантные части, попросился туда же. В общем вся наша группа из 28 человек получила назначение в ВДВ. Это было время, когда Ленинский комсомол направлял в воздушно-десантные войска тысячи своих питомцев.
На подготовку нашего 1-го воздушно-десантного корпуса к боям было отведено три месяца. За это время предстояло почти заново сформировать части и подразделения, вооружить и научить действиям в тылу врага тысячи воинов.
Немало забот выпало и на долю медиков. Мы прибыли в корпус в числе первых, получили назначения на различные должности и приступили к приему личного состава. Был организован тщательный медицинский осмотр всего пополнения. Одновременно комплектовалась медицинская служба. Это тоже оказалось делом нелегким. Мне в помощь прислали лишь военфельдшера Мялковского. Санинструктора и санитаров пришлось искать самому. Обратил внимание на старшину Виктора Тараканова, который до мобилизации был ветеринарным фельдшером. Что ж, и ветеринара надо было брать — все-таки легче выучить и подготовить такого специалиста, нежели получить совершенно незнакомого о медициной человека. Труднее пришлось с санитарами. Больше мобилизованных, имевших хоть какое-то медицинское образование, не оказалось. Стал выбирать из пополнения тех, кто, по моему мнению, более подходил для этой службы. Так попали в медпункт красноармейцы Петр Дуров и Семен Мельников — старательные, внимательные, чуткие к людям ребята.
Занятия с личным составом начались с первых дней. Десантники изучали тактическую, огневую подготовку, целыми сутками пропадали в поле и на стрельбище.
Многое приходилось делать и мне. Еще в первые дни формирования подразделений военврач 2 ранга Кириченко собрал начальников санитарной службы батальонов и предупредил, что мы должны не только сколотить медицинские пункты и подготовить своих подчиненных, но и научить каждого десантника оказывать помощь на поле боя себе и товарищам. Он напомнил, сколь много зависит от быстроты и качества наложения первой повязки.
Я принял задачу, поставленную Кириченко, с большим удовлетворением. Когда знаний достаточно, всегда хочется ими поделиться, а, надо сказать, подготовлены мы были на факультете неплохо. Составил примерный план и отправился к командиру батальона с просьбой выделить мне необходимые часы. И тут столкнулся с неожиданным препятствием. Капитан Жихарев сказал, что у него нет ни одной лишней минуты — расписания занятий в ротах и так перегружены.
— Сам понимаешь, как сложно за несколько недель подготовить десантника, — пояснил он. — Ведь мы должны научить бойцов не только прыгать с парашютом, но и вести бой в тылу врага.
Пришлось обратиться за содействием к комиссару батальона Николаю Коробочкину. Долго мы вместе убеждали комбата в том, что, обучив сейчас личный состав приемам и способам оказания первой медицинской помощи, сохраним жизнь многим, раненным в бою. Он вроде бы уже соглашался, но стоило ему взглянуть на свой план боевой подготовки, как снова начинал возражать.
Наконец решили пойти на компромисс, когда старший политрук Коробочкин предложил:
— А что, если использовать для занятий свободные промежутки времени, ну, скажем, в ходе прыжков с вышки?
— Действительно, — подхватил я, — пока одни подразделения готовятся к прыжкам, а другие их совершают, с третьими — теми, что освободились, можно заниматься мне…
Так и порешили. Но тут возникла новая непредвиденная помеха. Десантники оказались более чем равнодушными к моим занятиям. Словно бы и не нужно им это. Никто не принимал всерьез военно-медицинскую подготовку, — видимо, каждый надеялся на то, что именно его-то уж наверняка не зацепит ни пуля, ни осколок. К тому же многие привыкли, что в паузы, которые я стал заполнять, удавалось хоть чуточку отдохнуть, — жизнь-то была нелегкая, занятия напряженные, а тут заявился врач и учит своим премудростям.
Мы вместе со старшим политруком Коробочкиным стали искать выход. И нашли. Решили, что я перед каждым занятием буду рассказывать десантникам поучительные примеры, известные мне еще со студенческой скамьи. Говорил о действиях наших военных медиков в боях на озере Хасан и реке Халхин-Гол, подводя разговор к тому, какое важное значение имело своевременное оказание первой помощи и скольким воинам это спасло жизнь, помогло сохранить здоровье.
Живое слово доходчивее голой теории. Постепенно удалось заинтересовать бойцов, убедить их в том, что твердые знания основ военно-медицинской подготовки очень важны, особенно им, десантникам, которым придется вести бои на захваченной врагом территории, вдали от лазаретов и госпиталей.
С занятиями дело наладилось, но ведь и это еще не все. Надо было назначить и обучить штатных ротных санинструкторов и нештатных санитаров, которые могли бы действовать быстро, решительно, не дожидаясь подсказки.
Организация медицинской помощи в десантном подразделении — дело своеобразное. Если в стрелковой роте задача каждого санитара вполне ясна и понятна — нужно быстро оказать раненому помощь на поле боя и эвакуировать его в безопасное место, то у десантников все сложнее. Рота или даже батальон может действовать мелкими группами, выполняя задачи в отрыве от главных сил. В каждую группу санинструктора или санитара не выделить — их просто не хватит. Потому-то и требуется подготовить как можно больше нештатных наших помощников. Но каковы их задачи? Куда они станут эвакуировать раненых, если кругом враг? Как правильно организовать работу во время рейдов по тылам противника?
На многие подобные вопросы приходилось самим искать ответы. Что делать, мало у кого в то время был достаточный опыт боевых действий в тылу врага. Его еще только предстояло приобретать.
На занятиях десантники постепенно убеждались, сколь важно своевременно наложить первую повязку на рану, чтобы уменьшить кровотечение и загрязнение, а следовательно, избежать возникновения гангрены. Все это я старался довести до ума своих подопечных. И то, что впоследствии, уже во время боев, на медицинский пункт, как правило, поступали хорошо перевязанные раненые, во многом явилось результатом учебы при подготовке к боям.
24 ноября нам зачитали приказ о том, что 1-й воздушно-десантный корпус поступает в распоряжение командующего Западным фронтом. На следующий день в 7 часов утра мы покинули город и двинулись маршем в пешем порядке на железнодорожную станцию, находившуюся на значительном удалении. И хотя, разумеется, уход десантников не афишировался, нас, несмотря на то что было еще темно, вышли проводить на улицы многие местные жители.
Первые километры пути наш батальон преодолел сравнительно легко. Бойцы шутили, вид у них был бодрый. В полдень сделали привал, покормили личный состав, дали отдохнуть, и снова в путь. Идти становилось все тяжелее, сказывались оставленные позади километры — ведь шли мы не налегке, у каждого за плечами был порядочный груз оружия и снаряжения.
Из моих подчиненных первым сдал военфельдшер Василий Мялковский. Он просто валился с ног. Его поддерживал, помогая идти, санинструктор Виктор Тараканов, но все тщетно.
— В чем дело? — забеспокоился я.
— Ничего, товарищ военврач третьего ранга, просто устал. Я сейчас, вот только чуть полежу…
Но ни ложиться, ни даже садиться на снег ему не давали, иначе он бы совсем расклеился. Приказал санитарам разгрузить Мялковского, взять часть его ноши. Кое-что забрал сам из его снаряжения, хотя, признаться, тоже устал и с удовольствием уступил бы половину своего. Но делать нечего — я командир, на меня должны равняться.
Мялковский шел, но часто спотыкался и замедлял ход. «Надо же, — думал я, — такой с виду сильный, крепкий, а выносливости нет…»
— Выходит, мало маршевой подготовкой занимались, — заметил командир батальона, обгоняя меня. — Учтем на будущее. В тылу врага побольше ходить придется…
Я ничего не ответил, даже говорить было трудно от усталости. Силы берег, чтобы самому дойти, не оскандалиться. А ведь к ходьбе-то был приучен не меньше, а может, и больше, чем многие. В годы учебы в семилетке приходилось постоянно совершать «скоростные броски» до школы и обратно по восемнадцать километров. Рос я в раздольных краях Черноземья. Леса, перелески, небольшие рощицы чередовались с обширными полями и лугами. Мальчишкой излазил все окрестные леса в поисках грибов и ягод, расстояния одолевал немалые. Но там совсем другое дело — в охотку ходил и никто не торопил, всегда можно было отдохнуть. Теперь же батальон шел форсированным маршем в походном построении бригады, и никто не имел права остановиться ни на минуту — на станции нас уже ждали эшелоны.
Мы дошли в срок, преодолев эти первые на своем пути трудности. В час ночи прибыли на станцию. Последовала команда накормить бойцов и командиров, но мало кто торопился добраться до походных кухонь — многие садились где попало и засыпали. У нас же, медиков, не было ни минуты для отдыха. Хозяйственники получали продукты на время следования, пришлось их тщательно проверять.
Погрузились в эшелоны глубокой ночью и под утро отправились в путь. Остановки были редкими, чувствовалось, что нас очень ждут под Москвой, где шли жестокие, кровопролитные бои.
На одной из остановок командира и комиссара батальона вызвали к бригадному начальству. Вернувшись, Коробочкин подозвал меня к себе, раскрыл карту.
— Взгляни сюда, Миша…
— Знакомые места, — оживился я.
И действительно, на карте были обозначены город Чернь, а также станции Горбачево, Скуратово. Удалось отыскать и родное Акинтьево.
— Неужели там будем действовать?
Коробочкин ничего не ответил, только улыбнулся.
— В этих краях, Николай Иванович, — сказал я, — могу быть полезен не только как медик. Местность знаю хорошо, все излазил, исходил. — А сам подумал: «Может, хоть что-то узнаю о судьбе матери, братьев, сестры… Как они там, в оккупации?..»
Вспомнилась последняя поездка домой. Меня отпустили попрощаться с родными сразу после выпуска из института и распределения. Выехал в конце сентября битком набитым рабочим поездом. Среди пассажиров были в основном женщины с детьми и пожилые люди. Многие покидали Москву и перебирались в сельскую местность, чтобы там переждать грозное время. Особенно горько было смотреть на малышей… Дети всегда остаются детьми — непоседливы, говорливы. Но что-то изменилось и в них. Щебетать щебетали, а на лицах отражалось напряжение, предчувствие чего-то неизвестного, страшного.
Меня, одетого в новенькую, с иголочки, командирскую форму со знаками различия военврача 3 ранга, не оставили без внимания. Вопросы вертелись вокруг одной, самой главной и волнующей всех темы: что на фронте, когда же остановим проклятых фрицев?
Что я мог ответить? Объяснил, что лишь сегодня, по существу, закончил учебу и еду попрощаться с матерью, с родными перед отправкой на фронт.
— Разобьем врага, скоро разобьем, — убеждал я, хотя в то, что это случится действительно скоро, наверное, и сам тогда уже не верил — обстановка на фронте складывалась не в нашу пользу.
Кто-то спросил о моих близких. Я ответил, что отец и старший брат мобилизованы в армию, а двое младших братьев тоже рвутся бить врага, но им еще рано. Не ведал, что судьба распорядится по-своему: пройдя опасными дорогами войны, возвратятся домой отец и старший брат Алексей, вернусь и я. Но навеки останутся лежать в сырой земле младшие братья. Жизнь самого младшего, Анатолия, оборвется совсем скоро. Это случится в декабре сорок первого во время отступления немцев от Тулы к Мценску, когда Анатолий вместе с друзьями, такими же мальчишками, как и он, пойдет подрывать фашистский склад боеприпасов. Склад они уничтожат, но Анатолий погибнет…
Ничего этого, конечно, тогда я и не предполагал, ехал к ним — еще живым и здоровым.
А мои попутчицы, особенно пожилые женщины, уже тогда сокрушались, жалея мою мать: сколько же горя ей придется пережить!
С поезда сошел на станции Горбачево. Дальше надо было пройти пешком пятнадцать километров. Каждый шаг на этом пути был мне знаком и дорог. Сколько раз приходилось преодолевать это расстояние: радостно — в сторону дома и с грустью — к станции и во время учебы в Орле, и в период работы в Туле, и потом, когда стал студентом, а затем слушателем военного факультета мединститута.
На станции с тревогой обнаружил следы от налетов вражеской авиации. Неужели бомбят? Как там, дома?
Пошел быстрым шагом и через два с небольшим часа увидел с высокого холма свое Акинтьево, до которого оставалось не более полутора километров. О чем только не передумал за эти последние минуты!
«Отец… Где он теперь? Наверное, трудно ему. Немало выпало на его долю испытаний в жизни!»
Довелось отцу служить еще в старой армии. Мобилизовали его в начале 1917 года и направили в 56-й запасной полк, дислоцировавшийся в Москве, в Покровских казармах, До этого был рабочим, встречался с большевиками, и неудивительно, что в полку его сразу потянуло к партийной ячейке. Не так уж она была велика, насчитывала, как рассказывал отец, около двадцати человек, но ни одно мероприятие в полку не оставалось без внимания большевиков, авторитет которых рос с каждым днем. Уже летом 1917 года полк стал одним из самых революционных в Москве, а осенью большевикам удалось добиться направления семи рот из его состава на охрану кремлевского Арсенала, В этих ротах влияние большевиков было особенно значительным. Солдаты переправляли рабочим оружие и боеприпасы.
25 октября 1917 года в 56-м запасном полку, как и во многих других частях Московского гарнизона, состоялось собрание, на котором солдаты по примеру рабочих заводов и фабрик единодушно потребовали передачи всей власти Советам. Казалось бы, все складывалось как нельзя лучше. Кремль, по существу, находился в руках революционно настроенных солдат. Но в конце октября белогвардейцы во главе с полковником Рябцевым обманным путем ворвались в Кремль и разоружили солдат. Офицеры выстроили все семь находившихся там рот 56-го запасного полка на площади перед Арсеналом, ходили вдоль шеренг и били солдат кулаками и прикладами. Поодаль стояли вооруженные юнкера.
И вдруг с одной из кремлевских башен по юнкерам ударил пулемет, и те попадали на землю. Пулеметчик стрелял еще несколько минут, пока его, незаметно подкравшись, не схватили белогвардейцы. Имя героя, расстрелянного юнкерами, так и осталось неизвестным.
Началась кровавая расправа над солдатами полка. Юнкера стреляли из винтовок, били в упор из пулеметов. Мой отец, Филипп Кузьмич Гулякин, солдат седьмой роты, тоже был на площади. К счастью, он оказался рядом с трофейными французскими пушками, стоявшими в Кремле со времен Отечественной войны 1812 года. За их чугунными лафетами ему и нескольким его товарищам и удалось укрыться от пуль.
Когда смолк треск пулеметов, из Арсенала вышел офицер. Он оглядел результаты кровавой работы юнкеров и приказал всем уцелевшим солдатам построиться. Затем их пересчитали и заперли в казарме. Весь день держали без еды и питья, а ночью выгнали рыть могилы, чтобы замести следы своего преступления.
Отец работал вместе со своими товарищами до поздней ночи. Схоронив погибших, решили бежать. Но как? Все выходы из Кремля были закрыты, там дежурили юнкера. Выручила солдатская смекалка. Раздобыли полотенца, связали их и с помощью такой вот веревки поднялись на стену, а затем спустились на набережную Москвы-реки. Под утро беглецы добрались до своих казарм и рассказали товарищам о трагедии…
Вместе с красногвардейцами и революционно настроенными солдатами отец участвовал в штурме Кремля, а позже охранял его до переезда из Петрограда в Москву Советского правительства. Потом воевал на фронтах гражданской войны, а когда отгремели битвы, вернулся в родное село, где стал в тридцатые годы первым председателем колхоза…
Дома меня никто не ждал. Мама растерялась. Смотрела на меня, и радости не было предела, но я вынужден был огорчить ее — ведь утром предстояло уезжать.
— На фронт? — тревожилась мама. — Да когда же только эта война кончится?!
Я спросил, пишет ли отец, как дела у Алексея.
— Отец служит во внутренних войсках, а Алеша заканчивает военное училище, — отвечала она. — Будет связистом.
Пока братья и сестра не вернулись из школы, решили обсудить наиболее важные вопросы. Меня беспокоило приближение фронта, потому и посоветовал срочно эвакуироваться.
— Нельзя оставаться здесь семье коммуниста, — убеждал я. — Знаешь, что за. звери пришли к нам войной?
— Саша скоро уедет в артиллерийское училище, так что останемся мы с Аней и Толиком, — говорила мама.
С трудом удалось доказать ей необходимость срочного отъезда.
Легли в ту ночь поздно. Младшие быстро уснули, а мама не спала — до самой зари слышались ее глубокие и печальные вздохи. Она и не подозревала, что я тоже не смыкаю глаз.
Неспокойно было уезжать из дому — враг приближался к родным краям. Но что я мог сделать? Чем помочь? Позже из города, где стоял батальон, я послал вызов маме и сестре, написал, что нашел квартиру. Но они так и не приехали.
Что случилось — я не знал.
…Коробочкин ушел к комбату. Колеса постукивали на стыках, поезд мчался к Москве. Все это время я с нетерпением ждал, когда же мы окажемся на фронте.
Подмосковье встретило крепким морозом, в вагоне стало заметно холоднее. Прильнув к окнам, мы пытались понять, куда нас везут. А эшелон несся по окружной железной дороге в кромешной темноте, и не сразу удалось определить направление движения. Наконец состав остановился, прозвучала команда, и началась разгрузка.
— Это где же мы? — спросил Мялковский, сразу оживший и повеселевший после отдыха.
— Никак, Люберцы! — воскликнул Коробочкин.
Да, это был подмосковный городок, от которого до Москвы рукой подать. Наша бригада разместилась в поселках Дзержинском и Капотне, другие части корпуса — в районах Люберец и Малаховки. Штаб корпуса расположился в здании управления Завода сельскохозяйственного машиностроения имени А. В. Ухтомского.
То, что мы оказались в тылу, никого не удивляло — воздушно-десантным частям совсем не обязательно быть близко к передовой, их ведь станут вводить в бой по воздуху. У всех на устах был другой вопрос: когда же это случится? Выяснилось, что корпус находится в резерве Западного фронта, и мы должны быть в постоянной готовности к действиям на любом направлении.
К большому моему сожалению, предполагавшийся сначала район выброски был изменен. Не пришлось действовать в родном краю. Однако не до огорчений было. В первой неделе декабря мы с великой радостью узнали о начале контрнаступления советских войск под Москвой и теперь с нетерпением ждали, когда придет наш черед бить врага.
Глава вторая ПО ТЫЛАМ ВРАГА
Куда эвакуировать раненых? — Диверсии на рокадной дороге. — В домике лесника. — Бой за опорный пункт. — Первый опыт. — На Волховский фронт. — Снова в тыл врага. — Медпункт в огненном кольце. — Прорыв через линию фронта.
В конце декабря стало известно, что бригаде предстоит выделить диверсионные группы для действий в тылу врага в районах Вереи, Медыни и Юхнова. Цель — нарушение коммуникаций противника, блокирование путей его отхода.
Вскоре начальник санитарной службы бригады военврач 2 ранга Кириченко вызвал меня на инструктаж. Сообщил, что мне предстоит действовать с диверсионной группой, возглавляемой лейтенантом Иваном Семеновым.
— Ваша задача, — говорил он, — организовать помощь раненым в тылу врага, сбор их и эвакуацию в медицинские учреждения частей, которые подойдут с фронта в ходе наступления.
«Легко сказать… А если не подойдут?» — подумал я и спросил об этом.
— Тогда будем эвакуировать раненых по воздуху… — не совсем уверенно ответил Кириченко.
И вот один за другим поднялись в небо тяжелые самолеты. Вылетели с таким расчетом, чтобы десантироваться перед рассветом. Ровно гудели моторы. Десантники сидели молча. Рядом со мной примостились санинструктор Тараканов и санитар Мельников. Вот и весь наш небольшой медпункт. Фельдшер Мялковский и остальные санитары батальона вылетели с другими подразделениями.
Недолгим был полет в неизвестность, но о многом я успел передумать. Нужно сказать, что во время десантных операций работа врача мало чем отличалась от той, которую выполняли фельдшер, санинструктор или санитар, хотя, конечно, ответственность на нем лежала неизмеримо более высокая. Дело в том, что о всесторонней врачебной помощи в тылу врага и думать не приходилось. Комплект медикаментов, умещавшийся в санитарной сумке, позволял наложить 12–15 первичных повязок, лигировать в ране кровоточащий сосуд и без серьезной обработки ушить открытый пневмоторокс в том месте, где нет возможности устранить его наложением повязки. Конечно, мало, очень мало всего этого, а потому мы заботились о том, чтобы каждый десантник имел при себе индивидуальные перевязочные пакеты.
Забегая вперед, скажу, что, получив затем опыт действий в тылу врага и поняв, как важно уметь оказывать первую медицинскую помощь, наши бойцы в дальнейшем перед десантированием старались взять лишний индивидуальный перевязочный пакет, даже если приходилось при этом оставить что-то из еды. Но тот полет, в который отправили нас в конце декабря сорок первого, был для большинства боевым крещением, и особым опытом мы не располагали.
Десантирование прошло успешно: разброс приземлившихся подразделений не превышал полутора-двух километров. Это позволило быстро собраться в назначенном месте и немедленно выступить к указанному рубежу.
Преодолев около десяти километров, группа Семенова вышла на рокадную дорогу между Можайским и Калужским шоссе. Здесь лейтенанту было приказано организовать засаду, чтобы не позволить врагу перебрасывать резервы с одного направления на другое.
Еще не рассеялась предрассветная мгла, когда десантники оседлали большак около неширокого деревянного моста через скованную морозом речушку. Семенов выслал саперов заминировать мост.
Долго ждать не пришлось. Вскоре послышался гул моторов и показались огоньки автомобильных фар. Они быстро приближались. Колонна гитлеровцев шла на большой скорости.
Группа встретила противника плотным огнем. Ударил приданный миномет. Первая машина завалилась в кювет, вторую развернуло, и она загородила дорогу. Из кузова стали выпрыгивать вражеские солдаты, сразу попадая под меткий огонь десантников.
Однако противник быстро оправился от внезапного удара. Его пехота залегла на берегу, а к мосту, столкнув с дороги застывшую поперек нее машину, помчался бронетранспортер. Вот тут-то и сработали мины, установленные саперами. Мост взлетел на воздух, а бронетранспортер рухнул в реку, проломив лед.
Гитлеровцы открыли с противоположного берега сильный огонь. Завязался бой, напряжение которого нарастало с каждой минутой.
Тараканов и Мельников находились в готовности немедленно оказать медицинскую помощь десантникам. Вскоре работа у них появилась. А вот уже и мне доложили по цепи:
— Товарищ военврач, у дороги раненый!
Я прикинул, как лучше добраться до раненого, сделал одну перебежку в его сторону, но тут заметил, как вражеские пули взбили фонтанчики снега возле нашего пулеметчика, и он обмяк, выпустив оружие из рук.
— Мельников, к дороге! — распорядился я, а сам бросился к пулеметчику. Не составляло труда определить, что у десантника опасное ранение бедра: кровь буквально хлестала, окрашивая снег.
За пулемет лег лейтенант Семенов.
— В укрытие его, доктор! — крикнул он. — Сейчас еще жарче будет!
Где ползком, где пригнувшись, я доставил солдата в безопасное место. Быстро приготовил резиновую ленту и сделал два кольца на бедре выше раны. Кровотечение удалось приостановить, но я понимал, что это лишь временная мера. Закончив перевязку, как полагалось, подложил под жгут записку, в которой указал время его наложения. А сам подумал: «Для кого она? Два часа в распоряжении раненого, всего два часа… Разве за это время удастся доставить его в лечебное учреждение наступающей с фронта части?»
Подполз Мельников, доложил, что раненые, которым он оказал помощь у дороги, остались вести бой.
— Сколько их? — поинтересовался я, вспомнив, что докладывали лишь об одном.
— Двое… Ранения нетяжелые — у одного кисть руки зацепило, у другого щеку слегка.
— Возьмите плащ-палатку у раненого пулеметчика да пару жердей в лесу подберите, — приказал я. — Нужно носилки соорудить.
— Есть! — кивнул Мельников. — Сейчас сделаю, — и прибавил удивленно: — Что-то тихо стало…
Я направился к тому месту, где оставил лейтенанта Семенова. Тот стоял возле пулемета, внимательно разглядывая в бинокль противоположный берег. Уже совсем рассвело, и отчетливо видны были трупы гитлеровских солдат на подступах к мосту и несколько разбитых грузовиков.
— Куда делись фрицы? — спросил я.
— Ушли, — ответил Семенов. — Наверно, решили, что наткнулись на крупные силы. Теперь будут другую дорогу искать. Но ничего, их и там встретят.
— В группе есть раненые, — сообщил я. — Один — тяжело. Идти не может, жгут на бедре. Нужна операция, чтобы перевязать кровоточащие сосуды.
— Постарайтесь справиться побыстрее, — попросил Семенов, — надо двигаться дальше. Задача перерезать вот эту дорогу. — Он показал на карте. — Сейчас соберем фашистские автоматы с патронами, гранаты — и в путь.
— Что, боеприпасы на исходе?
— Да нет, но и запастись не мешает. Когда еще к своим выйдем? В общем, прошу поторопиться…
— Все первичные меры уже приняты, — заметил я, — а вот окончательно остановить сильное кровотечение можно лишь в теплом помещении, при ярком свете — иначе как делать операцию?
— Но где же взять это помещение? Район встречи со своими частями в сорока километрах. Будем там через несколько дней, а жгут всего на два часа? Что же придумать?
Он снова достал карту, еще раз провел карандашом вдоль нанесенной коричневой линии, которая обозначала маршрут движения десантников.
— Разве только вот сюда зайти? — показал он на небольшое, всего в три-четыре дома, селение в лесу, на отшибе. — Тут вряд ли немцы есть… Лес кругом. Крюк небольшой, да и будет где бойцам передохнуть и обогреться. Быстро управитесь?
— Постараюсь, — пообещал я.
Между тем десантники уже приготовились к движению. Семенов выслал вперед и на фланги дозорных. Диверсионная группа углубилась в лес.
Еще несколько минут назад, когда мы были на опушке, мороз обжигал щеки, а в тихой лесной чаще оказалось теплее. Но идти было очень трудно — снег достигал колен, а кое-где, в низинах, мы проваливались в сугробы чуть не по пояс. Однако удачное в целом начало действий радовало, придавало уверенность в успехе.
Бойцы по очереди несли раненого. Он тихо постанывал. «Вот так, первый раненый — и сразу тяжелый, — думал я, но тут же успокаивал себя: — Зато всего один тяжелый, а могло быть и больше…»
Добрались до хорошо укатанной дороги. Велик был соблазн продолжить путь по ней, по Семенов увел группу в лес. Встречи с врагом до указанного нам рубежа были нежелательны. К тому же каждое подразделение, выброшенное в тыл, выполняло свою конкретную задачу. Может, и эту дорогу где-нибудь дальше перехватывала одна из наших рот.
В пути мы находились свыше полутора часов, а строения все не показывались. И вдруг один из дозорных прибежал с сообщением о том, что в лесу, на поляне, обнаружен дом.
— Странно, на карте здесь его нет, — удивился Семенов. — Может, дом лесника, построенный недавно?
— Точно, — подтвердил дозорный. — Мы осмотрели все вокруг. Можно нести раненого.
Хозяева дома гостеприимно пригласили в горницу, освободили широкие лавки, составив которые, мы соорудили нечто похожее на операционный стол, правда чересчур низкий. Работать мне пришлось согнувшись. Операция несложная, но уж слишком были неподходящи условия, в которых она происходила. Я ослабил жгут, определил поврежденные сосуды и перевязал их лигатурой. Наложив повязку, сказал Семенову, что все готово.
— Выходим! — решил он и назначил двух бойцов нести раненого. Однако хозяева забеспокоились: куда, мол, его брать и так на ладан дышит.
— Чай не на прогулку собрались, — говорил лесник. — Бои впереди, а его куда? Оставляйте. Передадим в госпиталь, как наши придут. Видать, уж скоро, канонада-то гремит — сердце радует.
Семенов спросил у меня совета. Что делать? Конечно, ранение бедра обширное и нести раненого по лесу опасно. Надо было соглашаться с предложением хозяев. Я оставил им необходимые медикаменты на случай, если потребуется перевязка, стал пояснять, как лучше ее сделать.
— Знаем, знаем, — сказала хозяйка. — Бывает, что и без врачей обходимся. Лес лечит — тут у меня травки всякие, выхожу.
И снова в путь по лесной чаще. Днем сделали привал в тихом, безветренном месте, перекусили, а как стемнело, вышли на дорогу и устроили засаду.
Позиция была снова выбрана на берегу речушки. Семенов хотел создать пробку на дороге, разгромив колонну и уничтожив мост, — саперы быстро подготовили его к взрыву.
Одиночные машины гитлеровцев не задерживали, ждали, когда покажется цель более серьезная.
Колонна врага появилась не с той стороны, с которой мы ее ждали. Семенов приказал саперам:
— Пропустите машин пять и взрывайте мост. Разрубим колонну пополам и но частям уничтожим…
Однако всех уничтожить не удалось. Те машины, что уже миновали мост, после взрыва умчались вперед на огромной скорости.
— Тьфу ты, — досадовал Семенов, — никак не думал, что они своих бросят… Упустили…
— Не тот немец пошел, — проговорил сержант, который уже успел побывать в летних боях. — Тогда бы все на нас навалились.
После короткого огневого боя, в результате которого дорога оказалась запруженной горящими автомобилями, группа отошла в лес и направилась к новому району действий. Мы, медики, в схватках с врагом не участвовали и находились обычно за боевым порядком десантников в готовности к оказанию помощи раненым. Однако оружие имели, поскольку уже в первые месяцы войны стало известно, что гитлеровцы не соблюдают никаких международных правил и норм. Всем был хорошо известен их «гуманизм» в отношении раненых. «Воевать» с людьми, лишенными возможности защищаться с оружием в руках, фашисты любили больше всего. Их садизм не знал границ. Захватчики не просто убивали раненых, но и издевались над ними: срывали повязки, заставляли людей страдать от нестерпимой боли, посыпая раны солью. А к политработникам, десантникам и партизанам гитлеровцы были особенно жестоки. Все это и обусловило то, что медперсоналу переднего края стали выдавать оружие, которое предназначалось главным образом для защиты раненых, да и для самообороны.
Когда углубились в лес, я попросил лейтенанта Семенова сделать остановку, чтобы осмотреть раненых. Их было всего двое, причем оба желали остаться в строю.
— Как, доктор? — спросил Семенов.
— Если бы речь шла об одном бое, тогда бы можно было оставить. А длительный марш они не выдержат, — ответил я. — Придется тогда нести их.
— Что предлагаете?
— Отправить к леснику. Может, согласится оставить и этих. Ушли-то недалеко.
Чтобы не ослаблять и без того небольшую нашу группу медиков, я не стал посылать с ранеными ни Мельникова, ни Тараканова, а попросил назначить для этого нештатного санитара. Семенов согласился. Он подозвал к себе раненых, один из которых уже ковылял, опираясь на палку.
— Вот, — сказал лейтенант, — а храбрился…
Боец отвел глаза.
— Пойдете по нашим следам. На дорогу ни в коем случае не выходить. Если обстановка позволит, переждете в домике лесника, если нет — найдите укромное место. Наши уже близко. Когда подойдут и освободят этот район, вы, — обратился он к нештатному санитару, — найдете полковой медпункт или медсанбат, сдадите раненых, а сами — в бригаду.
— Ну что теперь? — спросил я Семенова, когда раненые с сопровождающим скрылись и десантники продолжили путь.
— Предстоит разгромить штаб немецкой части. Вот здесь, — указал он на карте населенный пункт на развилке дорог.
Под вечер Семенов выслал туда разведчиков. Ждали их возвращения в лесной чаще. Десантники отдыхали, кто как мог, готовились к ночному бою.
Наконец разведчики вернулись. Семенов отошел с ними в сторонку, раскрыл карту, сделал на ней пометки, затем, оставшись один, долго что-то прикидывал. Когда он закончил расчеты, я подошел, чтобы выяснить, где и как будут действовать десантники, а уж исходя из этого продумать организацию медицинского обеспечения. Военным врачам тоже ведь приходится уяснять задачи, оценивать обстановку, принимать решения…
Выслушав Семенова, я решил послать с группами обхода Тараканова и Мельникова, а самому остаться с основными силами подразделения. Тщательно проинструктировал своих помощников, указал место сбора раненых, порядок их эвакуации в лес.
В полночь в разных концах населенного пункта прогремели взрывы гранат, и тут же вспыхнула перестрелка. Гитлеровцы выскакивали из домов, беспорядочно отвечали на огонь десантников. Спустя несколько минут бой уже шел в центре населенного пункта. Там вспыхнуло несколько факелов — это десантники подожгли легковые автомобили и мотоциклы, загорелся и штаб, разместившийся в каком-то большом деревянном строении.
Наконец в небо взвилась ракета — сигнал к отходу. И тут ко мне подбежал высокий боец, нештатный санитар.
— Товарищ военврач, раненый…
— Где он?
— На околице, возле баньки, вон там.
Баня была на отшибе, у самого леса. Я поспешил туда, а навстречу уже перебегали, отстреливаясь, десантники, организованно отходя к лесу.
— Доктор, вы куда? Назад! — закричал Семенов.
— К раненому! — коротко ответил я.
— Прикройте его! — приказал кому-то лейтенант, и вслед за мной побежали бойцы.
У бани я нашел санинструктора роты красноармейца Сидорова, который, склонившись над раненым, заканчивал перевязку. А рядом сидели еще несколько бойцов. Из-под десантных комбинезонов при свете не так уж далеких пожаров просматривались бинты.
— О, да здесь целый медпункт! — сказал я и, повернувшись к Сидорову, уточнил: — Вы сигнал на отход видели? Самостоятельно все могут передвигаться?
— Все, кроме одного, — ответил сержант с рукой на повязке и указал на лежавшего на плащ-палатке бойца.
— Что с ним? — спросил я у Сидорова.
— Проникающее ранение в живот… Не жилец, — ответил он тихо, склонившись ко мне.
Мы вынесли тяжелораненого в безопасное место. Сидоров, к сожалению, не ошибся — рана оказалась смертельной. Даже если бы сейчас в моем распоряжении была хорошо оборудованная операционная, и то вряд ли бы удалось спасти бойца. А в лесу? Можно было лишь немного облегчить его страдания…
Я поправил повязку бойцу, распорядился нести его на изготовленных из веток и плащ-палатки носилках, а сам поспешил к пункту сбора раненых. Там уже работали Тараканов и Мельников. К моему приходу все раненые, которых они собрали, были аккуратно перевязаны. Моего вмешательства не понадобилось.
Между тем диверсионная группа быстро отходила в лес, подальше от опушки, с которой все еще доносились выстрелы. Наконец все стихло, преследовать нас ночью фашисты, видимо, не решились. Да и не до десантников им было — с фронта нажимали наши наступающие войска.
Бойцы по очереди несли тяжелораненого. Когда позади осталось километра четыре, ко мне подошел Тараканов и огорченно доложил, что десантник скончался.
На небольшой полянке выдолбили в мерзлой земле могилу, похоронили бойца и поклялись дать прощальный салют в первой же схватке с фашистами.
Новый день провели в лесу. Я проверил повязки у раненых, некоторым сменил их. Медикаменты были на исходе, а сколько еще боев впереди, сказать трудно.
Лейтенант Семенов занимался картой. Я поинтересовался, какие у него планы.
— Вот, видите станцию, доктор? Послал разведчиков. Посмотрим, что там.
Вскоре вернулись разведчики с известием о том, что вокруг станции усиленные посты, а возле эшелона, подготовленного к отправке, много гитлеровцев в эсэсовской форме.
— Гарнизон большой? — спросил Семенов.
— Да, немалый, — ответил сержант, ходивший в разведку. — Думаю, до полка будет.
Совершать нападение на станцию было бессмысленно. И в то же время не хотелось Семенову упускать эшелон с эсэсовцами и вагонами, полными награбленного добра. Он снова раскрыл карту, провел карандашом вдоль железнодорожной линии.
— Гляди-ка, мост через реку! Надо его взорвать, и эшелон не уйдет, — решил лейтенант.
Я не принимал участия в планировании действий, не старался запомнить названий рек, деревень, где приходилось действовать, — не до того было, на моем попечении находились раненые. И хоть не были они в тот раз тяжелыми, долгие переходы по глубоким тылам могли вконец измотать их, если внимательно не следить за каждым.
Перед выходом на подрыв моста, когда десантники уже построились на небольшой лесной полянке, Семенов подошел ко мне и сказал:
— Доктор, оставайтесь с ранеными. Со мной пойдут ваши помощники. Рванем мост — и назад.
Раненые… Они лежали и сидели на еловом лапнике, отдыхая и набираясь сил перед новыми переходами, очень тяжелыми для них. Сколько испытаний еще впереди! Лес, глубокие сугробы, лютый мороз. Выдержат ли? Я не запомнил их по именам и фамилиям. Да и как запомнишь? Через мои руки за годы войны прошло около четырнадцати тысяч человек, которым довелось сделать хирургические операции, различные по сложности. Но врезались в память простые лица десантников, вчерашних рабочих парней и студентов из Москвы, Ленинграда, Горького, Куйбышева, других мест. Подбирали к нам людей наиболее подготовленных, стойких, выносливых. Не помню, чтобы кто-то жаловался на трудности. Если и жаловались, то на ранение, которое мешало идти в бой. Ко мне в таких случаях у всех был один вопрос: когда удастся вернуться в строй? Так и в ту ночь, в лесу. Но что мог я ответить? Какие прогнозы дать? Многое зависело еще и от того, как скоро мы попадем к своим и сможем передать раненых в лечебные учреждения…
Вдали прогремел взрыв и сразу же послышались автоматные и пулеметные очереди. Звуки боя нарастали. Раненые мои оживились, заговорили, пытаясь предположить, как развиваются события, угадывая, чей огонь мощнее — наш или противника. Впрочем, угадать это было практически невозможно, ведь многие десантники вооружились на всякий случай кроме своего, штатного, и оружием противника, подобранным в предыдущих боях.
Я с тревогой ждал возвращения диверсионной группы. И вот она появилась. В темноте не разглядеть лиц, но по тому, что шли десантники молча, без шуток и прибауток, понял: без жертв не обошлось. И действительно, у нас были убитые и тяжелораненые. Я осмотрел, как наложены у раненых повязки, спросил о самочувствии. Затем присел рядом с Семеновым, который сосредоточенно изучал карту, посвечивая крошечным трофейным фонариком.
— Все, — наконец сказал он, — задачу мы выполнили, пора выходить в район встречи со своими. Вот, здесь он… А неподалеку сильный опорный пункт гитлеровцев. Перекрывает дорогу.
Семенов некоторое время молчал, потом сказал решительно:
— Надо его захватить внезапным ударом с тыла и удерживать до подхода наших.
— А что делать с ранеными? — спросил я. — Их-то куда девать?
— Укроем в лесу, поближе к опушке. Оставим охрану. И пусть ждут наших… А сейчас первым делом похороним погибших.
…Марш на этот раз оказался особенно тяжелым, потому что далеко не все раненые могли передвигаться без помощи. Многих пришлось нести на самодельных носилках.
К рассвету достигли опушки леса. Семенов расположил группу в небольшой заснеженной балке и отправился с несколькими десантниками на рекогносцировку — рассмотреть, насколько это возможно, опорный пункт противника.
Возвратившись, сказал:
— Как стемнеет, ударим!
Это означало, что еще целый день мы проведем в лесу, на Сильном морозе. Я взглянул на измученных долгими переходами ребят. Они не унывали. Несмотря на усталость, на скудное питание — только сухой паек, выглядели десантники бодро, рвались в бой. Все им нипочем! И откуда у них только силы брались? Устроившись прямо в сугробах, многие отдыхали, но я знал: стоит прозвучать команде — и все мгновенно будут готовы к действиям.
Семенов прислушивался к канонаде.
— Тут ведь поспешить нельзя, — сказал он. — Если слишком рано опорный пункт захватим — отбить могут. Навалятся на нас — это уж как пить дать. Впрочем, думаю, к утру наши будут здесь.
Когда стемнело, Семенов собрал самых отчаянных парней и направил их вперед.
— Разведка? — поинтересовался я.
— Отчасти… Надо попробовать снять часовых и забросать гранатами фрицев прямо в блиндажах. Тогда и нам легче будет с остальными расправиться.
Не рано пошли? — высказал я сомнение. — Может, лучше под утро, когда наши приблизятся?
— Сейчас в опорном пункте не так много гитлеровцев, — возразил Семенов, — а за ночь вполне могут подойти их отступающие подразделения и занять здесь оборону. К тому же мороз загнал фашистов в блиндажи.
Потянулись томительные минуты ожидания. Я до рези в глазах всматривался в кромешную темень. Мечтал лишь об одном — обошлось бы без потерь. Перевязочные средства кончились, помочь раненым было нечем. Одна надежда фронт неуклонно приближался.
Как ни ждали мы, но взрывы в опорном пункте прозвучали внезапно. Они озарили яркими вспышками участки траншей, раздались истошные вопли, — очевидно, выскакивали из блиндажей испуганные и оглушенные внезапными взрывами фашисты. И тут же затрещали автоматы.
— Наши бьют, — определил Семенов.
Он специально велел десантникам взять только свое оружие, чтобы ориентироваться по стрельбе, где находятся наши.
Стрельба оборвалась. На высоте несколько раз мигнул огонек.
— За мной, вперед! — крикнул Семенов и первым побежал к опорному пункту.
— Тараканов, Мельников, следите за ранеными! — приказал я, понимая, что если кто-то из раненых останется незамеченным в темноте, то может в конце концов погибнуть. Одного своего помощника я послал на правый, а другого — на левый фланг подразделения. Сам побежал за Семеновым.
Через несколько минут опорный пункт врага оказался в наших руках. Было захвачено два исправных миномета с полным боекомплектом, остались на позициях и пулеметы противника. Все это Семенов приказал тоже подготовить к бою.
— Что, доктор? — спросил он весело. — На сей раз без работы оставили?
— А я люблю, когда нет работы, — в тон ему ответил я.
Десантники начали занимать позиции, готовиться к бою. Мы же с Таракановым и Мельниковым отправились к раненым. Беспокойство за них не покидало. Думал, как лучше поступить: оставить их в лесу или перевести в один из блиндажей на высоту? С одной стороны, в лесу безопаснее — за опорный-то пункт бой будет, с другой— если гитлеровцы, отказавшись от попыток овладеть высотой, станут обходить ее по лесу, еще, чего доброго, наткнутся на пункт сбора раненых, и тогда быть беде…
Поразмыслив, решил все же перевести раненых в блиндаж на высоте — там надежнее. Да и не сомневался, что десантники удержат опорный пункт. К тому же мороз не ослабевал, и лишь в укрытии можно было хоть немного отогреть раненых.
Уже в тепле я еще раз осмотрел каждого раненого, некоторым поправил повязки. Ночь пролетела незаметно. Чуть забрезжил рассвет, когда на дороге, ведущей к высоте со стороны фронта, послышался гул двигателей. Я поспешил к Семенову, который уже был на своем командно-наблюдательном пункте. Десантники изготовились к бою.
— Смешанная колонна, — определил Семенов. — Танки, автомобили. Пойдут, видимо, по дороге, огибающей высоту. Как машины приблизятся, ударим!
— А танки?
— Танки в хвосте идут, пока еще доберутся. Главное, дорогу машинами загородить. Обойти будет сложно — фашисты не зря здесь опорный пункт выбрали — местность труднопроходимая.
Действительно, даже сейчас, в предрассветной мгле, можно было заметить, что поле перед высотой разрезают глубокие заснеженные овраги, танкам их не преодолеть.
Головные автомашины врага сделали поворот перед высотой, и Семенов подал сигнал. Очереди из автоматов и пулеметов раскололи тишину.
Сначала десантники открыли огонь только из трофейного оружия, чтобы сбить с толку противника. И гитлеровцы «узнали своих». Некоторое время они что-то кричали по-немецки, но вскоре, видимо, все-таки сообразили, кто перед ними.
На дороге уже горело несколько машин, но подходили все новые и новые. Едва посветлело, до двух рот с танками пошло в атаку.
Я с тревогой посмотрел на Семенова, но он был спокоен.
— Всего два танка, да и те легкие, — громко, чтобы слышали находившиеся поблизости десантники, сказал он. — К тому же они и не доберутся до нас, сейчас остановятся.
— Ребята! — крикнул я. — Помните, что в блиндаже ваши раненые товарищи!
— Не волнуйтесь, ответил за всех невысокий сержант. — Не пустим!
Глубокий покров снега мешал врагу. Танки вскоре завязли и открыли огонь с места. А из леса появились новые.
— Что они так торопятся? — удивленно спросил Семенов и тут же сам ответил: — Припекло их, вот как припекло!..
Лейтенант как в воду смотрел: вскоре вслед за танками гитлеровцев из леса показались наши тридцатьчетверки с десантом на броне. Фашисты прекратили атаку опорного пункта и бросились в разные стороны, обтекая высоту.
Семенов отдал несколько распоряжений, и десантники заняли позиции, с которых было удобнее стрелять по убегающему противнику.
А внизу, на поле, уже шел бой между вражескими танками и нашими тридцатьчетверками. Несколько фашистских машин загорелось.
Наши подразделения пошли вперед, а я тут же занялся ранеными. Их надо было немедленно отправить в ближайший медпункт.
Всего раненых было восемнадцать, но особенно беспокоили трое. Двое имели тяжелые ранения в живот, третий — обширное в область таза.
Нелегко оказалось найти полковой медицинский пункт или хотя бы батальонный. Очевидно, они отстали от передовых подразделений. Санинструктор Тараканов, разведав местность, сообщил, что неподалеку, за лесом, находится деревушка. Туда мы и отправились. Разместились в двух крайних домах, возле которых сразу собрались жители.
— Чем помочь? — интересовались женщины, с участием и болью глядя на раненых.
— Хорошо бы накормить их, — ответил я.
Женщины быстро откликнулись на просьбу, принесли, у кого что было.
Я не отходил от тяжелораненых, состояние которых ухудшалось прямо на глазах. Тараканову приказал:
— Бегите на большак, остановите любую машину и, если удастся, узнайте, где ближайший медпункт.
Вслед за Таракановым были отправлены на дорогу санинструктор роты Титов и красноармеец Никитин. Едва они ушли, со стороны леса донеслись выстрелы. Снова волнение: что еще там? Наконец вернулся Никитин и доложил, что они с Титовым заметили на опушке гитлеровцев, их было человек пять.
— Мы открыли по ним огонь, и они драпанули, — сказал Никитин. — Это, видно, какие-то отставшие.
Никитин снова отправился на дорогу. Ждать пришлось долго. Лишь к вечеру он пришел в избу вместе с тремя бойцами во главе со старшим сержантом. Они-то и рассказали нам, где найти ближайший полковой медицинский пункт.
К этому времени у нас осталось пятнадцать раненых— трое тяжелых скончались. Я переживал, хотя понимал, что вряд ли их могли спасти даже в госпитале.
В медпункт я отправился с санитаром Мельниковым. Оставшимся раненым опасность не угрожала. Дорога, еще недавно пустынная, была забита нашими войсками, техникой. Все, что могло двигаться, устремилось на запад. А нам пришлось идти пешком. Лишь в конце пути нас подобрала грузовая машина, на которой добрались до передового подразделения дивизионного медсанбата. Он развернулся в двенадцати километрах от той деревни, в которой мы оставили раненых. А полкового медпункта уже не было на прежнем месте — он успел передислоцироваться.
Мою просьбу помочь доставить в медсанбат раненых десантников встретили с недоверием: что еще, мол, там за десантники, откуда они здесь? Предложили сходить к комиссару какой-то тыловой части, разместившейся близ передового подразделения медсанбата. Пришлось рассказать, кто я и откуда. Комиссар связался по телефону с вышестоящим штабом и, получив разъяснения, сообщил мне, что в медсанбате уже находятся на излечении несколько человек из нашей бригады. Он пригласил пообедать, но, хоть и велик был соблазн, я отказался, пояснив, что прежде должен сдать в медсанбат раненых.
Мне выделили машину, и вскоре я привез своих подопечных в медсанбат. За их осмотр взялись опытные врачи. Нам же настала пора отправляться в свою часть. Добирались туда около суток.
В течение недели все подразделения, десантировавшиеся в тыл врага в разных местах, возвратились в бригаду. В целом наши действия были высоко оценены командованием, хотя лейтенанту Семенову крепко досталось за то, что он, увлекшись боем, вместе со стрелковыми подразделениями бросился преследовать противника. Но таким уж он был человеком — горячим, напористым, решительным. Десантники любовно звали его между собой «наш Чапаев».
Начальник санитарной службы бригады военврач 2 ранга Кириченко, выслушав подробный доклад, долго еще расспрашивал меня о том, как приходилось оказывать помощь раненым в тылу противника.
— Это ведь наш первый опыт, — говорил он. — Надо собраться всем, кто действовал в десанте, поделиться с товарищами своими впечатлениями, подумать, как в будущем избегать ошибок.
Подумать действительно было над чем. Готовясь к выступлению на совещании, я как бы снова прошел весь трудный и опасный путь по вражескому тылу. Да, опыт приобрели немалый. Убедились, сколь необходима оперативная эвакуация раненых в медучреждения. Надо было найти ее наиболее удобные способы. Ведь не всегда наступающие с фронта части могут идти следом за десантниками, выброшенными в тыл противника. Не исключено, что придется действовать в отрыве от них не одну педелю.
В те дни я получил наконец долгожданную весточку от родных, но она оказалась горькой и печальной. Сестра — письма за всех писала обычно она — сообщала о гибели брата Толика при подрыве фашистского склада боеприпасов. Слегла в постель мама и вот уже два месяца находилась в тяжелом состоянии. Беспокоилась сестра и за отца со старшим братом, которые давно не подавали о себе вестей. Не хотелось думать ничего плохого. Я убеждал себя, что оба дорогих мне человека живы, здоровы.
Написал маме теплое письмо, стараясь подбодрить ее, поддержать, хотя как тут успокоишь, если ее сердце уже ранено тяжелой утратой.
Оставшиеся дни декабря сорок первого года и почти весь январь сорок второго были заняты напряженной боевой учебой. Мы готовились к новым боям с противником и изучали местность в районе Орла.
Служба в воздушно-десантных войсках всегда таит много неожиданностей: не знаешь, что ждет тебя завтра. Я тщательно готовил своих подчиненных к новым испытаниям. Занятия стало организовывать значительно легче, ведь появился и собственный опыт. К тому же и мои непосредственные подчиненные, и ротные санинструкторы и санитары на себе испытали важность тех навыков, которые потребовались во время действий в тылу врага. Да и командиры рот теперь охотнее выделяли время для моих занятий.
В январе военврач 2 ранга Кириченко провел совещание начальников санитарной службы батальонов по обмену опытом. Обсудили вопросы обеспечения раненых, оснащения санитарных сумок врачей, фельдшеров и санинструкторов. На том же совещании Кириченко поручил мне провести вскоре занятия по военно-медицинской подготовке с командирами подразделений.
Многое было сделано, но, как известно, предела в совершенствовании знаний и навыков не существует, и, когда поступает приказ снова идти в бой, кажется, что не все еще учтено и завершено. Однако идти надо.
И вот нас собрал командир батальона. Он развернул на столе топографическую карту с нанесенной обстановкой. У меня часто забилось сердце — выбрасываться предстояло под Орлом. Теперь-то уж был уверен, что решение никто не отменит. Целый день мы тщательно изучали по карте район десантирования, задачи подразделений, обсуждали вопросы взаимодействия, а под вечер прозвучал сигнал тревоги.
«Наконец-то! — с радостью думал я, поторапливая своих подчиненных и на ходу проверяя экипировку. — Скоро буду рядом с родными местами». Они уже были освобождены от противника, так что при выходе к своим войскам после выполнения задачи вполне можно будет оказаться поблизости от дома.
Капитан Жихарев вскрыл пакет, полученный из штаба бригады, и сообщил:
— Приказано следовать форсированным маршем на станцию Люберцы. Через час туда подадут эшелоны.
«Эшелоны? Почему эшелоны? — подумал я. — Ведь до аэродрома рукой подать».
Спрашивать в таких случаях было не принято, однако Жихарев, заметив, видно, всеобщее изумление, сказал:
— Задача будет уточнена по прибытии в новый район.
К Люберцам выдвигались почти бегом.
— В поезде отдохнем, — подбадривали командиры.
«Коли заботятся об отдыхе в пути, вероятно, уже утром поставят серьезную задачу», — решил я.
Быстро, без суеты заняли места в вагонах. Эшелон тронулся с места и помчался со скоростью курьерского поезда. Глядя в окно на изредка мелькавшие платформы, я, как и тогда, в конце ноября сорок первого года, пытался определить, куда мы держим путь. Но было очень темно, соблюдалась полная светомаскировка, поскольку враг еще находился недалеко от Москвы и его самолеты в любую минуту могли появиться в этом районе.
Наконец капитан Жихарев объявил, что мы переподчинены штабу Волховского фронта и следуем на станцию Хвойная. Никто почти не знал, что это за станция и где она находится. Позже, сориентировавшись, я определил, что Хвойная расположена километрах в 60–65 северо-восточнее Боровичей.
На место назначения прибыли к рассвету. Командир батальона и комиссар вышли из вагона, я поспешил за ними. Был сильный мороз, снег хрустел под ногами. Далеко, за хвойным лесом, гудели авиационные двигатели.
— Полевой аэродром? — спросил я у Жихарева.
— Да, — кивнул он и указал: — Видишь, заходит на посадку…
Действительно, большой транспортный самолет медленно снизился и вскоре скрылся за лесом. Спустя некоторое время показался второй, затем — третий.
Командир батальона приказал выгружаться, и вскоре платформу заполнили десантники. Подошел военфельдшер Мялковский, доложил, что личный состав медпункта готов к дальнейшим действиям.
А аэродром, располагавшийся где-то за лесом, жил своей жизнью. Едва одни самолеты приземлялись, как другие взлетали и удалялись в северном направлении.
— Мы еще здесь, — сказал Василий Мялковский, а кто-то уже летит на задание. И ведь не скажешь, что идет война. Аэродром и аэродром…
— А это что, по-твоему? — указал я на пристанционную площадь, сплошь изрытую воронками. Разрушенным оказался и небольшой пакгауз. В окнах здания станции не было стекол.
Капитан Жихарев быстро построил батальон, и колонна ступила на ровную, хорошо накатанную дорогу. Несмотря на ранний час, станционный поселок уже проснулся. Женщины провожали нас долгими печальными взглядами, ведь наверняка почти у каждой из них на фронте был муж или сын.
— Запевай! — громко и задорно скомандовал Жихарев.
Над строем взлетела песня, и сразу стало легче идти.
За околицей начался сосновый бор. Я залюбовался стройными великанами, покрытыми густыми шапками снега. Отмахав по лесной дороге несколько километров, мы миновали ограждение аэродрома и контрольно-пропускной пункт, вышли на широкое поле с умело замаскированными огромными строениями по краям.
— Ангары, — сказал Мялковский.
Возле одного из ангаров колонна батальона остановилась. К Жихареву подошел капитан в белом полушубке, поздоровался и сообщил, что десантники могут разместиться на отдых.
— Завтрак доставим прямо в ангар, — прибавил он.
Комбата тут же куда-то вызвали. Вернулся он в одиннадцатом часу и сразу собрал командиров рот и начальников служб. Оказалось, что бригада будет располагаться в районе базового аэродрома. Ее штаб приказано разместить в близлежащем поселке, а батальоны — в окрестных населенных пунктах.
— Нам назначена деревня Бревново, — уточнил капитан Жихарев. — Начальнику штаба старшему лейтенанту Левкевичу и помощнику по хозяйственной части технику-интенданту Елкину немедленно выехать туда и подготовить помещения для личного состава. Мы выступаем следом.
— Теперь о нашей задаче, — продолжил он, когда Левкевич и Елкин ушли. — Гитлеровцы после разгрома их под Тихвином готовят новую операцию. Есть сведения, что они планируют выброску десанта в целях захвата и уничтожения этого аэродрома.
Голос комбата потонул в гуле двигателей — на посадку заходили три транспортных самолета.
— Из Ленинграда, — констатировал Жихарев. — Аэродром работает круглосуточно, практически в любую погоду. Отсюда уходят в осажденный город самолеты с продовольствием. Обратными рейсами они эвакуируют раненых и больных. Наша задача — наряду с подготовкой к десантной операции нести охрану аэродрома.
Вскоре после совещания мы совершили марш в Бревново. Приятно было идти по сосновому лесу, вдыхая его пьянящий аромат: неповторимы запахи леса в туманную погоду. Деревня располагалась в девяти километрах от аэродрома. Я шел, отдыхая: что значат для десантника каких-то девять километров?! Шел и вспоминал, о чем говорил Жихарев, подробно рассказавший о предстоявшей операции. Нас ожидали действия в глубоком тылу врага в районах Старой Руссы и Демянска, куда нескоро доберутся наступающие с фронта части. И конечно, прежде всего меня беспокоили вопросы эвакуации раненых. Я смотрел на веселых, задорных ребят, легко вышагивавших по лесной дороге, и мне больше всего хотелось в те минуты, чтобы каждый из них дожил до победы. Но шла война, жестокая война, и мне, военному медику, приходилось думать о том, каким образом я буду спасать этих вот бойцов и командиров, многие из которых станут моими пациентами.
В деревне Бревново все дышало покоем и тишиной. Здесь, на солидном расстоянии от аэродрома, вероятно, не разорвалась пока еще ни одна бомба. Под батальонный медицинский пункт мне выделили крестьянскую избу, в которой были две просторные и светлые комнаты и небольшая прихожая. В одной из комнат разместил фельдшера, санинструктора и санитаров, в другой решил оборудовать нечто вроде перевязочной. Приемную устроил в прихожей. Самому мне комбат предложил поселиться вместе с комсоставом.
До позднего вечера устраивали жилье, оборудовали медицинский пункт. Когда стемнело, за мной прибежал посыльный. Капитан Жихарев собирал на совещание командиров подразделений. Он зачитал приказ, в котором указал график боевого дежурства рот, а затем ознакомил нас с расписанием занятий по боевой и политической подготовке. Старший лейтенант Левкевич выдал карты, коротко довел сложившуюся обстановку.
Дни, пока батальон находился в районе аэродрома, я решил провести с максимальной пользой. Дело в том, что неподалеку от деревни располагался эвакогоспиталь. Стал посещать его, практиковался в хирургическом отделении, делал операции. Там осваивал методы работы Александра Васильевича и Александра Александровича Вишневских. Эти выдающиеся хирурги заслуживают того, чтобы рассказать о них более подробно, ибо оба они — и отец и сын — внесли большой вклад в развитие советской медицины, в частности важнейшей ее отрасли — хирургии.
В послевоенные годы А. В. и А. А. Вишневские стали академиками Академии медицинских наук СССР, заслуженными деятелями науки РСФСР. А в то время, зимой 1941/42 года, А. А. Вишневский являлся главным хирургом Волховского фронта. Он нередко посещал и госпиталь, в котором мне довелось практиковать. Встречи с этим человеком дали очень много. Особенно запомнились операции, на которых я присутствовал: они вызывали восхищение — мастерству хирурга нельзя было не позавидовать.
Хирургическая династия Вишневских зародилась в Казани. Там Александр Васильевич закончил университет, в 1904 году защитил докторскую диссертацию и получил звание приват-доцента. Затем стал профессором, руководил хирургической клиникой. В 1935 году переехал в Москву, где возглавил хирургические клиники Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ) и Центрального института усовершенствования врачей. С преобразованием клиники ВИЭМ в Институт хирургии АМН СССР в 1947 году он стал его директором. После кончины А. В. Вишневского в 1948 году институту было присвоено его имя.
Александр Александрович Вишневский родился в Казани в 1906 году. После окончания Казанского государственного университета работал на медицинском факультете, позже был преподавателем кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии. Вместе с бригадой хирургов оказывал помощь раненым в период боев на реке Халхин-Гол в 1939 году. Там впервые применил новокаиновые блокады и доказал их эффективность в борьбе с травматическим шоком у раненых. Удалось ему тогда же внедрить и хирургическое вмешательство под местной анестезией, проводимой методом «ползучего инфильтрата», а также использование повязок с масляно-бальзамической эмульсией при лечении нагноившихся огнестрельных ран. Все это имело огромное значение в годы Великой Отечественной войны…
Особенно важных достижений в медицинской науке хирургической практике Александр Александрович добился в послевоенное время. Так, в 1953 году он впервые в мире провел операцию на сердце под местной анестезией, а в 1957 году — первую в СССР успешную операцию на открытом сердце с применением отечественного аппарата искусственного кровообращения. В 1960 году Александр Александрович стал лауреатом Ленинской премии, в 1966-м был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а в 1970-м — Государственной премии СССР.
Под руководством этого замечательного специалиста, ученого и практика и решала свои задачи хирургическая служба Волховского фронта. Тогда я, конечно, не мог даже предположить, что в будущем снова доведется работать с Александром Александровичем. Но это случилось уже после войны…
Еще в студенческие годы я познакомился с некоторыми научными работами Вишневских, но по-настоящему познакомился с их школой в эвакогоспитале Волховского фронта. Мы пользовались разработками ученых во многих областях: применяли местную анестезию по методу «ползучего инфильтрата», изучали вопросы нервной трофики, лечения ран и воспалительных процессов. Широко применялись для лечения раненых масляно-бальзамические повязки и новокаиновые блокады, разработанные Александром Васильевичем и Александром Александровичем.
Главной моей обязанностью зимой 1941/42 года оставалось медицинское обеспечение личного состава батальона, а следовательно, в значительной степени и его боеготовности. Задачи же стояли самые разнообразные. Подразделение получило пополнение, и мне пришлось самым тщательным образом осматривать молодых бойцов, оценивать их физическое состояние. Разумеется, медицинские комиссии военкоматов, а также кадровые органы отбирали в воздушно-десантные войска наиболее подготовленных для этой службы воинов. Но случались и ошибки. Их надлежало исправлять немедля, ведь нашим войскам предстояло действовать в далеко не обычных условиях, в тылу врага.
Помню, как-то подошел ко мне молодой лейтенант, командир взвода минометной роты. Прибыл он всего несколько дней назад. Попросил:
— Товарищ военврач третьего ранга, помогите мне перевестись в пехоту.
— Почему? — удивился я. — Есть какие-то причины?
Лейтенант долго мялся, а затем сказал:
— У меня в детстве были травмы…
Однако дальше этого общего объяснения дело не пошло. Ничего вразумительного и определенного он рассказать не смог, да и я не обнаружил каких-либо отклонений от нормы, не определил заболеваний, которые могли бы помешать ему в службе в ВДВ.
Я попытался вызвать лейтенанта на откровенный разговор. Он опять долго молчал, а потом признался, что боится прыгать с парашютом, и снова взмолился:
— Помогите перевестись в пехоту. Честное слово, буду воевать как надо…
— А вы думаете, что в пехоте не страшно? — спросил я. — Или полагаете, что среди сотен ваших сослуживцев все одинаково храбро совершали свои первые прыжки? Каждому приходилось перебарывать себя, уж вы поверьте.
Он промолчал, а я задумался. Нужно было помочь молодому командиру, но как? Перевести в пехоту? Нет, на такое легкое и в общем-то не совсем оправданное решение я пойти не мог. Снова стал убеждать, что его здоровье не может помешать прыжкам. В заключение сказал:
— Советую вам: чтобы у товарищей не возникало подозрений в недостатке у вас храбрости, готовьтесь к прыжкам наравне со всеми. Рота ваша на хорошем счету — не надо подводить коллектив. Я вам обещаю помочь в наземной подготовке и совершить прыжок вместе с вами. Если непосредственно перед вылетом замечу, что прыгать вам по состоянию здоровья нельзя, официально заявлю об этом командованию.
Лейтенант долго растерянно молчал, но выхода у него не было, и он согласился со мной.
Едва лейтенант ушел, я отправился к комиссару батальона. Старший политрук Коробочкин сидел над какими-то бумагами. Меня встретил приветливо. Полуофициально поинтересовался:
— С чем пришли, доктор?
Рассказал ему о беседе с лейтенантом, взяв слово, что будет молчать, и попросил разрешения прыгнуть вместе с ним.
— Ну что ж, насчет тебя поговорю с комбатом, скажу, надо, мол… — согласился Николай Иванович. — Значит, мало тебе дел на медпункте, уже и в мои непосредственные обязанности залезаешь, — смеясь, прибавил он. — Впрочем, если у тебя получится, благодарен буду…
При подготовке к вылету на прыжки я внимательно следил за лейтенантом, понимая, что если он спасует, то сразу потеряет авторитет, а тогда какая может быть речь об успешном командовании взводом? Действительно придется переводить в другое место.
С утра лейтенант был подавленным, отрешенным. Я, как мог, подбадривал его, шутил.
И вот самолет поднял нас в воздух, быстро набрал высоту и, сделав круг, оказался над учебным полем.
— Ну, теперь вперед, спокойно, вниз не глядите, — сказал я, легонько подталкивая лейтенанта.
Он сделал шаг, второй. На мгновение замер, обернувшись.
Подчиненные смотрят, — сказал я ему на ухо. — Ну…
И он прыгнул… Приземлились мы недалеко друг от друга. Он уже освободился от строп и бежал ко мне.
— Спасибо, доктор, спасибо! — кричал на ходу.
Мы обнялись. Я и прежде не раз наблюдал, как менялось настроение у многих людей после первого прыжка. Случилось так, что и лейтенант сразу позабыл все свои былые тревоги и сомнения.
— Ну а теперь можно смело просить командира о переводе, — сказал я, хитровато улыбнувшись.
— Куда? — опешил лейтенант. — Зачем? Нет, нет…
— Конечно нет, — успокоил я. — Вы теперь настоящий десантник.
Однако случалось и так, что ничем мы не могли помочь человеку и приходилось расставаться с ним. Помню, привели ко мне красноармейца Хренова, который наотрез отказывался от прыжков, жаловался на сильные боли в животе и просился к врачу. Осмотрев его самым тщательным образом, я не обнаружил никаких заболеваний и решил на следующий же день сам вывести его на прыжки, полагая, что будет все так же, как и с лейтенантом.
Командир батальона выслушал, заметил:
— Увлекся ты, доктор, не тем, чем надо…
Я возразил, стал убеждать, и он согласился, надеясь, что еще одного воздушного бойца приобретет с помощью медицины.
Но, увы, мои усилия оказались тщетными. В самолете Хренов забился в угол, и никакими стараниями нельзя было заставить его встать с места. Лишь на втором круге товарищи все-таки вытолкали его на крыло и заставили прыгнуть. Парашют раскрылся, боец приземлился нормально, но, когда я подошел к нему, он лежал без движений. Определил его в лазарет, тщательно осмотрел, но ничего не обнаружил, что могло бы обеспокоить. Заподозрил, что у красноармейца расстройство психики. Решил понаблюдать за ним несколько дней.
Вскоре Хренов оправился от потрясения, и я заговорил с ним о прыжках, о том, что он прекрасно справился с задачей. Хренов сразу изменился в лице, задрожал как осиновый лист, понес чепуху. Его товарищи говорили, посмеиваясь, что упоминания о прыжках вызывают у него «медвежью болезнь».
Что было делать? Я пошел к командиру батальона и твердо заключил:
— Красноармейца Хренова необходимо перевести в стрелковую часть!
Так и поступили. Убывая от нас, Хренов пообещал, что в пехоте будет храбро сражаться с врагом. Быть может, кое-кто из его товарищей и сослуживцев — бывалых десантников и сомневался в этом, не знаю. Я же думал о другом: к подбору людей в воздушно-десантные войска надо подходить особенно требовательно.
Конец января 1942 года был знаменателен для меня тем, что я едва не сменил профессию… Дело в том, что у нас на военном факультете мединститута общевойсковую и специальную тактику преподавали довольно здорово. Многие занятия, например, проводили представители Военной академии имени М. В. Фрунзе. И вот как-то на тактических учениях, во время которых дел у меня оказалось немного, капитан Жихарев попросил помочь ему отработать карту. Когда в конце учения начальник штаба бригады майор В. Н. Кошечкин проверил ее, сразу поинтересовался, кто наносил обстановку.
Жихарев указал на меня.
— Откуда у вас такие навыки? — поинтересовался майор.
Пришлось пояснить. Тогда он еще раз внимательно изучил мою работу, задал несколько вопросов и вдруг предложил, переходя на «ты»:
— Место твое в штабе! Как раз сейчас требуется начальник оперативного отделения. Переаттестуем быстро — это я беру на себя. Как сам-то смотришь?
Предложение озадачило. Если учесть мою любовь к медицине, можно себе представить, как не хотелось менять профессию. С другой стороны, я понимал: идет война — жестокая, суровая, и надо быть там, где ты полезнее. Так и ответил начальнику штаба.
— Молодец, — обрадованно сказал он. — Сейчас же идем к командиру бригады.
Подполковник Федор Степанович Омельченко выслушал своего начальника штаба с легкой усмешкой.
— Ну спасибо, — сказал он, — Выручил бригаду, нашел оперативника…
— А что, разве плохой штабист? — не уловив иронии, спросил Кошечкин. — Посмотрите, как карту оформил, да и тактику знает неплохо…
— Вижу, что подготовлен… Хорошо, пусть Гулякин в штаб идет, а тебя мы в начмеды определим…
— Смеетесь…
— Вот в том-то и дело, что смешным это кажется… Скажи, кого мы назначим вместо Гулякина?
Кошечкин пожал плечами, неуверенно ответил:
— Пришлют, может…
Обращаясь ко мне, комбриг спросил:
— Сколько лет вы учились, чтобы стать врачом? Я имею в виду институт…
— Чуть больше четырех…
— Это в военное время, а в мирное все пять — так, кажется?
Я подтвердил.
Тогда комбриг, обращаясь к Кошечкину, спросил, сколько лет требуется на подготовку командира взвода. Тот ответил, что в мирное время — два года, а в военное — шесть месяцев. И прибавил, что предложил мне переход, не подумав.
— А доктору делать, что ли, нечего? — продолжал комбриг. — Взгрею Жихарева за то, что от непосредственных обязанностей отрывает… Конечно, народ у нас в перерывах между боями почти и не обращается в медпункт. Так ведь в окрестностях много людей, которым нужна помощь. Ко мне не раз обращались, просят врачей выделить, коль уж здесь стоим. Буду направлять к вам…
И действительно, в скором времени пришлось организовать прием местных жителей. Очень многим удалось помочь. А один случай был просто близок к курьезному.
Как-то на прием пришла женщина с жалобой на боль в глазах. Осмотрев ее, я определил, что это острый конъюнктивит. Поинтересовался, пыталась ли лечить. И услышал то, что заставило удивиться.
— Ой, где только не была! — говорила женщина. — В Ленинград до войны ездила, специалистам показывалась, даже к профессору попала на прием. Поглядите — заключения, рецепты.
Я, признаться, растерялся. Мог ли соперничать с такими светилами? А лекарства? Мы получали медикаменты, необходимые только для лечения раненых. Потому смог предложить лишь пасту Лассара. Рассказал, как ею пользоваться. Вот и вся помощь.
Прошло некоторое время, и женщина появилась снова.
— Вот уж спасибо! — заговорила она с порога. — Сколько меня лечили, и все без толку, а вы, военные, сразу помогли. Попейте молочка, свежее, только подоила коровку… Вам ведь не дают. Дом вспомните, в доме-то без молока нельзя…
Женщина была радостно возбуждена и говорила без умолку. А я все думал: почему же так получилось? Может, самый обычный хронический конъюнктивит, который протекал с некоторыми особенностями, принимался за какие-то другие, более серьезные заболевания? Не пойдет же в конце концов человек к профессору с конъюнктивитом. Все объяснялось просто: конъюнктивит и не искали, о нем и не думали. Поэтому и пичкали разными лекарствами. Тогда уже я начал понимать, что мало знать характерные симптомы того или иного заболевания — необходимо изучать и болезнь, и человека, а потом лечить тоже конкретного человека, ибо у каждого организм имеет свои особенности.
А тем временем миновал январь, начался суровый и снежный февраль сорок второго. Обстановка на фронте обострилась. В районы Старой Руссы и Демянска была десантирована одна из бригад нашего корпуса. Знали, что она вступила в ожесточенные бои с врагом, и командование стало подумывать о том, чтобы оказать ей помощь, в частности, связистами и медперсоналом. И вот во второй половине февраля было решено выбросить большую группу автоматчиков и связистов, с которыми направили и меня в помощь врачам, работавшим в районах сосредоточения раненых.
Вылетел вместе с 5-й парашютно-десантной ротой, которой командовал старший лейтенант Н. В. Орехов — храбрый, опытный десантник. Со мной были и подчиненные, в числе которых проверенный уже в боях санинструктор Виктор Тараканов.
Тревожно чувствовали мы себя во время перелета. Темень, хоть глаз коли, лица соседа не различить. Летели молча, и мысли у всех были одинаковы — как бы обойтись без встречи с ночными истребителями врага или не попасть под огонь зениток. Десантник чувствует себя хозяином положения лишь после приземления, когда может вести бой. Там почти все зависит от его личной подготовленности, храбрости, решительности, сообразительности, а на борту самолета он бессилен хоть как-то повлиять на ход событий.
Наконец из кабины появился штурман.
— Подходим к месту десантирования, — сообщил он.
А через несколько минут я вновь оказался под куполом парашюта, да еще в очень сложной обстановке. Внизу, на фоне белоснежного покрова, едва-едва можно было различить очертания большого лесного массива. Маневрируя, я постарался приземлиться в поле. Глубокий снег стал хорошей подушкой.
Рота быстро сосредоточилась на опушке. Орехов сразу же выслал разведчиков, и вскоре они возвратились вместе с проводниками, которые и указали район сбора раненых.
В лесу были развернуты медицинские пункты. На одном из них я встретил своих однокурсников по институту Юрия Крыжчковского и Ивана Ежкова.
— Значит, на помощь прибыл? — переспросил Крыжчковский. — Это хорошо. Помощь нужна, но не нам, а Георгию Мухе. Помнишь такого?
— Конечно, — кивнул я.
— А у нас, как видишь, все организовано. Справляемся сами. Он же там один.
Георгий был обрадован моему приходу.
— Как раз вовремя, — сказал он. — Наш батальон перебрасывается на другой участок. Я прямо не знал, что делать. И раненых не бросишь, и с батальоном идти нужно. Так что оставайся с ранеными. Передаю их в надежные руки. — Он улыбнулся и похлопал меня по плечу.
Мы успели немного поговорить, вспомнить учебу на факультете. Георгий был отчего-то грустным, иногда мне даже казалось, будто он не слушает, что ему говорю. Спросил, в чем дело.
— Скажу честно: у меня такое чувство, Миша, что видимся в последний раз, — признался он.
— Ну уж выдумал, — старался успокоить я товарища. — Вот выполним задание и вернемся домой, Тогда наговоримся вдоволь.
— Хорошо бы! Но знаешь, все-таки чувствую, что не вернусь…
— Слушай, может, я пойду с батальоном, а ты здесь, с ранеными останешься?
— Нет, с батальоном должен быть начальник сан-службы. К тому же неизвестно еще, где безопаснее. Мы ведь не у себя в тылу.
Он немного помолчал и заключил:
— Да ты не думай, я не боюсь. Просто что-то не по себе…
Георгий попрощался и ушел. Не ведал я тогда, что вижу его действительно в последний раз.
Бригада оказалась втянутой в жестокие затяжные бои. Гитлеровцы бросили против десанта значительные силы. Число раненых росло, а эвакуацию их так и не удалось наладить как следует.
С одной из партий раненых на медицинский пункт поступил командир бригады майор А. В. Гринев.
— Сколько же раненых скопилось! — удивился он.
Посоветовавшись с медиками, Гринев приказал немедленно начать эвакуацию через линию фронта, используя разрывы в боевых порядках противника, — их в общем-то было немало: местность лесистая, сильно заболоченная. Наиболее тяжелораненых старались переправить самолетами санитарной авиации, которые, несмотря на противодействие врага, все же прорывались в район нашего расположения.
После ранения Гринева в командование бригадой вступил полковой комиссар Д. П. Никитин, который постоянно оказывал нам, медикам, всевозможную помощь.
Обстановка на нашем участке осложнялась не только с каждым днем, но и буквально с каждым часом. Противник наседал, имея огромное превосходство в силах и средствах. Наше командование принимало все меры к эвакуации тяжелораненых, стараясь сделать это с меньшими потерями. Враг обнаружил районы скопления раненых и вел по ним непрерывный минометный огонь.
Запомнилось, как отправляли по воздуху одну из самых последних групп раненых. Ночью удалось принять самолеты и загрузить их до отказа, но ранним утром гитлеровцы атаковали этот пункт эвакуации.
Военврач 3 ранга Юрий Крыжчковский вовремя заметил врага и, будучи старшим, подал команду:
— Всем, кто может держать оружие, занять позицию на опушке! Отразить атаку противника!
Фельдшеры, санинструкторы, санитары и раненые, которые были способны двигаться, тут же откликнулись на этот приказ. На опушке образовалась реденькая цепочка обороняющихся. Я тоже взял автомат и залег в кустарнике на краю леса.
В атаке участвовало не менее роты гитлеровцев. Они шли через поле цепью, непрерывно стреляя из автоматов. Пули осыпали деревья, срезая с них ветки и сбивая снег.
Крыжчковский приказал открыть огонь. Ударили наши автоматы, но враг продолжал атаку и подошел на дальность броска гранаты. Лишь «карманной артиллерией» удалось отбить первый натиск. Плохо было бы нам, если бы не подоспели на помощь десантники, направленные полковым комиссаром Никитиным.
Сражаться с врагом нам пришлось несколько дней, пока полностью не иссякла возможность эвакуации раненых по воздуху. Остался один путь — через линию фронта.
И снова бои, теперь уже в заслонах. Подчас некогда было выполнить свои прямые обязанности, сменить автомат на скальпель.
Нелегким был тот прорыв к своим войскам, печально выглядела колонна с ранеными. Тяжелораненых тащили на волокушах, несли на носилках, причем идти было неимоверно трудно, вне дорог, сквозь лесные чащи, по болотам, часть которых оказалась незамерзшей.
А враг бомбил нас с воздуха и обстреливал из орудий. Многие наши подопечные получали в пути вторичные ранения, которые зачастую оказывались смертельными.
Шли мы около двух недель. Трудно описать усталость, трудно вообще представить то, что выпало на нашу долю. И все-таки мы справились с задачей, доставили раненых в медицинские учреждения фронта, и я возвратился в свою бригаду.
Было над чем поразмыслить после того рейда. Я снова, в который уже раз, убедился, что всех сложностей, которые могут встретиться при действиях в тылу врага, не предугадать. Много, очень много вопросов обеспечения раненых так и не удалось решить. Медикаментов не хватало, продовольствия — тоже. Медицинское имущество вместе с продуктами нам пытались сбрасывать на парашютах, но в сложной, быстроменяющейся обстановке не всегда это получалось. Нередко парашюты с бесценным грузом спускались в расположении врага. Убедился я и в большом значении тщательной сортировки раненых перед эвакуацией. В первую очередь с помощью санитарной авиации надо было отправлять в тыл тех, кому требовалась срочная квалифицированная врачебная помощь в стационарных условиях, для кого каждый лишний день пребывания за линией фронта мог стать роковым.
Анализируя опыт двух десантных операций, я думал, что он очень пригодится в дальнейшем, но судьбе угодно было распорядиться иначе…
После боевых действий под Старой Руссой и Демянском наступила передышка. Впрочем, передышка на фронте — дело недолгое да и весьма относительное. Личный состав батальона готовился к выполнению новых боевых задач. По темам и интенсивности занятий чувствовалось, что скоро опять начнутся активные действия. Вот только место их нам было неведомо.
В штат батальона включили пулеметное подразделение, и я занялся медицинским осмотром пополнения. Приходилось решать и другие вопросы. В частности, нам и прежде не раз доводилось оказывать помощь раненым бойцам и командирам, прорывавшимся из окружения, собирать, сортировать их и направлять в ближайшие госпитали. Организовал я такую работу на батальонном медицинском пункте и теперь, но пошел дальше — доставляя раненых в госпиталь, в котором работал в свободное от батальонных дел время, там их сам и оперировал. Практический опыт постепенно рос, мне все чаще доверяли проводить хирургическую обработку ран самостоятельно.
В госпитале не раз встречал и своих друзей по мединституту, воевавших в других подразделениях бригады и частях корпуса. С радостью узнал о награждении боевыми орденами Ю. К. Крыжчковского, И. Ф. Ежкова, К. Д. Кротова, Они были отмечены за мужество и стойкость при выполнении задач в тылу врага под Старой Руссой и Демянском. Поздравляя их, я еще не знал, что в недалеком будущем нам с Юрием Крыжчковским придется служить бок о бок и он станет моим прямым начальником.
А в те дни мы занимались боевой подготовкой, обучали личный состав приемам и способам оказания первой медицинской помощи на поле боя и готовились к участию в новых операциях. В этих заботах минула весна и наступило лето 1942 года.
После того как наши войска отбросили врага от моих родных мест, письма из дому стали приходить чаще. Сестра порадовала, сообщив, что мама встала наконец на ноги, причем помогли ей, как оказалось, военные медики одной из частей, стоявшей близ Акинтьева.
Старший брат Алексей после окончания военного училища был направлен на фронт. Завершал учебу и Александр. Он писал мне, что рвется на фронт отомстить за младшего брата и мечтает встретиться со мной и Алексеем.
И вот стало известно, что штабом Волховского фронта отдано распоряжение о подготовке бригады к действиям в полосе 2-й ударной армии. Не дожидаясь более конкретных указаний, десантники начали готовить оружие и снаряжение, усилили напряжение в учебе. По опыту знали, что тревогу объявят внезапно. Так действительно и произошло, сигнал прозвучал днем во время занятий. Через час батальон был уже на летном поле, где командир бригады приказал построить подразделения.
Мы быстро заняли указанное место. Подполковник Омельченко выслушал доклад нашего комбата капитана Жихарева и разрешил стоять вольно. Он расхаживал перед строем, внимательно наблюдая за дорогой. Вскоре из леса на большой скорости выехала легковая автомашина. Она остановилась в нескольких шагах от командира бригады. Из нее вышел высокий генерал, огляделся и направился навстречу Омельченко, который, подав команду: «Бригада, смирно, равнение — на средину!» — уже спешил с рапортом.
Прибывший к нам командир корпуса генерал-майор Виктор Григорьевич Жолудев был любимцем десантников. Каждый наизусть знал его боевую биографию и гордился своим командиром. Бывший рабочий лесосплава, Виктор Жолудев в 1921 году уехал из волжского города Углича и поступил на командные курсы Красной Армии, Окончив их, в двадцать два года командовал ротой, в двадцать пять — батальоном, в тридцать три — полком. В начале Великой Отечественной войны был назначен командиром дивизии, а спустя несколько месяцев — командиром корпуса.
Генерал-майор Жолудев провел строевой смотр бригады, а затем — тактические учения, которые продолжались трое суток. Подразделения совершали длительные марши, атаковали «противника», блокировали аэродромы. Несмотря на длительные переходы и действия в сложных условиях лесисто-болотистой местности, в частях не было случаев заболеваний или травм. Жолудев отметил хорошую работу санитарной службы, а нас с Сашей Воронцовым, моим однокашником, тоже возглавлявшим санитарную службу одного из парашютно-десантных батальонов, даже поставил в пример. Очень было приятно слышать похвалу из уст нашего замечательного командира.
Учения мы посчитали последней проверкой перед выполнением новой ответственной задачи. Теперь уж сомнений не оставалось: следующая тревога станет не учебной, а боевой.
И она прозвучала 29 июля 1942 года, на рассвете. Батальон подготовился к маршу. Он выстроился на дороге в походной колонне, когда поступила неожиданная команда:
— Парашютов не брать!
Такое распоряжение мы получили впервые. Чем оно было вызвано — никто не знал.
— В чем дело? — спрашивал я у Жихарева и Коробочкина, но и они ничего пояснить не могли.
Лишь при следовании к железнодорожной станции нам сообщили, что приказано прибыть в район расположения штаба корпуса, который по-прежнему находился в Люберцах. Видимо, обстановка изменилась и нам предстояло действовать уже не в полосе 2-й ударной армии Волховского фронта, а где-то в другом месте.
Глава третья МЫ — ГВАРДЕЙЦЫ
Нас преобразуют в пехоту. — Необычное пополнение. — Между Доном и Волгой. — Медсанбат принимает раненых. — Операции под бомбежкой. — На «зеленом пятачке». — И на фронте песни жили.
Поезд быстро набрал скорость и помчал нас в юго-восточном направлении. За окном тянулись сплошные хвойные леса. Я сидел рядом со Степаном Жихаревым. Комбат, глядя в окно, молчал, думая о чем-то своем. О чем — легко было догадаться. Покидая обжитое место, откуда отправлялись на трудные задания, невольно вспоминаешь тех, с кем шел на врага и кто остался навечно лежать в земле. Необозримые массивы лесов были для нас вторым домом, могучие кроны деревьев скрывали от противника, помогали незаметно для него совершать смелые, дерзкие рейды.
К нам подсел Николай Иванович Коробочкин.
— Ну что приуныли? Или грустите по комариным краям и синявинским болотам? По мне так лучше степи — простор широкий, необъятный…
— Не по болотам грустим, — отозвался я. — По друзьям погибшим…
Коробочкин вздохнул и тоже замолчал. А насчет комариных краев он был прав. На прежнем месте нас действительно мучили комары, а топи и трясины затрудняли бесчисленные учебные марши и броски. И все-таки мы успели привыкнуть, обжиться там. Что ожидало нас теперь? Тревожные сообщения Совинформбюро свидетельствовали о том, что враг нацелил свой удар на Сталинград и Кавказ.
У меня все же оставалась надежда, что поставят задачу действовать в районе Орла, где, судя по последним сводкам, снова было очень жарко. Впрочем, надежда слабая, ведь не зря же мы оставили парашюты. Их собрали хозяйственники и погрузили в отдельный вагон. Значит, готовилось что-то иное.
Эшелон шел до самой Москвы быстро, словно курьерский поезд. Оказались мы на станции Нахабино. Там уже стояло несколько железнодорожных составов с десантниками.
В тот день, когда мы прибыли в Нахабино, как узнал я позднее, немецко-фашистское командование повернуло с кавказского направления на сталинградское 4-ю танковую армию. Ее передовые части уже 2 августа вышли к Котельниковскому, создав угрозу прорыва к Сталинграду с юго-запада.
В Нахабино нас встретили представители штаба 1-го воздушно-десантного корпуса. Они сообщили, что приказом Верховного Главнокомандующего на базе нашего корпуса формируется 37-я гвардейская стрелковая дивизия. Ей предстоит вместе с другими вновь созданными соединениями отправиться в район большой излучины Дона.
Когда я вышел на перрон, командир бригады подполковник Омельченко разговаривал о чем-то с заместителем командира корпуса подполковником В. К. Гончаровым.
Вскоре поступила команда покормить личный состав и организовать его помывку в санпропускнике. На все давалось четыре часа. После этого нам нужно было следовать в Люберцы.
Известие о том, что нас преобразуют в пехоту, быстро облетело батальон. Нужно — значит нужно! Однако многих печалило, что придется расстаться с формой десантников. Гончаров успокоил, пояснив, что форма одежды пока остается прежней и она, как и раньше, будет помогать десантникам наводить страх на гитлеровцев.
Тем временем санпропускник был готов, и подразделения стали поочередно отправляться на помывку. Душевые были оборудованы в паровозном депо. Не верилось, что здесь совсем недавно находились локомотивы — поражала чистота.
Вечером мы снова заняли свои места в вагонах. До Люберец добрались уже в сумерках. Разместили нас в районе Лыткарино.
2 августа на построении объявили приказ о присвоении наименований частям новой, 37-й гвардейской стрелковой дивизии. В своем выступлении генерал Жолудев сказал, что формирование на базе нашего соединения гвардейского является показателем высокого доверия командования. Это доверие предстоит оправдать в боях своим мужеством и стойкостью. Командир сообщил также, что на южном крыле фронта сложилась тяжелая обстановка и нам придется встретиться с многократно превосходящими силами врага. Задача — остановить захватчиков, измотать и обескровить их ударные группировки и созвать условия для полного разгрома.
Наша 1-я воздушно-десантная бригада была преобразована в 109-й гвардейский стрелковый полк. Все командование, кроме парашютно-десантной службы, личный состав которой направили на формирование других частей ВДВ, осталось прежним. На подготовку к боевым действиям нам выделялось семь суток. За это время надо было получить артиллерийскую и автомобильную технику, гужевой транспорт — одним словом, все, что не имели до сих пор в своем штатном расписании части воздушно-десантного корпуса.
Санитарная служба 37-й гвардейской стрелковой дивизии была укомплектована врачами и фельдшерами воздушно-десантных бригад. Возглавил ее военврач 1 ранга И. И. Ахлобыстин, старшими врачами полков были назначены военврачи 2 ранга М. А. Кунцевич, Ю. К. Крыжчковский и И. М. Сытник. Командиром 38-го отдельного гвардейского медико-санитарного батальона стал военврач 2 ранга К. И. Кириченко.
С волнением ждал я, когда назовут мою фамилию. Ведь, понятно, не безразлично было, какие обязанности придется выполнять. Наконец услышал, что назначен командиром приемно-сортировочного взвода медсанбата. Мои товарищи К. Ф. Быков и И. А. Голубцов тоже возглавили подразделения медсанбата: Костя Быков — госпитальный взвод, а Ваня Голубцов — санитарный. На должность же командира основного подразделения — операционно-перевязочного взвода прислали мобилизованного из запаса опытного хирурга военврача 2 ранга А. Ф. Фатина. У каждого из нас в воинском звании прибавилось гордое слово «гвардии».
Для укомплектования медсанбата средним медперсоналом Московский горздравотдел направил к нам 28 медицинских сестер. В числе их лишь пять были старше двадцати лет и имели небольшой практический опыт работы, остальные только-только закончили курсы. Это необычное пополнение поручили принимать мне. Необычное, потому что в штатах наших воздушно-десантных подразделений и частей женщин не было, а здесь сразу двадцать восемь молодых красивых девушек.
Просмотрел у них документы. У троих в предписаниях было сказано, что они направляются на должности старших медицинских сестер и имеют воинское звание военфельдшера. Одну из них я сразу назначил старшей в группе. Показал ей столовую, предложил отвести девушек на обед, а потом уж заняться делами: получить военную форму одежды, переодеться и прибыть в медсанбат.
До него же забавно выглядели девушки, когда они облачились в непривычное одеяние. Форма сидела на них неуклюже из-за несоответствия размеров. Они с каким-то откровенным детским любопытством рассматривали друг друга. Я подошел, познакомился с Машей Морозовой, родными сестрами Аней и Таней Горюновыми, Аллой и Лелей Вишневскими, Аней Киселевой и остальными. В подразделениях их встретили тепло, старались всячески подбодрить, понимая, что трудно вот так сразу оторваться от дома, от родителей и окунуться в незнакомую атмосферу суровых армейских будней.
В последующие дни я занимался получением всего необходимого оснащения. Радовало, что, несмотря на трудное время, на дефицит имущества и медикаментов, склады работали четко, слаженно и нас снабдили по штатным нормам. Точно в указанный срок мы завершили формирование и укомплектование медсанбата. Началась погрузка в эшелоны. Тут нам пришлось встретиться с непредвиденными трудностями. В медсанбат поступили полудикие монгольские лошади — немало теперь было их у нас по штату. Так вот с ними и довелось повозиться — никак не хотели они идти в вагоны. Санитарам приходилось затаскивать их туда чуть ли не на руках.
Часть имущества нам выдали и в пути, на промежуточных станциях. Получить-то все получили, а вот на боевое сколачивание медсанбата времени не осталось. Наверстывали уже в дороге. Занятия организовали прямо в вагонах. Разъясняли фельдшерам, медицинским сестрам, санинструкторам и санитарам предназначение медико-санитарного батальона. Ведь это не батальонный медицинский пункт, где оказывается фельдшерская помощь, и не полковой, цель которого — первая врачебная помощь. Задачи медсанбата более объемны: лечение раненых, сортировка и эвакуация их — одним словом, квалифицированная врачебная помощь.
Я занимался с медицинскими сестрами. Рассказал им суть термина «квалифицированная медицинская помощь» и историю его утверждения в нашей армии. На практических занятиях мы старались привить личному составу навыки в работе с ранеными: быстро, ловко подавать во время операций и перевязок хирургический инструмент, необходимый материал, накладывать шины, готовить аппаратуру для переливания крови и введения лекарственных препаратов, давать наркоз, ставить банки — одним словом, выполнять все, что понадобится на фронте.
Эшелон снова мчался со скоростью курьерского поезда. А вести с юга становились все тревожнее. Танковые и моторизованные соединения гитлеровцев рвались к большой излучине Дона, чтобы с ходу захватить переправы. Задача дивизии состояла в том, чтобы опередить врага, успеть занять оборону и сделать ее прочной.
За. вагонными окнами постепенно менялся пейзаж. Все реже попадались леса, все чаще открывались широкие просторы полей, лугов, постепенно переходящих в бескрайние приволжские степи. Ближе к Сталинграду движение несколько замедлилось, часто стали попадаться разрушенные участки полотна, развалины станций. Я понял, что мы оказались в зоне активных действий вражеской авиации.
В ночь на 14 августа мы увидели на юго-западе огромное зарево пожаров. Это горел Сталинград…
Миновав Котлубань, остановились на станции Иловля. Комендант станции торопил с разгрузкой.
— Налетают несколько раз на день, — говорил он начальнику эшелона, указывая на разрушения.
Действительно, станционные постройки сильно пострадали, вдоль железнодорожных путей лежали опрокинутые полуобгоревшие вагоны, вывернутые шпалы и изогнутые взрывами рельсы. И воронки, воронки вокруг…
Мне передали, что срочно вызывает Кириченко. Побежал к нему, доложил.
— Вот что, Михаил, — сказал он, впервые назвав меня по имени, — мы еще долго здесь прокопаемся, а полки уже занимают указанные им рубежи — дивизия вошла в состав 4-й танковой армии, ведущей бои. Наверное, есть раненые. Быстро формируй передовой отряд медсанбата.
Я вопросительно посмотрел на командира — дело-то новое. Он тут же уточнил:
— Возьми весь свой взвод и две хирургические бригады операционно-перевязочного. Вот смотри на карте — задонские высоты… Выдвинешься сюда, на правый берег Дона, западнее хутора Хлебного, там и приступишь к приему раненых. Определишь объем хирургической помощи на месте. Переправляй раненых на остров в излучине Дона. На нем развертывается дивизионный обменный пункт, к которому и будет подходить по мосту с левого берега транспорт для эвакуации раненых. Как прояснится обстановка, уточню задачу.
Я быстро собрал личный состав, передал Фатину распоряжение Кириченко выделить две хирургические бригады и посадил людей на машины. Едва успел вывести колонну со станции, как появились фашистские бомбардировщики. Я приказал водителю увеличить скорость. Грохот взрывов долго сопровождал нас, отзываясь в сердце острой болью, — ведь на станции под бомбами были наши боевые друзья.
Приоткрыв дверь, высунулся из кабины и посмотрел назад. В небе вспыхивали и плыли небольшие шапки разрывов зенитных снарядов. За одним из вражеских самолетов тянулся дымный шлейф, но остальные все еще продолжали заходы, хотя уже и не снижаясь.
— Давай-ка еще прибавь, — сказал водителю, захлопнув дверцу. — Как бы они на обратном пути не устроили охоту за нами.
— Жму на всю катушку, — отозвался шофер. — Больше не может старушка…
Без происшествий миновали переправу у станицы Трехостровской, выехали на правый берег Дона. Теперь впереди уже четко можно было различить гул артиллерийской канонады.
Через некоторое время впереди открылась гряда высот, где должны были занимать оборону передовые части нашей дивизии. Навстречу все чаще начали попадаться разрозненные группы пехотинцев. Они спешили к реке. Остановив машину, я встал на подножку и спросил у проходившего мимо старшего лейтенанта, небритого, в пропыленном, порванном во многих местах обмундировании:
— Откуда вы?
— С передовой. Десантники нас сменили. Досталось тут…
Подошел майор с артиллерийскими петлицами.
— Немцы далеко? — спросил я у него.
Майор не ответил, только махнул рукой на юг, где поднималось облако пыли. Я присмотрелся и ужаснулся — в стороне, километрах в трех от нас, шли вражеские танки. Их было много — сразу и не сосчитать. Перед ними то и дело вырастали султаны разрывов, — видно, вели огонь наши батареи. В тылу у танков горела станица.
— Куда же вы со своей женской командой? — спросил майор, посмотрев на девушек в кузове.
— Передовой отряд медсанбата… Нужно развернуться и приступить к приему раненых.
— Да, раненых хватает, — тихо заметил майор и, обращаясь к старшему лейтенанту, прибавил: — Нам пора на сборный пункт. Строй своих бойцов…
Мы же продолжили путь. — До места добрались без приключений. Авиация противника наносила удары по переправам, железнодорожным станциям и боевым порядкам войск. Я осмотрелся, пытаясь найти участок, более или менее удобный для размещения передового отряда. Невольно вспомнились подмосковные леса, которые надежно укрывали нас. Здесь же кругом простиралась степь, лишь кое-где поросшая мелким кустарником.
Неподалеку заметил степную балку. Ее-то и выбрал для развертывания передового отряда — все-таки укрытие. Если удастся поставить палатки и замаскировать машины, забросав их ветками, может, и не сразу обнаружит вражеская авиация.
Отдав распоряжения о развертывании приемно-сортировочной и операционно-перевязочной палаток, я посмотрел на карту, пытаясь прикинуть, откуда будет поступать поток раненых. Место как будто бы удачное, вблизи развилки дорог. Кириченко предупредил, что оборонительный рубеж проходит по господствующим высотам на удалении двадцати — двадцати восьми километров от реки. В связи с этим особенно волновал вопрос организации эвакуации раненых в тыл. Ведь танки противника рвались уже к переправе у Трехостровской. Правда, наша дивизия приступила к наведению своей переправы и скоро можно было рассчитывать на нее.
Информация о том, где расположился передовой отряд медсанбата, была своевременно доведена до полковых медицинских пунктов, однако раненые все еще не поступали.
Вечерело. Жаркий бой шел несколько южнее того места, где мы находились. Дежуривший на развилке дорог санитар доложил, что начался отход части соседней с нами дивизии. Для выяснения обстановки я решил съездить туда на машине. К сожалению, все оказалось так, как и говорил санитар. Автомобили, повозки, люди поспешно двигались на восток не только по дороге, по и прямо по степи. Однако в тылу нашей дивизии все было спокойно. Гвардейцы — мы ничуть не сомневались в этом — сдерживали натиск врага.
Я принял решение оставить в развернутом состоянии только перевязочную, а остальные подразделения свернуть и погрузить на машины, чтобы иметь возможность при необходимости немедленно отправить их в новый район. В перевязочную же направил раненых, которых подобрал во время поездки.
Вскоре привезли первых раненых из наших частей. Едва мы успели их обработать, как на краю балки остановился «виллис». Из него выпрыгнул заместитель командира дивизии гвардии подполковник Гончаров и подозвал меня к себе.
— Что вы здесь делаете? — спросил он.
Я доложил, что выполняю распоряжение командира медсанбата — развернул передовой отряд и приступил к работе.
— Немедленно в тыл! Фланг открыт. Дивизия не успела выйти к высотам и закрепиться. Спешите.
Гончаров уехал, и мы стали собираться. До наступления темноты надо было добраться до острова в большой излучине Дона, где, как сообщал Гончаров, должен был развертываться медсанбат.
Стал размышлять, как же попасть на остров. Сначала нужно было переправиться у станицы Трехостровской на левый берег Дона, затем проехать вверх по течению километров десять — двенадцать и там уже перебраться по мосту на остров.
Но что теперь в Трехостровской? Ситуация прояснилась, когда мы оказались в четырех-пяти километрах от станицы. Впереди шел жестокий бой…
Остановив колонну, я вышел из машины, чтобы расспросить находившихся неподалеку пехотинцев об обстановке.
— Немцы блокировали Трехостровскую, — сказал сержант с повязкой на голове.
— Они уже переправились на левый берег, — добавил кто-то из бойцов.
Сержант цыкнул на него и, обращаясь ко мне, пояснил:
— Держатся наши.
Я попытался что-либо разузнать о другой переправе, у хутора Зимовейского, однако никто ничего не знал о ней. Заметив, что в сторону хутора не прошло ни одной машины, рисковать не стал. Не было гарантии, что дорога к Зимовейскому не перерезана противником.
Посоветовавшись с врачами, решил ехать вдоль Дона вверх по течению к хутору Хлебному, где строилась саперами нашей дивизии новая переправа на остров. Во-первых, в этом случае мы оказались бы в тылу наших частей, а следовательно, могли бы заняться ранеными, а во-вторых, тех раненых, которые уже находились у нас, можно было еще до завершения строительства переправы перебросить на остров, используя подручные средства.
Тяжелой для машин оказалась разбитая дорога вдоль берега, однако иного пути не было. Проехав километра четыре, мы заметили три автоцистерны, а затем и хорошо укатанную грунтовую дорогу. Когда до автоцистерн осталось с полкилометра, я увидел и паромную переправу. Она надежно охранялась.
Оставив свои автомобили на берегу, я пошел к переправе. Водители автоцистерн пояснили, что комендант отказался перевезти их и приказал отогнать машины подальше, чтобы не демаскировать паром.
— И что же вы намерены делать? — поинтересовался я.
— Если фрицы появятся, — сказал пожилой красноармеец, — машины сожжем, а сами переберемся вплавь.
Я все-таки решил подъехать к парому и узнать, что это за странное решение принял комендант — не переправлять никого.
Однако из разговора с комендантом, резким и грубоватым капитаном, я так ничего и не уяснил. Он не сказал ни о времени отхода парома, ни о степени его загрузки.
— Но ведь раненые же, — старался убедить я. — Раненые в машинах.
— Послушайте, — отрезал он, — не мешайте, у меня свои задачи!
Приказав поставить машины под кроны деревьев, я взял с собой санинструктора и решил пройти немного вверх по реке, чтобы попытаться выяснить, где и в каком состоянии переправа дивизии. Гвардии военфельдшера Петра Красникова попросил побывать в ближайшем хуторе и купить что-нибудь из продуктов для раненых. Да и мы с утра ничего не ели. Хоть девушек накормить.
Добрался до переправы, рассказал саперам, что неподалеку находятся машины с ранеными. Они пообещали, что к 23.00 мост будет готов.
Вернувшись к своим, я увидел повеселевших девушек, которых, как выяснилось, уже накормили Красников и Никитин, сбегавшие в хутор. Они принесли оттуда хлеб, яйца, молоко, помидоры.
Жара постепенно спадала, однако, хоть и темнело, бои южнее продолжались, причем перестрелка будто заметно приблизилась к нам. Я поднялся на небольшой курган. С него хорошо были видны горевшие станицы и хлебные поля. Порой казалось, что доносится лязг танковых гусениц.
Заметил я, что водители и санитары, которые были по возрасту старше нас, врачей, и, конечно, девчат, держались как-то не так, как все остальные. Были молчаливы, серьезны — видимо, обстановку оценивали более реально и здраво, понимали, что нам грозит серьезная опасность. Правда, надо отметить, никто из двадцати двух человек, бывших в отряде, не показывал тревоги и тем более не паниковал. Все ждали терпеливо, хотя каждому было обидно смотреть на бесполезно стоявший паром.
Я не выдержал и снова отправился к коменданту. И вдруг заметил два «виллиса», которые мчались к переправе. Они спустились к парому и остановились. Из первого вышел генерал-лейтенант, из второго — мужчина в кожанке без знаков различия. С ними были лейтенант и три автоматчика.
Комендант бросился докладывать, но генерал махнул рукой и пошел на паром, за ним последовали сопровождающие. Потом въехали «виллисы».
— Кто это? — поинтересовался я у одного из бойцов.
— Еременко…
Вот тебе и раз… Как же быть? Я уж хотел обратиться к генералу, а это, выходит, командующий фронтом.
И тут человек в кожанке спросил у коменданта, почему не погружают машины с ранеными.
— Есть, сейчас погрузим! — отчеканил капитан.
Мы быстро выполнили поступившее распоряжение.
— А цистерны? — в свою очередь поинтересовался Еременко.
— Они без горючего, — ответил комендант.
— Так тем более пусть спешат наполнить их и опять в войска. Горючее нужно…
Вскоре паром отправился, и в 22.00 мы уже были в расположении медсанбата.
Кириченко вышел навстречу, радостно приветствуя нас.
— Ох и переволновались мы, — сказал он. — Ведь никаких вестей не получали.
Я подробно доложил обо всех наших приключениях. — Отдохните и включайтесь в работу, — выслушав меня, сказал Кириченко. — Раненые уже поступают.
Остров, в северо-восточной части которого расположился медсанбат, протянулся на четыре с половиной километра в длину и на полтора в ширину. Лес и густой кустарник позволяли хорошо замаскировать медсанбат. Вода рядом. Что еще нужно!
После дневных переездов по пыльным дорогам, под палящим солнцем мы с удовольствием помылись в реке, привели себя в порядок. Но отдохнуть не удалось. Кириченко позвал меня на берег, указал на реку. Я увидел плывущие к нам лодки, плоты и на них раненых. Многие бойцы добирались сами, вплавь. Не каждому суждено было достичь берега — иным раненым переправа оказалась не под силу. На наших глазах многие тонули — слишком широким был в этом месте Дон. Кириченко уже отдал распоряжение собрать все подручные средства, и санитары поспешили навстречу плывущим бойцам и командирам, но, увы, спасти удалось далеко не всех.
Жутко было смотреть на тихий и спокойный в сумерках Дон, уносивший десятки жизней. Те, кто доплывали до острова, выходили совершенно обессиленными и падали тут же на землю. Среди тех, кому все-таки удалось преодолеть водную преграду, оказались и медики. Это Люба Шевчук, Леша Давыдов и другие.
А бой на правом берегу продолжался. Южнее нас сражались с врагом какие-то разрозненные части. На помощь им генерал Жолудев перебросил 114-й гвардейский стрелковый полк.
Всю ночь гитлеровцы вели огонь из минометов. Наша артиллерия отвечала редко. Иногда все затихало, лишь шелестела река, где-то плескалась рыба, и казалось, что нет войны и мы просто пришли отдохнуть на остров. Впрочем, о боевой обстановке не давали забывать раненые. Ночью я развернул приемно-сортировочный взвод и подготовил его к работе. Раненых, которых мы привезли о собой, и тех, что поступили в медсанбат, удалось эвакуировать в госпитали.
Ближе к полуночи на остров приехал дивизионный врач Ахлобыстин. Кириченко доложил ему о сделанном, отметив, что пока еще отсутствует опыт в развертывании подразделений — не каждый знает свои обязанности, в особенности это касалось врачей, мобилизованных из запаса.
Утро 15 августа застало нас за работой. В 7.00 позиции обороны дивизии подверглись бомбардировке и артобстрелу. К полудню к нам поступило около двухсот раненых.
Весь день полки стойко сражались на правом берегу Дона. Враг нажимал, и к вечеру отдельные группы гитлеровских автоматчиков переправились южнее на левый берег реки. Медико-санитарный батальон вскоре оказался в пределах досягаемости не только артиллерийского, но и пулеметного огня противника. Днем нас почти беспрерывно бомбила авиация. Истребители обстреливали палатки с бреющего полета, однако обработка раненых не прекращалась ни на минуту. Поначалу дело не ладилось. К столам становились все одновременно, а потому никто практически ни минуты не отдыхал.
Иван Иванович Ахлобыстин, будучи человеком опытным и высоко подготовленным, всегда стремился чему-то научить, что-то рассказать, причем делал это ненавязчиво, а как бы обсуждая с подчиненными ту или иную проблему, даже сложную. И на этот раз он, улучив удобный момент, собрал командиров подразделений. Начал по порядку. Попросил меня рассказать о том, как налаживается работа приемно-сортировочного отделения. А мне и сказать-то пока, по существу, нечего было. Заметил только, что при большом потоке раненых функции приемно-сортировочного взвода сами собой расширились. И в то же время у меня постоянно возникало желание заняться каким-то одним раненым и завершить его обработку. О том и сказал Ахлобыстину.
Иван Иванович выслушал внимательно. Затем еще раз напомнил принципы сортировки раненых в соответствии с величиной их потока и в зависимости от тактической обстановки в полосе обороны дивизии.
— Вы занимаетесь очень важным делом, — сказал он. — Кстати, знаете, кто впервые применил сортировку раненых на поле боя и обосновал ее необходимость?
Это и я, и мои товарищи, конечно, знали, однако Ахлобыстин посчитал нужным еще раз напомнить. Он рассказал, что еще в период Севастопольской обороны 1854–1855 годов выдающийся русский хирург Николай Иванович Пирогов предложил проводить сортировку раненых в целях лучшей организации медицинской помощи. Позже он не раз писал об этом и доказывал обязательность повсеместного внедрения сортировки.
— Вам необходимо, — продолжал, обращаясь ко мне, Иван Иванович, — четко определять, кого из раненых оперировать на месте, а кого после контроля повязки и улучшения иммобилизации отправлять на следующий этап. Важно маневрировать и хирургическими кадрами, — прибавил он, уже обращаясь ко всем, и в первую очередь к командиру медсанбата. — А вам, Гулякин, поскольку имеете опыт хирургической обработки ран, можно создать хирургическую бригаду в своем взводе, чтобы она была всегда, как говорится, на подхвате.
— Не у всех еще есть навык в работе, — вставил я.
— Знаю, — кивнул Ахлобыстин, — но ведь ваши занятия в эшелоне на пути к фронту помогли им освоить многие азы?
В заключение Иван Иванович сказал, что он принимает все меры к тому, чтобы значительно улучшить деятельность батальонных и полковых медицинских пунктов, а нам поручает совершенствовать хирургическую помощь всем категориям раненых.
Беседа закончилась уже за полночь. Мы знали, что завтрашний день не будет легче минувшего. Враг концентрировал танки в районе Трехостровской. Кроме того, часть гитлеровцев все же переправилась и на остров и, несмотря на то что была блокирована, не отказалась от попыток расширить плацдарм. Ахлобыстин приказал быть готовыми к немедленной эвакуации с острова, если врагу удастся развить успех.
Когда я вышел из палатки, в которой проходило совещание, уже светало. Следовало поторопиться, скоро могли начать подвозить раненых.
Мои подчиненные были все в сборе. Вот Михаил Стесин, недавно окончивший институт. Неунывающий, веселый молодой человек. С лица его почти не сходила улыбка. Но за операционным столом он преображался — становился серьезным, сосредоточенным, работал уверенно, быстро и не покидал операционную столько, сколько требовала обстановка.
Был в моем взводе и Петр Красников, которого я уже тоже называл, — военфельдшер, прекрасно знавший свою специальность, настойчивый, целеустремленный.
А вот и девушки. Строгая Аня Горюнова, старшая медсестра приемно-сортировочного отделения. Ее сестренка Таня — впечатлительная, все принимавшая близко к сердцу, но и отходчивая, веселая по натуре. Она могла рыдать, видя страдания наших пациентов, но едва их увозили и наступала передышка, как Таня менялась прямо на глазах и могла беззаботно смеяться, шутить.
Трудолюбие, выдержка и исключительная добросовестность отличали Машу Морозову. Она уже в первые дни освоила многие очень сложные методики — успешно давала ингаляционный эфирный наркоз, накладывала повязки с иммобилизационными шинами.
Едва я подошел к палатке взвода, появился первый раненый. Его доставили бойцы с правого берега, окровавленного, бледного. Один из красноармейцев рассказал о подвиге товарища:
— Это Гриша Осипов, наш пулеметчик… Он прикрывал отход взвода с позиций боевого охранения, много фрицев положил… Как в правую руку ранило, стал с левой строчить. Стрелял, пока не потерял сознание. Хорошо, мы успели его вынести…
— А кто перевязку сделал? — поинтересовался я.
— Мы же и сделали… Наш санинструктор.
— Молодцы. Повязки хорошо наложены. Этим вы спасли своего товарища. Теперь и наша хирургическая помощь поможет ему, — добавил я, осмотрев раненого.
Вызвав санитаров, направил Осипова в большую операционную. Провожая прибывших с передовой красноармейцев, еще раз обратил их внимание на важность своевременного оказания первой помощи.
Когда вернулся в палатку приемно-сортировочного отделения, увидел там Фатина, который ждал меня.
— Знаешь, Миша, — заговорил он. — Я решил просить передвинуть тебя на хирургическую работу. Знаю, что ты ученик Ивана Гурьевича Руфанова. Я сам у него учился. Знаю, что ты трудился под руководством Вишневского на Волховском фронте. Так что, думаю, допущена ошибка в твоем назначении. Тебе следует побыстрее подготовить Стесина, чтобы он смог возглавить взвод…
Мы еще некоторое время говорили с Фатиным о насущных делах, а потом он посоветовал мне подумать о вступлении кандидатом в члены партии и пообещал дать рекомендацию. Забегая вперед, скажу, что рекомендацию он мне написал и, как я счел, прочитав ее, выдал большой аванс на будущее. Состоялась затем и должностная передвижка. А в то утро нашу беседу оборвала команда «Воздух». Обстреливая наше расположение, пронеслись на бреющем два вражеских истребителя.
Потом закипела работа. В тот день еще быстрее, чем накануне, делали рейсы в полки наши санитарные машины. Во-первых, водители привыкли к дороге, научились ловко прятаться при появлении вражеских истребителей, ставя машины в редкие укрытия. Во-вторых, бои ожесточались с каждым часом и количество раненых, естественно, увеличивалось.
С приближением к нам боевых действий расположение медсанбата становилось все более уязвимым. Ведь теперь не только к нам на остров нелегко было доставить раненых, но и дальше эвакуировать их оказалось очень сложно. К тому же мы находились под постоянным минометным, а иногда и пулеметным огнем противника, несли неоправданные потери. Оценив все это, командование приняло решение о переброске медсанбата на левый берег Дона, в хутор северо-восточнее станции Иловля.
Немедленно приступили к подготовке к этому новому нелегкому переезду. Пришлось свертывать палаточный городок спешно, под усиливающимся огнем врага.
Особенно досталось командиру госпитального взвода гвардии военврачу 3 ранга К. Ф. Быкову, на плечи которого легла эвакуация раненых, находившихся на лечении в медсанбате. Только благодаря его распорядительности удалось затем провести эвакуацию быстро и почти без потерь. Костя Быков договорился с регулировщиками, и те направляли в обусловленное место порожние автомобили, следовавшие с передовой в тыл, за боеприпасами. На них он эвакуировал не только раненых, по и часть госпитального имущества. Своего транспорта нам не хватало. Это было известно командованию дивизии, и незадолго до того, как мы прибыли на фронт, состоялся приказ, в котором было изложено требование использовать порожние рейсы для эвакуации в тыл раненых.
К вечеру перестрелка на острове прекратилась. Раненые, поступившие к нам, рассказали, что враг сброшен в воду. С Наступлением темноты мы начали эвакуацию в новый район расположения медсанбата. Большая операционная продолжала работать до последней возможности. Оставались долгое время на местах часть приемно-сортировочного взвода и эвакуационное отделение. Они снялись лишь тогда, когда поступило сообщение о том, что медсанбат начал прием раненых в новом районе.
И вот мы погрузили на автомобили раненых, которым оказывали помощь в последние часы пребывания на острове. Командир батальона, садясь в кабину одного из автомобилей, сказал мне:
— Миша, собери всех оставшихся и веди их пешком.
— Есть! — ответил я и скомандовал построение.
Мы достигли моста, соединявшего остров с левым берегом Дона, когда машины медсанбата уже скрылись из виду. И здесь выяснилось, что, пропустив их, комендантская служба закрыла движение. Мост, поврежденный бомбежкой, требовал ремонта.
Я остановил группу на берегу и отправился к коменданту. Тот разрешил пройти по мосту, но предупредил, чтобы мы были осторожны, — много проломов в настиле и можно угодить в воду.
Добравшись до левого берега Дона, я прежде всего сориентировался. Нигде не увидел ни одного огонька, идти предстояло по полевой дороге, которую невозможно было различить в полной темноте. К тому же стал медленно наплывать туман. Враг, видимо пристрелявшись за день, вел методичный огонь по дороге, и впереди то там, то здесь озаряли местность вспышки разрывов.
В группу кроме меня входили еще три врача, двенадцать медсестер и десять санитаров.
— Что будем делать, товарищи? — спросил я. — По дороге пойдем — не собьемся, но зато можем оказаться под обстрелом. Напрямик идти безопаснее, по легко заблудиться в степи.
— Ты старший, Миша, тебе и решать, — сказал мне Стесин. — Веди по компасу. Не надо по дороге, чего рисковать? С нами ведь девчата. Да и петляет дорога.
— Ну что ж, тогда — за мной! — скомандовал я.
По мере того как мы удалялись в тыл, спадало и напряжение. Разрывы вражеских снарядов не пугали — фашисты били наугад, да и дорогу осталась далеко в стороне.
Наша колонна, хотя и небольшая, растянулась. После трудного, напряженного дня девчата устали, а тут еще переход в несколько километров. Я подбадривал, несколько раз останавливал группу, чтобы все отставшие подтянулись.
— Ничего, девчата, недалеко уже!
— А мы и не жалуемся! — ответила за всех Аня Горюнова. — Дойдем, а там уж и отдохнем.
Впрочем, все знали, что отдохнуть вряд ли удастся, — нас ждали раненые.
Пригодилась мне десантная подготовка — группу вывел точно к хутору. Медсанбат расположился во фруктовом саду, в глубине которого уже были установлены палатки.
Нас окликнул часовой. Я назвался и спросил, где находится комбат.
Кириченко сразу велел приступить к подготовке приемно-сортировочного отделения.
— Вам выделили просторную хату. Оборудуйте ее. Время не ждет. Утром начнут поступать новые раненые.
Чтобы хоть как-то стерилизовать помещение, девушки завесили потолок и стены простынями. Затем изготовили надежную светомаскировку на окна, которые мы на первых порах просто закрыли одеялами. Тщательно отмыли полы, расставили столы и лишь после этого расположились на отдых.
Едва рассвело, ожила передовая. А спустя полчаса после начала перестрелки к нам стали поступать раненые. Санитары выгружали носилки из автомобилей и ставили их прямо в саду возле приемно-сортировочного отделения. Работа разворачивалась. Теперь, после пребывания на острове, я имел хоть и небольшой, но важный опыт организации наших действий.
Понимая, что без отдыха мои подчиненные полноценно трудиться не в состоянии, я решил разбить взвод на смены. Доложил об этом командиру батальона. Он согласился с предложением и распорядился внедрить его в практику операционно-перевязочного взвода.
Опыт приходил постепенно, опыт везде и во всем. Заботясь о совершенствовании помощи раненым, а главное, об ускорении их обработки, разумеется без ущерба для здоровья наших пациентов, мы применили и некоторое, если можно так выразиться, новаторство. Я предложил во время сортировки сразу отделять поток легкораненых и направлять их в отдельную операционную палатку, где действовали хирургические бригады приемно-сортировочного взвода. Это сразу сократило срок пребывания большого количества раненых на этапе. В то же время удалось сконцентрировать наиболее опытных хирургов для оказания помощи тяжелораненым и повысить качество всей работы.
Подобного опыта соседние войсковые медицинские учреждения пока не имели, и уже в первых числах сентября командиры медсанбатов и ведущие хирурги из других дивизий приезжали к нам, чтобы перенять его. Встречая их, начальник санитарной службы дивизии И. И, Ахлобыстин рассказывал о положительных результатах, которых позволил добиться наш метод, а потом поручал мне:
— Миша, покажи, на что способны гвардейцы-десантники…
Опыт коллектива нашего 38-го отдельного гвардейского медсанбата был одобрен руководством санитарного управления фронта, и вскоре многие соединения внедрили его у себя. А мы старались и дальше совершенствовать систему собственной работы, повышать качество хирургической помощи раненым. Даже в самом начале своей фронтовой деятельности мы не отступали от принципов, выработанных такими замечательными хирургами, как Н. Н. Бурденко, П. А. Куприянов, М. Н. Ахутин и другие.
Не забывали мы и о том, с каким коварным и лютым врагом имеем дело, старались соблюдать все меры маскировки. Однако где уж надежно укрыться в бескрайних степях! Вне сомнения, гитлеровские летчики уже поняли, что за подразделение расположилось во фруктовом саду на этом «зеленом пятачке», — ведь днем и ночью мчались сюда машины с ясно различимыми красными крестами на бортах и крышах. И тем не менее фашистские пираты, четко видя с воздуха красные кресты, постоянно гонялись за санитарными машинами, сбрасывали на них бомбы, обстреливали из пушек и пулеметов. Часто раненые получали во время транспортировки вторичные ранения, которые порой приводили к смерти. Иногда машины и вовсе не добирались в пункт назначения…
Впору было хоть замазывать красные кресты, которые словно магнит притягивали гитлеровский летчиков, предпочитавших легкую добычу — безоружные автомобили, которые не могут дать отпор. Расстреливали они их с изуверской жестокостью и старательностью.
Сыпались бомбы и на расположение медсанбата. Во время одного из налетов, когда мы не успели еще завершить тяжелую хирургическую операцию, хата буквально содрогнулась от взрыва. С потолка, просачиваясь сквозь простыни, посыпалась мелкая пыль. Маша бросилась к столу и накрыла собой операционное поле. А недалекие взрывы продолжались. Я смотрел на девушку и не замечал на ее лице и тени страха — она думала лишь об одном, как оградить от беды раненого.
И в дальнейшем очень часто приходилось нам работать под артобстрелом и бомбежками. Нельзя не отдать должного нашим замечательным девушкам, которые вели себя удивительно стойко, хладнокровно и совершенно забывая о себе. Иной раз думалось, что некоторые люди поступают на фронте храбро, пренебрегают опасностью потому, что просто не понимают, что их ждет в случае тяжелого ранения. Но о девушках-то наших сказать этого было нельзя, они ведь каждый день видели столько горя и мук!
Однажды в такой вот обстановке мне довелось оперировать своего бывшего командира Степана Жихарева, раненного в ногу и оказавшегося в нашем медсанбате. Работал под местным обезболиванием пациента. К счастью, ранение было средней тяжести, но, несмотря на просьбу Степана, его все же пришлось эвакуировать в тыл.
Улучив минуту, успел побеседовать перед его отъездом. Расспросил о боевых друзьях, посетовал, что встречаю их лишь на операционном столе, а так не удается повидаться.
Посетовал, а через несколько дней выдался случай увидеть и других своих десантников. Кириченко направил меня в 109-й гвардейский стрелковый полк для оказания помощи в медицинском обеспечении наступательных действий.
Штаб полка размещался в хуторе Колоцком, в просторном и прочном блиндаже. По пути встретил Ивана Семенова — с ним я выбрасывался в тыл врага под Москвой. На совещании, которое проводил командир полка, повидал многих. Они были и прежними, и другими.
Бывший наш комбриг, а ныне командир полка, Омельченко загорел, осунулся, стал строже и в то же время спокойнее, увереннее в себе. Говорил коротко.
Помню, рассказывал он о том, как трудно в эти дни в Сталинграде, где врагу удалось занять рынок, выйти к Орловке и завязать уличные бои в центре города. Для наращивания силы удара гитлеровцы получали все новые и новые подкрепления. Стало известно, что они собираются перебросить туда и часть сил с нашего направления.
— Мы не можем допустить этого! — говорил Омельченко. — Необходимо активизировать действия. По приказу командующего 4-й танковой армией наша дивизия во взаимодействии с соседями переходит в наступление о задачей форсировать Дон, выбить врага с высот на правом берегу и овладеть плацдармом…
Я слушал и прикидывал, как лучше организовать эвакуацию раненых. Чувствовал, что встретится немало трудностей. Наметил, где развернуть приемные и сборные пункты, по каким маршрутам проводить эвакуацию раненых. Затем все эти вопросы мы четко отработали вместе со старшим врачом полка и командиром медсанроты.
После совещания бывшие однополчане подошли ко мне. Кто-то в шутку сказал;
— Ну раз Мишу прислали, никакое ранение не страшно. Если надо, другую голову пришьет!
Остряка сразу же беззлобно поймали на крючок!
— Да, тебе бы не мешало!
Послышался смех. А я отшучивался в общем тоне:
— Насчет головы не сомневайтесь. Насморк на фронте вылечить трудно, остальное — пустяки. А новые головы на всех друзей в запасе держу.
Поделились земляческими новостями с Сашей Козловым, бывшим одноклассником, а теперь заместителем командира батальона по политчасти.
Но шутки шутками, а забывать о том, что предстоят тяжелые бои, не удавалось ни на минуту. Сжималось сердце от мысли, что многие из этих молодых и здоровых ребят, весело балагуривших сейчас, могут оказаться на операционных столах, а то и навсегда остаться в сырой земле.
Не берусь подробно описывать бой полка. Роты начали форсировать Дон в предрассветных сумерках, и ничего не было видно. А потом, когда обозначился успех, мне и вовсе стало не до того. Пошел поток раненых. Полк нес потери, но продвигался вперед.
Весь день я не отходил от операционного стола в медсанроте. Работал и ночью. На вторые сутки принесли заместителя командира полка гвардии капитана В. П. Курсаева. Он был ранен осколком мины. Быстро обработали рану, перевязали. Курсаев просил разрешить ему остаться в полку, хотел вернуться в строи, но его пришлось немедленно эвакуировать в тыл.
Раненые рассказывали, что передовые подразделения уже перехватили важную дорогу от Задоно-Авиловского на Хлебный. Гитлеровцы непрерывно контратаковали, но успеха не добились. А вскоре хутор Хлебный был освобожден. Дивизия вышла на указанный ей рубеж и выполнила свою задачу.
Встретив знакомого еще по службе в Подмосковье десантника, я поинтересовался, кто командует батальоном после ранения Жихарева.
— Иван Андреевич Гриппас, — ответил мне боец.
Ивана Андреевича я хорошо знал и порадовался, что батальон в надежных руках. Это был подготовленный, исключительно честный и принципиальный командир. Отличался хладнокровием и храбростью. Хотелось повидаться с ним, поговорить, но времени на это не оказалось. Едва окончились боевые действия, Кириченко отозвал меня в батальон.
В конце сентября на нашем участке фронта наступило относительное затишье. Уменьшилось и число раненых. Тут-то и развернулись наши девушки. Они организовали художественную самодеятельность. Прекрасно пела Алла Вишневская. Раненые очень любили ее слушать. Алла специально подбирала репертуар, старалась подбодрить бойцов, напомнить им о доме, о счастливой предвоенной поре, утвердить веру в будущее, в неизбежную победу над врагом.
Выступали и другие девушки. Приезжал к нам и дивизионный клуб во главе с гвардии капитаном Николаем Ляшко, неутомимым организатором, отдававшим всего себя любимому делу.
Активизировалась вся общественно-политическая жизнь медсанбата. Прошли очередные партийное и комсомольское собрания. Вступили в комсомол Маша Морозова, Аня Горюнова и другие девушки. Я в эти дни связал свою жизнь с партией коммунистов…
Не забывали мы, конечно, и о повышении своего профессионального уровня. А. Ф. Фатин организовал занятия по различным вопросам. В частности, в один из дней он показал организацию работы донорского пункта в полевых условиях и взял у нескольких врачей и медсестер кровь для раненых.
В одном из номеров центральная газета «Медицинский работник» (ныне «Медицинская газета») рассказала о действиях нашего батальона на «зеленом пятачке». Это ободрило всех медсанбатовцев, что было очень кстати перед новыми трудными испытаниями.
Глава четвертая В ОГНЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Зарево над Сталинградом. — Вливаемся в 62-ю. — Кипела вода от разрывов. — «Без ноги мне не жить!» — Сделаем все возможное. — 80 трудных операций за сутки. — Враг выдыхается. — Что я увидел в тылу. — Контрнаступление.
В конце сентября 37-я гвардейская стрелковая дивизия получила приказ передать свою полосу обороны другому соединению и выступить форсированным маршем в Сталинград — теперь она включалась в состав 62-й армии.
28 сентября, перед самым выступлением, нам зачитали приказ командующего 4-й танковой армией генерал-майора В. Д. Крюченкина. В нем говорилось, что за время пребывания в составе армии с середины августа 1942 года 37-я гвардейская стрелковая дивизия выполнила ряд ответственных и сложных боевых задач. Она прочно закрепилась на плацдарме, геройски отразила попытки противника форсировать Дон в полосе ее обороны, блестяще действовала в десантах на правом берегу. Военный совет армии объявлял личному составу соединения благодарность. И мы, военные медики, гордились тем, что внесли свой вклад в успех дивизии.
И снова марш… Теперь нам предстояло переправиться через Волгу в сорока километрах севернее Сталинграда, в районе села Дубовки, а затем прибыть в хутор Цыганская Заря, что в нескольких километрах восточнее Сталинграда.
Перед маршем Кириченко собрал командиров подразделений на совещание. Он коротко подвел итоги наших полуторамесячных действий в междуречье Дона и Волги, сказал, что медицинская помощь оказывалась быстро и квалифицированно на всех этапах. Раненых своевременно принимали в медсанбат, правильно сортировали, обрабатывали и быстро эвакуировали.
— Нужно заметить, — говорил комбат, — что работали мы в тесном взаимодействии с полковыми медицинскими пунктами. Там оказывалась первая врачебная помощь, проводилась иммобилизация при огнестрельных переломах конечностей и обширных повреждениях мягких тканей, выполнялись другие мероприятия. Хорошая обработка раненых перед поступлением в медсанбат, разумеется, имела для нас огромное значение.
Присутствовавший на совещании И. И. Ахлобыстин в своем выступлении похвалил личный состав полковых медицинских пунктов и нас, медсанбатовцев.
— Большую роль сыграло то, — говорил он, — что медслужбы полков были укомплектованы грамотными кадрами: врачами, военфельдшерами, прошедшими закалку в воздушно-десантных бригадах, имевшими опыт обеспечения боевых действий в крайне сложных условиях. То же самое можно сказать и о медсанбате, — продолжал Ахлобыстин. — Здесь собраны в основном кадровые военные врачи и фельдшеры. На них кроме выполнения непосредственных обязанностей лежит задача помочь побыстрее освоиться и по-настоящему вступить в строй призванным из запаса товарищам.
Слушал я начальника санитарной службы дивизии и невольно вспоминал, как трудно было ввести в строй вот эти самые кадры из запаса. Первое же развертывание батальона показало, что они многого не умели — не могли даже показать санитарам, как поставить и оборудовать палатку под приемно-сортировочное или операционно-перевязочное отделение, не имели навыков в работе с ранеными. Да и немудрено: достаточно было взглянуть на их личные дела и узнать гражданские специальности, чтобы понять, как сложно было этим людям освоиться во фронтовой обстановке. К нам ведь прислали и гинекологов, и педиатров, и поликлинических хирургов.
Если разобраться, так и у нас, бывших десантников, опыт был невелик — года не прошло, как мы начали службу в войсках. Но в боевой обстановке люди закаляются быстро, и по фронтовым меркам год — срок немалый. Потому и смотрели на нас как на бывалых, умудренных жизненным и боевым опытом людей, требовали, чтобы мы оказывали помощь врачам, кое-кто из которых был значительно старше и по возрасту, и по стажу работы в медицине.
Нужно отдать должное товарищам, прибывшим к нам на пополнение из гражданских лечебных учреждений. Они настойчиво обогащали свой профессиональный опыт и сравнительно быстро вошли в строй.
Были, конечно, на первых порах ошибки в расстановке сил при больших потоках раненых. Так, сначала мы действовали в одну смену, не отходя от операционных столов до полного изнеможения. Собирали в кулак всю силу воли, выносливость, старались, чтобы усталость не мешала качеству работы. Но, как показала практика, темп нашего труда не повышался, а, напротив, снижался. В подразделениях медсанбата возникали встречные потоки раненых, что нарушало ритм. Потребовалось уже на ходу перестраиваться.
В период напряженных боев приходилось обрабатывать до шестисот раненых в сутки. В конце концов мы организовали разделение раненых на два потока. Выделение потока легкораненых для оказания им хирургической помощи в отдельной перевязочной, как правило, силами приемно-сортировочного взвода положительно сказывалось на качестве работы всего подразделения, позволяло хирургам в большой операционной тщательнее осуществлять сложные оперативные вмешательства.
Много, очень много дали нам полтора месяца действий в междуречье Дона и Волги. И главное — опыт, собственный опыт. Н. И. Пирогов в свое время говорил, что война — это травматическая эпидемия. Война заставила хирургов по-иному взглянуть на многие проблемы. Подробно они освещены в трудах В. А. Оппеля, Н. Н. Бурденко, М. Н. Ахутина и других. К примеру, до войны одним из требований военно-полевой хирургии было считать рану в бою инфицированной, нуждающейся в первичной хирургической обработке. Однако многие хирурги понимали эту обработку по-разному. Некоторые увлекались иссечением кожи вокруг раны, не рассекая раневой канал и не удаляя размозженных тканей и инородных тел. Практика показала, что в случаях, когда нет больших повреждений ткани, достаточно дезинфицировать рану и наложить повязку. Это не только облегчает работу хирургов на этапе, но и ускоряет лечение раненых.
За полтора месяца боев: в районе большой излучины Дона наш батальон принял немало раненых и оказал им квалифицированную помощь. Четко обозначились три основные рабочие группы медсанбата. Приемно-сортировочный взвод обеспечивал прием и сортировку раненых для всех подразделений. Здесь действовали две бригады во главе с хирургами. В каждую входили две хирургические медицинские сестры. Прием, сортировка и направление раненых в другие подразделения проводились одним из врачей взвода, фельдшером, санинструктором и санитаром. Тогда же бригады взвода начали оказывать хирургическую помощь легкораненым, и поток последних с той поры и до конца войны был отделен от тяжелораненых.
Операционно-перевязочный взвод развертывал большую операционную на пять-шесть столов и отдельно — операционную на один стол, а также противошоковую палатку. В большой операционной работали две хирургические бригады, тоже из одного хирурга и двух хирургических сестер в каждой. Кроме того, одна сестра готовила переносные операционно-инструментальные столики для каждой бригады.
В этой палатке проводилась хирургическая обработка тяжелораненых, преимущественно носилочных, с огнестрельными ранениями костей, обширными ранениями мягких тканей и о проникающими ранениями грудной клетки.
Одна из медсестер бригады, как правило, занималась подготовкой раненых к хирургической обработке, а после ее завершения накладывала повязки и проводила транспортную иммобилизацию. В случае необходимости она же с помощью маски осуществляла эфирный или хлорэтиловый наркоз. Вторая медсестра непосредственно ассистировала в операции.
При хорошей слаженности и организованности эти две бригады могли за смену, которая продолжалась восемь-десять часов, квалифицированно прооперировать от восьмидесяти до ста человек со средними и тяжелыми ранениями.
Нам это удавалось, но такая работа требовала всесторонней подготовки не только хирургов, но и медицинских сестер, сноровки санитаров-носильщиков. Константин Кусков и Владимир Тарусинов, например, справлялись с нагрузкой успешно. Им эффективно помогали наши лучшие медсестры Аня Киселева, Маша Морозова и Алла Вишневская. Однако кое-кому подобный темп работы был не под силу.
Большое значение имело быстрое и правильное оформление медицинских документов — карточек передового района. Это хорошо делала Лида Аносова. Она, жительница подмосковного дачного поселка, Малаховка, после окончания десятилетки, еще не достигнув совершеннолетия, тайно от матери уехала с нашей дивизией на фронт, в большую излучину Дона. Сначала была связисткой, а потом ее перевели в медсанбат. Мы в шутку называли ее «автоматом». Лида могла одновременно выслушивать диагноз и характер оказания помощи от двух врачей сразу и успевала все это записать в документ, причем без малейших ошибок. В последующем она приобрела квалификацию медицинской сестры.
В малую операционную, которая всегда развертывалась в двух палатках, образуя и предоперационную, направляли раненых с проникающими ранениями в живот и комбинированными брюшно-грудными ранениями. Обычно таких пациентов было до десяти — двенадцати за сутки. Оперировал их ведущий хирург медсанбата А. Ф. Фатин. Он, в прошлом ассистент клиники общей хирургии 1-го Московского медицинского института, был, конечно, значительно опытнее нас.
На первых порах к операциям при проникающих ранениях живота Фатин подключал меня редко, считая, что успешно работаю и в большой операционной, где помогаю разгружать поток раненых. В помощники он приглашал кого-нибудь из ординаторов операционного взвода. Потом постепенно стал обучать меня более сложным хирургическим вмешательствам. Но об этом позже…
Госпитальный взвод — третье большое подразделение медсанбата — решал не менее трудоемкие задачи. Он обеспечивал лечение прооперированных тяжелораненых и нетранспортабельных. На плечах его личного состава вместе с персоналом эвакоотделения лежали питание и эвакуация в армейские госпитали сотен наших пациентов. Возглавлял взвод гвардии военврач 3 ранга Константин Филимонович Быков. Он вырос в медицинской семье. Отец его работал фельдшером сельской участковой амбулатории, где оказывалась помощь при любом заболевании, ибо до больницы было далеко, а на принятие решений оставались иногда считанные минуты. Константин с большой любовью относился к своей профессии, которой он решил посвятить себя с самых ранних лет.
…После совещания мне вместе с группой обеспечения переправы во главе с начальником штаба дивизии гвардии майором Иваном Кузьмичом Брушко пришлось отправиться на берег Волги, в район села Дубовки. Выехали мы вечером 30 сентября, подход же частей дивизии к переправе планировался на первую половину дня 1 октября.
Брушко быстро организовал комендантскую службу, составил график переправы, приказал установить указатели, обозначающие маршруты движения частей.
Справившись со своими делами по медицинскому обеспечению, я вышел на берег и наблюдал, как небольшие катера таскали, напрягаясь и пыхтя, паромы, заполненные личным составом и боевой техникой. Чуть поодаль стерегли переправу, задрав вверх свои стволы-хоботы, зенитные орудия.
Близость Волги сказывалась. В палатках, которые мы раскинули на берегу для ночлега, было весьма зябко. Я не раз пожалел, что оставил в батальоне шинель.
1 октября с утра гвардии майор Брушко уточнил план переправы, проинструктировал подчиненных. В час дня к Волге подошли первые автомашины медсанбата. Ожидая парома, девчата поспешили к реке, чтобы освежиться, смыть с лица пыль.
Брушко позвал меня и приказал:
— Передайте Кириченко, пусть побыстрее переправляет батальон и самостоятельно следует в район Цыганской Зари. Где расположить медсанбат, поручаю решить на месте.
— Мне разрешите следовать с батальоном?
— Да, переправа затягивается. В случае чего воспользуемся помощью соседей.
Паромы двигались один за другим, быстро перевозя на противоположную сторону наши автомобили. Наконец вся колонна выстроилась на левом берегу Волги и Кириченко подал команду: «Вперед!»
Уже через несколько минут над дорогой повисла непроницаемая завеса пыли. Ехали медленно. Чем дальше, тем больше попадалось воронок. Их приходилось объезжать, а кое-где и закапывать, чтобы продолжить путь.
День уже клонился к вечеру, а мы никак не могли добраться до места назначения.
Сталинград открылся с высокого холма внезапно. Уже стемнело. Яркие языки пламени за рекой поднимались в небо, выбрасывая мириады искр. Непрерывно гудела канонада. Гитлеровские летчики бомбили какие-то объекты. Казалось, что над городом повисла огромная грозовая туча и молнии сверкали почти беспрерывно.
Колонна автомобилей спустилась с холма по тряской, неровной дороге. На опушке леса, метрах в двухстах западнее хутора Цыганская Заря, нас остановил представитель штаба дивизии и указал, где расположить медсанбат. Поблизости начиналась неглубокая, заросшая деревьями и кустарником балка. Сейчас ее трудно было различить — на восточном берегу Волги не просматривался ни один огонек, соблюдалась полная светомаскировка. И только над гладью воды было светло — отражалось в реке пламя сталинградских пожаров.
Кириченко, собрав командиров взводов, направился о ними в лощину, окруженную лесом, чтобы изучить ее. Место всем понравилось. Это не то что в степи, где все на многие километры просматривалось врагом. В лесу можно было замаскировать палатки, установив их под кронами деревьев. Единственно, что беспокоило, — близость позиций зенитной батареи. Она находилась Метрах в восьмистах от лощины. Зенитчики вполне могли и на нас навлечь вражеские бомбардировщики.
Мы разместились в пяти километрах от переправы в Сталинград. Все занялись подготовкой медицинского имущества к работе. Готовили дистиллированную воду, перевязочный материал и операционное белье, а также различные растворы.
В 22.00 прибыл гвардии военврач 1 ранга И. И. Ахлобыстин. Созвал командиров подразделений на короткое совещание, на котором ознакомил с обстановкой в городе и поставленными дивизии задачами. Он сказал, что основная база медсанбата будет располагаться здесь, а передовую группу в составе двух хирургов, четырех медсестер и санитаров предстоит выдвинуть на остров, который находится вблизи от района боевых действий дивизии.
Вначале предполагалось, что эту группу возглавлю я, однако по просьбе ведущего хирурга и с согласия гвардии военврача 2 ранга И. М. Сытника, который прибыл на смену убывающего в Москву И. И. Ахлобыстина, меня оставили для работы в большой операционной. Руководство передовым отрядом возложили на командира медицинской роты медсанбата военврача 3 ранга И. Ф. Ежкова.
В задачу отряда входило оказание помощи раненым, которых эвакуировали из города в дневное время, а также тем командирам и бойцам, которые обеспечивали переправы и находились под постоянным огнем противника.
Отряд выехал на остров, но условия для работы там были крайне неблагоприятными. В светлое время суток немцы почти непрерывно бомбили его расположение, переправы, передвигающиеся войска, и вода в Волге буквально кипела от разрывов. Оказывать помощь раненым в таких условиях не представлялось возможным. Значительно надежнее было сразу отправлять их в тыл, нежели держать на острове под интенсивным огнем врага. Отряд пробыл на острове чуть более двух суток, а затем получил распоряжение вернуться в расположение батальона.
В то время в Сталинград попасть по правому берегу было уже нельзя, поэтому дивизия и совершила марш к городу по левому берегу, а затем в ночь на 2 октября части ее начали переправу в Сталинград. Они тут же, с ходу, вступали в бой. Зная это, мы торопились с развертыванием основных отделений медсанбата. Работали всю ночь.
В первые сутки большого потока раненых из нашей дивизии не было, а соседние соединения просто не знали о нашем существовании.
Начиная с 3-го и особенно с 4 октября поток раненых резко увеличился, и с тех пор он редко был меньше двухсот человек в сутки. Чаще же число наших пациентов приближалось к тремстам, а в период боев с 10 по 15 октября и в начале ноября доходило до четырехсот и более человек.
Обстановка в городе усложнялась с каждым днем. Особенно напряженной она стала после того, как гитлеровцы на отдельных участках подошли к Волге на 300–400 метров, а 15 октября в районе Тракторного завода им удалось на узкой полосе пробиться к реке. Днем эвакуация раненых на левый берег Волги стала совершенно невозможной. Иногда наш воин, получив ранение утром, вынужден был дожидаться эвакуации до вечера. Сбор и концентрацию раненых выполняли медсанроты полков, оказывая и первую врачебную помощь. Полковые медицинские пункты располагались обычно в подвалах разрушенных зданий, эвакуация через Волгу начиналась с наступлением темноты. Тогда и приходилось медсанбату включаться в работу, пик которой наступал после полуночи. И приемно-сортировочное, и эвакуационное отделения в это время заполнялись до отказа. Нужно было каждому пациенту оказать квалифицированную помощь, эвакуировать раненых в армейские госпитали, а затем подготовиться к действиям в следующие сутки, И так непрерывно на протяжении всех боев.
Некоторые раненые — те из них, кто мог спокойно передвигаться, — иногда отваживались и днем добираться до нас попутными лодками или катерами. Риск был огромен. Гитлеровские бомбардировщики варварски атаковывали груженные ранеными суденышки, топили их. Если же суда все-таки прорывались, то к нам зачастую поступали раненые, которым перевязки были уже сделаны на полковых медпунктах, но кроме обработанных ран мы находили и новые, полученные во время переправы.
Часть пациентов, особенно с проникающими ранениями в живот и грудь, с повреждением костей и суставов, поступала в медсанбат в состоянии тяжелого шока. Для них вынужденная задержка с доставкой в медсанбат порой влияла на исход лечения: раненные в живот оказывались в конечной стадии перитонита без определяемого кровяного давления и пульса. Предпринимаемые в таких случаях противошоковые меры часто оказывались неэффективными. Подобное встречалось чаще всего среди раненых жителей города, которых тоже доставляли к нам в медсанбат. В те дни все советские люди, находившиеся в Сталинграде, были его активными защитниками, и наш долг был оказывать помощь каждому, кто поступал оттуда.
Однажды привезли летчика, который был сбит над боевыми порядками нашей дивизии и спустился на парашюте в нейтральную зону. Днем, несмотря на все попытки, санитары так и не смогли подобраться к нему — враг открывал ураганный огонь. Вынесли летчика лишь ночью и тут же спешно переправили в медсанбат. Заключение хирурга было суровым: ранение осложнилось анаэробной инфекцией. Одним словом, была констатирована газовая гангрена голени. С этим многие из нас встретились впервые, а потому Фатин собрал консилиум.
— Что будем делать? — спросил он, подробно обрисовав обстановку.
Многие высказались за немедленную ампутацию ноги, опасаясь за жизнь летчика.
Совещались мы, конечно, не в его присутствии, и все же, чувствуя особое внимание к нему врачей, он догадался, что дело плохо. Стал умолять:
— Прошу вас, спасите ногу… Делайте, что хотите, вытерплю. Не жить мне без ноги… Я же летчик!
Фатин посмотрел на этого совсем еще юного лейтенанта, вероятно лишь недавно окончившего училище и сбитого в одном из первых его боев, и вдруг обратился ко мне:
— Миша, что скажешь? Твое мнение?
— Если позволите, попробую сделать расширенную хирургическую обработку раны с удалением всех мертвых тканей.
— Мы поможем, Афанасий Федорович, — поддержали меня сестры, обращаясь к Фатину, — Ночами будем дежурить, выходим!
— Ну что же, — заключил Фатин, — готовьте операцию. Известите меня обязательно, чем она закончится. Не забудьте изолировать область выше раны и следите за состоянием тканей. Для контроля можно использовать пробу с нитью.
Объем хирургического вмешательства и при заболевании, и при ранении решается, как правило, хирургом. В случае сомнений хирург, безусловно, может привлечь на помощь своих коллег. Операция обычно производится с согласия пациента. На фронте же практически во всех случаях само ранение являлось поводом к хирургическому вмешательству и отказа у раненых возникать не могло. Порой операции на грудной и брюшной полостях оказывались сложнейшими и очень опасными, и все же не так тяжело они воспринимались. Или, скажем, компенсаторные возможности восстановления функций частично или полностью удаленного парного внутреннего органа пострадавшего таковы, что человек зачастую не страдал от этого. А вот хирургические вмешательства, чреватые ампутацией конечностей, пугали поголовно всех. И это естественно, ведь они вели к инвалидности. Поэтому потеря ноги или руки всегда становилась трагедией для человека. И многие наотрез отказывались от таких операций. Мы обязаны были убедить раненого, внушить ему, что только ампутация может спасти от смерти, но для того чтобы убеждать, обязаны были твердо уверовать сами, что ничего другого сделать уже нельзя. Иногда на убеждение раненого уходило столько драгоценного времени, что делать операцию было уже поздно…
Порой доводится слышать наивные утверждения перенесших ранения людей о том, что вот, мол, они наотрез отказались в прошлом от ампутации конечности, сумели настоять на своем и потому сохранили руку или ногу. Это далеко не так. Врачи, безусловно, не сбрасывают со счетов мнение своих пациентов, но определяющим для принятия решения всегда остается объективное показание к ампутации. И в нашем медсанбате этот вопрос всякий раз решался не одним хирургом, а консилиумом врачей. Так было и в случае с летчиком. Большинство моих товарищей после внимательного обследования раны лейтенанта согласились, что есть шанс на успех и что, главное, ампутацию при неблагоприятном развитии событий можно будет сделать и позже.
И тогда я взялся за работу…
После операции раненый чувствовал себя неплохо. Я думал, что все опасности позади, но уже через несколько часов дежурная медсестра прибежала за мной.
Снова осмотрел летчика. Он жаловался на усиление боли в ране. Увеличился отек. Других признаков прогрессирования инфекции не появилось. Доложил об этом Фатину. Он тоже принял участие в осмотре. Заключил:
— Положение тревожное. Надо дополнить дренирование раны за счет рассечения кожи и фасций на бедре… Попробуйте еще раз. Думаю, что с ампутацией ноги не опоздаем…
После второго оперативного вмешательства, трудоемкого и тяжелого, гангрена постепенно отступила.
У койки лейтенанта установили круглосуточное дежурство. Людей не хватало, но наши девушки жертвовали временем, отведенным им на отдых.
Общими усилиями борьба за жизнь и здоровье летчика была выиграна. Вскоре мы направили его в тыловой госпиталь долечиваться. Уже оттуда он нам присылал письма, благодарил. Приходили они затем и с фронта из истребительного авиационного полка, в котором воевал лейтенант после излечения.
К сожалению, раненые с газовой гангреной стали попадаться все чаще и чаще. Для них мы отвели отдельную палату, в которой проходили и подготовка к операции, и дальнейшее лечение. Мы старались делать все, чтобы свести к минимуму ампутации конечностей.
В октябре и ноябре 1942 года части нашей дивизии вели особенно напряженные бои. Противник, вводя новые подкрепления, пытался во что бы то ни стало овладеть городом. С каждой новой партией раненых до нас доходили горькие известия о гибели боевых друзей. С болью узнал я о том, что пал смертью храбрых бывший командир парашютно-десантной роты Иван Семенов, вместе с которым я воевал в Подмосковье. Вспомнился рейд по тылам врага, вспомнилось, что за необыкновенную удаль, за храбрость бойцы говорили о нем «наш Чапаев».
Погиб гвардии политрук Александр Козлов, мой товарищ по школе. Он, недолечившись, сбежал из медсанбата в свое подразделение.
— Как же я могу здесь лежать, когда там каждый человек на счету, — говорил Саша, просясь из медсанбата в строй. Его не пускали, пытались внушить, что рана была серьезной и надо долечиться — ничто не помогло…
Узнал я и о том, что оборвалась жизнь Михаила Шитова — комиссара 118-го гвардейского стрелкового полка, бывшего комсомольского вожака области, моего доброго товарища.
А те, кто оставались в боевом строю, храбро сдерживали врага, наносили ему огромный урон. Часто давали о себе знать мои сослуживцы — комбат Иван Гриппас и гвардии старший политрук Николай Коробочкин, другие гвардейцы.
Суровые испытания в огне Сталинграда еще больше сплотили коллектив медсанбата, побудили работать четче и согласованнее. Более грамотно стало проводиться послеоперационное лечение раненых. В совершенстве отработали мы способы переливания крови, приемы введения противошоковых и других физиологических растворов. Без малейших задержек эвакуировали раненых в госпитали. Оставалось только удивляться, откуда берутся силы у наших хирургов, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, которые нередко не отдыхали сутками.
С наступлением холодов прибавилось дел у санитаров. Так, противошоковую палатку отапливал у нас пожилой боец Кузнецов — из донских казаков. Трудился он день и ночь, а когда удавалось поспать, укладывался прямо возле печки, подкладывая под голову полено. Просыпался тотчас, если раздавался стон раненого или пора было подбрасывать в печку дрова. Так же самоотверженно работал и его товарищ Кашаф Миникаев. Он как-то особенно осторожно, даже нежно, снимал раненых с носилок и укладывал на операционный стол, умел аккуратно раздевать их, не причиняя боли.
Место расположения батальона, несмотря на некоторые опасения, оказалось вполне удачным. Тут редко бомбили и почти не обстреливали. Лишь однажды долго содрогалась земля от массированного артиллерийского огня, который противник 8 ноября 1942 года вел но объектам в нашем тылу, сразу за медсанбатом. Пострадали крайние палатки, но человеческих жертв не было. Надо сказать, что щели и укрытия для раненых мы оборудовали в первые же дни пребывания здесь. Я, правда, едва не попал под этот сильный огонь, возвращаясь из штаба дивизии, но все обошлось благополучно. Видимо, гитлеровцы неправильно определили координаты какого-то объекта и били по району, где ничего серьезного у наших войск не было.
Так и работали мы, забывая обо всем, кроме раненых. Кто бы мог подумать, что коллектив, состоявший в основном из молодых людей, не имевших должного опыта, столь быстро обретет свое лицо, сумеет четко выполнять свои задачи. А ведь возможности для этого были у медсанбатовцев далеко не одинаковыми. Одни работали быстро, другие заметно медленнее, одни ошибались редко, другие чаще, одни проявляли завидную самостоятельность, другие то и дело обращались за помощью к сослуживцам. Впрочем, молодежи свойственно быстро осваиваться в самых трудных делах.
Каждый из нас с тревогой ждал вестей с переднего края, волнуясь за своих однополчан, которые мужественно сражались с лютым врагом, численно намного превосходившим защитников города.
Не могу забыть, как привезли к нам начальника штаба 109-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитана Ивана Малькова. Ранение оказалось смертельным, мы ничем уже не могли помочь. Около суток Мальков вынужденно пролежал в медпункте полка и все пытался руководить боем. А в приемно-сортировочном отделении мы уже диагностировали конечную стадию перитонита…
Увидев меня, Мальков попросил подойти, проговорил с трудом:
— Миша, помоги мне поскорее вернуться в строй… Ведь там мои ребята, как же они без меня?..
В свои последние минуты он не просил спасти его ради того, чтобы просто жить, он спешил скорее возвратиться в огонь Сталинграда, туда, где жизнь каждого защитника города буквально постоянно висела на волоске…
В тот раз я невольно вспомнил Волховский фронт и разговор у командира бригады Омельченко, когда начальник штаба рекомендовал меня на должность начальника оперативного отделения… На эту должность и прибыл через некоторое время Иван Мальков — небольшого роста, красивый блондин, добрый и жизнерадостный. Тогда он был еще старшим лейтенантом. Потом возглавил штаб полка. И вот на моих глазах угасала жизнь этого храброго человека…
Впрочем, долго горевать в ту пору было некогда. Однажды мне пришлось трудиться без сна сутки и сделать тридцать сложных операций. Менялись смены, а я должен был оставаться у операционного стола, пока в палатку не заглянул Фатин и, увидев меня, не прогнал спать, да еще отчитал:
— Усталость — враг хирурга. У тебя невольно снижается качество работы.
— Пусть лучше медленно сделаю операцию, но сделаю, — возразил я, — чем ее не будет совсем. Вон сколько раненых! Врачи не справляются.
— Раненых и далее не меньше будет. Но если не будете работать посменно, то в один прекрасный момент все сразу выйдете из строя. Так что марш спать!
Казалось, я только прилег, а уже кто-то начал будить меня, требуя, чтобы проснулся и куда-то немедленно отправлялся. Куда? Зачем? Сон проходил медленно, я почти не владел собой. Но вот все же очнулся и спросил:
— Что случилось? Раненый? Тяжелый?
— Вставай, вставай, Миша…
Наконец я узнал голос — надо мной склонился Кириченко.
— Во время бомбежки на командном пункте завалило генерала Жолудева, — сообщил он, и сон сразу слетел, я вскочил на ноги, а Кириченко продолжал: — Поезжай на правый берег, возможно, потребуется помощь на месте. К счастью, жив. Если сочтешь необходимым, лично доставь в медсанбат.
Я поспешил к переправе. Там заканчивалась разгрузка раненых с речных судов. Слышались четкие команды, кто-то строго поторапливал санитаров. А новые, битком набитые ранеными бронекатера и большие лодки все подходили и подходили с противоположного берега. В Сталинград же все они возвращались полупустыми — везли боеприпасы, кое-какое имущество, продовольствие, а людей — буквально горстки. «Как и кем восполняют потери? — подумалось тогда с тревогой. — Неужели совсем уже нет людских резервов?»
Паром отправился. Изредка в небо взлетали ракеты, пускаемые гитлеровцами, и каждая такая вспышка сопровождалась минометным и пулеметным огнем.
Мы доплыли до острова, а оттуда перебежали на правый берег по штурмовому мостику, вокруг которого бурлила вода. Я направился на полковой медицинский пункт, где меня радостно встретил гвардии военврач 3 ранга Александр Воронцов, с которым вместе учился в мединституте.
— Все в порядке, — поспешил успокоить он. — У Жолудева имеются ушибы, некоторые, правда, со ссадинами и кровоизлияниями, но безопасны. Генерал, кроме того, немножко контужен, но держится бодро. Сейчас пьет чай в блиндаже начальника штаба и в тыл не собирается.
Комдив встретил меня приветливо. Встал, прошел по блиндажу, словно в доказательство того, что твердо держится на ногах, расспросил о делах медсанбата. Поинтересовался:
— Справляетесь? Раненых-то много.
— Справляемся, — ответил я и тут же прибавил: — Но, конечно, хотелось бы, чтобы их было меньше…
— Нам бы тоже этого хотелось, — сказал генерал, вздохнув, и с горечью заметил: — Как сам видишь, загнаны мы под берег, за двести — четыреста метров прибрежной земли держимся… — И твердо заключил: — Враг выдыхается. Это видно. Не тот уже фашист. Психические атаки давно прекратил. Теперь мы активизируем свои действия.
Он помолчал, потом продолжил:
— Пора тебе, доктор. Пока темно, легче переправиться. К чему зря рисковать? А за заботу спасибо!
На прощание генерал пожелал успехов в работе всему коллективу медсанбата.
Я вышел на берег. В городе все гудело и грохотало. Совсем близко стучал пулемет. Кто-то стрелял короткими очередями, видимо, прицельно. Я сел в лодку, полную ранеными. Саша Воронцов пожелал счастливого пути.
Переправились благополучно, всех раненых разместили в машине медсанбата, которая ждала на берегу, и через несколько десятков минут наши врачи уже оказывали им помощь.
Вскоре после ночного посещения Сталинграда мне довелось побывать в тыловом госпитале, который располагался неподалеку от штаба фронта. Там я воочию убедился, что не только людских резервов у нас достаточно. Увидел и много оружия, техники. Оставалось только загадкой, почему все это не используется в боях. Впрочем, я, как и каждый в то время, понимал, что все эти войска, танки, орудия предназначались для больших и важных дел. Чувствовалось, что приближались славные дни.
В середине ноября 37-я гвардейская стрелковая дивизия передала свою полосу обороны другому соединению и была выведена на левый берег Волги. В Сталинграде она оставила лишь сводный отряд во главе с командиром 118-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковником Н. Е. Колобовниковым. Через несколько дней и сводный отряд из-за больших потерь был выведен из боя. Оставшиеся в живых воины вынесли из огня храброго своего командира, тяжело раненного в последних схватках с гитлеровцами.
Оперировать Колобовникова поручили мне. Осмотрел его, определил, что ранение осколочное, с обширным повреждением мягких тканей и переломом бедренной кости.
Когда дело пошло на поправку, хотя лечиться ему предстояло еще довольно долго, Колобовников обратился к командиру дивизии с просьбой посодействовать отправке его в госпиталь воздушно-десантных войск. Генерал Жолудев пошел навстречу. Пришлось перед транспортировкой накладывать Колобовникову гипсовую повязку.
Впоследствии я узнал, что Колобовников не напрасно просился именно в тот госпиталь — после выздоровления он вернулся в свои родные воздушно-десантные войска.
Несмотря на то что дивизия официально была выведена на отдых, медсанбат продолжал принимать раненых из других соединений и частей — санитарный отдел 62-й армии решил полностью использовать наше выгодное положение на маршрутах приема и эвакуации раненых.
Много осталось в памяти от того периода, но один день запомнился особенно. Это было 20 ноября 1942 года. Личный состав дивизии подняли на рассвете. Объявили построение всего соединения.
Перед строем, необычно маленьким для дивизии, остановились гвардии генерал-майор В. Г. Жолудев, работники политотдела и штаба.
— Товарищи! — громко и взволнованно произнес генерал. — Митинг, посвященный началу контрнаступления наших войск, объявляю открытым!..
Настал час расплаты с немецко-фашистскими захватчиками. Контрнаступление началось вчера, 19 ноября, после мощной артиллерийской подготовки. Враг понес огромные потери, наши бойцы и командиры проявили высокие образцы доблести и мужества!..
Мы тоща еще не знали размахов нашего контрнаступления, не представляли себе, какие силы в нем участвовали, но новость обрадовала несказанно и над строем взлетело дружное «Ура!».
Пришло время, о котором мы мечтали в трудные дни и ночи обороны Сталинграда.
Во второй половине декабря медсанбат прекратил прием раненых. Поступило распоряжение готовиться к погрузке в эшелоны. Для лечения пациентов до самого дня отправки мы оставили развернутой лишь операционную палатку на хуторе Цыганская Заря. Там же размещался и штаб дивизии. В частях соединения остался небольшой, но хорошо проверенный и закаленный в боях костяк, который должен был стать основой для доукомплектования дивизии и восстановления ее боеспособности.
Глава пятая ВТОРОЙ ВОЕННЫЙ НОВЫЙ ГОД
И опять дорога. — Подводим итоги. — Сквозь большие снега. — В плену распутицы. — Чем кормить раненых? — ЧП в госпитальном взводе. — Не хватало только гангрены…
В самый последний день 1942 года, вместившись всего в один эшелон, дивизия отбыла из района Сталинграда. По латаному-перелатаному близ города железнодорожному пути поезд шел медленно, и я еще долго видел в вагонное окно истерзанные сталинградские курганы, распростершийся дым на правом берегу Волги, где продолжались бои с окруженной армией Паулюса. Эшелон сопровождала, медленно затухая с каждым километром, артиллерийская канонада.
Наконец состав, вырвавшись на не покореженную войной магистраль, набрал скорость, и перестук колес заглушил все остальные звуки. Потянулись заволжские степи, занесенные искрящимся в закатных лучах солнца снегом. Мы ехали тем же самым знакомым маршрутом, что и четыре с половиной месяца назад, только в обратном направлении. Тогда, в августе сорок второго, степь была покрыта выжженным солнцем желтым ковылем, теперь она, белоснежная, казалась еще более безбрежной, бесконечной.
Населенные пункты встречались редко, поезд останавливался лишь на разъездах, чтобы пропустить следовавшие к фронту встречные эшелоны с войсками и боевой техникой. На небольших полустанках жители предлагали продукты в обмен на чай, но мы, медики, для обмена ничего не имели.
Стемнело, но вскоре из-за туч показалась яркая луна и вся степь озарилась ее мертвенно-бледным светом. Подумалось: а ведь и луна, и снег, и метели, и солнце — все было и в минувшие дни, но ничего тогда мы этого не замечали, занятые постоянным и очень тяжелым делом, которое подчиняло себе все мысли, думы, ощущения. Словом обмолвиться друг с другом иной раз было некогда. А сейчас в вагоне никто не спал. Горели самодельные светильники, сделанные из снарядных гильз. Командир и начальник штаба медсанбата, примостившись у стола, что-то изучали. Врачи, кто лежа, кто сидя, обсуждали то, что больше осталось в памяти. Но, говорят, отъезжающий первую часть пути думает об оставленном на станции отправления, а вторую — о том, что ждет его впереди. Конечно, многие из нас хотели бы узнать, куда следует эшелон и где его конечная станция. Нам объявили лишь, что дивизия направлена на доукомплектование, велики, очень велики были потери в боях…
Наш 38-й отдельный гвардейский медсанбат, несмотря на то что не слишком пострадал, значительно обновился за счет перемещений персонала. Перед отправкой батальона на пополнений его командиром был назначен мой сокурсник по мединституту гвардии военврач 2 ранга Ю. К. Крыжчковский. С Юрой мы дружили со студенческих лет. Это был скромный, собранный, выдержанный, несколько застенчивый человек. Хороший, надежный товарищ.
Можно сказать, повезло нам и с заместителем командира батальона по политической части — гвардии капитаном Сергеем Неутолимовым. Он был несколько старше меня и моих сверстников, которых оказалось у нас большинство, но уже имел солидный опыт политической работы в воздушно-десантных войсках. Участвовал в боях под Спас-Деменском и Ельней. Принципиальность, твердость, сочетающиеся с доступностью и чуткостью, помогли ему в короткий срок освоиться в коллективе и преодолеть ту настороженность, с которой мы, врачи, встретили кадрового военного, совершенно не разбиравшегося в медицине.
Штаб медсанбата возглавил отважный десантник гвардии старший военфельдшер Константин Кротов.
Из вновь прибывших в батальон врачей я хорошо знал уже упоминавшегося выше Александра Воронцова. До поступления в мединститут Саша мечтал стать архитектором, а потом вдруг занялся врачеванием, хотя в душе остался художником. В институте мне приходилось видеть его работы. Картины он писал очень и очень неплохие. А вот особых склонностей к хирургии раньше в нем не замечал. И теперь, прибыв в батальон и получив назначение на должность ординатора операционно-перевязочного взвода, Воронцов очень тревожился. Сразу обратился за советом, высказал сомнение: сможет ли работать? Я обещал помогать.
Саша был высок ростом и несколько медлителен в движениях. Разговаривал тоже неторопливо, но в товарищеских спорах на медицинские темы преображался, становился энергичным. Говорил логично, конкретно. Я надеялся, что помогу Саше стать на ноги в профессиональном смысле.
С должности младшего врача одного из полков перешел к нам хирургом гвардии военврач 3 ранга Константин Кусков. В начале войны он окончил Семипалатинский медицинский институт. Я дважды видел его прежде на медпункте части и в медсанбате, когда он приезжал навестить кого-то из раненых, но знаком с ним не был. По службе в полку характеризовался положительно. Костя оказался человеком очень разговорчивым, прямым, однако его прямота не всегда дружила с аргументированностью.
Легко и быстро вошел в коллектив гвардии военврач 3 ранга Владимир Тарусинов, который, как и Неутолимов, был несколько старше тех, кому вузовские дипломы помогла получить быстрее война. В воздушно-десантной бригаде и в стрелковом полку он служил младшим врачом, приобрел опыт, смело брался за все новое, настойчиво повышал свою квалификацию.
Я считался уже старожилом медсанбата, и новички по-своему отмечали это — мой опыт казался им достойным всяческого подражания. Я, конечно, не разделял их мнения и разъяснял: просто условия поставили меня в такое положение, что мне довелось раньше других серьезно заняться хирургией. Естественно, приобрел кое-какие навыки, но ведь хирург учится всю жизнь, от первой и до последней своей операции. Советовал почаще обращаться к Афанасию Федоровичу Фатину, однако тот казался им недоступным и идти к нему они не хотели. А ведь Фатин имел не только солидную хирургическую практику в клинике, но и педагогические навыки, которые могли помочь передать другим знания и опыт. Занимался же он с молодыми специалистами до обидного мало. Это объяснялось его постоянной занятостью организационными вопросами, от которых уставал больше, чем от операций. Для себя Фатин сразу определил, кого из молодых хирургов можно выпускать в самостоятельное «плавание» с уверенностью, что тот «не утонет».
Мне Афанасий Федорович доверял довольно сложные и ответственные операции, а также консультации при трудно диагностируемых ранениях. Дал право принимать решения относительно объема оперативного вмешательства в том или ином случае. Доверие это окрыляло, но и накладывало особую ответственность, ибо от моих решений, от моих действий зависело самое главное, что есть у человека, — его жизнь.
В редкие минуты откровения мы вспоминали с Афанасием Федоровичем клинику профессора И. Г. Руфанова, где научились пунктуальности и скрупулезности в исследовании больного, в определении диагноза и проведении лечения.
С такими людьми предстояло мне работать и жить, разделяя тяготы фронтового быта, ответственность за жизнь раненых, все радости и печали военной судьбы.
А поезд все шел и шел на север, унося нас от той героической земли, которую обильно полили кровью наши боевые товарищи. За разговорами время летело незаметно.
На одном из полустанков в вагон ворвались девушки. Сначала в дверном проеме показалась Аня Горюнова, за ней прошмыгнули к нам ее сестра Таня, Маша Морозова, Лида Аносова…
— Вы все на свете проспите! — зашумели они. — Новый год на носу!
Фельдшер Трутнева скомандовала на правах старшей среди девушек:
— А ну, девчата, накрывайте на стол!
Новый год… Второй раз выпало мне встречать его в суровую военную пору. Прежде это был праздник радости, а теперь… Теперь это был праздник надежды, ибо каждый из нас надеялся, что именно в новом году свершится, наконец, полная победа над врагом. Агрессор, конечно, еще очень силен, он далеко забрался на территорию нашей Родины, но ведь и год-то велик! Может, все-таки успеем выгнать гитлеровцев за пределы страны? Так думали в конце сорок первого, когда били врага под Москвой, так думали и теперь, встречая сорок третий, радуясь грандиозной победе под Сталинградом. Ведь в новогодние дни уже каждому было ясно, что судьба армии Паулюса решена.
С теплой грустью смотрел я на девушек. Они, наверное, впервые встречали новогодний праздник вдали от дома, вдали от родителей. Но я не находил печали на лицах наших боевых подруг — молодость брала свое. Бодро, весело распоряжалась Трутнева, бойко помогали ей девчата.
Без четверти двенадцать собрались за столом. Присели кто на табуретках, кто на ящиках с имуществом.
Командир батальона предложил помянуть товарищей, которых потеряли на берегах Дона и Волги. А когда минутная стрелка показала полночь, пожелал всем скорой победы и каждому — дойти до Берлина!
Утром разбудил меня грохот встречного состава. Многие наши еще спали. Здорово все устали. Как ни крути, а ведь даже после окончания приема раненых дел на старом месте было по горло. Едва прекратили лечебную работу, как навалилась хозяйственная — надо было готовить, а затем и грузить в эшелоны имущество, технику. И вот первые сутки, когда никто никого никуда не торопил. Встали не спеша, позавтракали. Но на этом и закончилась наша тишь да гладь комбат решил заняться делом, подвести итоги работы в период боев в междуречье Дона и Волги и в Сталинграде. До сих пор на это просто не имелось времени. А поговорить было о чем, особенно потому, что вновь назначенные в батальон врачи хотя и участвовали во всех событиях, но служили на иных должностях и выполняли обязанности, значительно отличающиеся от наших.
О многом мы успели поговорить. К примеру, Владимир Тарусинов поинтересовался у меня, почему в Сталинграде было значительно больше осложнений, связанных с анаэробной инфекцией, с шоком, чем на Дону.
— В Донских степях случаев анаэробной инфекции вовсе не было, — ответил я, — да и шок встречался реже. — Пояснил, что все дело в быстроте доставки раненых в медсанбат. На Дону мы все отладили прекрасно, а в Сталинграде не удавалось это делать по независящим от нас причинам.
Да, было что рассказать. Пришлось медсанбатовцам встретиться и с тяжелым шоком, и с конечной стадией перитонита, и с газовой гангреной.
В Сталинграде мы продолжали совершенствовать схему развертывания функциональных подразделений медсанбата, отлаживать все звенья. Именно там окончательно вошло в норму создание на базе приемно-сортировочного взвода перевязочной на один-два стола, в которой оказывалась помощь легкораненым, и тем самым разгружалась большая операционная. До 15 процентов раненых мы обрабатывали таким образом, причем многие из них затем оставались на лечение в нашем госпитальном взводе. Команда выздоравливающих достигала иногда ста человек. Они охотно помогали по хозяйству, в уходе за ранеными, а главное, являлись хорошо подготовленным и обстрелянным резервом командира дивизии, ибо после выписки возвращались в свои части и подразделения.
Убедились мы и в том, что вполне приемлем режим работы операционной, установленный еще на Дону. Продолжительность смены достигала двенадцати часов, причем оперировали тоже две бригады. Увеличение числа бригад, как показала практика, успеха не приносило, а, напротив, замедляло оказание помощи раненым. Возникали неразбериха, скученность людей, что только мешало.
В приемно-сортировочном взводе и эвакуационном отделении имелось до двухсот — двухсот пятидесяти койкомест. Мы убедились, что этого вполне достаточно даже во время боев по прорыву долговременной обороны противника. Но это при условии хорошей организации работы операционных, перевязочных и планомерной эвакуации раненых в полевые армейские госпитали.
В зависимости от характера и продолжительности боевых действий госпитальный взвод готовил помещение на сорок семьдесят койкомест. В этом взводе лечили нетранспортабельных и оперированных раненых и больных. Как правило, госпитальный взвод размещался в зимнее время в добротных, хорошо утепленных блиндажах, а летом для него развертывались палатки.
Замечу, что подобная схема работы медсанбата сохранилась у нас вплоть до окончания войны и полностью оправдала себя. Обычно медсанбат развертывался в лесистой местности, и только один раз, когда вынудили обстоятельства, мы заняли сельские строения. Лишь однажды, во время боев на Курской дуге, нас усилили хирургами подвижного полевого госпиталя, а в период штурма города-крепости на Висле — Грауденца нам пришлось передать нетранспортабельных раненых и свои помещения полевому госпиталю. В остальное время мы всегда успешно обходились своими силами.
В совершенстве освоенный метод позволял как в летнее, так и в осеннее время через полтора-два часа после прибытия в указанное место начинать оперировать раненых. К исходу первых суток у нас в большинстве случаев были готовы землянки для своего личного состава и раненых госпитального взвода, а также в обязательном порядке — санпропускник.
Однажды на наревском плацдарме, где мы развернулась близ Пултуска, в медсанбате побывал представитель военно-санитарной службы фронта. Ему понравилась увиденная организация работы, и он отдал распоряжение изготовить макет местности, на котором показать схему развертывания нашего медсанбата. Этот макет был отправлен затем в Военно-медицинский музей.
В течение всего сорок второго и вплоть до середины сорок третьего года мы испытывали трудности с освещением. Пользовались самоделками — лампами из гильз артиллерийских снарядов. Порой даже приходилось использовать фары автомобилей. В городе Щорсе удалось достать трофейный движок для освещения операционной, а затем и 15-киловаттный дизель, мощности которого хватило для обеспечения всех подразделений медсанбата. Работать стало значительно легче, хотя до условий стационаров еще оставалось ох как далеко.
Однако вернемся в начало сорок третьего года, встреченного в пути. Вскоре после подведения итогов командира медсанбата вызвали к начальнику эшелона. Вернувшись, он сообщил, что дивизия направляется в город Балашов, где получит пополнение и после доукомплектования и обучения снова двинется на фронт.
Балашов встретил нас крепким морозом и туманной дымкой. Город показался мрачным, серым. И на него наложило свою печать суровое военное время. У детишек по мирному календарю были бы каникулы, но теперь не каждый мог даже в школу ходить. Тяжелое, холодное и голодное время. В городе — старики, дети, женщины и военные, много военных.
Нам рассказали, что в старину в Балашов, слывший городом невест, приезжали из Саратова купцы выбирать себе жен. Теперь, в январе сорок третьего, это воспринималось просто как легенда. Впрочем, на улицах нередко можно было встретить красивых женщин и девушек. Так что основание у легенды было…
Прием пополнения начался сразу же. Однажды, встретив начальника штаба дивизии гвардии майора И. К. Брушко, я разговорился с ним. Иван Кузьмич куда-то спешил, жаловался, что дел по горло, и смог уделить мне всего несколько минут. Он хвалил пополнение, сказал, что командиры прибыли хорошо подготовленные, многие с фронтовым опытом, под стать им и бойцы.
— Подучим их, сколотим подразделения, и дивизия будет снова боеспособной, — говорил Брушко. — Вы тоже время зря не теряйте, ведь состав батальона обновился…
— Уже занимаемся, — сообщил я. — Сколачиваем хирургические бригады, обучаем молодых врачей… В общем, без дела не сидим.
Поинтересовался, долго ли предстоит пробыть в тылу.
— Все объявим, — уклонился от прямого ответа Брушко.
И вот вскоре, после того как к нам пришла радостная весть о завершении разгрома гитлеровских войск под Сталинградом, в дивизию приехал командующий 65-й армией генерал П. И. Батов. С ним прибыл представитель Генерального штаба, чтобы вручить дивизии гвардейское Боевое Знамя и орден Красного Знамени, которым она была награждена за мужество, проявленное личным составом в боях на берегах Дона и Волги.
С гордостью смотрели мы, как наш богатырской стати, всегда подтянутый и безупречно одетый гвардии генерал-майор В. Г. Жолудев принял из рук представителя Генерального штаба Знамя, которое на снежном фоне казалось нам какого-то особенного, необычно ярко-красного цвета.
Затем мы дали клятву гвардейцев, повторяя за комдивом ее проникновенные и вдохновенные слова.
Тогда же объявили, что 37-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия включена в состав 65-й армии. Сроки на подготовку к отправке на фронт Павел Иванович Батов дал нам самые сжатые — вскоре на одном из совещаний в медсанбате Ю. К. Крыжчковский объявил, что уже в двадцатых числах февраля мы должны быть на передовой.
Всех интересовал участок фронта, на который направится соединение.
— Точно пока неизвестно, — ответил комбат, — но, видимо, воевать будем южнее Орла.
И подумал я тогда: «Что за судьба такая — все время намечаются действия близ родных мест, да никак я до них не доберусь…»
Время, проведенное в Балашове, не пропало для нас даром. Константин Кусков штудировал — и я старался помогать ему в этом — оперативную и военно-полевую хирургию. По его примеру частенько садился за книги и Александр Воронцов. Мы же с Владимиром Тарусиновым проводили занятия с фельдшерами и медсестрами, а в остававшееся свободное время работали в местном эвакогоспитале. Польза была обоюдной. Во-первых, мы помогали хирургам госпиталя, разгружали их, сколько были в состоянии. А во-вторых, учились у опытных старших товарищей делать трудные операции. Чаще нам доверяли вскрытие гнойных затеков ран, обработку остеомиелитически пораженных костей. Приходилось также выполнять множество длительных сложных перевязок, которые можно было доверять лишь опытным хирургам.
Эвакогоспиталь принимал раненых в основном из войск Воронежского фронта, но попадались и с соседних фронтов. Мы несколько раз встречали своих гвардейцев, получивших ранения еще в боях в излучине Дона и после выздоровления воевавших в составе других соединений.
Ведущий хирург госпиталя до войны был ассистентом хирургической клиники Саратовского медицинского института. К нашему добровольному труду он относился положительно, не раз благодарил за помощь. Вместе с ним мы делали обходы, оценивали качество первичной хирургической помощи, оказанной в медсанбатах, и все, как говорится, наматывали себе на ус. Да, это было хорошей учебой, позволяло строже взглянуть на свои действия. В госпитале отчетливо обнажались недоработки фронтовых хирургов, которые приводили к неоправданным осложнениям при лечении ран. Конечно, мы понимали, что не всегда, далеко не всегда повинны в том наши коллеги из медсанбатов, — обстановка складывалась по-разному, но тем не менее лишний раз убедились, что надо еще больше повышать ответственность каждого нашего товарища за работу в медсанбате.
13 февраля дивизию подняли по тревоге, и сразу началась погрузка в эшелоны. Маршрут движения нам не сообщили, однако скоро стало ясно, что путь лежит через Борисоглебск, Грязи к линии фронта.
Комендантом эшелона, в котором следовал медсанбат, был назначен Юрий Крыжчковский. Он быстро, но без суеты провел погрузку, четко организовал службу. Помогал ему начальник штаба батальона одессит Константин Кротов.
На исходе вторых суток мы прибыли в Елец и быстро разгрузились. Уже знали, что на железнодорожных станциях не следует находиться слишком долго — авиация противника всегда держит под прицелом такие объекты.
Собрав командиров, Крыжчковский объявил:
— Идем: на Ливны. Там назначен пункт сбора подразделений тыла дивизии. Автомашины и повозки используются под имущество. Личный состав следует в пешем порядке. Предупреждаю — марш предстоит нелегкий. В Ливнах быть через двое суток. Гулякина назначаю старшим группы, следующей пешим порядком.
Быстро загрузили машины и повозки. Они отправились в путь, а мы, построившись в колонну, вышли следом.
Нам уже было известно, что дивизия должна прибыть на участок фронта севернее Курска и с ходу вступить в бой. Планов командования мы, конечно, не знали, но понимали: торопят не зря. 65-я армия была включена в состав Центрального фронта и решала ответственную задачу. О создании Центрального фронта[1] на базе управления Донского нам объявили только что.
Итак, начался долгий и тяжелый марш. На окраине города личный состав получил комбинированный завтрак и обед, на путь следования выдали сухой паек.
Дороги в черте города и на окраине оказались хорошо наезженными, поэтому идти было легко, походный строй не ломался. Но вот город остался позади, скрылся из глаз, и перед нами оказались безбрежные снега. Кое-где виднелись перелески и рощицы. Овраги и лощины, заметенные снегом, словно стерлись с лица земли. Пейзаж был родным, он по-настоящему радовал глаз — ведь я вырос в таких краях.
Дорога становилась все уже и уже. Скоро нельзя было разъехаться даже двум автомобилям. Через определенные промежутки делались специальные пятачки-разъезды для пропуска встречного транспорта, ну а нам, шедшим в пешем строю, то и дело приходилось уступать дорогу. На запад торопились тягачи с орудиями, автоцистерны, грузовики с боеприпасами, продовольствием, другим имуществом — фронт жил и ждал.
Легко сказать — уступать дорогу. Стоило шагнуть в сторону — и мы оказывались по пояс в снегу. Запуржило, завьюжило в феврале сорок третьего в средней полосе России. Неистовые метели взбили огромные, чуть ли не в человеческий рост, перины сугробов. Вязли в них автомашины, тягачи, даже танки застревали. И через эти сугробы шли к фронту люди, шли днем и ночью, почти без привалов, ибо времени на отдых не было.
Хорошо идти в постоянном ритме, спорым, легким шагом по ровной дороге. Но и такой марш постепенно изматывает. А каково двигаться по снежному крошеву узкой полевой трассы, постоянно останавливаясь и сходя на обочину? И добро бы идти только молодым, здоровым парням, а чего стоил такой марш нашим девушкам, большей частью хрупким и не привыкшим к длительным переходам?
Я старался делать хотя бы небольшие привалы, но мест для них найти не всегда удавалось. А когда все-таки находили, то люди садились прямо в снег, грызли сухари, отдыхали и шли дальше. Сначала держались браво, храбрились, особенно девушки. Они шутили, даже мужчин подбадривали, подтрунивали над ними. Потом шутки поубавились, сил на них не осталось…
Пример показывали командиры. Гвардии капитан медицинской службы Константин Филимонович Быков, человек выносливый, сильный и настойчивый, единственный из всех нас не отправил свой вещевой мешок в автомашине. Шел вперед, как говорится, с полной выкладкой, и хоть бы что. На первых порах многие дивились (зачем, мол, это ему?), но скоро поняли, что он сознательно идет на все трудности, хочет, чтобы и подчиненные не отставали, не раскисали.
Стойко переносили марш Аня Киселева, Аня Горюнова и Маша Морозова. По-прежнему была весела, энергична Лида Аносова, а вот Раиса Дубшан и Татьяна Горюнова едва передвигали ноги. Сначала их подбадривали, а пот ой стали помогать, как могли, освобождая от самой необходимой ноши, а то и поддерживая под руки.
Вышли мы в первой половине дня, а к вечеру многие уже приуныли. Не слышал я привычных и сейчас особенно нужных шуток Александра Воронцова, Василия Мялковского, Лидии Аносовой. Неужели и у них силы иссякли?
Признаюсь, и мне было тяжко, но то, что назначили старшим, заставляло держаться. Помогали, конечно, и тренировки в период службы в воздушно-десантных войсках. Сколько километров пришлось прошагать тогда в тренировочных походах и непосредственно в боях, совершая рейды по тылам врага!
Я шел и думал, где же устроить ночной отдых. Встречались деревушки, а точнее, то, что от них осталось. Торчали закопченные печные трубы, над пепелищами понуро склонялись обуглившиеся деревья. Но вот наконец на полпути от Ельца до Ливен попалась нам деревня Черново.
Остановил колонну, сказал, что здесь будет ночной отдых. Девушки сразу побежали в ближайший дом. К счастью, он оказался не занятым, а хозяйка была хлебосольной и гостеприимной. Вместе с дочерьми она занялась размещением наших девушек, обещала покормить их вареной картошкой и напоить горячим чаем.
Мужчины отправились искать ночлег в других домах.
Ночь пролетела в одно мгновение. Едва рассвело, я объявил построение. Батальон собрался быстро, хотя видно было, как не хотелось многим расставаться с домашним теплом, от которого уже успели отвыкнуть.
Остаток пути до Ливен занял еще день, и мало чем он отличался от того, что довелось испытать накануне. Идти стало еще труднее. Во-первых, потому, что сказывалась вчерашняя усталость, а во-вторых, техники попадалось на пути еще больше и она то и дело оттесняла нас в сугробы.
Ливны! Как близки мне эти места! Помню, еще дедушка рассказывал о том, как в молодые свои годы ездил на ярмарки в Новосиль и Ливны. Не так далеко отсюда и мое Акинтьево, где сейчас остались только мама и сестра. Как они там? Мама едва пережила гибель Анатолия, а теперь еще два сына на фронте, да и третий, Саша, вот-вот пойдет бить фашистов.
Вспомнив письма, полученные от Саши в Сталинграде, я подумал, что хорошо бы свела нас военная судьба на фронтовых дорогах, только, конечно, не так, как часто сводила она врачей с друзьями, — не на операционном столе. В последнем письме Саша сообщал, что принят кандидатом в члены партии и будет делать все, чтобы оправдать высокое звание коммуниста. Алексей писал реже, объясняя это тем, что его часть почти не выходит из боя и постоянно в движении с одного участка фронта на другой. Отец, как и раньше, служил во внутренних войсках. Письма его были бодрыми, но в каждом он не забывал напоминать о том, что на фронте следует избегать необоснованного риска. Нет, не прятаться, а именно не лезть на рожон, когда этого не требуется для дела. Изредка писали товарищи по учебе в Москве.
Особенно приятно было получить весточку от Зои. Она прислала свои стихи, проникнутые верой в победу и в нашу скорую встречу.
В Ливнах долго не задержались. 24 февраля нам указали новый маршрут движения и конечный пункт. Изнуренные пешим переходом, мы с радостью узнали, что за нами прибыл медсанбатовокий транспорт, присланный Крыжчковским, который уже находился на станции Золотухино. Дальше предстояло ехать на автомашинах.
В Ливнах я узнал о том, что генерал Жолудев перенес на ногах острый приступ аппендицита и у него образовался аппендикулярный инфильтрат, возникли противопоказания к операции. Командир дивизии, зная, какие сложные задачи стоят перед соединением, не хотел покидать его ни на один день. И вот болезнь выбила Виктора Григорьевича из колеи, заставила слечь в Ливнах. Командование дивизией было временно возложено на начальника штаба И. К. Брушко, которому вскоре присвоили звание гвардии подполковника. В качестве лечащего врача Жолудева в Ливнах остался А. Ф. Фатин с операционной сестрой. Его обязанности командир медсанбата возложил на меня. Так под моим началом оказалась тогда вся хирургическая служба нашего подразделения.
Дела у Фатина принял быстро, и уже в 8 утра 24 февраля батальон двинулся на юго-запад, к станции Золотухино. Там мы должны были пересечь Московско-Курскую железнодорожную магистраль и далее двигаться на Фатеж, Дмитриев-Льговский, Михайловский.
Снова путь лежал среди огромных сугробов, машины с трудом пробирались по снежной колее. На фронт по-прежнему шло много самых различных колонн, но темпы движения крайне замедлились. Теперь уже мы вынуждены были теснить на обочину пешие подразделения, и, глядя с сожалением на падающих в сугробы пехотинцев, я вспоминал свой тяжелый переход.
Погода, как назло, установилась ясная, ярко светило солнце, и снег искрился в его лучах. Красота, если бы не опасность воздушного нападения. Вражеская авиация несколько раз бомбила колонны на тесной дороге, но, к счастью, потери были незначительными: за весь день на нашем маршруте получили ранения несколько бойцов да вышли из строя два орудия.
С наступлением темноты движение еще больше замедлилось. Ехали с частыми остановками. Я стал подремывать — сказывались усталость и недосыпание в течение многих суток. Очнулся от резкого толчка. Шофер Федор Броновицкий ворчал:
— Ну куда он лезет, куда лезет?!
Что такое? — спросил я.
— Да чуть со встречной машиной не столкнулись!
Разъехались с большим трудом. Потихоньку двинулись дальше. Сон у меня как рукой сняло. Стал внимательно смотреть вперед, на дорогу.
Вскоре в поле зрения попало минометное подразделение. Бойцы сошли на обочину, пропуская нас. Командир что-то говорил им. Я взглянул на него и опешил — уж больно знакомой показалась фигура… «Неужели Александр?! Да может ли это быть? — думал я и продолжал сидеть в растерянности. — Хотя ведь, судя по письмам, он уже на фронте, да, да — и… минометчик!»
Распахнул дверцу машины и посмотрел назад, но ничего уже разобрать было нельзя.
Федор заметил, спросил:
— Что случилось, товарищ военврач? Знакомого встретили? Может, машину остановить?
— Да нет, Федя, я, наверное, обознался… Показалось, будто брат…
— Остановлюсь!
— Нельзя, пробку устроим, движение задержим.
Я уже не мог скрыть волнения и рассказал нашему доброму и мужественному водителю, что брат на фронте, что он минометчик…
— Всякое бывает, — сказал Федор. — Тесен свет…
Потом мы долго ехали молча, думая каждый о своем.
Федор вопросов больше не задавал, понимая мое состояние. А я и осуждал, и тут же оправдывал себя. Осуждал за то, что сразу не велел остановить машину, как только увидел командира минометчиков. А оправдывал, потому что останавливаться без очевидных уважительных причин было нельзя — поток автотранспорта практически слился в одно целое.
На станцию Золотухино прибыли около полуночи. Встретивший колонну медсанбата офицер штаба дивизии указал нам дальнейший маршрут и место расположения на ночь.
— Все уцелевшие дома уже заняты, — сообщил он. — Вот только пристанционные постройки остались… Всем там не поместиться, но хоть по очереди будете согреваться.
Я поблагодарил и заглянул в помещение. Оно оказалось хорошо протопленным, обогревалось печками-времянками. Заметил следы недавнего пребывания здесь какого-то подразделения. На мой вопрос представитель штаба ответил:
— Тыловики останавливались. Ушли дальше, а я, зная о прибытии медсанбата, приказал поддерживать тепло. Все же у вас девчата…
— Спасибо, — сказал я. — Здесь мы их и разместим, а сами что-нибудь придумаем. Не пропадем…
Затем я выяснил, где находятся подразделения медсанбата, прибывшие сюда раньше нас на машинах, и стал устраивать людей на ночлег.
Утром командира батальона вызвал начальник тыла дивизии. Вернувшись, Крыжчковский показал мне рабочую карту:
— Части дивизии уже вступили в бой. Наверняка есть раненые. Будем спешить.
За Фатежом дороги стали совершенно непроходимыми, все чаще встречались застрявшие и уже полузаметенные снегом автомобили. Одна за другой останавливались и наши потрепанные машины ГАЗ-АА. Что было делать? Как оказывать помощь раненым, которых по указанию дивизионного врача концентрировали впереди на маршруте нашего движения?
Крыжчковский собрал на совещание командиров подразделений. Все пришли к единому мнению — надо выслать по маршруту передовой отряд. Но на чем? Автомобили на занесенных снегом разбитых дорогах не внушали доверия, к тому же они нуждались в тщательном осмотре, да и в ремонте. Командир батальона обратился за помощью к гвардии подполковнику Брушко, исполнявшему обязанности командира дивизии. Тот приказал выделить в наше распоряжение две санные повозки для транспортировки перевязочного материала и хирургического инструментария. Конечно, этого было мало, но в дивизии ощущался острый недостаток гужевого транспорта, цена которого в создавшейся обстановке заметно возросла. Сапные повозки срочно понадобились не только нам, но и всем остальным службам — боеприпасы и продовольствие подвозились сейчас тоже на них.
В селе, где мы перегружали имущество с машин на сани, нам помогли местные жители. Ко мне подошел пожилой мужчина в потрепанном зипуне и шапке набекрень.
— Товарищ командир, — сказал он, — тут у нас один полицай утек… Лошадки у него остались… Это вон в том дворе, я провожу.
Я направил с ним Александра Воронцова и Ивана Голубцова. Вскоре они действительно привели двух лошадей — одну в упряжке, а вторую лишь с уздечкой.
— Жаль, упряжка только одна, — посетовал Воронцов.
Я осмотрел лошадей и сказал:
— А вторая нам и не понадобится, вон как истощена…
Оказалось, что, отходя, немцы забрали у полицая хороших лошадей и оставили ему ненужных.
И все же нам удалось нагрузить третьи сани, что было очень кстати.
Передовой отряд двинулся в путь. Пришлось нам снова изрядно трудиться, подталкивая тяжело нагруженные сани, — лошади сами не могли протащить их через снежные заносы.
Первые сутки такого марша выдержали стойко, тем более что у многих еще оставались сухари, сахар. Когда стемнело, решили остановиться на привал возле сожженной деревни. Отдых, конечно, нужен был всем, но сделали его исключительно ради лошадей — люди рвались вперед, зная, что ждут раненые. А лошади настолько выбились из сил, что понукать их было совершенно бесполезно.
На пепелище расположились и некоторые тыловые подразделения. Бойцы, используя оставшиеся русские печи, кипятили воду, варили, кто что мог.
Александр Воронцов раздобыл буханку хлеба, выпеченного полевой пекарней. Она уже замерзла, и мы с трудом распилили ее сначала на две части, бóльшую отдали девушкам, а потом уж остатки поделили между собой. Получилось нечто вроде ужина. Естественно, покормили и лошадей из своего скудного запаса сена.
Отдохнув и кое-как подкрепившись, снова двинулись в путь. Надо было найти населенный пункт, где полки концентрировали раненых. Впереди, в полосе дивизии, уже двое суток шли бои.
Наконец достигли небольшого хутора. Строения в нем оказались до отказа забитыми ранеными: около шестидесяти бойцов и командиров ожидали нашей помощи.
Выяснилось, что раненых доставили сюда не так давно и опекал их специально оставленный одним из полков врач, которому помогал санинструктор.
Выбрав наиболее просторный и чистый дом, мы развернули перевязочно-операционную на два стола и немедленно приступили к работе. Спешили управиться как можно быстрее, ибо уже поступили сведения о том, что пункт основного сбора раненых находился отсюда в восьми-десяти километрах. Туда нам надо было прибыть на следующий день к утру, чтобы сразу приступить к оказанию помощи раненым.
За несколько минут преобразилась горница крестьянского дома. Наши девушки вычистили ее, выскоблили полы, завесили стены простынями. Началась сортировка. Ранения были в основном пулевые и мелкоосколочные — от гранат и малокалиберных мин. Чувствовалось, что на этом участке фронта у противника нет пока мощных артиллерийских систем.
К 9 часам утра б марта мы обработали всех раненых. И тут выяснилось, что эвакуировать их некуда — полевые подвижные госпитали еще не развернулись, они, по всем нашим расчетам, только-только прибывали в указанные им районы. Куда же девать раненых? Я принял решение взять их с собой. Да, не эвакуировать в тыл, как это полагалось, а везти на санях ближе к линии фронта. С транспортом снова помог И. К. Брушко, выделив медсанбату из полков 12 санных упряжек.
Следующим пунктом нашего размещения была намечена деревня Клещели. Сразу направил в полки посыльных, чтобы те сообщили старшим врачам, куда направлять раненых.
В деревню Клещели выехали утром. Впереди шли бои, дивизия продвигалась в направлении Дмитровск-Орловского. Раненые рассказывали об успешных действиях кавалерийского корпуса и стрелковой бригады на левом фланге армии.
— Теперь и наши быстро пойдут вперед, — говорили они.
В Клещелях долгой задержки не предполагалось. Медсанбату уже был определен пункт развертывания — большое, почти не пострадавшее от оккупантов село Бычки. Перед самым отъездом туда пришло распоряжение остаться нам с Константином Кусковым в Клещелях, чтобы обеспечить оказание помощи тем раненым, которых будут направлять с передовой, — не сразу дойдет в части сообщение о новом перемещении медсанбата.
Нелегкими оказались для нас те дни. Раненых поступало много, медикаментов не хватало, поскольку снабжение войск еще не наладилось из-за снежных заносов. Особенно страдали мы от недостатка перевязочных материалов, дезинфицирующих средств и антисептиков. Иммобилизацию огнестрельных переломов конечностей проводить было совсем печем. Выход, конечно, искали: использовали шипы транспортной иммобилизации, внешнефиксирующие приспособления, применяли крахмал, но все это было эффективно лишь на короткое время. К сожалению, ближайшие районные центры, в больницах которых мог оказаться гипс, находились еще в руках противника. Поэтому не нашей виной, а, скорее, бедой было то, что лечение раненых, прежде всего с переломами костей, не достигало нужного результата. Не всегда мы могли в столь трудной обстановке добиться анатомически правильного сопоставления и срастания костных отломков, а потому не удавалось избежать определенных осложнений.
На четвертый день мы с Константином Кусковым и своими помощницами догнали медсанбат. Он уже развернулся в Бычках, в здании школы. Оказалось, что недавно там располагался полковой медицинский пункт. Но вот полковые медики ушли вперед и мы стали полновластными хозяевами хорошего помещения. В таких условиях еще не приходилось работать на фронте.
Но если с размещением мы, как говорится, увидели свет, то снабжение оставалось неважным. Выручали местные жители, которые делились с нами всем, что имели, а когда становилось особенно трудно, отдавали раненым последний кусок хлеба.
Раненых мы продолжали лечить на месте, так как госпитали задерживались на заснеженных дорогах и долго не развертывались. В медсанбате сосредоточилось около четырехсот раненых, и они продолжали поступать.
С каждым днем ухудшалось питание. Железнодорожные пути только восстанавливались, подвоз осуществлялся плохо. Ресурсы местного населения невелики — картофель, да кое у кого молоко и хлеб, вот и все. Ограниченными оказались и государственные поставки в этих разграбленных врагом районах.
В те же дни к нам в медсанбат был доставлен водитель с тяжелым отморожением стоп. Его автомобиль застрял неподалеку от села Бычки. Пострадавшему немедленно оказали помощь, но ему требовалось длительное лечение в стационаре. Машину мы вытащили и пригнали к штабу медсанбата. В кузове ее увидели продукты — по сто килограммов масла, сахара и двести килограммов печенья. Поинтересовались у водителя, куда он вез продовольствие. Выяснилось, что в танковую бригаду, которая ушла далеко вперед и находилась теперь неизвестно где.
Командир батальона обратился с просьбой в штаб дивизии разрешить оприходовать груз, и там дали «добро». В итоге наши раненые получили хотя и небольшое, но все же дополнение к своему питанию.
Водитель же совершенно неожиданно стал противиться госпитализации и убеждать, что он обязан прибыть в свою часть, даже если будет угроза серьезного осложнение болезни. Он рвался к машине, хотел ехать разыскивать свою бригаду. Только после того как мы узнали, что она уже вышла из состава фронта и переброшена на другой участок, он успокоился. К тому же ноги у него разболелись не на шутку, распухли, и нельзя было надеть обувь.
Лишь через месяц он смог сесть за руль автомобиля. К этому времени было уже оформлено решение оставить водителя вместе с машиной для прохождения службы в медсанбате, и он в дальнейшем честно и добросовестно выполнял свои обязанности. Причем мастерство этого красноармейца было столь высоко, что его автомобиль при перевозке раненых считался самым «мягким».
В конце марта, когда под теплыми лучами солнца начали таять огромные залежи снега, вернулся в дивизию после лечения гвардии генерал-майор В. Г. Жолудев. Бойцы и командиры с радостью узнали об этом, везде встречали комдива тепло, приветливо, радушно.
Вместе с Жолудевым вернулся в дивизию и ведущий хирург медсанбата А. Ф. Фатин. Правда, в дороге он сильно простудился и едва держался на ногах. Я предложил ему сразу лечь, но он решил прежде выслушать мой доклад о работе хирургической службы в его отсутствие и о задачах, стоявших перед нами.
Эвакуация раненых в тот период еще не была налажена, и поэтому медсанбат был буквально забит ими. Лечение проводилось на месте, и работы всем прибавилось, в том числе и хирургам. Зачастую им приходилось делать операции, которые обычно выполнялись уже в госпиталях. Да и перевязок стало гораздо больше, причем перевязок очень сложных, которые могли выполнять лишь хирурги. И все-таки с приближением весеннего тепла у нас появилась надежда хоть чуть-чуть вздохнуть после трудной зимы. Считали, что самое страшное позади, и никто не подозревал, какие испытания ждут нас в ближайшее время…
Распутица парализовала все. Замолчали ввиду сокращения подвоза снарядов пушки, и казалось, теперь нам, медикам, долго не будет работы. Но не тут-то было. Едва спало напряжение боев, едва прекратились потоки раненых, как на дивизию навалились гриппозные заболевания, о которых и думать-то забыли. В течение марта ежедневно в медсанбат поступало по нескольку десятков больных. Терапевты с ног сбились, пришлось хирургам и всем врачам других специальностей помогать им. Госпитальный взвод моментально был забит больными. Он размещался в селе Дерюгине, где сохранилось здание больницы. Неподалеку от села находился сахарный завод, в котором уцелело несколько довольно просторных и удобных для размещения больных зданий. Их тоже вынуждены были занять.
Болезнь выводила из строя и медиков, поэтому вскоре перед командиром батальона остро встал вопрос: где взять дополнительные силы для ухода за пациентами? Оголять операционно-перевязочный взвод было нельзя, он ведь лечил на месте несколько сот раненых. Да и затишье на фронте — дело относительное. Нет гарантии, что вот-вот не грянет бой. Чтобы найти выход из положения, Крыжчковский собрал совещание командиров подразделений. На нем спросил:
— Кто может, не ослабляя свое подразделение, выделить людей для ухода за больными?
Каждый хотел помочь, но не все предложения были приемлемы. И тогда мне в голову пришла мысль, которую поспешил тут же и высказать. Напомнил командиру, в сколь сложной обстановке оказался я в Клещелях, когда раненых было много, а помощников — раз-два и обчелся.
— Да, да, вы докладывали, — кивнул Крыжчковский. — Что же сейчас хотите предложить?
— Обратиться к местному населению… В Клещелях женщины ухаживали за ранеными, даже кормили их. Думаю, и в Дерюгине можно найти добровольных помощниц.
— Дело хорошее, — оживился командир. — Вот вы и посодействуете командиру госпитального взвода в организации работы.
— Да я и сам справлюсь, — заверил Быков.
Однако в Дерюгино меня все-таки послали. Госпитальный взвод там был размещён не случайно. Ведь прежде на излечении в нем находилось определенное количество больных, среди которых встречались и инфекционные. Вот и старались держать их подальше от основных подразделений медсанбата.
Приехав в Дерюгино, я обошел несколько домов, поговорил с жителями. Особенно живо откликнулась молодежь. Девушки вызвались ухаживать за ранеными, стирать белье, дезинфицировать обмундирование в русских печах.
В батальон я возвратился в тот же вечер. И тут узнал, что Фатин все-таки слег, а в дивизию как раз прибыл начальник военно-санитарного управления фронта генерал-лейтенант медицинской службы А. Я. Барабанов.
— Придется тебе, Миша, представлять нашу хирургическую службу, — сказал Крыжчковский, который, когда мы оставались наедине, всегда обращался ко мне на «ты».
— Что интересует начальство? — спросил я. — К чему быть готовым?
— Военно-санитарное управление фронта обеспокоено большим количеством больных. Скорее всего, Барабанов займется терапевтами, посетит, безусловно, госпитальный взвод. Но и хирургам надо быть наготове.
— Где он сейчас?
— Ездит по частям…
Генерал Барабанов в медсанбат приехал уже под вечер. Был он чем-то недоволен, неразговорчив, помещения осматривал придирчиво, делал много замечаний, требуя, чтобы их записывали.
В ординаторской операционно-перевязочного взвода задержался дольше, чем в других комнатах. Поинтересовался характером ранений в минувшие месяцы, попросил рассказать о методах обработки ран.
Я старался отвечать как можно подробнее и полнее. Барабанов сначала слушал, потом отвлекся и, перебив меня на полуслове, с раздражением спросил:
— Где же, наконец, дивизионный врач?
Я удивленно посмотрел на генерала, но тут ответил комбат:
— Вчера Кунцевич выехал в полки для проверки работы медицинских пунктов…
— Нет его там, — отрезал генерал и добавил довольно резко: — Нет и, судя по всему, давно не было.
— Тогда разрешите послать за ним? — спросил Крыжчковский.
— Побыстрее посылайте, — приказал Барабанов.
— Сходите, Гулякин, — велел мне Крыжчковский.
М. А. Кунцевич всего несколько месяцев назад был назначен дивизионным врачом. Жил он неподалеку. Я едва разбудил его. Не сразу он понял, что говорил я ему.
— Что? Кто ждет? — спрашивал Кунцевич. — Генерал?
Мгновенно оделся, сказав, что только вернулся из поездки но частям и страшно устал.
В ординаторскую он вошел первым. Генерал начал с нагоняя:
— Я сегодня объездил все медицинские подразделения, вплоть до батальонных медпунктов. Много беспорядков. Вы руководите подчиненными или нет?
— Все у нас в порядке, — попытался возразить дивизионный врач.
— А простудные заболевания? Это что, нормальное явление?
Кунцевич не нашел ничего в свое оправдание и напомнил, что он не имеет опыта руководства, до войны был старшим преподавателем кафедры биохимии Военно-медицинской академии…
— Нечего ссылаться на отсутствие опыта, — сказал генерал. — Я тоже служил в академии. Так вы способны справиться со своими задачами?
— Нет, — едва слышно ответил Кунцевич.
— Хорошо. Я поставлю вопрос об отстранении вас от занимаемой должности и возвращении на преподавательскую работу, но пока требую: наведите порядок! Если нужно, обращайтесь, поможем… У меня все.
Барабанов встал из-за стола.
— Товарищ генерал, ужин готов, — сказал Крыжчковский. — Останетесь поужинать?
— Спасибо, мне некогда, — отрубил Барабанов и, попрощавшись, вышел. Через минуту его «виллис» отъехал от здания школы.
В ординаторской долго было тихо. Кунцевич не скрывал своих переживаний. Конечно, не совсем удобно было получать нагоняй на глазах у подчиненных, но он, видно, еще не осознал, что является нашим начальником, и остался в душе преподавателем — мягким, умеющим в спокойной форме объяснять материал, обладающим чувством юмора, но не научившимся повелевать и требовать.
Успокоившись, Кунцевич приказал составить списки всего, что необходимо батальону, а потом как бы подвел итог:
— С простудными заболеваниями надо, безусловно, кончать. В этом генерал прав!
Мы бросили на борьбу с эпидемией все силы, но она поддавалась медленно. Мне пришлось, как и многим нашим врачам, несколько раз побывать в Дерюгине в целях оказания практической помощи госпитальному взводу. Однажды я отправился туда, чтобы осмотреть прооперированного тяжелораненого офицера и навестить бывшего своего сослуживца врача Бориса Губчевского. Этот поход запомнился особо…
Раненый лежал в помещении заводоуправления, в небольшом двухэтажном здании. Туда я и направился в первую очередь. Когда оставалось до него около сотни метров, услышал выстрелы. Звякнув, вылетели стекла на первом этаже. Я побежал вперед, толкнул дверь и оказался в коридорчике, который заполнили раненые.
Попытался выяснить, что случилось. Мне молча указали на одну из палат. Заглянул туда и увидел лежащую на полу Таню Горюнову. Возле окна боролись двое. Борис Губчевский — его я узнал сразу — пытался удержать бившегося в сильном возбуждении того самого тяжелораненого офицера.
— Да помогите же! — кричал Борис. — Надо успокоить его!
В палату вбежали санитары и уложили раненого на койку, я же склонился над Татьяной.
— Я жива? — спросила она, приоткрыв глаза, и тут же пояснила, указав на офицера: — Он стрелял в меня.
Оказалось, что тяжелораненый неожиданно в бреду стал подавать какие-то строевые команды, кричал, что его атакуют гитлеровцы, а потом выхватил пистолет и стал стрелять. К счастью, в таком состоянии он не мог прицелиться. Первой вбежала в палату Таня Горюнова. Офицер выстрелил в ее сторону, и она упала, потеряв с испугу сознание.
Пистолет отобрал подоспевший Борис Губчевский, который лежал в другой палате.
Меня удивило, каким образом у раненого оказалось оружие. Позднее выяснилось, что пистолет принес офицеру кто-то из его бойцов. Он сунул под подушку командирскую сумку, в которой и находилось оружие. Пистолет был в разобранном виде, но раненому не составляло труда собрать его — за время службы движения пальцев рук были доведены до автоматизма.
Хорошо, что не случилось беды.
На следующий день командир медсанбата собрал нас на совещание и еще раз напомнил о правилах внутреннего распорядка, и прежде всего о хранении оружия.
— Вы знаете, в каком состоянии поступают к нам люди. Иные в шоке, а иные чрезмерно возбуждены. Разве можно допускать подобную бесконтрольность? Потрудитесь интересоваться, что приносят раненым их сослуживцы.
16 марта утром в медсанбат доставили сразу двенадцать раненых. Я был удивлен — ведь давно уже было тихо на передовой.
— В разведку ходили, — сообщил санинструктор, который сопровождал группу. — Троих вот пришлось с нейтралки выносить. Состояние тяжелое. Долго пролежали. Помощь всем оказана, насколько было возможно.
Бригады приемно-сортировочного взвода приступили к работе. Я же решил осмотреть тех троих, что пролежали на нейтральной полосе.
Первым на стол положили гвардии рядового Машукова. Далеко не каждого из своих пациентов удалось мне запомнить по фамилии, но этот врезался в память особо.
— Сквозное пулевое ранение левого плеча с обширным повреждением мягких тканей и плечевой кости, — прочитал Василий Мялковский в карточке, с которой прибыл солдат. Но я уже заметил более серьезные симптомы. У раненого был значительный отек плеча. Бронзовый оттенок кожи, которая как бы лоснилась, говорил о том, что налицо анаэробная инфекция.
Я отвел в сторонку находившегося в операционной Воронцова и сказал:
— Этому нужна срочная операция. Началась гангрена. Займись остальными ранеными.
Подошел Константин Кусков, поинтересовался:
— Что ты будешь делать?
Я пояснил. Кусков слушал внимательно. Ему еще не доводилось встречаться с подобными случаями. И вдруг он попросил:
— А можно мне попробовать? Надо же когда-то начинать и такие сложные операции?
Я задумался. С одной стороны, в данный момент не было необходимости поручать молодому хирургу такую операцию, ведь свободными оставались и более опытные. С другой стороны, учить-то молодежь нужно, а обстановка для учебы именно потому, что нет большого потока раненых, самая благоприятная — можно всегда подсказать, прийти на помощь. К тому же Кусков не так уж и неопытен.
Подумал я и о том, что уже через некоторое время, когда начнутся боевые действия, Кусков может оказаться в обстановке, при которой ему придется оперировать без помощи и без подсказки, возглавлять хирургическую бригаду. И я согласился, но потребовал, чтобы он рассказал мне порядок проведения операции. Только после этого допустил к работе, сам стал его ассистентом.
Начал Костя уверенно, и вмешиваться мне не приходилось. Но в самый напряженный и ответственный момент, когда все зависело от аккуратности и четкости движений, скальпель, неловко зажатый в руке, скользнул в сторону. Он мог перерезать у раненого артерию, и я почти автоматически подставил свой палец. Брызнула кровь. Кусков отпрянул от стола и замер. Было слышно, как глухо стукнул об пол выпавший из его руки скальпель.
Я быстро снял перчатку, попросил обработать рану раствором сулемы и спиртом с йодом. Затем, снова надев перчатку, велел Косте продолжать работать. Однако он никак не мог выйти из оцепенения, и в таком состоянии доверять ему операцию было просто нельзя.
— Будешь мне ассистировать, — сказал я ему и сам взялся за скальпель.
После операции я попросил ввести мне дозу поливалентной противогангренозной сыворотки. Однако уже через полтора часа в ране появилась острая боль. Было ощущение, будто что-то распирает кисть. Начался отек.
Меня уложили в небольшую комнатку возле малой операционной. Маша Морозова принесла термометр. Температура упорно повышалась. «Спокойно, только спокойно, — говорил я себе. — Надо решить, какой метод лечения избрать, чтобы спасти руку». Попросил ввести дополнительную лечебную дозу противогангренозной сыворотки, постоянно держать пузырь со льдом на предплечье и принял сульфидин. Но и это не помогло. К вечеру отек распространился и стал подбираться к верхней трети предплечья. Боль усилилась. Температура поднялась до тридцати девяти градусов.
У койки, на которой я лежал, находились, сменяя друг друга, мои товарищи — хирурги. Маша Морозова сидела бессменно.
Жар продолжал усиливаться, перед глазами поплыли красные круги.
— Вот что, ребята, — сказал я, когда у койки собрались Быков, Кусков и Воронцов, — сами знаете, что может случиться дальше… Могу потерять сознание… Если отек перейдет на плечо, немедленно проводите ампутацию.
— Как — ампутацию?! — воскликнул Костя Кусков.
— Думаю, знаете как, — невесело усмехнулся я. — Ампутируйте руку на границе здоровых тканей.
— Может, попробуем пока что разрез кожи с фасциотомией? — предложил Быков.
— Рано, — возразил я, подумав. — Газа в мягких тканях предплечья пока не ощущается, ведь травмы с размозжением мягких тканей у меня не было… Я предупредил вас на крайний случай. Надеюсь, все еще обойдется. Немного подождем.
От меня не укрылась растерянность товарищей. Особенно переживал Кусков, который, видно, считал себя главным виновником происшествия. Я же его не обвинял, понимая, что произошла случайность, непредвиденная случайность.
Пришел Юрий Крыжчковский. Он только что вернулся из штаба дивизии и, узнав о случившемся, бросил все дела.
— Ну что вы здесь толчетесь? — набросился он на ординаторов. — Пусть Миша отдыхает. Если нужно, Маша Морозова позовет.
Я попытался уснуть, но сон не шел — боль становилась все острее. Да и товарищи не оставляли меня — дверь из малой операционной поминутно открывалась, в комнату заглядывали ординаторы, чтобы справиться о моем здоровье. Тогда снова вмешался командир медсанбата. После этого товарищи заходить перестали, но, приоткрывая дверь, делали знаки Маше, чтобы она сообщила им о моем самочувствии.
Я пытался заснуть и опять не мог. Не только боль не давала покоя. Как же досадно было! Ведь лишь недавно почувствовал, что становлюсь хирургом и — на тебе… Какой же хирург без руки!
Задремал лишь под утро, а когда проснулся, сразу увидел Машу Морозову.
— Температура падает, — радостно сообщила она… — Уже тридцать восемь, а ночью до сорока доходила.
— Ну вот, видишь, все будет в порядке, — с улыбкой сказал я. — Позови Костю Кускова.
Кусков и Быков пришли вместе и долго осматривали мою руку. Определили, что инфекция дальше не распространяется. Сняли повязку с кисти, края раны были по-прежнему отечными, но изменений на раневой поверхности не обнаружилось.
— Опасность миновала? — с надеждой спросила Маша.
— Не совсем, — ответил Быков. — Нужен уход и покой…
Лечение продолжилось. Снова вводили мне различные препараты, делали перевязки, но рана заживала медленно. Лишь к концу марта я смог занять свое место у операционного стола.
Глава шестая ГОРЯЧИЕ БУДНИ
Готовимся к новым боям. — Стала огненной Курская дуга. — Ночь на минном поле. — Споры о скорости и качестве. — Горе слезами не растворить. — Воздушные пираты. — Помогаем госпиталю. — Война не приучила к смерти.
В конце мая 1943 года медсанбат покинул гостеприимные Бычки и Дерюгино и развернулся в живописной лесной балке. Она лежала в полутора километрах от деревни Лубашево Дмитриевского района Курской области. В Лубашево располагался штаб дивизии.
А. Ф. Фатин, оправившись от болезни, приступил к исполнению своих обязанностей. Он сразу же занялся облагораживанием территории медсанбата. Сначала многие, особенно девушки, его поддержали — кто ж против красоты в быту? Однако скоро стало ясно, что ведущий хирург чрезмерно увлекся. По его указанию операционно-перевязочный взвод и другие подразделения львиную долю времени вместо учебы, вместо подготовки к работе с ранеными пересаживали елочки и березки, обкладывали дерном клумбы, трассировали и посыпали песочком дорожки.
Я противился такой трате слишком дорогого сейчас времени. Предложил занять врачебный состав приемно-сортировочного и операционно-перевязочного взводов прежде всего изучением топографической анатомии и оперативной хирургии, указаний по военно-полевой хирургии. Для ординаторов это было особенно важно, в первую очередь для тех, кто недавно пришел к нам с передовой, с полковых медицинских пунктов.
Никто «в лобовую» не препятствовал этим занятиям, однако начались упреки, что хирурги устраняются от участия в общих мероприятиях. Споров было много. Дошло до политотдела дивизии, где Фатин не получил поддержки. Наладились занятия, однако наш ведущий, несмотря ни на что, продолжал выполнять свои задумки, заставляя подчиненных работать после занятий вместо отдыха.
А между тем близились жаркие события на фронте. Мы уже научились определять эти перемены по некоторым, едва заметным фактам. Исчезали, например, из поля зрения штабные работники. Вот и теперь. То я встречал начальника штаба дивизии гвардии подполковника И. К. Брушко, чуть ли не каждый день, а здесь не видел уже больше полутора-двух недель. Правда, в первых числах июля все-таки встретил его в штабе. Свое «исчезновение» он объяснил совместной работой с новым командиром дивизии гвардии полковником Е. Г. Ушаковым, который не так давно сменил генерала Жолудева, назначенного командиром 35-го стрелкового корпуса. Рассказал и о том, что дивизию посещал командующий 65-й армией генерал П. И. Батов.
— Назревают события? — спросил я.
— Видимо, серьезные, — ответил Брушко, не уточняя, причем тут же перевел разговор на другую тему, поинтересовавшись, наладил ли я отношения с Фатиным.
Я подивился тому, что о таких делах проинформирован начальник штаба дивизии, который долгов время исполнял обязанности комдива. Ответил:
— У нас с Фатиным нормальные отношения. Выполняем одну и ту же задачу, готовимся к новым боям…
— Скоро ваши знания и мастерство могут понадобиться, — прощаясь, сказал Брушко.
О начале предпринятого гитлеровцами наступления на Курской дуге, названной впоследствии Огненной дугой, мы узнали 5 июля 1943 года в 9 часов утра во время митинга в медсанбате, на котором выступил начальник политотдела гвардии полковник П. В. Щербина. Впрочем, о том, что развернулась новая жестокая схватка с врагом, нельзя было не догадаться. С раннего утра в восточном направлении потянулись армады бомбардировщиков противника. Артиллерийской канонады и разрывов бомб мы не слышали — главные события развернулись где-то далеко от нас (противник наносил удары с двух сторон под основание Курской дуги, а мы находились ближе к ее вершине), — но обратили внимание, что фашистские самолеты возвращались с задания вразброд, некоторые из них дымились, снижаясь и пытаясь дотянуть до линии фронта. Значит, наши истребители здорово потрепали их где-то там, у важных объектов, по которым враг пытался наносить удары.
Выступая на митинге, гвардии полковник Щербина рассказал, что замыслы гитлеровского командования были своевременно разгаданы и рано утром состоялся наш упреждающий артиллерийский удар до изготовившимся к наступлению вражеским соединениям, в результате чего их наступление задержалось. Начальник политотдела предупредил медиков о необходимости всесторонне подготовиться к приему раненых.
В своих выступлениях на митинге дивизионный врач гвардии майор медицинской службы Ю. Крыжчковский, сменивший на этой должности переведенного на преподавательскую работу гвардии майора медицинской службы М. А. Кунцевича, и новый командир медсанбата гвардии майор медицинской службы В. И. Власов заверили, что личный состав со своими задачами справится.
К моменту назначения на должность дивизионного врача Крыжчковский прошел почти все ступени медицинского войскового звена и имел достаточный опыт. Поэтому, сдав медсанбат, он занялся в первую очередь полковыми и батальонными медицинскими пунктами, зная, что именно от их четкой работы зависит своевременное и эффективное оказание помощи раненым.
В командовании медсанбата за последние месяцы произошли и другие изменения. На вакантную должность начальника штаба батальона был назначен гвардии старший лейтенант медицинской службы Г. Ф. Змиевский. Я его знал еще по совместной службе в 1-й воздушно-десантной бригаде. Нередко доводилось встречаться с ним и в последнее время, когда он приезжал к нам в медсанбат. Служил Змиевский старшим фельдшером медицинского пункта 109-го гвардейского стрелкового полка. Это был хорошо подготовленный, добросовестный специалист, человек большого мужества. Не случайно за бои на Дону он был награжден орденом Красного Знамени.
5 июля в полосе обороны дивизии было в целом тихо. Власов несколько раз связывался по телефону со штабом, интересовался, как идут дела. Там тоже все ждали… Гитлеровцы активно действовали пока лишь на направлениях своих главных ударов, но они находились, как я уже сказал, далеко от нас.
Во второй половине дня все-таки пришли три санитарные машины. Я сходил к командиру приемно-сортировочного взвода, поинтересовался, какого характера ранения.
— В основном осколочные, — ответил гвардии капитан медицинской службы Стесин. — Я спрашивал у санинструкторов, говорят, фрицы сделали огневой налет и опять успокоились.
Так же тихо в полосе обороны дивизии было и на следующий день. О кровопролитных боях на других участках фронта мы узнавали из политинформаций и сообщений газет.
После 10 июля соседняя с нами 69-я стрелковая дивизия провела ряд боев по улучшению своих позиций. Особенно упорная схватка была за деревню Большая Самара, где гитлеровцы в начале своей наступательной операции наносили отвлекающий удар, не принесший им успеха. Теперь же, когда части 69-й стрелковой дивизии контратаковали врага, он организовал мощное противодействие, стремясь задержать продвижение наших подразделений.
В те дни меня внезапно вызвал дивизионный врач.
— Медсанбат шестьдесят девятой, — сказал он, — работает с полным напряжением, но что-то у них не ладится. Начсанарм приказал откомандировать тебя к ним помочь организовать работу.
— Когда выезжать?
— Немедленно!
На сборы ушло минут двадцать. Выехал я уже в сумерках на попутной машине. Шофер подсказал, как найти медсанбат. Он остановил машину на каком-то перекрестке, пояснил:
— Километра три до них, если по дороге, а прямиком, через поле, совсем недалеко. Извините, доктор, подвезти не могу. Спешу!
Уже совсем стемнело, когда я остался один на дороге. Решил идти напрямик. «Доберусь до опушки леса, а там наверняка кого-нибудь встречу. Покажут, где медсанбат».
Пошел полем. К счастью, выглянула луна и стало не так темно. Когда позади было уже с полдороги, я зацепился за что-то и упал.
Пошарил вокруг и наткнулся на какой-то предмет. Не придал значения. Встал, пошел дальше, но снова зацепился за что-то ногой.
Достал спичку, посветил и ужаснулся — я был на минном поле…
Что делать? Идти вперед или возвращаться назад? Опасно одинаково. И как это прошел столько?!
Сидеть среди мин на поле было мало приятно. Решил продвигаться вперед, освещая дорогу спичками. Но они скоро кончились. Пришлось ждать рассвета, благо он в ту пору наступал рано.
Медсанбат нашел без труда. Доложил командиру о прибытии и хотел попросить разрешения отдохнуть с дороги — все же провел тревожную бессонную ночь на минном поле, да и продрог — шинель-то поленился прихватить с собой. Однако, увидев, что делается в медсанбате, понял, что не до отдыха. Десятки необработанных раненых ждали своей очереди перед большой операционной палаткой, а из приемно-сортировочного взвода поступали все новые и новые их партии.
Командир медсанбата вызвал ведущего хирурга. Оба были озадачены моим появлением.
— И чем же вы нам поможете? — спросил пожилой ведущий хирург. — Разве что встанете к операционному столу — наши-то совсем из сил выбились.
— Безусловно встану, — ответил я. — Но прежде хочу посмотреть, как организована работа. За тем меня и послали, чтобы помочь наладить дело.
— Не возражаю, — устало сказал хирург. — Только, пожалуйста, сами. Меня раненые ждут.
Прежде всего я направился в приемно-сортировочный взвод. Его командир, молодой капитан медицинской службы, быстро и четко отдавал указания подчиненным. Со своей бригадой он обслуживал сразу два стола. Диагнозы ставил правильно, своевременно направлял раненых в операционную. Первые впечатления были весьма благоприятными, но более внимательный анализ наводил на мысль, что здесь при внешней четкости действуют все же по старинке: не отделен поток легкораненых, не налажена посменная работа. Решил предложить опробованную нами схему. Отправился к командиру медсанбата и убедил его взять на вооружение наш метод.
Помочь наладить дело удалось быстро, однако раненых оказалось слишком много и хирурги все равно не справлялись с потоком. Я тоже встал к столу и работал до позднего вечера. К исходу дня в медсанбат прибыли хирурги из полевого подвижного госпиталя, которых также направил сюда начсанарм. Дело пошло быстрее, но лишь на третьи сутки удалось общими усилиями разгрузить медсанбат и наладить нужный ритм действий. После этого я получил разрешение вернуться в свою дивизию.
Доложил дивизионному врачу о проделанной работе. Тот поблагодарил и сказал:
— Чувствую, скоро и у нас начнется…
В штабе встретил Брушко и рассказал ему о своих злоключениях на минном поле. Он расспросил, где это случилось, и улыбнулся:
— Бояться было нечего. Ты попал на противотанковое минное поле. С твоим-то весом там можно было плясать. Кстати, на днях его будут снимать.
— Почему? — поинтересовался я.
— Надобность отпала. Не сунутся здесь фашисты. Мы будем наступать!
5 августа медсанбат перебазировался в лес, что в трех километрах западнее деревни Лубашево. Новый район расположения оказался очень удобным — он находился на путях эвакуации раненых с полковых медицинских пунктов и был надежно укрыт сосновым бором. Палатки мы развернули на двух полянах и тщательно замаскировали их. Нашу готовность приехал проверить начальник военно-санитарного отдела армии полковник медицинской службы Г. В. Горностаев. В основном он остался доволен и сделал командиру медсанбата лишь незначительные замечания.
Мы с Фатиным загодя определили состав хирургических бригад, которым предстояло действовать на основном потоке, и выделили необходимые силы для оказания помощи легкораненым по заранее отработанной схеме.
Поступило распоряжение быть в полной готовности к утру 7 августа. Накануне вечером мы направили автомашины медсанбата на полковые медицинские пункты. Первые раненые появились в 8 часов утра. Взвод Стесина сразу приступил к работе. Вскоре меня позвали в приемно-сортировочный взвод. Оказалось, что поступил раненный в живот боец. Потребовалась консультация — можно ли его оперировать? Я решил, что бойца спасти можно, и приказал направить в операционную.
По количеству раненых и интенсивности их поступления мы уже научились определять, какой бой ведет дивизия. Наибольшее число раненых приходилось, конечно, на период прорыва обороны противника. Затем, во время преследования его, поток раненых ослабевал и вновь увеличивался, когда начиналось преодоление очагов сопротивления в глубине вражеской обороны. На этот раз количество раненых не убывало на протяжении нескольких дней и колебалось от четырехсот до шестисот человек в сутки.
На четвертый и пятый день наступления дивизия вела бой за город Дмитровск-Орловский. В это время практически без перерывов функционировали большая операционная на шесть столов, малая на два стола и перевязочная для легкораненых — тоже на два стола. Несмотря ни на какие трудности, мы не прекращали сменную работу, ибо только в ней был выход. К обработке раненых в качестве ассистентов привлекали командиров санитарно-эпидемического взвода, отделения санхимзащиты, а также зубного врача и терапевтов.
Я взял себе за правило в короткие минуты, свободные от работы в операционной, посещать подразделения медсанбата. На этот раз захотелось посмотреть, как трудятся в приемно-сортировочном взводе мои бывшие подчиненные. Был и в госпитальном взводе, где размещались уже прооперированные раненые. Командир госпитального взвода гвардии капитан медицинской службы Константин Быков, заботливый, аккуратный и пунктуальный во всем, руководил эвакуацией раненых в полевые подвижные госпитали, следил за лечением нетранспортабельных пациентов. Тогда уже я считал, что дело хирурга не только заниматься раненым на операционном столе, но и вести его дальше, до выписки или отправки в другое медучреждение.
Понимая, что нам предстоит вот-вот сняться и идти вперед, мы старались как можно больше раненых отправлять в полевые подвижные госпитали. Эвакоотделение действовало с большой нагрузкой. Заботливо готовили раненых к отправке гвардии старший лейтенант медицинской службы Мялковский и медсестра Данильченко. Они следили за тем, чтобы все были накормлены, а если кто и не успевал поесть перед эвакуацией, получал на дорогу хлеб, консервы.
По-разному работали наши хирурги. У каждого были свои способности. Один мог оперировать быстрее, другой — медленнее. Но в эти дни даже медлительный Яловенко, работая с воодушевлением, не отставал от своих товарищей, причем быстрота не шла у него во вред качеству.
Мне поручили наиболее тяжелых раненых, в основном с проникающими ранениями в грудь и живот. Этому направлению хирургической деятельности я и уделял главное внимание.
На исходе пятых суток боев к нам в медсанбат прибыли две бригады из полевого хирургического госпиталя. В тот же день стало известно, что дивизию собираются перебросить на другой участок фронта. Сообщил нам об этом армейский хирург, приехавший в батальон вместе с хирургическими бригадами.
— После вашего отъезда группа усиления останется на месте, до прибытия армейского хирургического госпиталя, который мы развернем здесь, — уточнил он.
Интересно было наблюдать за действиями госпитальных хирургов. Оперировали они добросовестно, умело, но, как нам казалось, медленно. Видимо, потоки раненых в госпитале не были такими плотными, как в медсанбатах, и это влияло на темп работы.
В перерывах мы делились опытом, обсуждали методы работы. Услышав наши мнения, армейские хирурги чуть ли не в один голос ответили, что сами дивятся тому, как быстро оперируют медсанбатовцы.
— Нельзя гнаться за высокими скоростями! — говорили они. — Мы же с вами не на конвейере!
— А где выход? — спросил я у немолодого врача, возглавлявшего одну из бригад. — Будем действовать медленнее — не успеем прооперировать всех.
— Но ведь спешка не способствует качеству, — не сдавался он.
— Спешка и быстрота — не одно и то же. Мы стараемся, чтобы быстрота на качестве не отражалась, — вставил Костя Кусков. — Важно, чтобы работа была хорошо организована.
Впрочем, они скоро на себе ощутили отличия обстановки, в которой трудятся хирурги медсанбата и госпиталя. После первой смены госпитальные бригады очень сильно устали; в последующие дни и хирурги, и ассистенты едва держались на ногах. А ведь работали они наравне с нами. Здесь сказывался, конечно, и возраст: в госпитале персонал был все же постарше, чем у нас.
Между тем боевые действия продолжались. На шестые сутки наступления 37-я гвардейская стрелковая дивизия овладела Дмитровск-Орловским, а вскоре после этого поступил приказ о ее переброске в район Севска. Время на свертывание медсанбата и передачу раненых нам определили минимальное. Самое сложное было прекратить работу: ведь раненые-то продолжали поступать. Причем последние их партии оказались особенно тяжелыми, среди них встречались и находившиеся в тяжелом шоке.
Армейский хирург спросил одного из сопровождавших:
— Почему поздно доставили группу?
— Бои шли в городе, — последовал ответ. — А там не сразу найдешь раненого, тем более ночью.
Обсуждая с армейским хирургом, что надо предпринять в отношении двух крайне тяжелых раненых, я вспомнил, как на кафедре физиологии 2-го Московского медицинского института участвовал в проведении опытов по стимулированию работы сердца у обескровленных животных. Армейский хирург посоветовал провести агонирующим раненым лекарственную стимуляцию. Сделали это, и у обоих появились слабый пульс и дыхание, сузились зрачки, стало определяться кровяное давление в пределах 40 на 60–70 миллиметров. На присутствующих это произвело впечатление, но радоваться оказалось рано. После внутривенного вливания крови и применения кардиотонических препаратов сознание к ним не возвращалось. Угасали дыхание и сердечная деятельность, а вместе с ними угасала и жизнь.
Мы не могли понять, в чем дело. Уже после войны я узнал, что раненым надо было восстановить дыхательный процесс, но аппаратов искусственного дыхания тогда еще не было…
За годы войны медицина, и особенно одна из ее важнейших отраслей — хирургия, далеко шагнула вперед. Например, в боевой обстановке хирургам медсанбата или полевого госпиталя в борьбе с кровотечением из поврежденного легкого приходилось браться за такие операции, которые в довоенные годы не выполнялись и в крупных лечебных учреждениях. Здесь, в полевых условиях, без достаточно совершенного оборудования люди в белых халатах иногда совершали чудеса. Они смело брали на себя ответственность — делать это требовала война. Они шли на риск, когда не идти на него было просто нельзя, когда любое промедление стоило бы жизни раненому. Они шли на риск, когда имели хотя бы один шанс из тысячи, и этот шанс очень часто оказывался верным.
Под Севск мы прибыли 14 августа. Как всегда перед наступлением, командование постаралось разместить медсанбат поближе к переднему краю. Наша дивизия по-прежнему находилась в составе 18-го стрелкового корпуса 65-й армии.
Сразу приступили к развертыванию функциональных подразделений и маскировке. Лес оказался редким, и предстояло приложить немало усилий, чтобы обезопасить себя от неприятностей.
Неподалеку от нас расположились артиллеристы. Судя по калибрам орудий, это была артиллерия резерва Верховного Главнокомандования (РВГК). Бросилось в глаза, что материальная часть совершенно новая, видно, только с завода. Это радовало — вышла наконец наша промышленность на высокие рубежи, есть чем бить фашистов. Но одновременно с радостным чувством мы испытывали, как и в подобной ситуации под Сталинградом, беспокойство: гитлеровцы, обнаружив артиллеристов, подвергнут наш район сильным обстрелам и бомбежкам.
— Собой мы можем рисковать, ранеными — нет, — сказал комбат и отправился к заместителю командира дивизии, чтобы добиться смены позиций артиллерии. Это возымело действие. Артиллеристы ушли, и мы остались хозяевами в своем районе.
К сожалению, избежать авиационных налетов все-таки не удалось. Каким-то образом фашистские пираты пронюхали, что в лесу находится медсанбат, и, верные своей излюбленной традиции нападать на безоружных, атаковали нас с воздуха. На счастье, подоспели истребители, и два вражеских самолета тут же врезались в землю. Остальное, поспешно сбросив бомбы, убрались за линию фронта.
Осколки изрешетили нашу палатку, в которой была развернута операционная. С тревогой побежал я туда, зная, что там работали хирург гвардии капитан медицинской службы Г. М. Яловенко с операционными сестрами Аней Киселевой и Раисой Дубшан. Все они оказались в укрытии и потому не пострадали.
— Только раненого унесли, — рассказывал Яловенко, — как налетели, гады… Да, если бы шла операция, всем бы нам досталось…
В этих словах был свой смысл: хирург даже и думать не мог о том, чтобы прервать операцию, несмотря на любое, даже самое опасное, развитие событий.
Я обошел расположение медсанбата. Одну из палаток придавило срезанной под корень березой, в хозяйственном взводе убило лошадь и опрокинуло повозку. Люди не пострадали, потому что все, свободные от срочной работы по оказанию помощи тяжелораненым, заняли щели, специально устроенные вблизи палаток.
Каждый из нас по-своему переносил бомбежку. Например, после этого налета один из врачей долго не мог поверить, что он даже не ранен. При каждом взрыве, по его словам, он ощущал острые боли в поясничной и ягодичной областях и считал, что на него обрушивается град осколков. Я осмотрел его, но не обнаружил даже повреждений одежды. Вскоре коллега успокоился и приступил к работе. Надо сказать, что он и в последующем довольно трудно переносил бомбежки, артобстрелы и добился перевода в тыловой госпиталь для работы по своей специальности — гинеколога.
К 20 августа медсанбат был полностью развернут на новом месте. Кроме палаток мы оборудовали блиндажи для лечения нетранспортабельных раненых и больных.
В период перегруппировок, которые предшествовали наступлению под Севском, большого потока раненых не было, но ежедневно все же поступало к нам от 80 до 100 человек.
Успешное наступление войск Центрального фронта вынудило гитлеровцев начать отход и перед фронтом 65-й армии. Наши потери, судя по количеству раненых, были несколько меньше, чем во время боев за Дмитровск-Орловский. Значительно улучшили работу полковые медицинские пункты. Мы, хирурги медсанбата, были очень довольны тем, что совместная учеба, проведенная вместе с полковыми врачами накануне наступления, дала свои результаты. Сослужили хорошее дело и инструктивные занятия с фельдшерами батальонных медицинских пунктов, с санинструкторами рот. Врачи полковых медицинских пунктов овладели противошоковыми мероприятиями, научились вводить противошоковые препараты и в отдельных случаях делать даже переливание крови, что ранее выполнялось только в медсанбате. Все это обеспечивало надежную транспортировку раненых в медсанбат.
Особенно хорошо трудились врачи полков Алексей Давыдов, погибший впоследствии под Данцигом от тяжелых ран, и Борис Губчевский. Своевременный вынос раненых с поля боя, правильное оказание им помощи на полковых медицинских пунктах и быстрая эвакуация в медсанбат заметно влияли на исход оперативных вмешательств при тяжелых ранениях.
Приятно было видеть, что прибывшие к нам после Сталинградской битвы ординаторы операционно-перевязочного взвода офицеры В. П. Тарусинов, К. П. Кусков успешно совершенствовали свои навыки, приобретали опыт. К сожалению, с Александром Воронцовым нам пришлось расстаться. Он заболел и после лечения в госпитале был направлен в другую армию. На его место назначили гвардии капитана медицинской службы В. М. Коваленко. Вскоре из дивизии был отозван также и мой однокурсник Ю. К. Крыжчковский. Он убыл в воздушно-десантные войска.
В эти дни я получил письма от братьев. Алексей писал, как всегда, скупо и кратко. Александр рассказывал о своих первых боях. По его намекам понял, что находится близ села Комаричи Брянской области. Это возвратило к мысли, что, наверное, все же его я видел той метельной ночью на дороге к фронту, А еще через несколько дней пришло известие о гибели Александра… Его боевые друзья сообщили, что Саша скончался 7 августа от осколочных ранений. Товарищи писали о его храбрости, высоко оценивали командирские качества…
Что делать? Горе слезами не растворяется, оно остается навсегда, лишь несколько притупляясь с годами. В ту пору горе было общим у всех советских людей, редкая семья не скорбела о погибших. Надо было сжать зубы и продолжать свое дело.
Снова, как писала сестра, слегла наша мама, которая очень тяжело переживала гибель второго сына. Я же опять и опять думал о той метельной ночи под Ливнами, когда мог повидать-Александра, и ругал себя за то, что не повидал…
А между тем дивизия шла вперед, гоня противника. К началу сентября позади осталось уже около ста километров. Колонна медсанбата проходила через населенные пункты Средина-Буда, Ямполь, Шостка. Везде нас с радостью встречали освобожденные от фашистского рабства жители. Женщины плакали, многие завидовали нашим медицинским сестрам, которые тоже участвовали в битве с захватчиками, и рвались в армию. В Средина-Буде и Ямполе из расформированных партизанских отрядов к нам в медсанбат были направлены санитарами Полина Ахтырка и Галя Луговик. Полина, как оказалось, ушла в отряд, сбежав от тетки, которая воспитывала ее. Галя Луговик до войны работала учительницей в начальной школе, в отряд вступила в первые дни вражеской оккупации.
Женский коллектив медсанбата принял пополнение доброжелательно. Девушки сразу были окружены вниманием и заботой, все им старались помочь побыстрее войти в строй, но допустить их к самостоятельной работе мы смогли не скоро: никакой медицинской подготовки у них не было. Помнится, Галя всегда говорила на чистом украинском языке. Была она застенчивой — может быть, стеснялась оставшихся на лице отметин после перенесенной оспы. Полина же, хоть и была значительно моложе своей подруги, легче сходилась с людьми, никогда не тушевалась. В конце войны она вышла замуж за молодого офицера и осталась работать в медсанбате.
8 сентября дивизия достигла Десны, в двух-трех километрах ниже Новгород-Северского на Черниговщине. С ходу форсировать реку не удалось, и началась подготовка к преодолению водного рубежа. Нам приказали развернуть медсанбат в деревне Пироговке, неподалеку от района предстоявших действий.
Форсирование Десны началось 12 сентября. Раненых поначалу было немного, их лоток увеличился позже, когда развернулись ожесточенные схватки на захваченном гвардейцами плацдарме. В эти дни наш командир дивизии Евгении Григорьевич Ушаков получил воинское звание гвардии генерал-майора.
А вскоре медсанбату поступил приказ снова идти вперёд. 20 сентября мы покинули Пироговку, оставив с ранеными хирургическую бригаду. Ей предстояло завершить оказание помощи еще не прооперированным, а затем передать всех наших пациентов в полевой подвижный госпиталь.
На протяжении нескольких недель батальон ни разу не успел развернуться полностью. Работали в постоянной готовности к дальнейшему продвижению и лишь в конце октября остановились на окраине поселка Городня Черниговской области, получив приказ быть готовыми к приему раненых.
Едва мы поставили палатки, как подъехал «виллис». Из него вышел начальник штаба дивизии теперь уже гвардии полковник И. К. Брушко и, увидев меня, попросил подойти. Я подумал: не случилось ли что? Так оно и было. Из машины с трудом выбирался заместитель командира дивизии гвардии полковник Василий Ильич Боклаков. Он громко поздоровался со мной, я ответил, но он знаками показал, что ничего не слышит.
Иван Кузьмич взял меня под руку и тихо сказал:
— На заднем сиденье машинистка штаба. Она, кажется… — Брушко не договорил, а я уже увидел, что машинистка мертва.
— А что с Боклаковым? Контужен? — спросил я.
— Да, — кивнул Брушко и рассказал, что машина наехала задним колесом на мину. Все получили контузию, а машинистка погибла, очевидно, от внутреннего кровоизлияния, поскольку ни одной раны у нее не было.
Вскоре Брушко уехал, оставив в медсанбате Боклакова. Мы уложили его спать, но уже через полтора часа Василий Ильич пришел ко мне в операционную. Раненых было немного, и я смог оторваться от работы, чтобы побыть с ним до приезда Брушко. Вспомнил, как Боклаков прибыл в дивизию в марте 1943 года. Он был тогда майором, до назначения к нам командовал лыжной бригадой, участвовал в зимнем наступлении под Курском. Не раз мы вместе бывали на передовой, и всегда я удивлялся его храбрости. Однажды даже сказал об этом, на что Боклаков возразил:
— Нет, я просто по звуку знаю, которая мина или пуля опасна или нет, а потому и не кланяюсь им без толку. И тебе не советую.
Когда мы шли с ним к передовой, он часто комментировал:
— Это не наша.
Вскоре приехал Брушко и увез Боклакова. Даже от временной госпитализации, необходимой им обоим, они отказались, сославшись на дела.
— Будут тяжелые бои. Готовьтесь! — на прощание сказал Брушко.
И действительно, вскоре стали поступать раненые, причем число их доходило от 170 до 280 человек в сутки. С обработкой такого потока раненых коллектив медсанбата справлялся без особого труда. Но вот на четвертый день боев я получил распоряжение прибыть с хирургической бригадой, в которую включить кроме меня еще одного врача и двух медсестер, в полевой хирургический госпиталь. Он располагался поблизости от штаба нашей дивизии в деревне Тереховке, юго-восточнее Гомеля. Госпиталь оказался единственным медицинским учреждением такого рода на правом фланге армии. Раненые в него поступали не только из медсанбатов, но и с полковых медпунктов, а иногда и прямо с поля боя. Зачастую они были даже не перевязаны должным образом. Персонал госпиталя впервые встретился с таким испытанием и оказался не в состоянии справиться с большим потоком раненых. Вот и решили привлечь на помощь хирургов медсанбата.
Когда мы с Костей Кусковым, Аней Киселевой и Аллой Вишневской приехали в госпиталь, пациентов, остро нуждавшихся в помощи, скопилось более ста двадцати человек. Ведущий хирург сообщил, что некоторые из них имеют тяжелые, в том числе внутриполостные, ранения.
Оценив обстановку, я предложил сразу начать работать нашей бригаде и трудиться ей часов 10–12. Мы с Константином Кусковым обещали обеспечить нужный ритм большой операционной, а хирурги госпиталя, очень уставшие, пусть отдохнут. После них отдохнем мы. Ведущий хирург согласился, сказав, что его персонал действительно совершенно выбился из сил и трудиться больше без отдыха не в состоянии.
Вначале из-за неопытности некоторых госпитальных санитаров мы никак не могли наладить привычный медсанбатовский темп работы. Ведь им в госпитале не приходилось принимать раненых вот так, с передовой, в тяжелом состоянии, без предварительно оказанной помощи, зачастую в грязном, порванном обмундировании. Поэтому мы с Константином по очереди ходили в приемное отделение и помогали регулировать подачу раненых на операционные столы. В результате принятых мер нам удалось в условленное время обработать около 80 человек с ранениями средней тяжести.
Как и договорились, в 4.00 я разбудил хирургов госпиталя. Ведущий хирург был доволен: мы оказали помощь большей части раненых, сделали 5 полостных операций.
— Ну теперь-то уж дело пойдет, — сказал он.
Отдыхать мы отправились в кузов нашей полуторки, на которой приехали в госпиталь. Шофер заранее приготовил охапки сена. Наши женщины отдыхали в палатке персонала госпиталя.
В 9.00 позавтракали и снова встали на первичную хирургическую обработку пациентов. Врачи госпиталя занялись перевязками раненых, подготавливаемых к эвакуации во фронтовые медицинские учреждения.
К часу дня задача, порученная нам, была полностью выполнена, и мы получили разрешение возвратиться в свой батальон. Нас оставляли обедать, но мы спешили, понимая, что в дивизии тоже наверняка немало раненых.
Когда до медсанбата оставалось не более трех километров, я заметил впереди с десяток круживших «юнкерсов». Они бомбили штаб нашего соединения…
— Давай, Федя, поворачивай на КП дивизии, жми на всю железку! — сказал я шоферу.
Тереховка горела. Всего несколько домов осталось в ней, остальные были разрушены, кругом вняли воронки. К счастью, пострадавших было мало. Им уже оказывал помощь фельдшер гвардии старший лейтенант медицинской службы Федор Гусаров. Этот добрый, обаятельный человек имел солидный опыт самостоятельной работы- еще в довоенное время. Он обрадовался, увидев нас. Константин тут же подключился к помощи раненым, а я спросил Гусарова, не пострадал ли кто из руководства штаба.
— А их здесь нет, они еще утром переехали на другое место, — ответил Федор. — Жители еще не все успели вернуться из лесов. Среди них семь человек ранены, одна женщина скончалась. У остальных легкие осколочные ранения, лечение их наладили.
Пострадал и полевой госпиталь, находившийся неподалеку от Тереховки. Офицер военно-санитарного отдела армии подполковник медицинской службы В. Ф. Щелкунов, побывавший у нас на следующий день, рассказал, что на территории госпиталя разорвались три бомбы. Погибло четыре человека, в том числе тот самый хирург, который приглашал нас остаться пообедать. Были ранены десять медсестер и санитаров. Из находившихся на лечении погибло двенадцать человек. Василий Филиппович говорил об этом с горечью:
— Вот ведь видно же, что расположен госпиталь, а все равно бомбят…
— Что ж удивляться? Таковы их нравы, — сказал я. — Их летчики специально ищут такие цели, чтобы нагадить побольше.
В медсанбате нас ждали. Власов и Неутолимов, заслышав шум мотора, вышли встречать. Замполит бросился нас обнимать, говоря, что ему сообщили, будто мы во время налета были в Тереховке.
— Такой жестокий налет, а вас все нет и нет. Думали, уж не стряслось ли что…
— Да нет, целы, — отвечал я замполиту.
Прибежали медсестры, тоже бросились нас тормошить. А Неутолимов уже послал кого-то в столовую, распорядился, чтобы приготовили нам что-нибудь поесть.
— Поужинай, — сказал он мне, — и к командиру. Расскажешь подробно о поездке.
Принимать пищу всему коллективу медсанбата одновременно доводилось крайне редко. Как правило, питались посменно, побригадно, так что каждый раз завтрак, обед или ужин растягивался обычно часа на два. Летом столовая оборудовалась под навесом, а зимой — в утепленных землянках или блиндажах. Иногда времени мы не имели даже на то, чтобы дойти туда, и тогда пищу санитары приносили в котелках прямо в операционные.
На этот раз ужин совсем затянулся, поскольку подходили врачи, сестры и все наперебой расспрашивали о наших приключениях и работе в госпитале. Так уж было на фронте. Среди общего горя или общего успеха особенно остро воспринимались потери или удачи близких, тех людей, с которыми служили рядом. Поэтому все радовались, что мы целы и невредимы.
Медсанбатовцам приходилось многое видеть, и переживали они, конечно, не только за своих. Что касается гибели людей, с которыми им никогда и не доводилось соприкасаться, то это тоже вызывало сострадание, боль и горечь. Война не ожесточила их, не сделала равнодушными. Я не раз был свидетелем, как реагировали на смерть раненых наши санитары, как бережно выносили их из палаток, словно боясь причинить боль даже мертвым.
В медсанбате, к великому сожалению, были случаи гибели раненых — ведь далеко не все наши пациенты поступали в таком состоянии, в котором им еще можно было оказать помощь. Порой привозили бойцов и командиров, спасти которых было уже нельзя. Ведь те, кто привозили, надеялись на то, что мы, медики, всесильны. Но, увы, никогда еще — ни в предвоенное, ни в военное, ни в послевоенное время — медицина всесильной не была, несмотря ни на какие ее достижения.
Не смогла война приучить нас к смерти. Третий год лилась кровь, третий год теряли мы родных, близких, боевых друзей, сослуживцев, третий год через наши руки проходили истерзанные пулями и осколками люди, а привыкнуть к этому не могли. Потому-то особенно понятной была радость товарищей, увидевших нас целыми и невредимыми.
Придя в землянку комбата, я извинился за задержку, рассказал, что не мог отбиться от товарищей, которые засыпали вопросами.
— Звонил начальник штаба дивизии, — сказал майор Власов. — Тоже беспокоился, спрашивал, как выбрался Гулякин со своими медиками из Тереховки.
Приятно было услышать, что старый сослуживец, занимавший теперь высокую должность, нашел время узнать о моих делах.
— Просил передать привет вам, — прибавил Власов.
Я поблагодарил командира, коротко доложил Власову о проделанном. Сергей Неутолимов, присутствовавший при беседе, спросил, чем отличается работа полевого хирургического госпиталя от работы медсанбата. Я рассказал, что дело здесь и в предназначении, и в штатной структуре. Хирурги госпиталя привыкли иметь дело с ранеными, которым уже оказана квалифицированная медицинская помощь. Им не приходится действовать на потоке, обычном для медсанбата. Каждая операция в госпитале, как правило, повторная, готовится загодя, и хирургам нет нужды обслуживать одновременно несколько столов почти без передышки. Раненые отсортированы еще в медсанбатах, каждому определен диагноз.
Отвлекаясь, скажу, что бывали случаи, когда руководство санитарной службы армии при необходимости усиления медсанбатов развертывало на их рубеже госпитали первой линии, которые усиливались автотранспортом и армейскими хирургическими группами.
…Неутолимов поблагодарил меня за подробную информацию. От комбата мы вышли вместе. По дороге говорили о насущных делах, о том, что наступает нелегкое время-поток раненых непрерывно возрастает. А впереди — реки Сож, Днепр…
Попрощавшись с замполитом, я направился в большую операционную. Константин Кусков, встретив меня у входа, доложил, что на смену нам предстоит заступить ровно в полночь, а пока разрешено отдохнуть. Прибавил:
— Землянку без нас дооборудовали, так что все условия для отдыха…
— Хорошо, — кивнул я. — Вот только загляну к Фа-тину. Попрощаюсь.
Фатина переводили в полевой подвижный госпиталь. Как только стало известно об этом, о нем словно забыли — по всем вопросам хирургической службы стали обращаться ко мне. Я же испытывал из-за этого неловкость, особенно в тех случаях, когда командир батальона отдавал распоряжения непосредственно мне, минуя Фатина. Честно сказать, мне после весеннего конфликта с Фатиным, связанного с наведением внешнего лоска на территории медсанбата, общаться с ним стало не слишком приятно. Тем не менее считал, что личные обиды нужно забыть, когда речь идет о службе, о деле.
С уходом ведущего специалиста Фатина хирургическая служба медсанбата ложилась на мои плечи не на месяц, как было зимой, а надолго, возможно до самой победы. А это — огромная ответственность. Теперь предстояло отвечать не только за свое умение, но и за навыки подчиненных, не только за свои просчеты, но и за промашки целого коллектива.
Глава седьмая ДО ДНЕПРА И ДАЛЕЕ…
Медики тоже несли потери. — Плацдарм. — От праздничного стола — к операционному. — «Вас ждет женщина!..» — Идем по Полесью. — Душа советского человека. — Оплошность тыловика. — Коварство врага. — Как мы боролись с шоком.
В конце сентября наметился успех. Войска нашего корпуса форсировали Сож южнее Гомеля и после, упорных боев овладели крупными узлами обороны врага. Гитлеровцы контратаковали, завязались тяжелые бои. Но неудержим был порыв наших воинов, и соединения продвигались к Днепру.
В те дни наряду с радостными известиями об освобождении все новых и новых населенных пунктов поступали и печальные сообщения. Потери несли не только стрелковые части. Мы лишились многих замечательных фельдшеров, санинструкторов, санитаров, которые, не щадя своей жизни, оказывали помощь раненым под огнем противника. Немало медиков получили ранения. Если они были средней тяжести, то врачи, фельдшеры и санитары лечились прямо на месте, в полковых медпунктах или, в крайнем случае, в медсанбате.
Действия личного состава полковых медицинских пунктов вызывали восхищение. Однажды, сопровождая в конно-верховой поездке по частям нового дивизионного врача гвардии майора медицинской службы Михаила Федоровича Грошевого, сменившего Ю. К. Крыжчковского, я был свидетелем, как вели себя наши товарищи под артобстрелом. Неподалеку рвались снаряды, но работа медпункта не прекращалась. Гвардии капитан медицинской службы Евгений Пронин из 114-го гвардейского стрелкового полка показал нам оборудование перевязочного пункта, открыл небольшой погребок, в котором хранились запасы консервированной крови.
На обратном пути М. Ф. Грошевой сказал:
— Я вижу, Михаил Филиппович, вы у них не первый раз? Это хорошо.
— Помощь полковым медпунктам у нас давно стала традицией, — ответил я. — Даже учебные мероприятия вместе организуем. Если вдруг замечаем, что с какого-то полкового медпункта поступают плохо обслуженные раненые, немедленно направляем туда своего представителя, чтобы разобрался на месте, в чем дело, и главное — помощь оказал.
— А на стажировку к себе работников полковых медпунктов привлекаете?
— Если есть возможность… У них ведь и без того дел хватает. Ну и, конечно, пополняем медсанбат за счет наиболее перспективных врачей.
Михаила Федоровича интересовали и другие вопросы. За разговором мы и не заметили, как наши кони — Лысуха дивизионного врача и мой Гнедок — свернули на проселок, ведущий к расположению медсанбата. Они знали дорогу и не ждали команд. В то время верно и надежно служили нам лошадки, очень удобные для переездов на сравнительно небольшие расстояния по бездорожью.
По «виллису», стоявшему возле штабной землянки, нетрудно было догадаться, что медсанбат посетило какое-то начальство. Оказалось, что приехал Брушко. Они с Неутолимовым вышли из землянки и, увидев нас, остановились. Мы спешились и пошли навстречу.
— Ну что, ездили помогать столкнуть с места противника? — улыбаясь, спросил Брушко.
— У нас своих забот полно, — сказал я. — Были в полках.
— Как впечатление?
— Хорошее, — коротко заключил дивизионный врач.
— Готовы к боям? — снова спросил Брушко и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Потерпите, скоро перешагнем Днепр, а дальше пойдет легче…
В последующие сутки раненых стало значительно меньше. От них мы, как всегда, узнавали последние новости с передовой. Говорили, что сосед слева куда-то уходит, что наши части готовятся форсировать Днепр несколько южнее, в районе Лоева. Все перегруппировки проводятся только ночью с тщательным соблюдением маскировки.
И вот 15 октября началось… На главном направлении в полосе нашего 18-го стрелкового корпуса обозначился первый успех. 69-я стрелковая дивизия зацепилась за правый берег Днепра и стала расширять плацдарм. Враг предпринял сильные контратаки, однако наша артиллерия поработала на славу. Раненые рассказывали, что все немецкие траншеи и ходы сообщения завалены трупами гитлеровцев.
Плацдарм расширялся. Все новые и новые части закреплялись на противоположном берегу. 17 октября саперы навели мост. К вечеру был освобожден город Лоев.
В те дни, следуя к новому месту расположения медсанбата, я проезжал через Лоев и не знал, что там в это же время находился мой брат Алексей, который был начальником связи отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 161-го укрепрайона.
3 ноября наш медсанбат развернулся в живописном сосновом бору в трех-четырех километрах северо-западнее Лоева. Армия развивала наступление по западному берегу Днепра в северном направлении, расширив плацдарм до 20 километров по фронту и 10–13 — в глубину.
В связи с тем что наступали мы в тесном взаимодействии с танковыми и кавалерийскими частями, медсанбату приходилось принимать раненых и из этих частей. Выяснилось, что поблизости от нас в радиусе 4–5 километров не было ни одного медицинского учреждения, а осенние холода и слякоть заставляли организовывать доставку раненых в кратчайшие сроки и в ближайшие места помощи.
После тяжелых боев дивизия вышла к большим лесам и болотам. Поступила задача закрепиться на достигнутых рубежах.
В дни затишья раненых было немного. Поступали в основном с осколочными ранениями, ибо враг частенько производил огневые налеты по нашим оборонительным рубежам.
Между тем приближались праздники — 26-я годовщина Великого Октября. Командир дивизии приказал нам подготовить помещение, в котором можно было бы вручить награды воинам, отличившимся в Курской битве и последующих боях.
И вот этот торжественный день настал. В канун 26-летия Октябрьской революции к нам приехали комдив гвардии генерал-майор Е. Г. Ушаков, начальник политотдела гвардии полковник А. М. Смирнов, начальник строевого отдела, фотограф клуба и около тридцати человек из различных частей, приглашенных для получения наград.
Командование дивизии и служба тыла сделали все возможное, чтобы день получился по-настоящему праздничный.
Генерал Ушаков в своем коротком докладе поздравил присутствовавших с праздником Октября и большими успехами Красной Армии на фронтах. Затем были вручены награды и всех пригласили на праздничный ужин.
Во время ужина в палатку вошел замполит медсанбата Сергей Неутолимов и поздравил нас с освобождением Киева. Об этом сообщило радио.
Еще не закончился ужин, когда меня вызвали в операционную.
— В чем дело? — спросил я у дежурного.
— Поступил раненный в живот. Готовим к операции.
Пациент находился в противошоковой палате, где ему делали переливание крови. Признаки проникающего ранения в живот были явными. Я осмотрел раненого, определил, что его состояние позволяет начать операцию, и попросил карточку из полкового медпункта.
Дежурный хирург Володя Коваленко подал ее мне. Там указывалось, что на ПМП осуществлены противошоковые мероприятия — вагосимпатическая шейная блокада и введена противошоковая жидкость Попова.
Машинально взглянул на подпись врача и не поверил своим глазам — карточку подписала Лидия Пелагеина. Неужели она здесь, рядом?! Не может быть…
Впрочем, я давно уже убедился, что на фронте ничему удивляться не приходилось, — судьба сводила и разводила людей при самых немыслимых обстоятельствах.
Позвав санитара, я попросил передать повозочному, доставившему раненого, чтобы он подождал до окончания операции.
В операционном отделении все было уже готово. Наркозный сон пациента был спокойным, дыхание ровным. Операция началась. Продолжалась она недолго, раненого привезли к нам своевременно, и его удалось спасти.
Наконец я освободился и вышел из операционной. Позвали повозочного.
— Из какой вы части? — поинтересовался я, поздоровавшись.
Повозочный решил, что я недоволен доставкой раненого из другого соединения, и, назвав свою часть, стал пояснять:
— В нашей бригаде еще не развернута медсанрота, поэтому доктор Пелагеина и велела везти к вам.
— Правильно сделали, — успокоил я солдата. — Далеко бы его не успели довезти, а мы спасем. Так вас направила Пелагеина?
— Так точно…
Я на всякий случай назвал некоторые приметы Лиды. Солдат подтверждающе кивал головой, повторяя:
— Она, она и есть… Вы знаете нашего доктора? Она очень складная и заботливая о раненых.
— Мы с ней учились вместе, — пояснил я. — Поезжайте, голубчик, к себе, передайте привет своему доктору.
— От кого?
— От доктора Гулякина…
Я уже хотел вернуться к праздничному столу, но тут привезли еще двух раненых. Так и не удалось отдохнуть ни в тот вечер, ни в предпраздничную ночь. Под утро завершив работу, сказал санитару Житину:
— На завтрак меня не будите. Принесите в землянку. Высплюсь, сам разогрею.
В одиннадцатом часу проснулся от шума. Прислушался. Жития убеждал кого-то подождать, не будить меня, дать отдохнуть после тяжелой ночной работы. По голосу узнал, что о санитаром разговаривает мой хороший товарищ командир автороты гвардии капитан Сергей Жердецкий. Накинув шинель, вышел и позвал Сергея в землянку.
— Миша, не знаю, что и делать. Утром приехала на санитарной машине какая-то женщина-врач и стала расспрашивать, как найти медсанбат, работает ли там Гулякин и как его повидать. Я спросил, знает ли она тебя. Ответила, что давние знакомые…
— Да где же она?
— Оставил в своем фургоне, а сам за тобой на мотоцикле. Думаю, с ней тебе встретиться лучше у меня. А то ведь что Маша подумает?
Дело в том, что тогда уже мы с Машей Морозовой решили пожениться после войны, и, зная об этом, Сергей беспокоился, как бы не произошла какая-нибудь несуразица.
— Ты уж чересчур, — успокоил я его. — Что ж мне теперь с другими женщинами и поговорить нельзя?
— Ну это твое дело, смотри. А все же лучше поедем ко мне — она ведь там ждет.
Минут через пять мы были возле походного домика-прицепа. Поднялся в фургон и увидел Лиду — встревоженную, взволнованную.
— Ну, Миша, — сказал Сергей, — извини, у меня дела, — и оставил нас вдвоем.
Лида воскликнула:
— Неужели это ты?! Даже не верится… Как узнала вчера, что ты рядом, успокоиться не могла.
Я, честно сказать, растерялся и не знал, что ответить.
— Что это за предосторожности? — сразу успокоившись, напрямую спросила она. — Почему меня в медсанбат не пустили? Ты что, женат?
Я рассказал ей, как обстоят дела.
— Вот как. Значит, незваная гостья, — сухо заключила Лида и, открыв дверь фургона, спрыгнула на землю.
— Подожди, Лида! — крикнул я.
— Прощай, — бросила она в ответ. — Я больше не напомню о себе.
Подошли Сергей Жердецкий и Михаил Корниенко, его заместитель по техчасти. С минуту мы стояли молча, потом эту неловкую ситуацию нарушил Жердецкий:
— Ну что, ребята, вон повар обед несет. Пошли в фургон.
Офицеры, не сговариваясь, перевели разговор на другую тему. Жердецкий поинтересовался у Корниенко, сколько машин сегодня ходило за боеприпасами, потом рассказал, что они с заместителем командира дивизии по тылу выезжали смотреть новый район расположения подразделений тыла в лесу неподалеку от деревни Демихи.
— Хохлов мне поведал, что предстоит прорыв каких-то немецких укреплений, — сообщил Жердецкий.
— Да, я слышал, — отозвался Корниенко и обратился ко мне: — Скоро и вам будет работа.
Я кивнул, но ничего не сказал, думая о своем.
Так и прошел обед. Поблагодарив товарищей, я направился в расположение медсанбата.
— Подбросить на мотоцикле? — спросил Жердецкий.
— Пройдусь пешком, — ответил я. — Всего-то меньше двух километров.
Дорога шла через густой хвойный лес. Я невольно залюбовался природой, но думы мои были невеселыми. Вроде и не виноват ни в чем, а все равно как-то неуютно чувствовал себя после встречи с Лидой.
9 ноября по приказу командования весь приемно-сортировочный взвод и часть операционно-перевязочного взвода были выдвинуты ближе к переднему краю и развернуты в лесу. Вечером мы уже грелись у теплых «буржуек», установленных в развернутых палатках, и кляли ужасную дорогу, непролазную грязь, которую с трудом преодолели по пути сюда. Говорили о том, что, вероятно, долго здесь не задержимся. Уже уяснили: если рядом располагается танковая часть, значит, скоро идти вперед. Правда, смущали раскисшие, непроходимые дороги Полесья — мы уже видели брошенные фашистами застрявшие в трясине бронетранспортеры и автомашины, танки и тяжелые орудия.
В середине дня 10 ноября открыла огонь наша артиллерия, заговорили «катюши». Командир предупредил, но мы и так уже знали, что через полтора-два часа появятся раненые. К приему их были готовы. На новом месте к этому времени развернулась основная часть медсанбата. У Лоева остались лишь хозяйственный взвод и небольшая группа из госпитального взвода с нетранспортабельными ранеными.
Волновало одно: как быстро смогут доставлять к нам раненых по таким непроходимым дорогам? Командир приказал выставить пикеты, разослать во все части и отдельные подразделения известие о новом расположении медсанбата.
Раненые стали поступать лишь под вечер, причем небольшими партиями. Особенно беспокоился Неутолимов. Ему казалось, что нас не могут найти, но, к нашей радости, выяснилось, что причина в другом — прорыв обороны врага обошелся сравнительно малой кровью. Если в первые сутки к нам поступило около 160 раненых, во вторые — около 120, то на третьи их было не более 20, а в последующие дни и того меньше.
В памяти остался такой случай. Привезли к нам двух раненых немецких солдат. Оба о повреждениями ног, не могли самостоятельно передвигаться, а потому их, очевидно, и бросили свои.
Интересно было наблюдать, как отнеслись к ним наши раненые. Одни красноармейцы смотрели на поверженных врагов молча, с презрением, с чувством брезгливости. Другие, проходя мимо носилок, на которых лежали гитлеровцы, беззлобно говорили:
— Ну что, довоевались, фрицы?
Немцы отвечали стандартно: «Война нихт гут, Гитлер капут!» Были и такие, кто сочувствовал, успокаивал пленных. Кто-то из солдат, раненной в руку и уже прооперированный, говорил:
— Наши доктора сделают операцию, останетесь живы… Война для вас кончилась… Курить хотите?.. Раухен? — повторил, видя, что его не понимают.
Пожилой немец радостно отозвался:
— Я, я…
Наш боец не спеша достал из кармана кисет, старательно свернул самокрутку, помогая себе кистью раненой руки, и закурил. Потом сказал немцу:
— На, раухен…
Тот взял цигарку дрожащими руками, затянулся жадно, закашлялся — русский табак далеко не немецкий суррогат — и пролепетал:
— Данке, данке… Зер крафт…
Наш боец, очевидно, не понял его слов, но догадался по смыслу и снисходительно прибавил:
— Давай, давай, раухен…
В это время подошли санитары и забрали немцев в перевязочную. Боец наш пошел следом, с любопытством наблюдая, какое впечатление произвела на пленного его самокрутка. Потом сказал санитарам:
— Пусть покурит перед операцией… Это помогает. А дерет наш табачок что надо! — И засмеялся довольно.
Вот вам душа советского человека. Несколько часов назад он видел в этом гитлеровце лютого врага, которого необходимо уничтожить, а теперь жалел его, обезвреженного, поскольку того ожидали физические страдания, — операция-то дело нешуточное, никому она не доставляет удовольствия. Не злопамятен, не мстителен наш человек, он добр и отзывчив, но, конечно, готов и за себя постоять, за свою Родину, когда недруги пытаются посягнуть на нашу честь и достоинство.
Остановка на этом месте действительно оказалась кратковременной. На пятый день добрались до нашего расположения остатки подразделений, оставшиеся в Лоеве. О том, как им там приходилось работать, говорит происшествие с Владимиром Тарусиновым. В пути он заснул на сиденье рядом с водителем. Машина шла хотя и медленно, но ее сильно раскачивало, на избитой дороге бросало из стороны в сторону. На одном из ухабов дверь кабины открылась — и Володя вывалился на обочину. Ночь была темной, ехали без света, и шофер не сразу заметил, что рядом нет старшего. Лишь преодолев трудный участок пути, он обнаружил это, остановил машину и нашел Тарусинова спящим в 30–40 метрах позади. Володя, утомленный бессонными сутками и тяжелой работой, не проснулся даже при падении. Хорошо, что так обошлось, мог ведь попасть под колеса идущей сзади машины.
…В ночь на 18 ноября гитлеровцы начали отвод своих войск из междуречья. Наша дивизия вместе с другими соединениями корпуса овладела городом Речицей и получила наименование Речицкой.
Вскоре нам приказали направить передовой отряд медсанбата в направлении деревень Давыдовка и Великий Бор. А дальше были Паричи и Бобруйск.
Вперед выехала бóльшая часть медсанбата. С нетранспортабельными ранеными на этот раз оставили двух наших врачей. Мы надеялись, что раненых скоро заберет идущий вслед за нами хирургический полевой подвижный госпиталь.
До Давыдовки напрямую было не более 10–12 километров. Но раскисшие от дождя дороги не давали двигаться быстро. Часто мы стояли часами из-за заторов. Когда прибыли на место, уже стемнело. Здесь нас озадачили известием о том, что до приведения дороги в порядок движение автотранспорта невозможно и надо ждать указаний командира дивизии. Удалось найти представителя санитарного отдела армии. Он сообщил, что в Давыдовке разместятся тыловые учреждения армии, в том числе один из госпиталей, хотя ранее нас ориентировали, что он будет находиться в Василевичах.
Утром стало известно, что из-за создавшихся пробок от Давыдовки невозможно движение ни вперед, ни назад даже на гужевом транспорте. Часть груза мы заранее переложили на повозки, но в создавшейся обстановке это не помогло. Что было делать? Решили двинуться кружным маршрутом. Наш эшелон составили четыре одноконные повозки, максимально заполненные имуществом. Ну и снова, как зимой под Ливнами, нагрузили на себя все необходимое для работы операционно-перевязочного взвода и отправились пешком — раненые ждать не могли. Естественно, были отобраны крепкие, сильные люди, способные перенести такой марш. Особенно это касалось среднего медперсонала. Старшая операционная сестра гвардии лейтенант медицинской службы Зоя Федоровна Шлягина взяла с собой Анну Киселеву, Марию Морозову, Анну Горюнову, Аллу и Лелю Вишневских и других наиболее выносливых девушек. В вещевых мешках у них были инструменты, медикаменты, перевязочные материалы, сухие пайки для себя и для будущих пациентов.
Около половины пути, четыре-шесть километров, преодолели сравнительно легко. Было туманно, но дождь прекратился. Дорога шла вдоль лесной опушки. Должно быть, местные жители давно уже не пользовались этим маршрутом, а потому дорога заросла травой и идти по ней было очень трудно.
Вместе с нами первое время шли связисты с двумя повозками, доверху нагруженными катушками с телефонным проводом и другим своим имуществом. Их было пять человек — два сержанта и трое рядовых. Скоро связисты познакомились с нашими девчатами, слышались шутки, смех. И вдруг кто-то крикнул:
— Немцы!
Следом прозвучала команда:
— К бою!
Связисты рассыпались в цепь. Скоро один из них закричал:
— Хенде хох!
Наши медсанбатовцы гвардии рядовые Анатолий Никитин и Николай Лазарев, вооруженные автоматами, присоединились к связистам.
Загрохотали выстрелы, потом раздался зов о помощи:
— Врача, срочно врача!
Мы с Машей Павликовой и Костей Кусковым поспешили на крик. Метрах в десяти от повозки связистов лежал сержант. Я осмотрел его — он был мертв. Примерно в сорока метрах валялся труп фашиста, чуть подальше стонал раненый гитлеровец.
Вскоре связисты выловили и подвели еще троих вражеских солдат. Они остановили их возле убитого сержанта и молча указали на него. Пленные начали лопотать по-своему, убеждая, будто огонь вели не они. Все дружно показывали на убитого фашиста — это, мол, он стрелял.
Я велел Кускову оказать помощь раненому немцу. Остальных связисты повели в свою часть, заставив предварительно закопать убитого гитлеровца. Погибшего в перестрелке сержанта они положили на носилки, чтобы затем, в части, похоронить с почестями.
Оставалось решить, что делать с раненым врагом. Все смотрели на него с ненавистью, ведь это и он мог стрелять в нашего сержанта. Но к пленным, тем более раненым, советские воины не применяли оружия, это противоречило бы нашей морали, нашим традициям. Я приказал погрузить раненого на одну из повозок и везти в медсанбат.
Едва мы приготовились к движению, как с удивлением увидели впереди ЗИС-5 с бойцами в кузове. Из кабины вышел офицер и подозвал к себе старшего из связистов. Оказалось, что они из одной части.
— Мы пытались этой дорогой проехать к Великому Бору, да не вышло, — пояснил офицер. — Дорога обрывается, дальше — болота.
— Вам тоже не проехать, — добавил шофер. — Надо искать другой путь.
Связисты сели в машину, положили в кузов и своего погибшего товарища. Отправили мы с ними и раненого гитлеровца, поскольку трудно теперь было сказать, когда доберемся до места назначения.
Офицер-связист подошел к нам и предупредил:
— Будьте осторожны, много фрицев по лесу бродит. Отбились от своих частей, и теперь кто в плен сдается, а кто и огрызается, как вот эти… Ну, желаю удачи. — И он скрылся в кабине.
Автомобиль, а за ним две повозки связистов двинулись в путь.
К счастью, нам удалось избежать опасных встреч. Под вечер с опушки леса открылась деревня. На ее улице виднелась колонна машин, вокруг сновали бойцы. За околицей стояла большая палатка с выведенной наружу трубой, из которой вовсю валил дым.
— Что это? — удивился Костя Кусков. — Вот это топят!..
— Наверное, хлебопекарня, — предположил Анатолий Никитин.
Он оказался прав. Дивизионная хлебопекарня уже приступила к делу. Здесь разместились и готовились к работе и другие тыловые подразделения дивизии. Нам показали место расположения медсанбата — большой жилой дом и здание школы, угол которого был снесен, но основная часть строения осталась невредимой.
Мы сразу приступили к оборудованию помещений. Пустые оконные рамы обтянули плащ-палатками.
Вместе с офицером тыла дивизии гвардии майором Александром Усановым обошли здания. Во время обхода я рассказал о встрече с немцами в лесу, посоветовал принять меры к охране хлебопекарни и других учреждений тыла.
— Уже приняли, — ответил Усанов. — Тут уж такое произошло…
— Что? — заинтересовался я.
— Только между нами…
И он рассказал о случившемся минувшей ночью…
Заместитель командира дивизии по тылу гвардии подполковник Хохлов добрался до отведенного ему для ночлега дома уже далеко за полночь. Ординарец с помощью хозяйки приготовил ужин, который так и остался нетронутым. Офицер есть отказался — слишком устал.
Хозяйка ушла спать в маленькую комнатушку, а замкомдива и ординарец расположились на лавках в прихожей. Ординарец перед сном привернул фитиль фонаря.
Едва заснули, как разбудил звук упавшего на пол котелка. Все вскочили и увидели возле стола гитлеровского солдата с поднятыми руками.
Ординарец бросился к столу, фонарь ярко осветил комнату. Фашист что-то говорил, был он очень испуган.
Уже потом с помощью переводчика удалось выяснить, что это один из блуждавших по лесу гитлеровцев. Он утверждал, что давно бросил автомат и будто бы даже собирался сдаться в плен. В дом пришел, когда там никого не было. Хотел просто погреться, да заметил в окно идущую вместе с советским бойцом хозяйку. Спрятался от них на печке, чтобы переждать, а потом убежать. Они же так и остались в комнате. Потом пришел офицер и все улеглись спать. Тогда-то он и решил покинуть дом. Осторожно слез с печки, но не удержался и подошел к столу — ведь уже несколько дней ничего не ел. Потянулся к котелку, да в полутьме случайно уронил его на пол.
Случай был курьезным, но свидетельствовал он и о потере бдительности. Ординарец даже не удосужился проверить дом, прежде чем поселить там своего начальника. Заместитель командира дивизии строго наказал его за это. Ведь могло все кончиться трагически, окажись вместо этого трусливого гитлеровца такой, как встретился нам в лесу…
Вскоре в деревню прибыл медсанбат, и снова нашему передовому отряду предстоял марш. Теперь нас решили разместить в хуторе Язвине, что в нескольких километрах западнее.
Начались заморозки, грунт окреп, и передвигаться стало легче. Мы выехали рано утром, когда дороги еще не раскисли. Хутор был небольшим, дома в основном все уцелели, в одном из них, самом просторном, развернули перевязочно-операционную на два стола.
А на западе гремели бои. Мы наступали, но враг оказывал упорное сопротивление, цепляясь за каждый выгодный рубеж. Уже в первые сутки после нашего развертывания в хуторе поступило двенадцать носилочных раненых. Легкораненые оставались на лечение в медицинских пунктах частей, никто не хотел уходить в тыл в дни успешного наступления.
С приходом холодов дорожностроительным частям наконец-то удалось наладить пути подвоза и эвакуации. Нас догнали штаб, госпитальный взвод и хозяйственные службы медсанбата.
Наступление постепенно замедлялось, части выдыхались, им нужен был отдых, пополнение людьми, техникой, вооружением, боеприпасами. Все чаще появлялись в небе гитлеровские самолеты.
В один из ясных декабрьских дней наш медсанбат и расположившийся рядом медпункт 114-го гвардейского стрелкового полка трижды подверглись налетам авиации противника. Первые два обошлись без потерь, А вот третий запомнился особо…
Мы уж думали, что враг оставил нас в покое. Я работал в операционной, рядом, как всегда, стояли ассистент и медицинские сестры. В окно, прорываясь сквозь редкие облака, изредка заглядывал закатный луч солнца. Было тихо и спокойно. И вдруг тишину нарушил гул самолета, по всей вероятности летящего на бреющем.
Прогрохотала серия взрывов, затем, спустя минуты, еще одна, уже ближе.
— К нам примеряется, — сказал санитар-носильщик.
Я не прекратил работу, полагая, что третьего захода, может, и не будет. И вдруг задребезжали стекла, рев мотора ворвался в операционную. Я быстро взглянул в окно и увидел брюхо «мессера», даже заметил небольшие бомбы, отделившиеся от фюзеляжа. Крикнул:
— Ложись!
А сам отскочил в сторону, к стене — в небольшом помещении лечь уже оказалось некуда.
Качнулась земля, зазвенели стекла. В окно ворвалась взрывная волна, нас осыпали мелкие осколки. Они были на излете и никому не причинили вреда. Раненого же санитары успели снять со стола и укрыть.
Я вышел из помещения и увидел дымящиеся обломки большого сарая. Поинтересовался, есть ли раненые. Их не оказалось. Но порадоваться не успел. Примчалась повозка из медсанбата. На ней лежало три санитара-носильщика.
— Быстро в перевязочную! — приказал я и расспросил у санитара, сопровождавшего их, что произошло.
— Убито трое местных жителей, — ответил санитар и потупился.
— Что? Что еще? — с тревогой спросил я.
Оказалось, что в щель, где укрылись командир медсанроты 114-го гвардейского стрелкового полка гвардии капитан медицинской службы Евгений Пронин, старший военфельдшер медпункта гвардии старший лейтенант медицинской службы Игорь Иваницкий и еще санинструктор (фамилию его, к сожалению, не помню), попала бомба…
— Прямое попадание? — зачем-то переспросил я.
— Да… Все трое погибли, — подтвердил санитар.
Я представил себе, как все это могло произойти, и стиснул зубы. Пронина и Иваницкого я знал давно. Подошел Костя Кусков, побледнел, услышав печальную весть, — он ведь в Сталинграде служил на медпункте этого полка…
— Надо узнать, когда похороны, — сказал я. — Позвони в полк. Пойдем проститься с товарищами…
Уже после войны, прибыв как-то по служебным делам в Центральное медицинское управление Министерства обороны, я стал в очередь к окошечку бюро пропусков. И вдруг услышал знакомую фамилию. К окошечку просили подойти майора медицинской службы Пронина…
Я вздрогнул и тут же вспомнил Женю Пронина. Да, он рассказывал, что отец его тоже был на фронте и что он тоже военный врач.
«А вдруг это он и есть?» — мелькнуло в голове.
Я шагнул к кабине, где выдавались пропуска, но подумал; а не принесу ли боль человеку, если это отец Евгения, напоминанием о гибели его сына? Да и что я могу добавить? Наверняка командование полка направило письмо с подробным описанием того, как делал Женя Пронин свое дело и как погиб он на боевом посту во время налета вражеских стервятников…
Майор медицинской службы получил пропуск и пошел к выходу. Я неотрывно смотрел на него, и он, видя мое волнение, остановился, подошел ближе.
— Простите, вас что-то заинтересовало? — спросил он.
— Да… — вынужден был я признаться. — Скажите, пожалуйста, кто-либо из ваших родных был на фронте?
Он внимательно посмотрел мне в глаза, затем перевел взгляд на орденские планки, на гвардейский знак. Вероятно, его внимание привлекла ленточка медали «За оборону Сталинграда», потому что он вдруг сказал:
— Вы, я вижу, воевали в Сталинграде, в гвардейском соединении?
— Да…
— Тогда, быть может, вы знали моего сына, военного врача Евгения Пронина?
— В Сталинграде я его еще не знал. Познакомились в зимнем наступлении под Курском…
— Значит, вы его знали! — оживился Пронин-отец.
И я рассказал все, что помнил и знал… С Женей мы дружили, часто встречались. Я рассказал о том, как он работал, как самоотверженно оказывал помощь раненым. О том, как мы проводили его в последний путь…
Майор продолжал держать меня за руку, потом вдруг попросил сесть за стол и набросать схему того места, где похоронены Женя и его друзья.
— Теперь мне будет что рассказать матери о нашем дорогом мальчике, — тихо сказал он. — Ведь в официальных документах таких подробностей, конечно, не было…
За эти несколько минут мне довелось вновь пережить, теперь уже вместе с Жениным отцом, всю горечь и боль утраты и понять, что для родителей дети независимо от их возраста остаются дорогими мальчиками или девочками навсегда…
Однако вернусь к суровому времени войны. После несчастий, которые постигли нас в хуторе Язвине, поступила задача срочно переместиться на 6–8 километров в южном направлении, в небольшой хуторок Притыки.
Части нашей дивизии, достигнув вместе с соседями рубежа Озаричи, Паричи, образовали выступ в полесских болотах в сторону Бобруйска. На том рубеже и остановил нас противник, заранее подготовив оборону и подтянув резервы.
В хутор Притыки раненые поступали нечасто — накал боев снизился. В этот период, проводя санитарно-эпидемиологическую разведку в окрестных деревнях, мы выявили много больных сыпным тифом. Стали выяснять причины. Оказалось, что в районе Озаричей фашистские оккупанты создали несколько концентрационных лагерей, в которых содержались тысячи советских граждан под открытым небом, в грязи. Сюда гитлеровцы специально свозили тифозных больных из других лагерей, дабы после освобождения этого района Красной Армией вызвать в нем эпидемию. Расчет был коварен: красноармейцы бросятся на помощь узникам и контакт с ними приведет к повальному заражению. Но враг просчитался. Медики своевременно разгадали черный замысел фашистов. Были организованы эвакуация больных и их лечение, а также профилактика в окрестных населенных пунктах.
Естественно, что нам пришлось немало поработать, чтобы не допустить случаев заболевания среди личного состава. К тому времени советская медицина уже создала вакцину против сыпного тифа, применение которой обеспечивало надежную профилактику.
Помню, 19 декабря я выехал в батальон связи и разведроту дивизии для проверки их санитарного состояния и проведения профилактических прививок. Несмотря на то что в этих подразделениях своих врачей не было, недостатков я не обнаружил.
Закончив все дела, решил повидать Ивана Кузьмича Брушко и заехал в штаб дивизии. Брушко на месте не оказалось. Зашел к начальнику оперативного отделения, чтобы узнать, где Иван Кузьмич и скоро ли будет. Тот с недоумением посмотрел на меня и в свою очередь спросил:
— Что вы здесь делаете?
Я пояснил.
— Значит, вам не сообщили? Немедленно возвращайтесь в медсанбат. Обстановка обострилась. Сегодня разведчики доложили, что перед правым флангом дивизии враг сосредоточил большое количество танков и пехоты. Надо быть готовым ко всему.
Он посоветовал срочно возвратиться в медсанбат, забрав по дороге всех медиков, которые находились в различных частях и подразделениях с теми же задачами, что и я.
— Да, и предупредите Власова, чтобы был готов к немедленным действиям. Пока официального распоряжения о переводе медсанбата в другой район нет, но может быть с минуты на минуту.
От штаба до медсанбата было километра четыре. Передав по пути медикам указание срочно вернуться в батальон, я поскакал на своем Гнедке вперед, чтобы предупредить обо всем командира. Однако тому уже обо всем сообщил по телефону заместитель командира дивизии по тылу. Отдав необходимые распоряжения, он сказал:
— И вот еще о чем попрошу… Постарайтесь найти предлог, чтобы отправить в тыл генерала Павловского.
— Попробую, — пообещал я.
Дело в том, что как раз в это время по поручению начальника Главного военно-санитарного управления Красной Армии генерал-полковника медицинской службы Е. И. Смирнова в войсках фронта проводил инспекцию начальник военно-санитарного управления Туркестанского военного округа генерал-майор медицинской службы К. Н. Павловский. С ним вместе прибыл из Москвы в качестве представителя главного терапевта Красной Армии майор медицинской службы Г. П. Шульц. Он пробыл у нас недолго, поспешив отправиться в госпитали, где тоже предстояло кое-что сделать. А Павловский объездил все полковые медицинские пункты, побывал даже в батальонах. Он жил в том же доме, что и я, и общение с этим опытным медицинским работником давало мне очень много.
Константин Никанорович Павловский происходил из династии известных медиков. Его старший брат, Евгений Никанорович, был академиком, младший, Василий Никанорович, занимал высокую должность в действующей армии.
Генерал Павловский проводил проверку со знанием дела, интересовался организацией нашей работы, вносил дельные предложения, особенно касающиеся выноса раненых с поля боя. За период пребывания в медсанбате он привык к нашему ритму жизни. Константин Никанорович был человеком общительным, одиночества не любил и всегда старался дождаться нас с Костей Кусковым, который тоже жил в этом же доме, чтобы вместе поужинать.
В тот вечер мы снова собрались за столом. Константин Никанорович поинтересовался результатами моей поездки в части. Я рассказал, что проверка дала положительные результаты. Потом, памятуя о просьбе командира медсанбата уговорить Павловского уехать в тыл, я поведал о сложившейся в полосе дивизии обстановке.
— Что ж, — сказал он, — значит, опасаетесь за жизнь генерала…
— Сейчас, наверно, уже не до проверок, бои надвигаются тяжелые, — осторожно вставил я, боясь обидеть Павловского. — Все врачи будут заняты на потоке…
— Ну ладно. Действительно, находясь здесь, буду только от дела людей отрывать. Да и ясна мне уже вся картина, пора ехать.
После ужина я разыскал командира эвакоотделения гвардии старшего лейтенанта медицинской службы Василия Мялковского и приказал ему подготовить к немедленной отправке раненых, поступивших во второй половине дня.
— Выехать нужно сегодня, — сказал я. — По дороге проводите до санотдела армии генерала Павловского.
Едва машины с ранеными отъехали, как появились новые, уже из полков. Я посмотрел на часы, было около 23-х. Подошел к офицеру о перебинтованной рукой, поинтересовался, что с ним.
— Большой палец ампутировали, — ответил офицер и прибавил: — Как же не вовремя… Готовится враг ударить, по всему видно, готовится. Я сам наблюдал, как перед позициями моей роты немецкие танки выходят на исходные… А за высотками тоже гул моторов. Не сегодня завтра начнут.
Офицера увели на перевязку, а я отправился в операционную. Когда закончил работу, перевалило за полночь. Надо было успеть отдохнуть перед завтрашним днем, который обещал быть горячим.
В 8 часов утра меня попросил прийти в перевязочную ординатор хирургического взвода Г. М. Яловенко. Шел по морозцу, вслушивался в тишину, и казалось, что все вчерашние тревоги напрасны.
В перевязочной увидел раненого. Я быстро приготовился к работе, подошел к столу и определил, что у доставленного с передовой проникающее ранение в живот, но он вполне, как говорят медики, операбелен. Встретивший меня Яловенко ушел по своим делам, а я отдал распоряжение готовить операцию и через несколько минут начал ее. За час успел ушить два раневых отверстия тонкой кишки и ревизовать другие органы, но дел еще оставалось немало.
Вновь появился Яловенко. Он был чем-то встревожен, и я поинтересовался, что стряслось.
— Приказано срочно эвакуироваться, — сообщил Яловенко. — Начинаем свертывание медсанбата.
— Хорошо, — сказал я. — Примите в этом участие. Собирайте и грузите имущество, позаботьтесь о нетранспортабельных раненых. Их — в машину. Я буду заканчивать операцию…
Работал, казалось со стороны, долго. Несколько раз заглядывал водитель ЗИС-5 гвардии рядовой Аркадий Оборин. Его автомобиль стоял возле операционной в ожидании. Чувствовалось, что Аркадий волнуется. Я же не имел права ни на миг ускорить операцию, ведь быстрота в данном случае могла привести к неблагополучному исходу.
Трудно, очень трудно разобраться в происходящем, когда доподлинно не знаешь обстановки. Мы же были осведомлены о ней лишь в очень общих чертах. И когда я, закончив операцию, вышел на улицу, был поражен увиденным. С возвышенности, на которой находился наш медсанбат, хорошо просматривались река и небольшой мост через нее, по которому сплошным потоком шли тыловые подразделения, обозы. Очень это напомнило лето 1942 года, когда к Дону спешили немецкие танки, а под их натиском поспешно отходили наши разрозненные группы воинов и мелкие подразделения. Нет, безусловно, теперь и порядка было больше, и силенок у нас поприбавилось, но враг еще был далеко не слабым и не прощал ошибок. Я не знал, чем был вызван поспешный отход, но ясно понял, что медлить нельзя.
Командир транспортного взвода гвардии старшина Алексей Богданов, видя, что на мосту вот-вот может возникнуть пробка, подогнал к нему машины и так удач-по расположил их, что они образовали своего рода коридор.
Я побежал в дом за шинелью и командирской сумкой. По пути поторопил с отъездом командира госпитального взвода гвардии капитана медицинской службы Быкова, который что-то замешкался. Раненых необходимо было вывезти в первую очередь. Встретил Константина Кускова и Лидию Аносову. Костя сказал, что они пешком пойдут на хутор Язвин, потому что на машинах все места заняты ранеными.
— На Язвин не ходите, — посоветовал я. — Там болота, — и указал им более целесообразное направление.
Захваченный общей суматохой, я вбежал в дом и тут был изумлен еще больше: санитар гвардии рядовой Никитин спокойно, как ни в чем не бывало, накрывал на стол. Увидев меня, сказал:
— Вы обедать? Садитесь, все готово…
— Живо собирайся! — крикнул я. — Одевай шинель, бери оружие!
— Что случилось?
— Сейчас сам увидишь.
Уже на крылечке, оглядевшись вокруг, Никитин понял, что действительно надо спешить. Перед домами, в которых мы размещались, развертывались батареи 86-го гвардейского артполка. 76-мм пушки устанавливались на позиции для стрельбы прямой наводкой по танкам. Командующий артиллерией дивизии гвардии полковник Яскевич и командир артполка гвардии подполковник Гусаров стояли чуть поодаль и отдавали распоряжения. Увидев нас, Яскевич махнул рукой, и я подумал, что он нас торопит.
А минутой позже вдали показались немецкие танки. Завязалась огневая дуэль. Убедившись, что все автомашины и повозки медсанбата вышли на основную дорогу и начали марш к новому району размещения, мы вместе с замполитом, начальником штаба и командиром автотранспортного взвода медсанбата поехали следом.
Артиллерийская канонада, гудевшая на западе, постепенно стала перемещаться на север. Судя по всему, враг вклинился в нашу оборону на стыке с соседней дивизией.
В лесу, неподалеку от деревни Великий Бор, мы получили приказ остановиться и замаскировать машины. Нужно было ждать указаний о развертывании, которые, понятно, находились в прямой зависимости от обстановки на переднем крае.
Я решил осмотреть раненых. Они были уложены на хороший подстилки и укрыты спальными мешками, меховыми одеялами, но тем не менее требовался постоянный контроль за их состоянием — ведь на улице было до 10 градусов мороза. Осмотр показал, что все обстоит благополучно.
Развернулись походные кухни. В них приготовили чай, чтобы хоть пока с его помощью согреть людей. Ждали новых распоряжений. И вот в полночь 20 декабря поступил приказ войти в деревню Великий Бор. Дальнейших уточнений не последовало, и командир медсанбата принял решение разместить раненых в подходящих для этого помещениях и развернуть часть подразделений для приема раненых из полков.
К сожалению, помещения выбирали наспех, не думая, что здесь придется задержаться надолго. Поэтому когда началась работа, я пожалел, что не нашел здания получше. Обошел соседние дома, обнаружил в одном из них просторную комнату, удобную для размещения операционной, но она была занята штабом соседнего соединения.
Раненые поступали из нашей дивизии и еще из артиллерийской, действовавшей вместе с нами.
Как всегда бывает при недостатке информации, ползли слухи и кривотолки об обстановке. Пролил свет на ситуацию доставленный к нам раненый командир 86-го гвардейского артполка гвардии подполковник Гусаров.
При подготовке к осмотру Гусарову ввели в вену противошоковую жидкость, обработали рану. Ему стало лучше, и он начал рассказывать о том, что довелось пережить в минувшие сутки частям нашей дивизии.
Гитлеровцы, воспользовавшись тем, что на стыке двух армий не оказалось стрелковых частей и позиции занимали только артиллеристы, прорвали оборону на одном из участков и вышли во фланг нашей дивизии, части которой оказались в полукольце. В прорыв противник ввел до 60 танков.
С фронта врага успешно сдерживали наши полки при поддержке артиллерии, в том числе и противотанковой, а вот на фланге сил и средств для противодействия прорвавшимся танкам не оказалось. Сюда и был брошен 86-й гвардейский артполк. Орудия, поставленные на прямую наводку, расстреливали танки, выходившие из мелколесья и развертывавшиеся для атаки. Артиллеристы, не прикрытые пехотой, стояли насмерть, до последнего снаряда. Не оставалось снарядов — бросали под гусеницы танка последнюю гранату.
— В общем, — заключил Гусаров, — как на Бородинском поле… Как раз накануне боя рассказал я нашим молодцам о приказе известного русского артиллерийского военачальника генерала Александра Ивановича Кутайсова. Знаменитом приказе, помню его наизусть. Генерал требовал перед Бородинским сражением: «Подтвердить от меня во всех ротах, чтоб оне с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем господам офицерам, что, отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции. Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий…»
Я усомнился в том, что Кутайсов мог спокойно рассуждать о возможном пленении его артиллеристов вместе с орудиями. Гусаров усмехнулся.
— Да нет, он вовсе так не думал. Но учитывал, что артиллерийские командиры из-за внушенного им чрезмерного опасения потерять орудия в бою иногда раньше времени снимали пушки с позиций и не использовали всех их возможностей для поражения врага. А те, кто приучены держаться до последнего, с помощью картечных выстрелов в упор просто не дадут противнику подойти к позициям.
Гусаров помолчал, а потом, вздохнув, сказал:
— Вот так и наши стояли, насмерть… Не досталось гитлеровцам ни одного исправного орудия. Но потери фашистов искупили гибель пушек. Много мы вражеских танков пожгли, очень много…
А затем он поведал о подвигах подоспевших на помощь стрелковых подразделений. Командир батальона 114-го гвардейского стрелкового полка гвардии майор Сорокин, умело расположив подразделение на выгодном рубеже, блокировал дорогу и отрезал от танков пехоту противника. Он геройски погиб в бою, но и гитлеровцы понесли большие потери: воины его батальона уничтожили более полутора десятков вражеских танков.
Оказалось, также, что командующий артиллерией дивизии погиб, и тогда, при развертывании 86-го гвардейского артполка, вовсе он не махнул нам рукой, торопя задержавшихся медсанбатовцев, а, смертельно раненный осколком снаряда, непроизвольно сделал это движение, падая замертво.
Едва не погибли и командир дивизии, начальник политотдела. Они покинули командный пункт последними, когда наконец удалось наладить оборону. Выехали напрямик через болото, что простиралось за хутором Притык. Добрые были у них кони. Мне приходилось ездить и на Торпеде комдива, и на Буране начальника политотдела. Стройная серой масти Торпеда хорошо шла под седлом, спокойно, зато Буран вполне оправдывал свою кличку — был горяч, стремителен, порывист.
Начало зимы оказалось обманчивым. Снег запорошил болото, но подмерзла лишь небольшая кромка, а под тоненьким ледком — топь, трясина. Обе лошади и провалились. Ординарцы едва успели вытащить командира дивизии и начальника политотдела… Долго потом и гвардии генерал-майор Ушаков, и гвардии полковник Смирнов тосковали по своим коням — верным боевым друзьям.
За рассказом Гусарова я не заметил, как появился дивизионный врач. Нам приказали немедленно отправить всех раненых в госпитали, располагавшиеся в Давыдовке и Василевичах, а самим развернуться в лесу в четырех километрах юго-восточнее деревни Великий Бор.
Наши части продолжали тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника. Враг нажимал, но на помощь нам уже спешили две дивизии 95-го стрелкового корпуса, в состав которого включалась теперь и наша, 37-я гвардейская. Отход постепенно прекратился, а вскоре мы восстановили положение, вернувшись на прежние рубежи, где были внезапно атакованы врагом. После этого наша дивизия была возвращена в 18-й стрелковый корпус и выведена во второй эшелон для пополнения. Мы оказались на левом фланге армии, где готовилось наступление на Калинковичи и Мозырь. Медсанбат разместился в лесу перед Василевичами.
В те дни у меня произошла одна интересная встреча. К нам приехал представитель эпидемиологического отдела военно-санитарного управления Белорусского фронта и главный паталогоанатом фронта профессор Н. А. Краевский. Николай Александрович вел нашу группу в мединституте и меня сразу узнал. Я постарался принять его как можно радушнее, пригласил в свою землянку, где попытался сделать нечто похожее на шашлык. Он интересовался делами медсанбата, особенно паталого-анатомической службой, моими успехами на хирургическом поприще.
Я испытывал чувство неловкости оттого, что мой учитель, профессор имеет равное со мной звание — майор медицинской службы. Но его это совершенно не тяготило и не беспокоило.
Побыл Н. А. Краевский у нас недолго, утром следующего дня он выехал в расположение одного из бывших гитлеровских концентрационных лагерей. Там предстояло выполнить большие противоэпидемические мероприятия. Николай Александрович участвовал и в работе комиссии по расследованию злодеяний фашистов в концентрационных лагерях близ поселка Озаричи.
По приказу командования армии некоторые наши части принимали участие в освобождении населенных пунктов, вблизи которых находились лагеря. Многие местные жители уже болели сыпняком, среди же всех освобожденных больных было более 33 тысяч человек, в том числе свыше 15 тысяч — детей до 13 лет.
В нашей дивизии благодаря комплексу профилактических мероприятий, проведенному медиками, случаев заболеваний сыпняком не было. Правда, слег А. Ф. Фатин. Лечение затянулось, и было подозрение, что у него тиф. В госпитале этот диагноз сняли, а после выздоровления Фатин там и остался служить. Болезнь затянула его официальное назначение, а потому я еще долгое время был исполняющим обязанности ведущего хирурга. Но вот приказ состоялся. Товарищи тепло поздравили меня. Вскоре на должность командира медсанбата прибыл к нам бывший старший врач одного из полков 69-й стрелковой дивизии капитан медицинской службы Я. С. Фок. А на место убывшего в воздушно-десантные войска Сергея Неутолимова пришел опытный политработник майор Н. В. Орлов, до мобилизации работавший в одном из райкомов партии города Саратова.
Несколько позже сменился и командир дивизии. Гвардии генерал-майор Е. Г. Ушаков уехал на учебу, а его заменил полковник В. Л. Морозов, служивший до назначения к нам в погранвойсках на Дальнем Востоке. Ему было уже за пятьдесят, он казался неразговорчивым, суровым с виду человеком.
А пока что после освобождения 14 января 1944 года Калинковичей и Мозыря наступила, говоря военным языком, оперативная пауза. Дивизия занималась приемом пополнения, обучением личного состава, подготовкой к предстоявшим боям. Совершенно неожиданно меня стали привлекать к политико-воспитательной работе в частях как ветерана дивизии. Однажды я высказал удивление, отчего это вдруг выбор пал на меня. Начальник политотдела ответил:
— Мало у нас осталось тех, кто начинал с первых дней…
И это было действительно так. Многих потеряли мы на трудных дорогах войны, многие ушли на повышение, перевелись в другие соединения. Стал начальником штаба 18-го стрелкового корпуса гвардии полковник И. К. Брушко, убыл на должность ведущего хирурга медсанбата соседнего соединения бывший ординатор операционно-перевязочного взвода В. П. Тарусинов. Словом, ездил я по полкам и батальонам, которые значительно обновились, рассказывал о нашем боевом пути до переформирования соединения, о боях под Москвой, о создании на базе 1-го воздушно-десантного корпуса 37-й гвардейской стрелковой дивизии, о героических подвигах однополчан.
Разумеется, говорил и о самоотверженном труде медиков на фронте. Об этом тоже слушали с большим интересом: каждому хотелось убедиться, что есть в дивизии, полках и батальонах умелые и отважные медики, на которых можно положиться в трудную минуту. С собой я брал кого-нибудь из санитаров, удостоенных наград за вынос раненых с поля боя. Я рассказывал и о том, о чем когда-то говорил десантникам: о важности быстрого оказания первой помощи и своевременной доставки раненого на батальонный или полковой медицинский пункт.
Забегая вперед, скажу, что многие из тех, кто присутствовал на этих беседах, впоследствии, попадая к нам по ранению, с благодарностью вспоминали о слышанных ранее советах.
Раненых в те дни поступало к нам немного, их без задержки выносили с поля боя, вовремя оказывали помощь на батальонных и полковых медицинских пунктах, да и мы имели возможность с каждым заниматься более обстоятельно. На БМП и ПМП значительно увеличился объем помощи — чаще применялось переливание крови, введение противошоковых и других физиологических растворов. При огнестрельных переломах больших трубчатых костей и суставов, а также при проникающих полостных ранениях производились новокаиновые блокады. Да и вообще улучшились показатели работы всей санитарной службы дивизии.
Все это до некоторой степени разгрузило наших врачей, позволило им больше времени уделять борьбе за жизнь тяжелораненых, особенно тех, кто потерял много крови и едва оправился от шока. Постепенно мы осваивали методику лечения таких раненых: восстанавливали и поддерживали сердечную деятельность с помощью ретроградного введения в полость сердца через сонную артерию пятипроцентного раствора глюкозы с перекисью водорода и адреналином. Кровопотерю возмещали одновременным внутриартериальным и внутривенным переливанием крови, физиологических жидкостей, а также лекарственных средств, стимулирующих сердечную деятельность и функцию дыхания. Делалось это при помощи капельницы с тремя изолированными просветами.
Многое тогда из того, что теперь кажется обычным и простым, было совершенно новым, малоосвоенным. Особенно — борьба с шоком, который во фронтовой обстановке встречался довольно часто.
Рисковали ли мы, применяя новые, не всегда еще освоенные и утвердившиеся методы лечения? По сути, нет. Как правило, альтернативы не имелось: либо раненый должен был погибнуть, либо мы могли попытаться его спасти.
В марте-апреле 1944 года мы попытались таким образом спасти пятерых раненых в возрасте от 23 до 40 лет. Все они были в безнадежном состоянии из-за большой потери крови вследствие обширных повреждений мягких тканей туловища и конечностей. Путем внутриартериального и внутривенного переливания крови и различных лечебных препаратов мы стремились по возможности устранить губительное влияние кровопотерь, являвшихся основной причиной критического состояния раненых.
За работу брались с надеждой на успех, хотя, конечно, в чудеса никто не верил. Верили в силу и большие компенсаторные возможности человеческого организма и, безусловно, в приобретаемые знания и опыт наших специалистов, в их энергию, страстное желание помочь людям.
По существу, эта работа была для нас в значительной мере новой. За ее результатами следили в медсанбате все, следили с надеждой, ибо каждый понимал, какое высокое, гуманное значение имеет то, что вершится в операционно-перевязочном взводе. Наши мероприятия были похожи на эксперименты, но они проводились не для экспериментов, а ради спасения людей. Если и искали новые способы лечения, то не для личного престижа, а во имя той же цели — ради спасения тех раненых, которые прежде считались безнадежными.
Потому и решили развернуть, например, широкую борьбу с шоком. Очень хорошо помню первого раненого, за жизнь которого мне довелось бороться методом, который мы пытались осваивать у себя в медсанбате. Уже после внутриартериального введения пятипроцентного раствора глюкозы с адреналином и выполнения искусственного дыхания состояние раненого стало на глазах улучшаться. Появился пульс, стало определяться артериальное давление, чего ранее сделать не удавалось, постепенно стабилизировалось дыхание. Это радовало. Однако тревожило, что кожа у пациента оставалась бледно-пепельного цвета, не поднималась температура тела.
Мы обогрели раненого, но и это не помогло. Не возвращалось у него сознание, оставались широкими зрачки, которые практически не реагировали даже на яркий свет. Каждому врачу ясно, что это — симптомы безнадежного состояния пациента…
Я стоял, склонившись над операционным столом, и мучительно искал выход. Нужно было срочно довести раненого до такого состояния, при котором можно начать операцию, иначе время на нее окажется упущенным.
Как же тяжело ощущать собственное бессилие! Казалось, есть все внешние условия для борьбы за жизнь вот таких, считающихся безнадежными, пациентов. Затишье на фронте, врачи не заняты на потоке, не пострадают десятки других раненых, пока мы занимаемся одним. Но мы никак не могли реализовать свои возможности. После первых сдвигов, после кажущегося улучшения состояния раненого у него вдруг опять ухудшилось дыхание, стал ослабевать пульс, резко пошло вниз артериальное давление. Прошло еще несколько минут — дыхание и сердце остановились…
Неудачи постигли нас и при попытке спасти еще двух безнадежных, агонирующих раненых. У одного из них было проникающее осколочное ранение грудной клетки, а у другого — брюшной полости и голени. Эффект восстановления сердечной деятельности сохранялся 15–20 минут, но потом у обоих, увы, наступил летальный исход — слишком тяжелыми были травмы и их последствия.
Для улучшения переносимости оперативных вмешательств мы совершенствовали методы обезболивания. Для этого попытались прибегнуть к использованию слабых растворов гексенала и новокаина, хотя и знали, что применение гексеналового наркоза во фронтовых условиях не поощрялось, поскольку он резко снижал артериальное давление. Однако гексенал не раз попадал к нам из-за нехватки эфира и других анестезирующих веществ.
Нужно сказать, что никаких отрицательных последствий использование гексенала ни разу не вызвало. Правда, мы снижали концентрацию препарата и вводили его внутривенно капельным способом вместе с физиологическим раствором, что позволяло контролировать поступление гексенала в кровяное русло, стабилизировать у раненых сосудистый тонус и артериальное давление. На операцию по поводу проникающего ранения живота при средней ее протяженности от полутора до двух часов расходовалось 0,2–0,4 грамма гексенала. Наркозный сон протекал очень спокойно, что вызывало у присутствовавших хирургов удовлетворение.
У нас состоялись две армейские хирургические конференции, на которые мы представили доклады по опыту лечения проникающих ранений живота и шока при огнестрельных переломах больших трубчатых костей и крупных суставов. Наш опыт получил одобрение. Армейский хирург профессор полковник медицинской службы Г. Д. Гаджиев особо подчеркнул, что в медсанбате 37-й гвардейской стрелковой дивизии наиболее высок процент успешно завершенных операций и наименьшая летальность при проникающих ранениях живота.
На обеих конференциях много говорилось и о необходимости активизации борьбы с травматическим шоком, применения новых средств лечения раненых.
Вскоре после второй конференции мне приказали провести занятия на сборах войсковых медиков по той же теме. А в конце марта 1944 года снова пришлось вернуться к вопросу лечения агонирующих раненых, и вот при каких обстоятельствах.
Я находился в операционно-перевязочном отделении, когда в медсанбат приехал главный хирург фронта (к тому времени он стал 1-м Белорусским) профессор генерал-майор медицинской службы В. И. Попов. Приезд его был для нас неожиданным. В. И. Попов в сопровождении дивизионного врача Ю. А. Боголюбского, командира медсанбата гвардии капитана медицинской службы Я. С. Фока и его заместителя по политчасти гвардии майора Н. В. Орлова вошел в предоперационную и оттуда спросил, по какому поводу я оперирую раненого.
Я ответил, что у пациента проникающее слепое ранение живота с повреждением печени и желудка.
— Продолжайте операцию, — сказал Попов. — А закончите ее, зайдите в землянку комбата.
Беседа с главным хирургом фронта запомнилась надолго. Он сразу указал на лежащие перед ним бумаги, журналы. Один из журналов был открыт. Я обратил внимание на протокол хирургического вмешательства, на котором наискось была наложена какая-то резолюция.
Попов взял в руки журнал и сказал:
— Весь прочитал… Внимательно изучил, да и прежде знал от Гаджиева о неплохих результатах вашей работы. А вот бесполезным делом заниматься незачем. Вы описали результаты семи процессов наблюдения за восстановлением и поддержанием жизненных функций у раненых, находившихся в критическом шоковом состоянии. А знаете ли вы знаменитые пироговские положения о медицине на войне?
— Конечно, основные знаю, — ответил я. — Но хотел бы заметить, что и время, и средства, затраченные на оказание помощи тем семерым раненым, не нанесли ущерба лечению других. Мы занимались этой работой в периоды, когда не было больших поступлений раненых.
— А кто составлял протоколы? Здесь мистика какая-то! Можно подумать, что вам удалось исцелять агонирующих раненых.
Я вчитался в один из пунктов текста и понял причину этой реплики: уж больно бодрые записи сделал Яловенко, который вел протоколы. Действительно, получалось, что мы чуть ли не чудеса творили. Пытались творить — это так, но пока успеха не имели.
Пришлось признать, что некоторые записи не соответствуют нашим поискам и полученным результатам.
Видимо, Попов почувствовал, что разговор огорчил меня, потому что, прощаясь, подбодрил, пожелал успехов и заметил:
— Увлеченность своей профессией — дело хорошее, но надо все-таки знать, что реально, а что нереально в нашем деле.
Когда Попов уехал, Боголюбский упрекнул командира медсанбата за то, что тот (это было еще до моего прихода после операции) чересчур разоткровенничался и наговорил лишнего о наших попытках борьбы с тяжелым шоком и лечения раненых в агонирующем состоянии. Фок стал оправдываться, поясняя, что сделал он это только в надежде на поддержку, — ведь известны же положительные результаты в борьбе с шоком.
Заместитель командира батальона по политчасти Николай Васильевич Орлов, внимательно прислушиваясь к спору, сказал:
— В конце концов, мы никакого преступления не совершили. Известно, что смерть не внезапный, не мгновенный акт, а длительный процесс, и многие наши отечественные исследователи установили, что этот процесс не является необратимым. А потому и не прекращаются попытки борьбы за восстановление жизненных функций организма.
И мы продолжали поиск, хотя никак не могли докопаться до истины. Уже после войны я понял, что дело не только в восстановлении сердечной деятельности. Нужно полностью восстановить дыхание, а с ним и окислительные процессы, что без специальных аппаратов во фронтовых условиях сделать было невозможно.
Да, в нашей работе были и успехи, и неудачи, но неудачи не останавливали нас. Мы не опускали руки и продолжали совершенствовать свои навыки, знания, накапливать опыт. Все это потом очень пригодилось для лечения раненых.
Глава восьмая ВЕСНА И ЛЕТО СОРОК ЧЕТВЕРТОГО
Дикие соседи. — Ободряющая статья. — Эх, дороги… — Встреча с братом. — И грянул «Багратион». — Опасный рейс. — Жарко в Беловежской пуще. — «В общем, хорошо заживает…»
Вот и остались позади зимние холода. Хотя снег еще лежал в лощинах и лесах, на полях он уже побурел, а пригорки полностью очистились, обнажилась прошлогодняя трава.
Весенняя распутица остановила активные боевые действия на нашем участке фронта. Но мы знали по опыту — так долго продолжаться но может.
Как-то ночью меня разбудил дикий, заунывный вой. Я не сразу мог понять, в чем дело. Но чувствовал: разгадка близка — однажды, давным-давно, я уже слышал нечто подобное.
Заснуть теперь не мог. Я встал, вышел на улицу, снова прислушался к странным звукам и вдруг вспомнил — да это же волчий вой… Но откуда здесь, во фронтовой полосе, волки? Мы привыкли к тому, что в тех районах, где останавливается медсанбат, всегда находящийся поблизости от переднего края, почти все замирает — уж во всяком случае дикого зверя не встретишь. Да, затишье затянулось, коль и волки освоились рядом с нами.
Оказалось, что не только я, многие наши ребята ночью не спали, а особенно переволновались девушки. Стали выяснять, откуда взялись волки. Узнали, что неподалеку от нас соседи-ветеринары сбросили в овражек трупы лошадей и вопреки всем правилам не удосужились в течение нескольких дней закопать их. Вот и собирались там голодные волчьи стаи. А потом они настолько осмелели, что стали навещать места расположения тыловых подразделений и даже днем разгуливать по дорогам и тропам. Пришлось принимать меры, иначе просто опасно стало передвигаться по тыловому району. Но даже использование оружия не всегда пугало волков, — видно, голод оказывался иной раз сильнее пуль. Они снова и снова осаждали хозяйства ветеринаров и других тыловиков, пока те не навели у себя порядок с погребением павших лошадей.
Ритм нашей работы оставался по-прежнему спокойным, размеренным. Операции были не частыми, и мы не спешили с эвакуацией раненых с проникающими ранениями груди и живота, а учили свой персонал самим лечить этих пациентов. Отправляли в госпитали раненых, когда они начинали самостоятельно передвигаться. Эвакуировали и тех тяжелораненых, которым требовались специализированная хирургическая помощь, а после нее — длительное лечение.
Продолжали мы и борьбу с шоком. Я тщательно изучал наши учетные данные, просматривал записи в журналах. Убедился, что и на полковых медицинских пунктах достаточно широко использовались различные противошоковые мероприятия: внутривенные переливания противошоковых растворов (Петрова, Асратяна, Попова), блокады при переломах костей и проникающих ранениях груди, живота, добивались надежной иммобилизации поврежденных конечностей и осуществляли щадящую транспортировку раненых. Применение в дополнение к этому уже в медсанбате переливания консервированной крови, тщательная обработка огнестрельных переломов позволили на 12 процентов увеличить число раненых, которых можно было оперировать по поводу ранений живота, и на 6 процентов снизить летальные исходы при шоке, вызванном огнестрельными повреждениями крупных трубчатых костей и суставов.
Увы, самое большее, чего мы добивались, — это продление жизни агонирующих раненых до 5, иногда 8 часов. Да, нам удавалось воспламенить искру жизни, но вновь заставить ярко гореть ее мы не могли.
Я внимательно следил за тем, что делалось в других медицинских учреждениях. Однажды газета «Правда» рассказала о достижениях лаборатории советского патофизиолога доктора медицинских наук Владимира Александровича Неговского, которая занималась исследованием возможностей восстановления жизненных функций организма. Ее опыт говорил о том, что и наши усилия не бессмысленны, успеха же мы не могли добиться, как я уже упоминал, из-за отсутствия соответствующей аппаратуры.
А вскоре после публикации той статьи наш медсанбат посетила комиссия военно-санитарного управления 1-го Белорусского фронта во главе с заместителем начальника управления полковником медицинской службы Здравомысловым. Среди членов комиссии оказался и мой однокашник по мединституту Иван Махунь.
Командир медсанбата показал им номер газеты «Правда» и наши рабочие журналы, в которых были записи об аналогичных исследованиях. Здравомыслов сразу понял намек и пообещал обязательно напомнить генералу Попову о нас.
В конце марта в Полесье началось обильное таяние снега. Правда, по ночам еще бывали заморозки, затвердевали до утра раскисающие за день дороги, поэтому все передвижения делались ночью. Гудели моторы, автомобили подвозили к передовой все необходимое для боевых действий, подтягивалась артиллерия, выдвигались в исходные районы танки и самоходные артиллерийские установки.
Официально никто не говорил О предстоящем наступлении. Напротив, старались объяснить активизацию ночных передвижений именно распутицей. Но мы понимали, что делается это в целях маскировки. О том, что готовятся значительные события, свидетельствовали и другие факты. В частях все чаще появлялись представители старших штабов, к нам наведывалось высокое медицинское начальство. Да и от раненых, как всегда, поступала интересная, волнующая и многообещающая информация. Там проведен успешный поиск, там — разведка боем. И настроение у наших пациентов поднималось прямо на глазах. Легче они переносили боль, быстрее вылечивались. Каждый спешил встретить важный час в своем подразделении вместе с боевыми друзьями.
Веселее стали и письма от моего старшего брата. Он старательно намекал, что его часть готовится к серьезным делам.
Помню, 24 марта я отправил ему свое очередное письмо и вдруг необычно скоро, уже 26 числа, получил ответ. Это удивило. Я понял, что брат где-то близко… К тому же он сообщал, что регулярно читает газету «Сталинский удар». Это тоже был хорошо понятный мне намек — ведь газета-то принадлежала нашей 65-й армии. Я поспешил к начальнику полевой почты дивизии, показал ему номер полевой почты брата и попросил узнать, где находится эта часть. На следующий день, побывав на армейском пункте связи, он выполнил мою просьбу. Укрепрайон, в котором служил Алексей, располагался в районе деревни Медвидь — небольшого населенного пункта на левом фланге пашей армии. Я прикинул по карте — до него около 30 километров.
«Вот бы повидаться!» — подумал тут же и решил обратиться к командиру медсанбата. В его землянке встретил начальника политотдела дивизии гвардии полковника А. М. Смирнова. Выслушав мою просьбу, с которой я с его разрешения обратился к комбату, он сказал:
— Да это мы сейчас же и решим… — И, сняв трубку полевого телефона, попросил соединить с командиром дивизии.
Переговорив с ним, сказал мне:
— Можешь ехать. Если хочешь, возьми мою эмку.
— Спасибо! — поблагодарил я. — На эмке, конечно, ехать удобнее, но боюсь, не пройдет она по нынешним дорогам. Лучше воспользуюсь нашей испытанной медсанбатовской полуторкой.
— Да, пожалуй, ты, Михаил, прав, — кивнул начальник политотдела и пожелал мне счастливого пути.
Рано утром 28 марта я отправился в путь. Был небольшой морозец, и полуторка легко бежала по оледеневшему снежному покрову большака. И вдруг впереди мы с Костей Лория, нашим медсанбатовским водителем, которому было поручено отвезти меня в Медвидь, увидели хвост колонны боевой техники и автомашин. Колонна шла очень медленно, оставляя за собой глубокую колею.
— Этак сядем мы по самые мосты, — покачал головой Костя.
И действительно, под тяжестью танков ледок, покрывший за ночь дорогу, перемололся и обнажились все колдобины.
— Что же делать? — огорченно спросил я.
— Попробуем найти объезд, — ответил водитель.
Я достал карту. Внимание привлек проселок, который шел параллельно основной дороге. На него мы и свернули. Проехали еще несколько километров, но солнышко стало заметно пригревать и наледь подтаивала, превращалась постепенно в непролазное месиво. В небольшой низинке машина по самые оси увязла в грязи.
— Кажется, приехали, — сказал Костя и открыл дверь кабины.
Осмотревшись, он решил попробовать выбраться своими силами. Автомобиль толкали по очереди, сменяя друг друга за баранкой. Устали, вымокли до нитки и решили передохнуть.
Минут через пять я пошел искать какое-нибудь подразделение, чтобы попросить тягач. Выручили артиллеристы, стоявшие в ближайшем лесу. Скоро нас доставили на сухое место, и мы продолжили путь уже с большими предосторожностями — дорога была очень обманчивой.
Наконец добрались до нужной мне части. Я попросил найти брата. Начальник штаба посмотрел мои документы и приказал немедленно прислать Алексея.
Брат долго не мог поверить в такое чудо — обнимал меня, похлопывал по плечу, словно полагая, что произошла ошибка. Весь день мы провели вместе, а вечером в землянке Алексея собрались его сослуживцы, чтобы разделить радость своего товарища. Меня расспрашивали о многом, очень интересовались, как воюют гвардейцы. Их-то часть входила в состав укрепрайона и чаще всего бывала в обороне. Расспрашивали и о работе медиков на фронте.
Мы так и не легли спать, проговорили с Алексеем до утра, вспомнили детство, юность, помянули погибших братьев.
Когда прощались, Алексей сказал:
— Вот бы встретиться в Берлине… С тобой, да еще бы и с отцом…
В середине июня в медсанбат приехал заместитель командира дивизии по тылу и собрал офицеров на совещание. Речь шла о подготовке к грядущим боям. Мы поняли, что ждать осталось недолго. И действительно, вскоре нам приказали сменить район расположения медсанбата и приготовиться к приему раненых.
К вечеру 22 июня мы уже оборудовали новое место и развернули все свои функциональные подразделения. А утром следующего дня неожиданно для нас заработала артиллерия. Правда, артподготовка была очень короткой, и мы недоумевали, уж очень не походило это на начало большого наступления. Все разъяснилось позже, когда к нам стали поступать раненые. Они рассказали, что была проведена разведка боем, которая прошла успешно, и батальон, атаковавший противника, выполнил поставленные перед ним задачи.
А поздно вечером получили подтверждение о подготовке к приему раненых. Теперь никаких сомнений не оставалось — завтра начнется. И снова санитарные машины были расписаны по частям, водителей ознакомили с маршрутами эвакуации раненых.
В 7 часов утра 24 июня началась артподготовка — уже не такая реденькая, что слышали мы накануне. Огненный шквал обрушился на оборону противника. Мы этого, конечно, не видели, ибо находились в нескольких километрах от переднего края, но хорошо слышали все, что творилось вокруг.
Давненько нам не приходилось участвовать в операциях подобного масштаба. Врачи и медсестры еще и еще раз проверяли готовность своих рабочих мест. Командир приемно-сортировочного взвода М. И. Стесин уже несколько раз выходил на дорогу и смотрел, не идут ли машины. Нет, мы их, конечно, рады были бы не ждать. Лучше, чтобы их не было совсем, то есть не было бы раненых. Но такое, к великому сожалению, на войне невозможно.
Стесин волновался еще и потому, что ему первому предстояло встретить раненых и сразу начать ответственнейшую работу по их сортировке. Сознавал он и то, как важно, чтобы встреча раненых была теплой, чтобы они с первых же минут были окружены заботой.
На фронте практически каждый командир и каждый боец знал, где располагается медсанбат, и к людям в белых халатах все относились с особым уважением. Бывало, идут войска к новым рубежам, готовятся к наступлению и вдруг замечают указатель о том, что поблизости находится медсанбат. И непременно кто-нибудь с теплотой в голосе скажет:
— Наш медсанбат-то уже здесь… Молодцы медики…
И спокойнее становится на душе воина, появляется уверенность, что, случись несчастье, помощь будет оказана своевременно. И каждый знал, что примут раненого добрые руки врачей, медсестер, санитаров. Да, и санитаров… Я до сих пор помню многих наших замечательных, самоотверженных помощников — санитаров В. Кузнецова, Н. Лазарева, К. Миникаева, И. Романенко и многих других. Это они встречали раненых, аккуратно, стараясь не потревожить, перекладывали на операционные столы, а затем несли в палатки госпитального взвода. Их грубые мужские руки становились нежными и ласковыми.
Каждый раненый помнит руки медицинских сестер, еще более нежные и заботливые, и каждый вспоминает руки хирурга, хотя встреча с нами, хирургами, далеко не приятное дело. Операция — это тревога, это сильная боль, это, конечно, и риск. Но все окупается тем, что операция, являясь единственным средством спасения раненого, обычно помогает.
Мы не ослабляли внимания к любой категории раненых даже в такие трудные периоды, как Сталинградская и Курская битвы. Впрочем, и в дни Белорусской наступательной операции, получившей наименование «Багратион», было нисколько не легче. Легче только морально, потому что каждый чувствовал: победа — не за горами. Но если под Сталинградом медсанбат находился на одном и том же месте от начала и до конца своих действий, а на Курской дуге — большую часть времени, то в Белорусской наступательной операции нам пришлось постоянно, иногда чуть ли не каждый день, менять район расположения. Случалось, медсанбат перемещали на новые рубежи по нескольку раз в день. Отсюда вытекала и своеобразная тактика наших действий. Мы не всегда полностью развертывали все подразделения, быстрее эвакуировали раненых, которым уже была оказана помощь, в следующие за нами госпитали. Эти госпитали часто размещались в тех местах, где до них находились мы.
Средний темп наступления достигал 30–40 километров в сутки. Впрочем, все это не влияло на качество помощи раненым. Здесь мы никогда не спешили. Если уж медсанбат надо было развернуть полностью, то эта задача и вся другая работа выполнялись по всем правилам: тщательно проводилась сортировка, на высоком уровне делались хирургические операции и перевязки.
Одно из развертываний выполнили в деревне Каменково, перед Барановичами. Здесь нам пришлось принять свыше ста раненых из соседней 193-й стрелковой дивизии, одна из частей которой на марше попала под бомбежку.
Несли потери и мы, медики. В тот день получила тяжелое ранение Лида Аносова. Как ни уговаривала она оставить ее в батальоне, эту просьбу мы удовлетворить не могли: слишком серьезное и длительное предстояло лечение. Да и недолго мы находились в районе Каменкова. Гитлеровцы, потерпев поражение под Барановичами, отступали, боясь оказаться в окружении, и темпы продвижения наших войск еще больше увеличились — все спешили быстрее выйти к государственной границе с Польшей. Разрывы между наступавшими дивизиями достигали иногда 10 километров. Это грозило неприятностями, одну из которых в те дни чуть не испытал передовой отряд медсанбата.
А случилось вот что. Поздно ночью 22 июля мы остановились на ночлег в большом белорусском селе. Название его запомнить не удалось — уж больно часто меняли мы населенные пункты, продвигаясь вслед за наступавшими частями. Товарищи собрались в хате, чтобы поздравить меня с днем рождения. Быстро накрыли стол, но, едва сели, приехал заместитель командира дивизии по тылу гвардии подполковник Хохлов. Он поставил комбату задачу немедленно выделить передовой отряд в составе приемно-сортировочного и операционно-перевязочною взводов и в 5.00 начать его выдвижение в направлении наступления дивизии — к Бугу, государственной границе. Меня назначили старшим этого отряда.
Естественно, мы сразу начали подготовку к действиям. Надо было продумать, что следует взять с собой, поэтому я так и не сомкнул глаз в ту ночь. В 4.00 поднял личный состав, организовал завтрак, получение и погрузку имущества на четыре выделенные нам машины, рассадил людей и ровно в 5.00 скомандовал: «Вперед!»
Погода в те дни стояла хорошая, дороги были ровными, укатанными, и машины шли на высокой скорости. Все как будто бы развивалось нормально, но то, что мы увидели в первом же встретившемся село, насторожило меня — жители вышли встречать нас хлебом и солью… Обычно такой прием оказывали тем, кто освобождал село или входил в него первым. Так неужели на этот раз первыми оказались мы? Подумать бы хорошо, почему это случилось, остановиться, выяснить обстановку, да куда там — все мысли были о раненых, потому и спешили. Поблагодарив жителей за радушную встречу и расспросив их, не видели ли они поблизости немцев, мы двинулись дальше. Сообщение о том, что фашисты ушли накануне, успокоило меня.
Проехали еще километров пять или шесть. Меня удивило, что ни разу не попалась ни одна встречная машина, не обогнали мы, несмотря на высокую скорость, никакого попутного транспорта. Дорога шла лесом. Тишина стояла непривычная и подозрительная. Наконец я решил остановить автомобили, укрыть их и провести разведку.
Посоветовался накоротке с врачами Стесиным, Кусковым и Коваленко. Мое решение направить вперед разведдозор они одобрили. Но сделать это мы, к счастью, не успели. Я услышал на дороге шум мотора. Машина ехала с той же стороны, откуда прибыли и мы. Увидев меня, из «виллиса» вышел командующий артиллерией нашей дивизии гвардии полковник Руденко:
— Что вы здесь делаете? — удивился он.
Я пояснил и указал на замаскированные в лесу автомобили.
— Хорошо, что догадались остановиться, — сказал Руденко. — Обстановка изменилась. Я хочу догнать свою батарею, которая ушла утром в том же направлении. Не дай бог, попадутся в засаду. Разверните машины и ждите меня. Одни не возвращайтесь! Не ровен час, нарветесь на гитлеровцев — быть беде.
Вернулся он минут через сорок. За «виллисом» следовали четыре 76-мм пушки и дивизион «катюш». Как оказалось, они успели побывать в том районе, куда посылали и нас, но хорошо, что не встретились с вырывавшимися из окружения немецкими частями, которых немало бродило по лесам в те дни.
Руденко поставил нашу колонну сразу за двумя тягачами с пушками, чтобы она оказалась в центре походного порядка и была защищена от всяких неожиданностей.
Выехав из леса, мы увидели, что параллельную дорогу бомбят фашистские самолеты. А вскоре впереди заметили машины, стоявшие на обочине, в кустарнике. Неподалеку стрела указывала, что в ближайшем лесу располагается медсанбат. К нему вел наезженный проселок. На небольшом пригорке, возле ответвления этого проселка, сидели командир дивизии гвардии полковник В. Л. Морозов и начальник политотдела гвардии полковник А. М. Смирнов.
Я остановил колонну, поблагодарил гвардии полковника Руденко за сопровождение и подошел к командиру дивизии. Начальник политотдела с раздражением, которого я прежде за ним не замечал, спросил:
— Кто же это вас направил занимать плацдарм на западном берегу Буга?
— Сил для захвата плацдарма у меня нет, — в шутливой форме ответил я и тут же серьезно добавил: — Мы собирались принимать раненых, которые будут при форсировании.
Морозов заключил:
— Я прикажу разобраться и строго наказать виновных… Вы представляете, что было бы, нарвись вы на немцев? Да они бы всех вас… — Комдив махнул рукой. — Они сейчас совсем озверели, чуют свой конец.
Морозов помолчал и уже более мягко спросил:
— Будете с нами обедать?
Я поблагодарил, сказав, что спешу в медсанбат, где наверняка уже много раненых.
— Да, соседей крепко бомбили, — сочувственно произнес Смирнов. — Говорят, и медсанбат их пострадал, так что раненых, вероятно, к вам будут направлять…
Через некоторое время мы были у себя. Командир медсанбата, выслушав мой доклад, сказал:
— Переволновались мы за вас… У соседей большие потери. Погибла жена главного хирурга фронта — она возглавляла в медсанбате 69-й стрелковой дивизии противошоковую бригаду. Много раненых… Пострадало и имущество. Оттуда уже приходили одалживать у нас медикаменты. С ранеными пока сами справляются.
— А как у нас?
— У нас все в порядке…
Только теперь, успокоившись, я почувствовал, как устал. Сказалась и бессонная ночь. Я отказался от обеда, забрался в кузов автомобиля и заснул. Сколько проспал, не знаю, разбудила команда «По машинам». Противник начал обстреливать наш район бризантными снарядами, и было приказано быстро сменить его, уйти в глубь Беловежской пущи, в более безопасное для работы место.
По дороге стали свидетелями боя, который вели наши стрелковые подразделения с вырывавшимися из окружения вражескими танками. Фашистские подразделения, рассеянные ранее и застрявшие в нашем тылу, теперь собирались и действовали большими сильными группами. Мы вполне могли оказаться на пути одной из них во время своей утренней поездки. Отовсюду поступали данные о зверствах фашистов. Во время попыток выйти из окружения гитлеровцы, встречая на своем пути наши тыловые подразделения, набрасывались на них, уничтожали всех, кто попадался. Они глумились и над ранеными — вырезали звезды на теле, выкалывали глава, отрезали уши.
На ликвидацию этих изуверских групп, оказавшихся в нашем тылу, были брошены резервы, и вскоре стали поступать раненые. Поскольку бой проходил в непосредственной близости от места нового расположения медсанбата, они попадали к нам практически необработанными, ведь везли их, минуя батальонные и полковые медпункты, прямо к нам в батальон.
Вскоре над нашими головами прошли эскадрильи краснозвездных штурмовиков и неподалеку загрохотали взрывы. Авиаторы нанесли удар по вражеским танкам, но и после этого бой продолжался очень долго, и не раз еще летчики штурмовали невидимые нам цели. Мы же не отходили от операционных столов. Я подсчитал тогда, что за двое суток работы в Беловежской пуще к нам поступило раненых примерно столько же, сколько за то же время при прорыве дивизией хорошо подготовленной обороны врага. В результате в медсанбате сконцентрировалось огромное количество раненых, в том числе около двух с половиной десятков нетранспортабельных.
Как бы ни было трудно, весь личный состав медсанбата испытывал огромный подъем. Наши войска, вышвырнув фашистских захватчиков из пределов Советской Родины, ступили как освободители на польскую землю.
Неподалеку находилось село Путковицы. Жители его охотно оказывали нам помощь, предлагали ухаживать за ранеными до подхода госпиталей. Мы воспользовались их советом — не везти же раненых с собой, ведь неизвестно, что ожидало нас впереди. Рассказали польским сельским девушкам о мерах помощи раненым. Особое внимание уделили группе нетранспортабельных. Для ухода за ними мы оставили врача, который должен был после передачи раненых догнать батальон.
Много поработали медики в те дни, чтобы сохранить жизнь десяткам раненых. Особенно запомнился мне молодой капитан-танкист, весь в орденах, красивый парень, Он был доставлен к нам с тяжелым шоком, у него оказались серьезные повреждения печени, пульс едва прощупывался, давление — в нижних пределах.
Я велел немедленно сделать переливание крови. Придя в сознание, танкист внимательно наблюдал за всеми процедурами. Самочувствие у него постепенно улучшалось, но, видно, офицер догадывался о наших колебаниях относительно целесообразности операции. И он подозвал меня. Когда я склонился над ним, капитан попросил:
— Сделайте, что можно… Вот увидите, вытерплю… На мне с детства все заживает, как… в общем, хорошо заживает. — И он изобразил некое подобие улыбки.
Я распорядился перенести его в операционную.
Очень нелегкой была та операция. Пришлось ушить большую долю печени, сделать тампонаду сальником, ушить желудок, тоже сильно поврежденный, удалить осколки, застрявшие в большом сальнике. Все это было огромным испытанием для организма человека. Танкист молодцом выдержал его, и я испытывал твердую уверенность в том, что через некоторое время он сумеет вновь крепко стать на ноги.
Глава девятая К ФАШИСТСКОМУ ЛОГОВУ
Ужасы Треблинки. — Орден-спаситель. — Фронтовые университеты. — «Почему не награжден?» — Первая «мирная» операция. — Поклонимся павшим. — Итак, около 14 тысяч…
Нашей дивизии пришлось проходить мимо фашистского концентрационного лагеря Треблинка. Отступая, гитлеровцы сожгли его, однако замести следы своих преступлений фашистским зверям не удалось. Среди углей кругом виднелись не до конца сгоревшие скелеты, в том числе очень много детских, валялись остатки одежды, обуви. Во рвах были обнаружены трупы людей с пробитыми головами, развороченными грудными клетками — узников истребляли самыми садистскими способами. Местные польские жители рассказывали, что в первую очередь гитлеровцы уничтожали советских людей.
Долго стояло перед глазами увиденное в лагере смерти. Хотелось взять оружие и нещадно бить фашистов. Но мы понимали, что делаем свое важное дело. Помнится, во время войны в одной из газет мы нашли слова о том, что медицинское обслуживание на фронте стоит в одном ряду с авиационным и артиллерийским обслуживанием, что медицинские работники в рядах армии так же нужны, как бойцы и командиры.
5 сентября 1944 года передовые подразделения нашей дивизии форсировали реку Нарев, захватили плацдарм и попытались овладеть в других местах двумя мостами. Этого, однако, сделать не удалось. Гитлеровцы провели контратаку крупными силами танков и взорвали мосты, а затем обратили удар на плацдарм. Завязались ожесточенные бои.
Наш медсанбат развернулся в четырех километрах восточнее Нарева в тенистой лощине, близ которой проходила дорога на Пултуск. Расположение оказалось очень удачным. С одной стороны, мы находились вблизи путей эвакуации раненых, а с другой — рядом не имелось таких важных объектов, которые гитлеровцы могли бы бомбить и обстреливать из артиллерийских орудий.
Работа всех функциональных подразделений медсанбата с первых дней проходила исключительно организованно, несмотря на то что непрерывные, почти двухнедельные бои принесли большой поток раненых и надо было только успевать поворачиваться. К нам поступало от 160 до 220 человек в сутки, причем не только из нашего соединения. Соседи запоздали с развертыванием своих медсанбатов, и мы принимали раненых танкистов, артиллеристов, а также пехотинцев другой дивизии.
Одним из первых оперировал я заместителя командира 118-го гвардейского стрелкового полка по политчасти гвардии майора П. Н. Яковлева. Пуля попала в орден Красного Знамени, помяла его, рикошетом ушла в среднюю часть левого плеча, раздробив кость и повредив плечевую артерию и вену. Рука у Яковлева оказалась нежизнеспособной. Присутствовавшие при осмотре раненого Стесин и Кусков, не ожидая вопроса, высказались за ампутацию, и я вынужден был провести ее — иного выхода не оставалось.
Вечерам зашел навестить Яковлева. Он был удручен, все никак не хотел верить, что остался без руки. Я спросил, хочет ли он заменить изуродованный орден на новый.
— Никогда! — ответил Яковлев. — Он же спас мне жизнь…
Личный состав нашего батальона продолжал самоотверженно трудиться, обеспечивая медицинской помощью воинов наревского плацдарма. Благодаря хорошей организации дела результаты лечения были высокими. Из двадцати восьми человек, прооперированных по поводу проникающих ранений в живот, умерло двое от прогрессирующего перитонита, который неизбежно осложнял этот вид ранений. Один скончался через двадцать суток после операции от множественных тонко-кишечных свищей. Остальные, пробыв у нас в госпитальном взводе по 12 суток каждый, были эвакуированы в госпиталь в хорошем состоянии. Такие результаты лечения этой категории раненых встречались нечасто, и мы связывали их с быстрым выносом пострадавших с поля боя, своевременной помощью раненым в полках и эвакуацией в медсанбат, что позволяло оперировать их в кратчайшие сроки. Влияли на исход дела противошоковые мероприятия и полноценное лечение в послеоперационный период.
Мастерство наших хирургов, неизмеримо выросшее за годы войны, позволяло в каждом случае выбирать наиболее благоприятный оперативный доступ, проводить щадящие ревизии органов и оперативное воздействие на их поврежденные отделы.
В середине сентября 1944 года у нас наступило относительное затишье. Пользуясь этим, мы решили проанализировать деятельность полковых медицинских пунктов, чтобы выявить и популяризировать положительный опыт. В такие периоды, когда работы становилось меньше, мы нередко собирали медиков полкового звена и проводили с ними занятия. Врачей брали и на стажировку в медсанбат.
Оживилась учеба и в самом медсанбате. Заботились, конечно, не только о врачах, не забывали мы и о сестрах, санитарах. Штудировали директивные и методические указания по вопросам военно-полевой хирургии, решения некоторых пленумов ученого совета Главного военно-санитарного управления. К сожалению, они поступали к нам далеко не систематически. Очень мало было и периодических изданий по медицинским специальностям.
В эти дни ко мне в землянку неожиданно вошел пропыленный и усталый капитан, с которым мы виделись при встрече с моим братом. Он сообщил мне, что части 161-го укрепрайона будут занимать оборону на стыке с правым флангом нашей дивизии, у города Пултуска, и брат со своими связистами на подходе, просил быть на месте.
И вот, когда перевалило за полночь, появился Алексей. Необыкновенно радостны встречи с родными и близкими на фронте! Мы обменялись последними новостями из дому, Алексей рассказал о своей семье. Особенно радовался тому, что его десятилетнего сына зачислили в суворовское военное училище. Проговорили, как и прошлый раз, всю ночь, а рано утром, попив чаю, расстались. Я в тот же день написал письмо домой, маме и сестре, а также отцу о встрече с Алексеем.
Затишье продолжалось до первых чисел октября. 4-го бои возобновились с новой силой. Противник бросил против наших частей на плацдарме свыше 300 танков вместе с пехотой, но решающего успеха добиться так и не смог. 19 октября наши войска провели наступательные действия с целью восстановления положения и расширения плацдарма. Затем снова установилось затишье, в период которого раненые поступали к нам гораздо реже, причем в основном это были пострадавшие от артиллерийских обстрелов или подорвавшиеся на минах с травмами стоп. Число их не превышало 20–30 человек в сутки. И все же мы забили тревогу — ведь многим приходилось ампутировать стопы ног.
Я расспросил каждого находившегося у нас на лечении раненого и доложил дивизионному врачу Ю. А. Боголюбскому свое мнение:
— Видимо, плохо обозначены и почти совсем не охраняются наши минные поля.
— Об этом надо доложить командиру дивизии, — сказал он.
Боголюбский взял меня в поездку с собой. Гвардии генерал-майор В. Л. Морозов встретил нас в землянке. Он завтракал и гостеприимно пригласил к столу. Мы поблагодарили, ответив, что уже подкрепились в медсанбате.
— Тогда выкладывайте, зачем прибыли.
Боголюбский кивнул мне, и я рассказал обо всем.
И сколько же у вас таких раненых? — поинтересовался комдив.
— Около семидесяти человек… Это с ампутированными стопами.
Морозов повернулся к связистам:
— Свяжите меня немедленно с дивизионным инженером! — И когда тот ответил, приказал ему срочно прибыть на командный пункт.
Попросив меня еще раз повторить свой рассказ при дивизионном инженере, генерал приказал тому организовать надежную охрану минных полей и проверить их обозначение на местности. Нас же отпустил не сразу. Комдива интересовали многие подробности нашей работы. Меня даже удивило, что многие вещи он хочет знать до тонкостей. В частности, спросил, как я добиваюсь того, чтобы избежать ошибок при операциях, как удается не повредить важные органы, нервы, сосуды.
Пришлось пояснить, что помогают твердые знания анатомии и практические навыки, которые совершенствую постоянно. Если же хирург и допустит ошибку, повредит какой-то второстепенный орган или сосуд, он вполне в состоянии тут же исправить это.
Набравшись смелости, спросил у Василия Лаврентьевича, почему все это его так интересует.
— Да вот думаю, чья ошибка приводит к более тяжелым последствиям: хирурга, работающего с одним человеком, или командира, небрежно очертившего на карте задачу части или подразделения…
Он помолчал и прибавил:
— А если серьезно, то вот что… Дочь заканчивает медицинский институт. Мечтает стать хирургом, хорошим хирургом. Не взялись бы вы ее поучить?
— А захочет ли она ехать на фронт, когда война вот-вот закончится? Да и оформят ли ей такое направление? — высказал я сомнения.
Генерал посмотрел на меня, прищурясь, и сказал:
— Это уж ее дело… Напишу ей. Может, приедет.
Но через несколько дней Василия Лаврентьевича перевели на должность заместителя командира 46-го стрелкового корпуса, встречи с ним стали очень редкими, и тот разговор совсем забылся.
На должность командира дивизии прибыл гвардии генерал-майор Сабир-Умар оглы Рахимов, узбек по национальности. Молва опередила его приезд. Рассказывали, что до этого Рахимова направили на службу в одну из среднеазиатских республик, но в Москве он довольно резко поговорил во время какого-то приема с английским дипломатом относительно второго фронта, и вот оказался в действующей армии.
Первая встреча с ним состоялась в ноябре 1944 года. Генерал приехал в медсанбат, чтобы поздравить с праздником наших раненых. Мне поручили сопровождать командира дивизии во время обхода. Если он не видел у бойца награды, обязательно останавливался и расспрашивал, сколько времени воюет и почему не награжден, почему у него нет ни ордена, ни медали. Потом интересовался у меня, вернется ли раненый в строй. Фамилии бойцов и командиров, воевавших более года и не имевших наград, адъютант по его распоряжению записывал в блокнот. Многих потом наградили орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Сам генерал имел много наград, Смирнов рассказал нам, что новый комдив храбр, хорошо подготовлен, любит военное дело, но очень вспыльчив. Был Рахимов высок ростом, имел крепкое телосложение. Форму носил аккуратно, и она подчеркивала стройность его фигуры.
Прощаясь с нами, генерал спросил у замполита Н. В. Орлова, бывают ли в медсанбате концерты, организуемые дивизионным клубом, и посещают ли нас выездные концертные бригады. Орлов доложил, что начальник клуба гвардии капитан Н. П. Ляшко частый наш гость, реже навещает армейская самодеятельность. Как оказалось, генерал был большим любителем классической музыки и народных песен. Не без его стараний к нам стали частенько заглядывать концертные бригады, приезжали артисты и с его родины, из Узбекистана.
В перерывы между боями жизнь на фронте становилась более спокойной. Мы выезжали в гости к соседям, впрочем, цель была чисто профессиональная — обмен опытом. К нам тоже нередко приезжали коллеги. Наш медсанбат привлекал такие делегации удачным своим расположением, хорошим состоянием палаточного фонда, добротными землянками, в которых мы размещали нетранспортабельных раненых и больных. Особенно поражало всех электрическое освещение основных помещений — операционной, перевязочной, противошоковой и других палаток. Трофейный дизель на колесах ценили прежде всего хирурги, ведь он позволял создавать необходимые условия для их работы.
Заместитель начальника военно-санитарного управления фронта, возглавлявший комиссию в ноябре 1944 года, приказал изготовить макет расположения медсанбата для Военно-медицинского музея.
А между тем мы чувствовали, что идет подготовка к решающим боям с фашистами. Это не укрывалось и от глаз врага. Услышав в нашем тылу шум, гитлеровцы пускали в небо осветительные ракеты и открывали артиллерийский огонь. Из-за этих обстрелов к нам поступало до двух-трех десятков раненых в сутки. Правда, теперь подорвавшихся на минах больше не было. После разговора с командиром дивизии инженер соединения провел большую работу — были уточнены карты минных полей, упорядочено их обозначение на местности, организована охрана. Провели саперы и очистку местности от мин, оставленных фашистами.
Незаметно подошел конец декабря. Работы в медсанбате было немного, и мы вечером собрались всем коллективом, чтобы встретить год 1945-й, вспомнить пройденный путь, павших товарищей… И вдруг меня вызвали в приемно-сортировочную палатку. Оказалось, что привезли командира 109-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковника А. В. Левина. И с чем бы вы думали? С острым аппендицитом.
— Немедленно на стол, — оказал я. — Буду оперировать.
Левин стал возражать, объясняя, что не может уйти из полка накануне грандиозных событий. Я не принял эти возражения, объяснив, что запускать аппендицит нельзя. Может развиться перитонит, а это уже осложнение, приводящее к летальном исходу.
Так лишь в конце 1944 года я делал первую «мирную» операцию, не связанную с ранением.
А впереди нас действительно ждали грандиозные события. 14 января 1945 года земля содрогнулась от мощных артиллерийских залпов. Более часа бушевала артиллерийская подготовка. Все мы высыпали из своих помещений и восхищенно слушали эту радостную песню, предвестницу победы.
Трое суток мы работали на прежнем месте, а затем, передав раненых подошедшему армейскому госпиталю, двинулись вперед, причем переместились сразу на 25 километров, достигнув первого на нашем пути населенного пункта в Восточной Пруссии. Расположились в брошенном убежавшими гитлеровцами вполне подходящем помещении полевого госпиталя. Развертывать полностью все подразделения не стали, полагая, что долго задерживаться на этом месте не придется. И верно, уже к вечеру получили задачу выдвинуться вслед за наступавшими войсками еще на 20 километров.
Дивизия вместе с другими соединениями участвовала в тяжелых боях за Грауденц (Грудзёндз), превращенный гитлеровцами в крепость на Висле. От раненых мы узнали, что противник превосходит нас численно в 3–4 раза. Это и предопределило напряженный характер действий.
Бои за Грауденц снова дали большой поток раненых. Особенно тяжелые поражения получали танкисты. При попадании фаустпатрона в машину обычно детонировал ее боезапас, экипаж погибал, а если кто и оставался чудом в живых, то лечение потом в большинстве случаев оказывалось неэффективным. Воины стрелковых подразделений поступали с множественными осколочными ранениями — в голову, грудь, живот… Бывало, одному доставалось столько, что хватило бы на добрый десяток. Увеличилось число осложнений шоком.
Под Грауденцем мы развернулись в добротных помещениях, достаточно просторных, однако они быстро наполнились, и стало тесно. Эвакуировать раненых в первые дни было некуда — госпитали едва поспевали за нами, госпитальная база все еще находилась на восточном берегу Нарева.
Ранения в основном были очень тяжелыми. Часто приходилось оказывать помощь раненным в череп, с повреждением зрения, слуха, дыхательных органов. Причем все это делалось на месте, в условиях медсанбата.
В первых числах февраля 1945 года обстановка особенно осложнилась. Мы развернулись в полутора километрах от дороги, соединяющей Торн (Торунь) и Грауденц. По ней периодически вырывались из Торна немецко-фашистские войска. Нам пришлось вооружить всех, кто мог держать оружие, поскольку отовсюду поступали сведения о нападениях гитлеровцев на медицинские учреждения и их жестоких расправах над ранеными.
В то время соединения 65-й армии уже сражались на подступах к Данцигу (Гданьску) В этом городе было много вражеских войск, которые поддерживались корабельной артиллерией. Тяжелые морские орудия обрушивали сильный огонь на наши части, врывавшиеся в Данциг. Образовывались завалы, обрушивались большие здания. Противник безжалостно разрушал целые кварталы, пытаясь остановить наши войска и не заботясь при этом о самих немцах. Нам приходилось оказывать помощь не только раненым бойцам и командирам, но и местным жителям.
Дивизия несла тяжелые потери. Во время утренней атаки 26 марта получил ранение и лишился глаза командир 109-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Н. А. Щербаков. Вслед за ним в медсанбат поступил командир 114-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Прокопенко с проникающим ранением в живот. Едва я закончил операцию, на пороге появился гвардии старший лейтенант Юсупов, адъютант командира дивизии. Он был бледен.
— Что случилось? — спросил я.
— Везут комдива…
— Ранен?
— Да, — кивнул Юсупов и рассказал, что вражеская мина разорвалась на командном пункте дивизии. Были ранены генерал Рахимов, командующий артиллерией гвардии полковник Руденко и старший фельдшер. Погибли на месте начальник политотдела гвардии полковник Смирнов, начальник связи гвардии полковник Головань…
Ранение генерала оказалось смертельным — одиночное, слепое осколочное проникающее ранение черепа. Осколок повредил жизненно важные центры головного мозга. Комдив скончался через восемь часов после поступления в медсанбат. Вскоре дивизию принял гвардии генерал-майор Кузьма Евдокимович Гребенник.
Обстановка была столь напряженной, что мало кто из врачей смог отойти от операционных столов, чтобы попрощаться с командиром дивизии и начальником политотдела, тела которых отправляли на Родину. К приемно-сортировочному отделению подходили все новые и новые машины. Из Данцига привезли командира полковой медсанроты гвардии капитана Алексея Давыдова, заботливого, умного врача, прекрасного специалиста. Он находился в тяжелом состоянии. Я определил два проникающих осколочных ранения: одно — в живот, другое — в грудь. Приказал немедленно отправить его в противошоковую палатку и подготовить к операции. Он был в сознании, следил за моими действиями. Заметив, что я готовлюсь к операции, сказал:
— Знаю, что ты, Миша, можешь сделать все, и сделаешь… Используй даже риск… В моем положении терять нечего.
Он взял мою руку, как мог, крепко сжал ее, и глаза у него стали влажными. Рядом с ним лежал весь забинтованный и закрытый шинами гвардии старший лейтенант медицинской службы Петр Красников, храбрый десантник, оперативный, распорядительный офицер. После попадания в полковой медпункт снаряда тяжелой морской артиллерии его извлекли из-под развалин обрушившегося дома с множеством закрытых переломов костей конечностей и таза. Он был безразличен ко всему. Ему ввели противошоковую жидкость, начали переливание крови, но ничего не помогло. Петя Красников скончался через 40 минут, Алексей Давыдов — на третьи сутки после операции от прогрессирующего перитонита.
Поступившие к нам раненые офицеры 109-го гвардейского стрелкового полка сообщили мне о гибели моего товарища по воздушно-десантным войскам — опытного чекиста старшего уполномоченного контрразведки «Смерш» гвардии капитана И. М. Лупова.
Дорогой ценой обошлось дивизии участив во взятии Данцига. Мы чувствовали, что победа близка, очень близка. Но как же горько было терять боевых друзей, да еще в таком ужасающем числе! Каждый день приближал радость победы, но каждый день приносил и горе… Поклонимся же всем павшим в войне, мы у них в неоплатном долгу!..
После одной из операций меня вызвал к себе командир медсанбата.
— Вот что, Михаил Филиппович, — сказал он. — Разведчики сообщили, что в клинике Данцигского университета есть наши раненые. Нужно съездить туда, посмотреть, в каком они состоянии, и забрать к себе.
Я. С. Фок немного помолчал и добавил:
— Кроме того, поручаю вам, в соответствии с полученными нами указаниями, узнать, что требуется немецким врачам для лечения их раненых солдат. Дело в том, что нашим медицинским органам было дано распоряжение брать под свою опеку захваченные вражеские госпитали.
В клинику мы выехали вместе с начальником штаба медсанбата гвардии старшим лейтенантом А. И. Чувашевым. У входа в здание нас встретил немецкий дежурный врач. Он вежливо представился и спросил о цели нашего визита. Я сообщил, что мы приехали за ранеными, хотим повидать руководство клиники и узнать, какие нужды испытывают врачи.
— Я сейчас доложу шефу, — сказал дежурный врач и тут же прибавил: — Разрешите я вас провожу к нему.
— Кто ваш шеф? — поинтересовался я.
— Заведующий кафедрой Данцигского университета профессор Генрих Клоозе. Он генерал медицины, заместитель главного хирурга вермахта.
— Интересно, — вырвалось у меня и, повернувшись к Чувашеву, я сказал: — Пойдем, Андрей, поговорим с их генералом.
Дежурный врач проводил нас в приемную, услужливо распахнув дверь.
Я вошел первым. В большом, просторном кабинете было как-то пасмурно и неуютно. Массивный стол, несколько кожаных кресел, шкаф с книгами.
Из-за стола поднялся пожилой худощавый человек в белом халате, из-под которого виднелся штатский костюм.
Я поздоровался, предложил сесть и сообщил:
— Мы прибыли для того, чтобы забрать своих раненых и узнать, в состоянии ли вы справиться с лечением находящихся в клинике ваших солдат? Как вам известно, советское командование берет на себя заботу о госпиталях и клиниках.
— Кто вы? — спросил Клоозе.
Переводил дежурный врач. Чувствовалось, что он хорошо знает русский язык.
— Я хирург.
— О, я тоже хирург, — несколько оживился Клоозе. — Если вы разрешите, я представлю вам своих сотрудников. Пригласите ассистентов, — отдал он распоряжение дежурному.
Ассистенты появились буквально через считанные секунды. Выстроились в шеренгу вдоль стены. На правом фланге застыл высокий рыжеволосый немец с выпученными глазами.
— Старший ассистент, — представил его профессор.
Тот щелкнул каблуками и слегка наклонил голову.
«Типичный фашист», — подумал я, глядя на выражение его лица. Спросил:
— Вы член нацистской партии?
— С тысяча девятьсот тридцать третьего года, — ответил рыжеволосый ассистент.
— Значит, с момента основания… А вы? — обратился я к профессору.
— Нет, я просто врач, хирург… Обучал студентов, оперировал больных… Началась война, призвали, работаю в клинике… Теперь вот ранеными занимаюсь… — Он помолчал и затем сказал тихо: — Политикой не интересовался никогда.
Переводил по-прежнему дежурный врач, и я не преминул поинтересоваться у него:
— Откуда вы так хорошо знаете русский язык?
— Учился в Эстонии, потом попал в Восточную Пруссию…
Меня давно занимал один чисто профессиональный вопрос, и я решил задать его заместителю главного хирурга вермахта, вернее, теперь уже бывшему заместителю и бывшему генералу.
— Мы обратили внимание на то, что в вашей армии делалось чрезвычайно много ампутаций конечностей. Вы ведь знаете, вероятно, статистику… У нас ампутаций значительно меньше… Чем это объяснить?
Клоозе смутился, долго молчал, видимо подыскивая нужный ответ.
— Наверное, так быстрее лечить раненых.
— Что значит — быстрее? — не понял я.
Профессор не ответил, это сделал один из ассистентов. Он попытался пояснить:
— Вы же, наверное, знаете, что залечить раненую конечность значительно дольше… Она дольше заживает, нежели культя… Поэтому быстрее и дешевле ампутировать руку или ногу, подержать раненого еще немного в клинике или госпитале, а затем отправить домой…
— Вот оно что! — воскликнул Чувашев и непроизвольно потрогал свою раненую ногу.
— А разве у вас мало ампутаций? — спросил через переводчика тот же ассистент.
— Бывают и у нас, бывают, когда деваться некуда, — стал рассказывать я, — но не в таком количестве… Ну-ка, Андрей, покажи этим господам свою ногу, — попросил я Чувашева.
Андрей снял сапог и подтянул галифе.
— Вот, смотрите…
Немецкие врачи обступили Чувашева, с интересом разглядывали его изуродованную ранением ногу, которая носила следы не одной серьезной операции.
— Были раздроблены кости голени, разорваны мышцы, наблюдались явления остеомиелита, — рассказывал я. — Ампутация на первый взгляд была просто необходима. Да и сделать ее было легче, нежели вылечить… Но мы лечили офицера восемь месяцев. И все-таки поставили его на ноги. Как видите, он продолжает службу.
Ассистенты вернулись на свои места, что-то оживленно обсуждая, и уже, как мне показалось, с большим уважением поглядывали на нас. Не изменился в лице только рыжеволосый немец, он и смотрел-то на излеченную ногу Андрея без особого профессионального интереса.
А я невольно вспомнил Сталинград, израненного летчика, доставленного к нам в медсанбат. Он до сих пор слал нам теплые письма, рассказывал, как бьет врага. Я вспомнил и многих других раненых, возвращенных нами в строй. Возле их коек мы проводили бессонные ночи, хотя, конечно, легче было бы, по логике того ассистента из клиники рейха, «оттяпать» руку или ногу и, подлечив немного, отправить человека домой.
Это вопрос больше не профессиональный, а нравственный. Да и может ли быть по-другому, если медицина — одна из гуманнейших областей людской деятельности! Антигуманно (и разумеется, антипрофессионально), когда врач, вообще любой медик на своем посту позволит себе быть бездумным, безропотным и даже согласным исполнителем того порожденного фашизмом «метода мясников», о котором мы узнали весной сорок пятого в Данциге. И мне хочется с гордостью, не боясь высоких слов, сказать о том, что в сознании и практических делах моих коллег — фронтовых медиков торжествовала социалистическая, подлинно человеческая мораль. В конце концов — просто порядочность! Заверю еще раз: в нашем 38-м гвардейском медико-санитарном батальоне было заведено строжайшее правило — ампутацию конечностей можно производить только после обсуждения всеми хирургами работающей бригады и почти всегда с участием ведущего хирурга. Я такое решение принимал лишь тогда, когда убеждался в нежизнеспособности конечности или если бурное развитие инфекции становилось угрожающим для жизни раненого. Если же был хоть малейший шанс спасти ногу или руку, мы всегда использовали его, чего бы нам это ни стоило.
Я задал профессору Клоозе еще несколько чисто профессиональных вопросов, а затем попросил проводить меня туда, где располагались находившиеся на излечении в клинике советские бойцы и командиры.
Провожал все тот же дежурный но клинике.
Наши раненые лежали в просторной и светлой палате. Они несказанно обрадовались появлению соотечественников. Все эти люди, попав тяжело раненными в плен, и теперь, после длительного лечения, оставались еще лежачими больными.
— Как вас здесь содержат? — спросил я. — Жалобы есть?
— Какие уж теперь жалобы! — усмехнулся один из раненых. — Как наши подошли к городу, с тех пор и нет жалоб. Видите, в какие хоромы перевели, ухаживают лучше, чем за своими. А до того… до того — и говорить не хочется. Непонятно, для чего брали в клинику…
— Как кормят?
— Сейчас хорошо… Впрочем, у них с едой, по-моему, не густо… Когда вы нас к себе-то заберете?
— Сейчас и заберем. Санитары с носилками в машине ждут.
Прошли мы и по тем палатам, где лежали немецкие офицеры и солдаты. У входа в каждое помещение нас встречал ассистент. Он четко докладывал, какая это палата и кто находится на излечении, по поводу каких ранений, а дежурный переводил. Затем ассистент распахивал перед нами дверь.
Кое-кто из раненых немцев встречал нас довольно приветливо, с улыбкой, но были и такие, кто отворачивался к стене. Однако на вопросы отвечали все, особенно когда спрашивали о самочувствии.
В солдатских палатах была более свободная атмосфера, и разговаривали раненые охотнее, чем в офицерских. Я, задавая вопросы, сумел даже установить некоторые неточности в диагнозах. Видимо, большое поступление раненых не давало врачам возможности заниматься этим серьезно.
Перед уходом зашли попрощаться с профессором. Спросили, почему он не ушел из города вместе с отступавшими частями.
— Я старый человек, — ответил профессор. — Терять мне нечего… К тому же я не сделал русским ничего плохого, я готовил врачей. Между прочим, обучались у меня до войны и ваши студенты… Занимался врачебной практикой… Да и не мог я бросить клинику, бросить раненых.
Мы вежливо попрощались. Я сказал, что в случае необходимости можно в любое время обращаться к нашему командованию за помощью в лечении раненых.
Профессор поблагодарил и вдруг сказал:
— Подождите один момент. Я хочу сделать вам подарок. — И что-то приказал ассистенту.
Тот вышел и вскоре возвратился с небольшой вещицей, чем-то напоминающей современный транзисторный приемник.
— Это прибор для определения металлических инородных предметов в теле человека. Думаю, армейскому хирургу пригодится.
Я поблагодарил профессора, и мы выехали. Задерживаться времени не было, ведь в медсанбате ждали раненые. Бои продолжались, дивизия рвалась вперед. 2 мая ее части форсировали Одер, вышли к Балтийскому морю и у города Росток встретили Победу.
* * *
…Размышляя о фронтовых буднях, я все больше утверждаюсь в сделанном однажды выводе, что для хирурга война — чрезвычайно серьезная и ответственная школа. Мы научились смело бороться с различными ранениями и травмами даже в тех органах человека, которых до войны касаться было не принято.
Чем была война лично для меня? Сейчас, по прошествии стольких лет, она представляется мне одним бесконечно долгим днем, проведенным у операционного стола. Операции, операции, операции… Их мне довелось сделать, как уже упоминалось, около 14 тысяч. Это — всего. В их числе были и очень сложные — 2500 по поводу ранений в грудь и 700 — в живот. Они в некоторой степени и определили направление моей работы в послевоенный период.
Отгремели бои, но для хирургов борьба не прекращалась, именно борьба с последствиями той жестокой войны. В первые после нее годы чаще всего приходилось оперировать фронтовиков, которых приводили на операционный стол последствия ранений. Но появлялись и новые больные, уже мирных дней. Напомнили о себе недуги, о которых мы успели забыть в дыму и пламени боев.
Я выбрал борьбу с одной из наиболее тяжелых болезней. Пришел в Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко старшим ординатором. Затем стал начальником хирургического отделения и, наконец, главным онкологом. На этом посту был отмечен высоким званием Героя Социалистического Труда, с этого поста ушел в отставку с военной службы. Но школа милосердия, которую прошел я в советской военной медицине, навсегда осталась в моем сердце, как и навечно впечатались в него боль и горечь утрат, понесенных в суровые годы войны. Мысленно я снова и снова становлюсь к операционным столам — то в палатке медсанбата, то в госпитале, но всегда с одной надеждой, что пациент — будет жить!
А. И. Фомин, полковник НА СЕМИ ФРОНТАХ
Глава первая ВРЕМЯ ТРЕВОГ
В один из мартовских дней 1934 года на доске объявлений рабфака при Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана появился большой плакат, извещавший о наборе слушателей на факультет военно-промышленного строительства Военно-инженерной академии РККА, как называлась тогда нынешняя Военно-инженерная ордена Ленина, Краснознаменная академия имени В. В. Куйбышева.
Столь необычное сообщение в нашем сугубо гражданском учебном заведении сразу привлекло внимание. У доски объявлений еще никогда не было так людно. Как правило, ребята сначала молча пробегали глазами текст, затем внимательно перечитывали, чтобы лучше уяснить смысл, и лишь потом начинался оживленный обмен мнениями.
Суждения были разными, но, пожалуй, никого из рабфаковцев этот призыв не оставил равнодушным. Плакат тянул ребят к себе, словно магнит. Ведь кто бы что ни говорил, а в душе каждому парню начиная с мальчишеских лет хочется стать военным, научиться владеть оружием, укрепить мускулы. И, я уверен, каждому из нас хотелось надеть военную форму, стать командиром Красной Армии. Так или иначе, а у объявления весь вечер было людно. Читали, взвешивали свои возможности. Нередко взгляды дольше обычного задерживались на последней строке. И не потому, что написана она была буковками помельче, а из-за важности информации: слушателям академии устанавливалось довольствие по нормам среднего комсостава РККА. Для нас, ребят с рабочих городских окраин, успевших хлебнуть лиха, последнее было небезразлично. Бесплатное обмундирование и еда — что еще человеку надо?
— Ну, Алексей, ты как решил? — спросил меня Николай Емельянов, когда мы направлялись домой после занятий.
— Думаю, — ответил я.
С Николаем мы работали в красильном цехе шелкоткацкой фабрики «Красная роза», вместе поступали на рабфак, обоим осенью предстояло идти на действительную военную службу во флот, только мне — в Военно-Морской, Николаю — в Военно-воздушный. Ни у меня, ни у него военных в семье не было, о кораблях и самолетах мы имели самое приблизительное представление, академия же предлагала профессию почти гражданскую, по крайней мере понятную, всюду нужную, и в то же время военную. Однако военную форму надо было уже надевать не на пять лет, а на всю жизнь.
Тут было о чем задуматься.
— Давай вместе попробуем, — уговаривал меня приятель.
— Что ж, рискнем! — отозвался я.
И рискнули… Правда, с Николаем, к сожалению, мы расстались после медицинской комиссии: он не подошел по зрению — оно оказалось ниже требуемой нормы. Я же вступил на путь, который определил всю мою дальнейшую жизнь на сорок лет вперед.
Тогда медицина была пуритански строга. И все же, несмотря на значительный отсев после медкомиссии, желающих поступить в академию оказалось значительно больше, чем требовалось. Я понял, что готовиться надо серьезно, и засел за учебники. Ведь, по сути, впервые предстояло столкнуться с серьезными требованиями. Смешно вспомнить, но большинство из нас сыпалось на общей географии, которая не входила в учебные программы вечерних рабфаков, а потому объем знаний по этому предмету у многих остался на уровне семилетки. И не было ничего удивительного, что незадачливые абитуриенты место гибели «Челюскина» искали в Баренцевом море, Чирчикстрой — под Ленинградом, а Сингапур — в Африке.
С трудом перебрался через географию и я, хотя о сложности вопросов можно судить по такому, сохранившемуся в моей памяти, диалогу между мной и экзаменатором.
— Какие страны разделяет пролив Ла-Манш? — был его первый вопрос.
— Англию и Францию.
— А на-де-Кале?
— Тоже. Это северная часть пролива Ла-Манш.
— Какая самая высокая вершина в Альпах?
— Монблан.
Дальше экзамен стал походить на викторину: преподаватель называл какую-либо страну, а я — ее столицу. Пока тот двигался мысленным взором по Европе, я, как говорится, за ответом в карман не лез. Но стоило моему визави, а мы сидели напротив по разные стороны стола, перекинуться в Азию, как я почувствовал, что начинаю краснеть.
— На скольких островах расположена Япония?
— На трех, — оказал я с заметным колебанием.
— На трех десятках, сотнях или тысячах? — подбросил экзаменатор коварный вопрос на засыпку.
— На десятках, — приободрился я, так как смекнул, что сотен, а тем более тысяч островов в одном месте просто быть не может.
— Вы были бы значительно ближе к истине, сказав — на тысячах. Впрочем, хватит с вас. Идите. В принципе, неплохо.
Математики я не боялся. Однако эта самоуверенность чуть не сгубила меня. Ознакомившись с билетом, мгновенно отметил про себя: все вопросы знаю. Взял мел, вышел к доске, у которой уже потел над задачей Будневский, тоже мой товарищ по рабфаку.
— Ваша правая сторона, — указал мне экзаменатор на классную доску.
Довольно быстро разделавшись с теоремами, принялся за задачу.
В это время послышался встревоженный шепот Будневского:
— Слушай, у меня что-то не получается. Посмотри, где ошибка?
Я не успел даже голову повернуть.
— Стоп, — хлопнул по столу ладонью преподаватель. — За разговор отстраняю вас обоих от дальнейшей сдачи экзамена.
Будневский, чувствуя, что подвел меня, взмолился:
— Товарищ преподаватель, во всем виноват я один. Фомин ни слова не сказал.
Экзаменатор вышел из-за стола и, подойдя к доске, пробежал взглядом написанное нами.
— Правильно. Можете идти, — кивнул он мне. — Вы тоже можете идти, — добавил он, обращаясь к Будневскому. — С вами всё.
Так отсеялся еще один мой товарищ.
Конкурсные вступительные экзамены продолжались около двух недель. Наконец настал день, когда окончательно решилась наша судьба: были вывешены списки отчисленных. Их сразу бросились изучать. Списки принятых не объявлялись, вероятно, по условиям секретности. Я внимательно прочитал отпечатанные на машинке фамилии. Фомин А. И. не значится. Выходит, принят?! Екнуло сердце. И вдруг мелькнула мысль: а за свое ли дело берусь? Не лучше ли, пока не поздно, вернуться на текстильный комбинат «Красная роза» в свой красильный цех? Там все привычно, в недалеком будущем вполне реальная перспектива — должность мастера, а быть может, и начальника красильного цеха. Но тут же и стыдно стало: струсил, хвост поджал? Значит, другие пусть идут, пусть готовятся защищать Родину, а ты в стороне останешься? Будет трудно? Но ведь и было нелегко. Полуголодное детство в многодетной рабочей семье, шестилетняя работа в красильном цехе, участие в коллективизации, схватка с кулаками, чуть не окончившаяся для меня трагически, вечерняя учеба на рабфаке. О легкой жизни мы тогда и понятия не имели, чуть ли не с детства старались не есть даром хлеб, а едва подрастали — со всем азартом молодости включались в борьбу за выполнение намеченных партией планов. Каждый стремился приносить какую-то пользу обществу. И все считали, что путь к этому — через комсомол. Много дал нам комсомол, и потому мне очень жаль было прощаться с нашей боевой комсомольской ячейкой на «Красной розе», дружной и деловой.
О многом я тогда передумал. В общем, домой вернулся с твердым намерением — от намеченного не отступать.
Утром следующего дня мы снова собрались в академии. Самая большая аудитория, из которой предварительно вынесли столы, напоминала гудящий улей. Но вот появилось несколько перетянутых ремнями военных и послышалась команда:
— В колонну по четыре — становись!
Прощай, «Красная роза»! Здравствуй, строгая военная жизнь!
Потом — распределение по взводам, баня с предварительной стрижкой «под нулевку», раздача обмундирования. Облачились в гимнастерки, надели пилотки, посмотрели друг на друга — и не узнали! Какие же все одинаково смешные и неуклюжие! А еще через день нас уже повезли в летний военный лагерь.
Первым нашим командирам предстояла нелегкая задача: за сравнительно короткий срок сделать нас хотя бы внешне похожими на военных. Скажу откровенно, удалось это далеко не сразу. Трудно было нам отвыкать от гражданских привычек и развивать в себе качества военного человека. Нелегко приходилось и тем, кто занимался с нами.
Летний лагерь в то время только строился. И строился прежде всего нашими руками. Но уже были готовы столовая, складские помещения, здание штаба, несколько домиков для постоянного комсостава. Предстояло соорудить тир, инженерный городок, спортивный комплекс и много других объектов. Если вступительные экзамены были проверкой интеллектуальной подготовки будущих слушателей академии, то лагерь стал серьезным испытанием наших физических возможностей и духовной стойкости.
Работали мы по восемь-десять часов ежедневно. Увольнения в Москву разрешались только в исключительных случаях. Первый месяц нашего приобщения к военной службе протекал весьма напряженно. Причем настолько, что у многих возникало желание подать рапорт об отчислении. Не скрою, мелькала такая мысль и у меня. «Нет, не сдамся, — твердил я себе, со злостью вгоняя лопату на весь штык в землю. — Людям тяжелее достается, нечего нюни разводить. Если вернусь на „розу“, как в глаза ребятам посмотрю?» И — выдержал. Рабочая закалка и на этот раз выручила.
Наш трудовой день начинался в шесть утра. Для меня это было необременительно — привык рано вставать. В восемь часов, после физзарядки и завтрака, построение для развода по работам. Трудились до часу дня. Далее следовал обед и часовой послеобеденный отдых. С шестнадцати до девятнадцати снова работа. Вечером положено так называемое личное время, но чаще всего не успевали мы еще выбраться из-за столов, как раздавалась команда:
— После ужина выходи строиться на заднюю линейку с инструментом!
В десять часов вечера начиналась вечерняя поверка на боковой линейке, а так как длилась она иногда минут тридцать — сорок, то немудрено, что кто-нибудь неожиданно для самого себя засыпал стоя и валился на своего соседа. Тогда раздавался окрик командира, проводившего поверку:
— Прекратить неуместные развлечения!
Какие уж тут шутки!
Лишь в одиннадцать вечера слышалась долгожданная команда:
— Приготовиться к отходу ко сну!
Именно так: отход ко сну. Мы разбегались по палаткам и замертво валились в постель, не слыша уже команды «Отбой».
На следующий день все повторялось заново.
С первый дней службы я усвоил на всю жизнь, сколь нелегок солдатский хлеб, особенно сапера. Я даже рискну утверждать, и, пожалуй, фронтовики меня поддержат, что война — это не только увечья, смерть сотен тысяч, миллионов людей, гибель памятников культуры, колоссальные материальные потери, слезы вдов, матерей и сирот. Война — это прежде всего (или плюс ко всему) тяжелейшая работа, бесконечная и вечно торопливая, причем всегда со смертельным риском. Впрочем, об этом я еще расскажу. А сейчас вернемся в летний лагерь.
Через месяц, видимо решив, что мы достаточно созрели для умственных упражнений, командование лагеря стало приобщать нас к различным военным дисциплинам. Мы засели за уставы, тактику, ознакомились со строительством военных дорог, мостов, переправ, основами организации Красной Армии, полевой фортификации и военной маскировки. Обязательной стала строевая, стрелковая и физическая подготовка, по-прежнему два раза в неделю проводились двухчасовые политзанятия. По выходным стали устраиваться различные спортивные соревнования. Мы с удивлением обнаружили, что в клубе по вечерам крутят фильмы. В общем, жизнь входила в нормальную колею.
Почти ежедневно по часу, по два уделяли спорту. Охотнее всего, конечно, поначалу гоняли в футбол, играли в шахматы и шашки, даже устраивали турниры, затем переключились на стрельбу и парашют. Уж очень популярны тогда были эти виды спорта у молодежи, особенно у допризывной и армейской.
Особую массовость стрелковый спорт стал приобретать после введения первого комплекса ГТО и учреждения значка «Ворошиловский стрелок». Жаль, что аналогичного ему значка сегодня нет. Мы на «Красной розе» помогли местной ячейке Осоавиахима организовать стрелковый кружок, я одно время ходил в него и считался даже неплохим стрелком, поэтому и в лагере не ударил в грязь лицом.
Подлинными праздниками были для нас увольнения по выходным. Москвичам не терпелось домой — скучали по родителям, да и покрасоваться в родном дворе в военном обмундировании было неплохо, пусть все видят, что ты уже не мальчишка, а почти что командир Красной Армии. Иногородним — первый курс, разумеется, состоял не из одних московских рабфаковцев — было интересно побродить по столице, сходить в кино, зоопарк, посетить такую диковинку, как планетарий.
Но главное ожидало нас впереди, то главное, ради чего мы надели военную форму, — учеба, подготовка к предстоящей службе в инженерных войсках. А учиться предстояло нам в одном из старейших военно-учебных заведений России.
Военно-инженерная академия имени В. В. Куйбышева ведет свою историю от Главного инженерного училища, основанного в 1819 году в Петербурге и преобразованного в 1855 году в Николаевскую инженерную академию.
Из ее стен вышли такие выдающиеся военные инженеры, как Э. И. Тотлебен, руководивший в Крымскую войну 1853–1856 годов инженерными работами в Севастополе, Р. И. Кондратенко, герой обороны Порт-Артура, Ф. Ф. Радецкий, отличившийся при обороне Шипкинского перевала, и многие другие. Эту академию окончил Д. М. Карбышев, в ней учились Ф. М. Достоевский и Д. В. Григорович. В 60-е годы прошлого столетия в академии преподавал Д. И. Менделеев.
Выпускники академии обеспечили ведущую роль русской фортификационной школы в разработке теории и практики строительства крепостей, внесли серьезный вклад в разработку гидродинамической теории трения, теории упругости, электротехники, в организацию войскового и гражданского строительства, в изучение воздействия снаряда на броню, в развитие гидромеханики, гидравлики, термодинамики, в технологию производства цемента и использования бетона в фортификации.
В советское время учеными академии были разработаны теория инженерного обеспечения боя и операции, тактика инженерных войск, конструкции и техническое оборудование фортификационных сооружений.
Все это я говорю к тому, чтобы читатель ясно представлял, что учеба в академии, особенно с нашим, не очень-то богатым вечерним рабфаковским багажом, требовала немалых усилий.
Учебная программа факультета военно-промышленного строительства была рассчитана на пять лет. За эти годы академия должна была подготовить из нас военных инженеров-строителей, умеющих проектировать и возводить здания и сооружения преимущественно военного назначения. Программой предусматривалось дать нам и такие знания, которые необходимы для службы в инженерных войсках на командно-технических должностях. На практике это означало, что мы должны были освоить не только курс технических дисциплин по своему профилю, но и тактику, артиллерию, фортификацию. Но и это еще не все. Справедливо полагая, что командир Красной Армии должен быть всесторонне образованным человеком, руководство военно-научными заведениями включило в программу обучения и ряд общеобразовательных дисциплин. Многие предметы казались нам лишними, совершенно ненужными, напрасно отнимающими время.
— Я же военный строитель, военный инженер, — бывало, принимался философствовать кто-либо из нас, не сдавший с первого захода зачеты по тактике. — Зачем мне знать, как надо командовать ротой в наступлении. Для этого есть общевойсковые командиры.
Многие разделяли эту точку зрения.
Как же мы были далеки тогда от истинного понимания сути вещей! Лишь много позже, на фронтах Великой Отечественной, я полностью осознал, что такое военный инженер.
Военный инженер должен уметь возводить сооружения бытового и боевого назначения, мосты и любые дороги, организовывать переправы войск через водные преграды, строить подземные сооружения, бурить артезианские скважины и делать многое другое, что потребует боевая обстановка.
Военный инженер должен освоить тактику и основы оперативного искусства не хуже любого офицера соответствующих родов войск и иметь широкое представление о возможностях боевой техники и оружия — своих и противника, — иначе трудно рассчитать оптимальные параметры и сроки возведения укреплений, мостов, дорог и т. п.
Военный инженер должен с курсантской скамьи усвоить непреложную истину: сапер ошибается только раз. И, вспоминая штурм Синявинских высот под Ленинградом и бои в Карелии, скажу: при необходимости военный инженер обязан заменить строевого командира. А браться за оружие саперу приходится значительно чаще, чем представляется на первый взгляд.
В годы Великой Отечественной войны инженерными войсками было установлено свыше 70 миллионов мин, на которых подорвалось около 10 тысяч вражеских танков, подготовлено более 400 тысяч километров дорог и колонных путей, возведено почти полтора миллиона фортификационных сооружений, построено более 11 тысяч мостов, разминировано свыше 770 тысяч квадратных километров территории и тысячи отдельных объектов. При этом речь идет о самом главном, поддающемся учету, а ведь любой сапер ни дня не сидел без дела!
Впрочем, тогда, в тридцать четвертом, мы, молодежь, и предположить не могли, что будет через десять лет, да и не заглядывали так далеко.
До сих пор храню в памяти прекрасные лекции профессора С. А. Хмелькова, крупного специалиста по долговременной фортификации. Будучи участником первой мировой и гражданской войн, он умело, с учетом собственного опыта, излагал нам передовые взгляды на строительство укреплений для защиты от нападения противника.
Изучая вопросы заблаговременного фортификационного оборудования театра военных действий и территории страны в целом, С. А. Хмельков обоснованно отвергал крепости, как не оправдавшие себя в первую мировую войну, отдавая предпочтение новым формам укрепления сухопутных границ — укрепленным районам или линиям. С. А. Хмельков совместно с Д. М. Карбышевым, Ф. И. Голенкиным, В. В. Яковлевым стоял у истоков создания укрепленных районов.
Он прекрасно знал системы укрепленных линий во Франции, Германии, Финляндии, других странах, благодаря чему и мы получили довольно полное представление о так называемых линиях Мажино, Зигфрида, Маннергейма, которые их создатели рекламировали как непреодолимые для войск противника. Однако эти надежды, как известно, не оправдались. Линия Маннергейма была дважды прорвана советскими войсками: первый раз в период советско-финляндской войны, второй — в ходе Выборгской операции 1944 года. Линия Мажино, несмотря на всю свою дороговизну и огромный гарнизон, не гарантировала Францию от вторжения немецких войск в 1940 году. Линия Зигфрида, как и другие немецкие линии, валы, бастионы и прочие укрепления, тоже не спасла фашистскую Германию от поражения. Как известно, УР представлял собой район или полосу местности, оборудованную системой долговременных и полевых огневых и других фортификационных сооружений в сочетании с различными естественными препятствиями, инженерными заграждениями и предназначенный для обороны специально подготовленными войсками. Обычно УРы состояли из нескольких оборонительных полос и отсечных рубежей, основу которых составляли узлы обороны о долговременными огневыми сооружениями. Промежутки между узлами обороны оборудовались укреплениями полевого типа. Укрепленные районы на нашей государственной границе были сооружены в период 1929–1935 годов, и благодаря С. А. Хмелькову мы знали о них почти все. По мощности оборонительных сооружений они уступали, допустим, той же линии Маннергейма. Долговременные огневые точки вооружались, как правило, лишь пулеметами. И тем не менее укрепленные районы, возведенные по старой государственной границе, сыграли свою роль при обороне Киева и в других приграничных сражениях. И это при всем том, что с них в начале 1941 года была снята часть вооружения для новых УРов, а штатная численность войск сократилась более чем на одну треть.
Новые УРы по западной границе начали возводить в начале 1940 года, когда я уже окончил академию. Общий проект их размещения был утвержден И. В. Сталиным. До развертывания военных действий удалось ввести в строй около 2500 железобетонных долговременных огневых точек, из них 1000 вооружили артиллерией, снятой, кстати, со старых УРов, остальные — пулеметами. Но и эти недостроенные укрепрайоны, особенно Рава-Русский и Перемышльский, явились для противника серьезной преградой. Враг неделю топтался на этом направлении; его натиск успешно сдерживали 41-я и 99-я стрелковые дивизии. Достаточно сказать, что 99-я дивизия оставила Перемышль только 29 июня по приказу командования.
Впрочем, я забежал слишком далеко вперед.
Знания, полученные на лекциях профессора С. А. Хмельков а, очень пригодились нам в годы Великой Отечественной войны, так как помогали находить верные решения по укреплений местности средствами полевой фортификации. Лично я не раз мысленно обращался за помощью к трудам С. А. Хмелькова при строительстве Ростовского и Грозненского обводов, да и во всех случаях, когда надо было возводить фортификационные сооружения.
Я уже говорил, что в целом профессорско-преподавательский состав у нас был прекрасным. Жизнь текла строго и по-военному размеренно, хотя порой случались и курьезы, о которых и сегодня без улыбки нельзя вспомнить. Так, профессор Дубяга, начальник кафедры металлических конструкций, человек атлетического сложения, возвышавшийся на кафедре, как монумент, и постоянно что-то жевавший, — может быть, жевательную резинку, которая начинала входить в моду, — всегда свою лекцию начинал примерно так:
— Милостивые государи! На прошлой лекции, удостоив меня своим вниманием, вы терпеливо выслушали… — И далее шло краткое изложение содержания прошлой лекции.
Надо признаться, что «милостивые государи» нас каждый раз коробили, и однажды произошла сцена, весьма сходная с той, что показана в фильме «Депутат Балтики», хотя фильм вышел на экраны несколько позже: кто-то из аудитории на привычное дубягинское «милостивые государи» бросил недовольную реплику:
— Может быть, «товарищи»!
Дубяга застыл на секунду с раскрытым ртом, но быстро нашелся. Не меняя интонации, только еще более повысив голос, продолжал:
— Милостивые государи! Двадцать лет находится государственная власть в наших с вами руках. Следовательно, мы и есть с вами государи. А если не так, так кто же мы тогда есть?
Не знаю, к какому роду-племени принадлежал профессор, но предмет свой он знал превосходно и работал на пролетарское государство, как сегодня говорят, с полной отдачей.
Профессор Дубяга мне запомнился еще и по такому случаю. На экзамене по металлическим конструкциям он поинтересовался моим курсовым проектом, который до него смотрел консультант, оставивший на чертеже большой вопросительный знак. На словах же пояснил, что сомневается в прочности одного из узлов конструкции, и просил произвести дополнительный проверочный расчет. Я своевременно выполнил его требование, о чем указал в пояснительной записке к проекту, но вопросительный знак на чертеже стирать не стал, посчитав это не совсем этичным по отношению к консультанту. Дубяга же, увидев знак вопроса, подумал, что это я сомневаюсь в правоте замечаний консультанта, и спокойное до того лицо профессора вдруг стало быстро наливаться кровью.
— Что это такое? — загремел он на всю аудиторию, тыкая пальцем в чертеж. — Кто вам дал право так бесцеремонно обходиться с замечаниями консультанта?
Я молчал, ничего не понимая, а Дубяга все больше распалялся.
— Вон отсюда! — наконец закончил он свой трубный монолог, и мне ничего другого не оставалось, как отправиться с объяснением к начальнику курса. Тот меня внимательно выслушал и, позвав с собой, направился к аудитории, где шли экзамены. Я остался в коридоре, а начальник курса пошел к Дубяге. Не знаю, о чем они говорили, но через несколько минут в аудиторию позвали и меня.
— Что же это вы, милостивый государь, не объяснили сразу, кто поставил этот жирный вопросительный знак? Какой же вы после этого командир, если не сумели перекричать меня, старую развалину? Давайте сюда вашу зачетную книжку. И получайте свою пятерку. Предмет вы знаете отлично, но тушуетесь, милостивый государь, тушуетесь, — сказал Дубяга на прощание.
Хорошие деловые отношения сложились между нашей академией и Московским институтом иностранных языков. То обстоятельство, что по своему составу академия была мужским учебным заведением, а институт — женским, не мешало, а, наоборот, укрепляло шефские связи между нами. Мы помогали студенткам осваивать программные премудрости военного дела, а они нам — иностранные языки, среди которых ведущее место занимал немецкий.
Насколько я помню, эта взаимная шефская связь не оформлялась никакими официальными договорами, и тем не менее количество документов о таком шефстве, в виде брачных свидетельств, росло довольно бурно.
На высоком научном уровне находилось в целом преподавание дисциплин социально-экономического и философского цикла. Например, итоговая лекция по курсу марксистской философии, прочитанная профессором Б. А. Богдановым, закончилась под бурные аплодисменты аудитории. Но были, к сожалению, примеры и другого рода. Исторический и диалектический материализм, история партии и другие политические науки преподавались нам в основном осужденным ныне методом начетничества, проявлявшимся в стремлении к неумеренному цитированию классиков марксизма-ленинизма. То ли происходило это из-за боязни не то сказать (а времена тогда были суровые), то ли отсутствовали собственные мысли, но лекции чаще всего сводились к длинной цепочке цитат в определенной смысловой последовательности. На экзаменах нам задавали обычно такие вопросы:
— А вы не припомните, что по этому поводу сказал товарищ Сталин?
Почему-то Маркса, Ленина и Энгельса, в частности его военные труды, вспоминали реже.
Такая методика, по установившемуся мнению, должна была сделать из нас знатоков марксизма. На самом же деле мы тратили уйму времени на зубрежку, не всегда постигая смысл произведений.
Был еще один предмет, о котором не могу не сказать: минно-взрывное дело. Серьезность предмета требовала и серьезного отношения к нему. И только в годы войны выяснилось, что, несмотря на все почтение к данной дисциплине, наши знания оказались далеко не на том уровне, который требовался. Действительно, мы изучали отечественные противотанковые и противопехотные мины да взрывные (подрывные) работы, широко применяющиеся при рытье котлованов, карьеров и т. п. Минно-взрывную технику нашего вероятного противника мы не знали. Этот пробел пришлось восполнять на практике на полях сражений Великой Отечественной войны. И платить за него кровью.
Лишь в теории изучались и вопросы маскировки, хотя, на мой взгляд, мы могли бы заниматься этим и в лагерях. На старших курсах летние лагеря сменились производственной практикой в составе тех или иных военно-строительных организаций, где мы выполняли обязанности прорабов, техников, инженеров.
Занятия в академии подходили к концу, а мы еще не знали профиль своей специальности. Сначала наш курс являлся частью факультета военно-промышленного строительства, затем ему придали архитектурное направление, потом из нас решили все же готовить инженеров-фортификаторов. Из-за этих перепрофилировок мы явно потеряли в военной подготовке, зато приобрели более широкие и довольно основательные познания в строительном деле. Это было совершенно не лишним, в чем мы скоро получили возможность убедиться.
Выпуск нашего курса должен был состояться летом 1940 года, но 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. Началась вторая мировая война. В ноябре 1939 года разразилась советско-финляндская. Программа нашей учебы была уплотнена.
Нельзя сказать, чтобы советско-финляндская война 1939–1940 годов поначалу как-то особенно взволновала нас. Когда получили известие, что Финляндия 30 ноября объявила войну СССР, многие восприняли это с улыбкой: куда ей, дескать, против нас. Но положение оказалось серьезней, чем мы, да и не только мы, предполагали. Тяжелые бои развернулись на Карельском перешейке, где войска нашей 7-й армии застряли около главной полосы линии Маннергейма. В конце декабря на Карельском перешейке к 7-й армии добавилась 13-я и из них 7 января 1940 года был образован Северо-Западный фронт, которым командовал командарм 1 ранга С. К. Тимошенко. Войска стали тщательно готовиться к наступлению и в феврале после мощной артподготовки в ожесточенных трехдневных боях прорвали первую полосу линии Маннергейма.
Слушатели академии хотя и не видели этой линии, но знали, какой мощный укрепленный район она собой представляла. Появились и первые рапорты с просьбой об отправке на фронт. Командование всем наотрез отказало: надо окончить академию, а там и без вас управятся. Тем не менее экзамены были передвинуты на начало 1940 года, причем до последнего дня мы толком не знали, какими они будут: то ли одни госэкзамены, то ли защита дипломного проекта, то ли все в совокупности. Сначала объявили, что в феврале состоятся государственные экзамены по фортификации и иностранному языку. Только взялись за подготовку — другая новость: часть слушателей вместо госэкзамена по фортификации будет защищать дипломный проект.
Вскоре приказом по академии определили группу дипломников из одиннадцати человек, куда попал и я. На разработку дипломного проекта отводилось не более двух месяцев. Срок крайне ограниченный. Пока мы сидели за проектом, остальные сдали экзамены и разъехались кто куда. Мы же засели за ватманские листы. Выбор тем оказался альтернативным: или фортификация, или общевойсковое строительство. Подумав, я решил взяться за разработку проекта военно-инженерного училища в городе Одессе, причем не в комплексе, ибо за отведенное время этого все равно не осилить, а фрагментарно: составить генеральный план всех сооружений, спланировать главный учебный корпус и детально разработать его фасад.
Работа над дипломом началась с изучения архитектурного облика этого прекрасного южного города. Одесса, как известно, своеобразна и многолика, в ней удачно сочетаются классика с модерном, дополняющиеся образцами русского зодчества. Училище требовалось так вписать в архитектуру города, чтобы оно не нарушало его стиля и в то же время выполняло свое функциональное назначение. Нельзя было не учитывать при этом и новые архитектурные веяния, начинавшие проявляться в отечественной строительной практике. Передо мной, таким образом, стояла нелегкая задача.
Главный корпус училища мне представлялся трехэтажным зданием с входным порталом из четырех прямоугольных колонн, разделявшим фасад здания на равные части по всей высоте. Капители колонн были решены, в отличие от классических типов, в виде камней трапецеидальной формы, с украшениями, близкими по форме к украшениям коринфского ордера. Фасад здания облицовывался розовым туфом, с крупной разрезкой камней. На мой взгляд, это отвечало духу времени и сочеталось с своеобразным обликом Одессы.
Два месяца кропотливой работы пролетели совершенно незаметно. Наступил день защиты. Учитывая, что по списку я шел последним, решил, не теряя времени, навести на чертежи особый лоск — окантовать ватманские листы рамкой из цветной бумаги, чтобы смотрелись как картины. Собственно, этого можно было и не делать, ан нет, дернули же меня черти покрасоваться!
— Давай помогу, — предложил Игнат Саломатов, мой товарищ по курсу, видя, как я пыхчу над чертежами. И я согласился.
Игнат взял доску с наклеенным на ней чертежом фасада здания — главный лист всего проекта, — перенес ее на свободный стол и стал обертывать доску специальной окантовочной бумагой. И тут-то произошло непредвиденное: Игнат не заметил кем-то разлитую тушь и положил чертеж на нее. Когда он поднял доску — черное пятно размером с детскую ладонь украшало центральную часть фасада.
— Смотрите, — весело пригласил Игнат, довольный своей работой.
Мы взглянули и обомлели. У меня, кажется, даже дыхание остановилось. Один только Игнат улыбался. Наконец и он понял, что произошло нечто чрезвычайное, обеспокоенно заглянул в чертеж и сразу помрачнел.
Что же делать? — Он беспомощно обводил нас глазами.
Что я тогда пережил! Неужели пойдут насмарку два месяца упорнейшего труда? Проваленный проект! В лучшем случае — жалкая тройка… Игнат переживал не меньше моего. У стола с украшенным огромной кляксой чертежом собрались все присутствовавшие в аудитории. Заинтересованные нашими унылыми физиономиями, подошли и члены Государственной комиссии. Начальник факультета, сокрушенно покачав головой, посоветовал не представлять к защите испорченный лист. Для меня это значило отказаться от основной части всего проекта. Я потратил на него не одну бессонную ночь в поисках интересных, нестандартных решений, перерыл массу литературы, старался придать фасаду училища «одесское» лицо. Конечно, он не мог сравниться с Потемкинской лестницей, но все же… И теперь — не выставлять?
На помощь пришел мой консультант Л. Б. Великовский:
— Быстро в военторг! Купите пачку лезвий!
Я стремглав бросился во двор академии, где находился маленький магазинчик военторга, скорее, ларек. На мое счастье, он был открыт, и лезвия для безопасных бритв, которые, однако, и тогда, как и теперь, больше использовались для точки карандашей и других хозяйственных нужд, чем по своему прямому назначению, красовались на прилавке на самом видном месте. На радостях, я вместо одной пачки купил две, чем немало удивил добрую Клавдию Сергеевну, долгие годы неизменную хозяйку этой торговой точки, досконально изучившую наши нехитрые нужды. Бегу наверх, кидаю лезвия на стол. Ребята устраиваются поудобнее и под надзором Великовского начинают бережно соскабливать черное пятно. Чем меньше оно становилось, тем выше поднималось мое настроение. Может, еще и не все потеряно? Через полчаса прилежного труда от пятна не осталось и следа. Но вместе с ним исчезли важные детали фасада, и посредине листа зияла ничем не объяснимая пустота. Теперь за доску сел сам Великовский. Простым чертежным карандашом он быстро и умело восстановил стертые детали, и фасад училища возник вновь перед взорами любопытных во всей своей первоначальной красе.
— Ура! — торжественно провозгласил Игнат и хлопнул меня по плечу.
И вот я предстаю перед Госкомиссией. Уверенно рассказываю о достоинствах своего архитектурного решения, дающего богатую игру светотеней на фасаде. Но председатель прерывает репликой:
— Самая впечатляющая игра светотеней час назад была на вашем лице.
Члены комиссии доброжелательно улыбаются.
— Ну, товарищи члены комиссии, что заслужил соискатель за свой дипломный проект? — вопрошает председатель.
— Отлично… Пять… — послышались голоса.
Председатель одобрительно кивает, жмет мне руку.
Не помня себя от радости выскакиваю из аудитории.
— Как? Что? — подлетели ко мне ребята.
— Отлично!
— Молодец! Можешь заказывать лейтенантскую форму!
После защиты дипломов неожиданно для всех нас, в том числе меня, Саломатова, Дьячкова, пригласили к начальнику управления снабжения РККА А. В. Хрулеву. Тепло поздравив нас с окончанием академии, он объявил, что мы направляемся в Эстонию.
Так закончился период учебы.
За порогом академии нас ожидала самостоятельная жизнь. Были ли мы к ней готовы? И к тем суровым испытаниям, выпавшим на нашу долю?
Анализируя события тех лет, я не без гордости за нашу академию заявляю: да, были.
Воспитанники академии составили основу командных кадров инженерных войск и военно-топографической службы в годы Великой Отечественной войны, сорока четырем из них за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с врагом, присвоено звание Героя Советского Союза.
Путь в Эстонию лежал через Ленинград, куда мы прибыли в начале марта 1940 года, в последние дни войны с Финляндией. Город был по-военному строг. На Невском полным-полно военных с темными от усталости, обожженными злыми морозами и ветрами лицами, в помятых, с подпалинами и дырами от костров полушубках и шинелях. Это были первые фронтовики, которых мы видели в своей жизни. Мы в новеньком, с иголочки, комсоставском обмундировании казались среди них похожими на представителей другой армии.
Вечерами Ленинград погружался в непривычную для нас темноту. Только фиолетовые вспышки маленьких молний над трамвайными путями оживляли проспекты, Тем не менее, несмотря на близость фронта, город жил нормально: работали предприятия, вузы, школы, магазины, театры, кинотеатры и другие учреждения. Особенно любили бродить по Невскому, который, несмотря ни на что, был заполнен массой людей.
А как засиял, оживился, засверкал огнями и зеркалами витрин Невский двенадцатого марта — в день подписания мира с Финляндией! Да, город умел сражаться и умел праздновать военные победы. И никому из ленинградцев и в голову тогда не могло прийти, что всего через год с небольшим их любимый город вновь и надолго погрузится во мрак и будет переживать страшные дни небывалой блокады. И снова — победит!
Из Ленинграда мы уезжали в приподнятом настроении. Война окончилась, едем за границу! Билеты взяли в вагон прямого сообщения Ленинград — Таллин. Подавляющее число пассажиров — военные, возвращавшиеся из командировок и отпусков в свои части, расквартированные в Эстонии, либо ехавшие туда, как и мы, впервые. Так что чувствовали мы себя, как говорится, среди своих. Впечатление немного подпортили наши таможенники, отобрав у меня около трехсот рублей, которые я не успел истратить в Ленинграде. Как же мне тогда было обидно и как полгода спустя я благодарил этих людей, когда, возвращаясь по делам в Ленинград, я нежданно-негаданно получил свои деньги обратно! Теперь-то уж я знал, куда и как надо их тратить.
Первая зарубежная станция — Нарва. Мы с интересом ожидали — что будет? Строили всякие догадки, но все произошло обыденно и просто. Когда эстонский паровоз, по виду, впрочем, ничем не отличавшийся от нашего, перевез наш вагон прямого сообщения сквозь пограничную арку, появились солдаты в непривычных для нас зеленых шинелях и такого же цвета головных уборах, похожих на кепи с прямоугольными клапанами. Старший, хорошо говоривший по-русски, быстро просматривал наши документы и возвращал обратно. У меня создалось впечатление, что он их вообще не читал. Вещами нашими никто не интересовался. Пожелав нам счастливого пути, эстонские пограничники покинули вагон.
— Ну что, пойдем и мы? — ни к кому особенно не обращаясь, сказал наш сосед по купе, чуть постарше меня, с тремя «кубарями» в черных петлицах, и, видя наше с Саломатовым и Дьячковым замешательство, усмехнулся: — До поезда на Таллин, к которому прицепят наш вагон, еще добрых четыре часа. Надо же немного размяться!
Мы с ребятами переглянулись — не провокация ли? Но, судя по наступившему оживлению — двери купе то и дело хлопали, в коридоре слышались веселые голоса, — размяться решил не только наш попутчик. Значит, и мы, выйдя на перрон, не совершим ничего противозаконного.
— Пошли, — решительно поднялся Дьячков.
— Держитесь меня, — посоветовал старший лейтенант. — Я здесь бывал.
Первое впечатление от Нарвы: уютный, чистый городок, где на нас, в общем-то, никто не обращал особого внимания, разве лишь владельцы маленьких магазинчиков. Увы, имея в карманах всего но пять эстонских крон, полученных на дорогу. еще в штабе Ленинградского военного округа, мы ничем не могли помочь частному капиталу. Так что прогулка наша окончилась довольно быстро. Возвратившись в вагон, который после чужого города показался родным домом, завалились на полки и вскоре заснули.
Проснулись, когда поезд, приглушенно погромыхивая на стыках, подходил к Таллину. Здесь нам предстояло сделать пересадку, чтобы добраться до Хаапсалу, где находился штаб 65-го особого стрелкового корпуса. Старший лейтенант объяснил, с какой платформы и когда отправляется нужный нам поезд, но, наверное, слушали мы его плохо. Запомнили только, что времени у нас в обрез. А с какой платформы — забыли. Что делать? И тогда Игнат, будто мы не заграницей, а на Ярославском вокзале в Москве, спросил первого попавшегося пожилого эстонца:
— Послушайте, вы не скажете, как добраться до Хаапсалу?
Естественно, по-русски, и таким обыденным тоном, будто интересуется, когда будет поезд до Мытищ!
Мы ожидали, что эстонец молча отрицательно покачает головой и отойдет в сторонку. А он остановился и на весьма приличном русском языке объяснил, что нам надо пройти на вторую платформу, причем следует поторопиться, так как поезд уходит с минуты на минуту, а следующий будет лишь через сутки. Вот тебе и на!
Поблагодарив эстонца, бросились на нужную платформу — и вовремя. Поезд тут же тронулся. А мы вспомнили, что билетов в суматохе не взяли.
— Кажется, братцы, мы начинаем заграничную жизнь с крупной ссоры с железнодорожными властями: ведь едем зайцами, — усмехнувшись, сказал Игнат Саломатов.
— Говорят, в капиталистических странах за безбилетный проезд дерут немыслимые штрафы, — поддакнул ему Герман Дьячков. — А у нас на всех и двадцати крон не наберется.
К счастью, международного конфликта не произошло: контролер сразу все понял и прямо в поезде продал нам билеты.
— Интересно, у них вообще штрафы не берут или только с иностранцев? — удивился Герман.
— Да нет, это он специально ради нас билетами в кассе запасся, — ответил Игнат. — А вообще-то удобно, — продолжал он уже серьезно. — Ведь не все же злостные безбилетники, есть, как и мы, зайцы поневоле. С такими можно обойтись по-джентльменски.
Как же хорошо, однако, после многих лет учебы стать вдруг самостоятельным человеком!
В Хаапсалу поезд прибыл около одиннадцати часов вечера. Ночь. Холод. Мела легкая поземка, ветер со скрипом раскачивал над подъездом вокзала тусклый фонарь. Сошедшие с нами пять-шесть человек быстро растворились в темноте. Нас никто не встречал. В зале ожидания пусто, холодно и сумрачно. Нигде ни души.
— Ну и занесло нас в Тмутаракань, — мрачно заметил Саломатов.
— Могли бы и встретить, — сказал Дьячков. — Хотя бы машину прислать. Или лошадь, на худой конец.
Пока ребята ворчали, осмотрел зал ожидания. Глаза попривыкли к темноте. Пустые скамейки, особый вокзальный дух, множество дверей. Из-под одной пробивался тонкий лучик света.
— Смотри-ка, — сказал Герману. — Свет видишь?
Возможно, на этом необитаемом острове есть свой Робинзон Крузо.
Дьячков хмыкнув и отправился в разведку. Вернулся веселый.
— Братцы, несмотря на мои слабые познания в эстонском, мне удалось установить, что за дверью, из-под которой виден свет, находится — что бы вы думали? Буфет!
— Может, только днем работает? — высказал сомнение Саломатов.
— Тогда были бы указаны часы работы, — резонно заметил я.
Дверь бесшумно открылась. Полумрак. В люстре под потолком одна лампочка. Стойка. Несколько столиков. Мы нерешительно топтались на месте, не зная, что предпринять дальше. Вдруг послышался шорох, и из-за буфетной стойки вышел огромный серый дог — первое живое существо, с которым встретились в этом городе. От неожиданности попятились назад, но пес, потянувшись и от души зевнув, вопросительно уставился на нас, не проявляя враждебности. Потом, видимо решив, что на злоумышленников мы не похожи, повернулся, не спеша прошествовал к двери за буфетной стойкой, открыл ее передними лапами и скрылся из виду.
— За хозяевами пошел, — заключил Саломатов.
Действительно, минуты через две дог возвратился в сопровождении молодой миловидной женщины. Видимо, еще не отойдя от сна, та чувствовала себя неловко. Вежливо улыбнувшись, спросила:
— Добрый вечер, господа офицеры. Что вам угодно?
Тут неловко стало нам: какие мы — господа? Первым нашелся Саломатов.
— Нам бы чаю с дороги…
— Располагайтесь. — Женщина показала на один из столиков. — Сейчас разогрею чай. Что пожелают господа офицеры к чаю? К сожалению, могу предложить только бутерброды.
— Да, да! — быстренько согласились мы, обрадованные, что нам не предложили черной икры и жареных цыплят. Единственное, что еще мог выдержать наш бюджет, — это бутерброды и чай.
Когда хозяйка (где-нибудь в Подольске или Звенигороде мы бы назвали ее буфетчицей, а здесь сразу окрестили хозяйкой) возвратилась, неся на подносе чай и бутерброды, мы уже успели подвести некоторые итоги.
Первое — в этой загранице, по сути, все, по крайней мере те, с кем нам приходилось общаться, знают русский; второе — здесь иные, чем у нас, порядки, и люди экономят буквально на всем, лампочку лишнюю не зажгут; третье — раз нас не встретили, — значит, о нашем прибытии не знают; четвертое — ночевать придется на вокзале, а утром попытаемся найти штаб.
Когда поели и расплатились, поблагодарив хозяйку, она вдруг спросила:
— Как я понимаю, господа офицеры хотят попасть в русский штаб. Они могут позвонить туда по телефону, и за ними пришлют машину.
И женщина показала на телефонный аппарат, стоявший на буфетной стойке, и назвала нам нужный номер. Мы удивленно переглянулись. Вот так военная тайна! Все еще думая, что это какой-то подвох, набрал номер. Чудеса! В ответ услышал чистейшую русскую речь:
— Дежурный слушает!
Я представился, назвал себя, своих товарищей, цель прибытия.
— Хорошо. Давно ждем. Высылаю за вами машину.
Через полчаса к вокзалу подкатила старенькая эмка, и вскоре мы уже сидели у дежурного по штабу 65-го особого стрелкового корпуса, в строительном отделе которого нам и предстояло служить.
Части этого корпуса были разбросаны на довольно значительной территории, и повсюду, где они стояли, ни бойцам, ни командному составу негде было жить. Под открытым небом находилась и боевая техника.
Нечего и говорить, с какой надеждой все смотрели на строительный отдел: он превратился в весьма важное подразделение, а потому и доставалось ему больше всех. Задачи же перед отделом стояли весьма сложные: в сжатые сроки возвести необходимые для нормальной жизни и боевой деятельности здания и сооружения. Решать их было очень непросто. Мы не имели возможности ввозить из Советского Союза рабочую силу и строительные материалы. Выход был один: использовать на строительстве эстонцев и их ресурсы, весьма, впрочем, небольшие, так как маленькая Эстония не имела необходимой производственной и сырьевой базы.
Тем не менее другого выхода не было, и приходилось вступать в деловые отношения с местными строительными фирмами и отдельными частными подрядчиками.
Учитывая, что работы оказалось много, а строительный отдел корпуса к моменту нашего приезда специалистами был укомплектован едва наполовину, к выполнению своих обязанностей мы приступили на следующий же день.
Первое серьезное задание — приемка от местных властей нового земельного участка под строительство советского военного аэродрома — едва не кончилось для меня драматически. Дело в том, что местные власти для наших строек с завидным упорством предлагали самые неподходящие участки местности. Один из них находился на острове Сааремаа, в районе города Курессааре. И мне предстояло на месте определить его пригодность, что сделать было нелегко, ибо толстый слой снега все еще скрывал от глаз рельеф.
Туда я летел на нашем попутном военном самолете, обратно пришлось добираться с немалыми трудностями в условиях весеннего бездорожья: ехал и на автомашине, и на крестьянских подводах.
А последний участок пути до материка, через пролив Сурвяйн шириной около 7–8 километров, проделал пешком по льду, покрытому слоем талой воды. Как я не угодил в какую-нибудь полынью под этой водой, которая местами доходила до колен, и не схватил воспаления легких — сам удивляюсь. Когда добрался до поселка Виртсу, первое желание — найти какое-либо пристанище, где бы можно было обсушиться и переночевать. В магазинчике, куда я зашел узнать о гостинице, его хозяин, говоривший весьма сносно по-русски, предложил остановиться у него, конечно, за довольно высокую плату. Выбора у меня не было, и я согласился.
После возвращения из командировки выяснилось, что съездил я туда зря: на Сааремаа строительство будет вести другой инспектор, а мне выделяется участок возле озера Клоога, расположенный примерно в 40 километрах от Таллина по дороге на Палдиски. Мне предстояло подготовить по этому участку всю техническую документацию для заключения подрядного договора на строительство военного городка, а дальше оставаться полномочным представителем заказчика. Выделенный нам участок в плане имел форму не до конца разогнутой подковы. С севера его ограничивала железная дорога Таллин — Палдиски, с юга — озеро Клоога, давшее название ближайшей маленькой железнодорожной станции. Так же мы назвали и свою строительную площадку.
Не верилось, что в этом лесу, по которому там и сям были разбросаны дачи, возникнут в скором времени строгие постройки военного городка. Однако, как говорят, глаза страшатся, а руки делают. Не теряя времени, я засел за проект. Дело двигалось не так быстро, как хотелось бы. Как-никак, не считая дипломного, это был мой первый самостоятельный проект, а тут еще каждый день жизнь подбрасывала все новые вводные. Так, пробуренные на участке контрольные шурфы показали высокий уровень грунтовых вод, и нужно было срочно найти от них эффективную защиту. Короче говоря, мне пришлось изрядно попотеть, пока будущий военный городок не лег на ватман.
Наконец все организационные вопросы были решены и строительство началось. Я перебрался в Клоогу. Там уже находилось несколько сот рабочих. Они строили для себя временные жилые бараки. Через неделю работа закипела вовсю, а через два месяца на стройке уже было занято около двух тысяч рабочих. Здесь, пожалуй, уместно напомнить, что в Эстонии тогда было немало безработных, и люди радовались открывшимся вакансиям. Не испытывали мы каких-то особых трудностей и со строительными материалами: они поступали из Германии, Финляндии, Швеции и Норвегии. Поставщиков, видимо, мало интересовало, куда и на какие цели пойдут эти материалы. Главное — деньги. Платили же им исправно. Однако по договору строители не имели права без нашего согласия использовать зарубежные материалы, поэтому и меня, и других инспекторов строительного отдела корпуса постоянно осаждали представители различных западных фирм с предложениями купить их продукцию. Когда есть из чего выбирать, смотришь, чтобы товар был получше, а ценою подешевле. Но кому хочется упускать рынок сбыта! Одна из фирм, у которой мы приобрели сантехнику, видимо, решила укрепить с нами торговые связи, причем традиционными для западного делового мира средствами: мне предложили взятку.
Однажды представитель фирмы подал мне запечатанный конверт.
— Что это? — недоуменно спросил я солидного господина.
— Это — посреднический гонорар. Фирма «Эхитая» закупила у нашей фирмы, с вашего согласия, много сантехнического оборудования. Следовательно, вам наша фирма, как посреднику, обязана выплатить соответствующее вознаграждение.
— В нашей стране такого рода премии должностным лицам квалифицируются как взятка и сурово преследуются.
Вежливый господин слегка смутился, но тут же оправился и, пробормотав: «Весьма сожалею», упрятал конверт в карман. Мы сухо распрощались.
Меня очень удивлял низкий уровень механизации на стройке, и, когда я обратился со своим недоумением к представителю фирмы господину Кристалю, он совершенно спокойно объяснил, что такое положение не только на Клооге, но и повсюду в Эстонии, экономика которой переживает трудные времена.
— У нас массовая безработица. И если мы пойдем по пути механизации, что прикажете делать с армией безработных? Кроме того, широкое применение механизмов значительно увеличило бы себестоимость строительных работ, и фирма понесла бы убытки.
Да, столь наглядные уроки политической экономии стоят многих лекций. Вот уж воистину, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Оставляли желать много лучшего и бытовые условия эстонских рабочих. В их временных бараках было тесно и грязно. Они почти не пользовались и рабочей столовой, предпочитая готовить пищу из привозимых из дома продуктов, утверждая, что это обходится дешевле.
На стройке трудились не только эстонцы, но и русские, издавна проживавшие в Эстонии, а также латыши, литовцы, поляки и даже немцы. Среди поляков и немцев было много эмигрантов: первые бежали от фашистской оккупации, вторые — от Гитлера. В целом рабочие разных национальностей жили дружно. Для нас это было наглядным уроком классовой солидарности. Что касается профсоюзной организации, то она создавалась на наших глазах. Верховодил в профсоюзе русский — молодой техник Кононов. Экономические неурядицы, политическая нестабильность, борьба с ненавистным антинародным профашистским режимом — все это, как в капле воды, отразилось в конце концов и на нашей стройке и вылилось в неожиданную для нас забастовку.
Рабочие собрались у конторы, что-то оживленно обсуждая.
— Алексей Иванович, — сказал подошедший Кононов, — у нас забастовка. В конце прошлой недели мы предъявили администрации ряд требований: о повышении зарплаты, об улучшении бытовых условий, о денежной компенсации одного проезда из Таллина в Клоогу по железной дороге и ряд других. В субботу Кристаль объявил, что эти требования не будут приняты. И вот вам результат — общая забастовка. Но кто-то распространяет слухи, что если не приступить к работе, то ваши войска подавят забастовку силой.
— А кто руководит забастовкой?
— На стройке недавно создан профсоюзный комитет. Он и руководит.
Я от души поблагодарил Кононова. Его информация давала мне возможность обдумать свое поведение в этой неожиданной и непривычной для меня обстановке. Связаться со своим командованием по телефону я не мог: единственный на стройке городской телефон находился в кабинете Кристалл, и вести разговор о забастовке в его присутствии, естественно, было нельзя. Приходилось самому принимать решение.
Пока я раздумывал, как поступить, Кристаль бурей ворвался в мой кабинет. Будучи прибалтийским немцем, он особенно и не скрывал своих симпатий к Гитлеру, но сегодня распоясался до предела.
— Этот сброд, — ткнул он рукой за окно на толпу рабочих, — хочет сорвать строительство. Фирма несет убытки. Их немедленно надо поставить на место силой.
О том, что забастовка прежде всего бьет по заказчику, он и словом не обмолвился.
— Господин Кристаль, — сказал я, — ваш конфликт с рабочими — это ваши внутренние трудности. Так что улаживайте их сами.
— В таком случае фирма вынуждена будет ставить вопрос об удлинении сроков строительства объекта.
— И на это ваша воля. Только не забывайте, господин Кристаль, что подрядным договором не предусмотрены изменения сроков строительства из-за ваших внутренних неурядиц.
— Вы еще пожалеете, — пригрозил Кристаль и пулей вылетел из моего кабинета.
«Посмотрим, кто пожалеет», — подумал я. Но положение действительно было не таким уж простым, и я решил поехать в штаб корпуса, доложить о случившемся. Вдруг в дверь постучали, и в кабинет вошла группа рабочих.
— Господин инспектор, обратился ко мне один из них, — вы, вероятно, уже знаете о нашей забастовке? Мы требуем от администрации улучшения наших условий труда на стройке. Но администрация предупредила нас, что своей забастовкой мы причиняем вред Советскому Союзу. Если и вы считаете, что это так, то мы готовы ее немедленно прекратить и приступить к работе на прежних условиях. Мы не хотим быть врагами советскому народу.
Вот еще одно проявление классового интернационализма.
Что мне делать? Сказать «да» — значит вмешаться во внутренние дела суверенного государства. И я как мог спокойнее объяснил, что никакого вмешательства с нашей стороны в их конфликт с администрацией не будет, что это их внутреннее дело. Рабочие поблагодарили меня и ушли. Забастовка продолжалась и, насколько помнится, кончилась полной победой строителей.
Мои взаимоотношения с Кристалем, и до забастовки нерадужные, окончательно испортились. Я, конечно, и о забастовке, и о стычке с Кристалем доложил начальству. Через некоторое время Кристалл со строительства отозвали.
С установлением в Эстонии Советской власти фирма «Эхитая» хотя и продолжала существовать, однако больше номинально. Руководящий состав практически распался, многие выехали в Германию. Лишившись средств частного капитала, фирма ни материально, ни организационно вести строительство не могла. Поэтому в ноябре или декабре 1940 года все военные стройки, которые вела «Эхитая», передали Главвоенстрою, функции заказчика взяло на себя Квартирно-эксплуатационное управление Прибалтийского Особого военного округа.
В связи с этим изменилась и моя роль. Оставаясь в Эстонии в качестве представителя заказчика, помимо Клооги я стал вести и другие стройки. Дел и ответственности прибавилось. Поэтому я был очень рад, когда пришел приказ о моем переводе в Квартирно-эксплуатационное управление (КЭУ) в штаб округа.
В конце марта 1941 года я с женой и сыном обосновался в Риге.
Отдел, в котором довелось служить, ведал строительством базовых аэродромов. В мои обязанности входило обследование намечавшихся мест расположения будущих аэродромов с целью определить, можно ли вести там строительство. В выбранных для строительства пунктах мне предстояло затем произвести изыскательские работы. Учитывая, что аэродромы строились по всей — теперь уже Советской — Прибалтике, я чаще находился в разъездах и, откровенно говоря, не успел даже хорошо познакомиться с сотрудниками своего отдела.
Однажды судьба забросила меня на литовский хутор под городом Таураге. Хозяин, пожилой литовец, служивший в свое время в царской армии и сносно говоривший по-русски, был добр и приветлив, как, впрочем, и все его многочисленное семейство. Как-то вечером, изрядно притомившись после долгого трудового дня, мы сидели с ним на крыльце и курили. Литовцев не назовешь особенно разговорчивыми, и мы перебрасывались редкими фразами о погоде, видах на урожай. Потом разговор сам по себе повернул на наши колхозы. Он особенно интересовался ими, но что я, городской житель, мог ему рассказать?
— Нашу жизнь тоже пора поворачивать на новый лад, — согласился мой собеседник. — Только мы боимся, как бы вам не пришлось скоро уходить отсюда.
— Почему? — спросил я его.
— Да за кордоном неспокойно: немцев там много стало с пушками и танками. И все что-то роют и роют. Да и самолеты их стали часто летать сюда. Плохо нам будет, если немцы сюда придут. По прошлой войне знаем.
После этого разговора я долго не мог уснуть. Вспоминались другие подобные беседы, когда люди, даже и не очень большие друзья Советской власти, искренне предупреждали о нависающей опасности. Взять хотя бы случай, происшедший осенью 1940 года, когда я еще работал на Клооге. Как-то вечером меня пригласил скоротать время начальник одного из строительных участков инженер Юргенсон. У меня с ним установились хорошие деловые отношения. Юргенсон называл себя эстонцем, отлично говорил по-русски и так же отлично знал строительное дело, часто помогая мне, новичку, практическими советами. В тот вечер мы пили хороший кофе с бисквитом и вели ни к чему не обязывающий светский разговор.
Неожиданно Юргенсон предложил:
— Хотите прочесть письмо, которое я получил недавно от брата? Он жил в Кракове. Теперь там немцы. И брат в Кракове больше не живет. Впрочем, читайте сами. — И Юргенсон передал мне письмо, сложенное так, чтобы я видел только то, с чем он хотел ознакомить меня. Письмо было написано по-немецки, но язык я, спасибо академии, знал неплохо.
Брат Юргенсона писал:
«После многих лет существования на случайных заработках, теперь, благодаря нашим гостям, я наконец получил работу, близкую к моей специальности. Я теперь переехал и работаю в местечке с весьма ласковым названием и готовлю пасеку, с которой скоро пчелки будут летать и до вашего сада, тратя на полет всего несколько десятков минут времени».
— Текст письма вам понятен? — спросил хозяин.
— Текст-то понятен, но смысл — не совсем.
— Попробуем разобраться вместе, — сказал Юргенсон. — Видите ли, мой брат по специальности инженер-дорожник. Судя по тому, что он упоминает о работе, близкой к его специальности, а также о «пасеке» и «пчелках», вполне можно допустить, что он работает на строительстве немецкого военного аэродрома. Местечко же с ласковым названием может быть польским городом Люблином, от которого немецким «пчелкам», то есть военным самолетам, можно будет долететь до «нашего сада», то есть до западных районов Советского Союза, всего за несколько минут. Согласны со мной?
— Возможно, что это так. Но что из этого следует?
— Неужели не понятно? Не будут же немцы строить аэродром у границ Советского Союза, чтобы летать о него бомбить Лондон? У самолетов и горючего не хватит на такой рейс.
В здравом смысле отказать Юргенсону было нельзя, как, впрочем, и всем, кто старался предупредить нас о грозящей опасности.
В конце мая — начале июня 1941 года эта опасность витала в воздухе. Как перед грозой, каждый испытывал какое-то необъяснимое томление, особое внутреннее напряжение. Многомиллионная гитлеровская армия нависала над нашими границами. И хотя наша пресса высказывалась об отношениях с Германией в дружелюбных тонах, тем не менее тревога среди населения Эстонии, Латвии и Литвы нарастала. Усиливалась она и среди нас.
Правда, чувства наши — я говорю о себе и своих сослуживцах, с кем близко общался, — были двоякими.
С одной стороны, вера в нашу мощь и несокрушимость, чему в немалой степени способствовали технические достижения и рекорды того времени: перелет через Северный полюс в Америку Чкалова, Байдукова и Белякова, рекорды В. Коккинаки и Гризодубовой, высадка на дрейфующую льдину научной экспедиции Папанина, спасение челюскинцев. Добавьте сюда Днепрогэс, Магнитку, Сталинградский тракторный, начавшее поступать в войска новейшее вооружение — и вам будет понятно, на чем основывалась наша уверенность. Плюс ко всему — святая вера в гений Сталина, который все знает и ничего плохого не допустит…
С другой стороны, опасность со стороны фашистской Германии была столь очевидна, что игнорировать ее оказалось уже невозможно. И возникал мучительный вопрос: все ли у нас правильно делается? Разумеется, этот вопрос каждый таил в себе, но, когда тысячи людей думают одно и то же, они невольно начинают действовать сообща.
Военную опасность в приграничных районах Прибалтийского Особого военного округа чувствовали многие и, как могли, содействовали повышению боеготовности частей. Однако известное Заявление ТАСС от 14 июня разрядило обстановку. Тогда же в наших воинских частях, располагавшихся в приграничных районах, больше стали говорить о текущей боевой учебе, разрешили командному составу отпуска, которые до этого предоставлялись весьма неохотно и очень небольшому количеству лиц.
18 июня я получил задание организовать в районе города Лиепая изыскательские работы для аэродрома второй очереди. Из Риги я выехал на следующий день, 20-го был в Лиепае и прямо с вокзала отправился в штаб 67-й стрелковой дивизии, размещавшейся в военном городке на окраине.
Обычно в штабе соблюдался размеренный деловой ритм, на этот раз меня удивило непривычное оживление: поминутно хлопали двери, из кабинета в кабинет бегали люди, беспрестанно звонили телефоны. Все были чем-то чрезвычайно озабочены. Первое, что пришло мне в голову: не начались ли штабные учения? Командир дивизии генерал Н. А. Дедаев принял меня тотчас же. Это тоже меня озадачило. Обычно в других штабах я привык ждать, ибо дела мои не имели особой спешности. Представившись, я доложил о цели своего задания.
— Самое подходящее время — строить аэродром, — скептически усмехнулся Н. А. Дедаев. — А не спросили вы, часом, свое начальство, о чем оно думает? Немецкие войска вплотную пододвинуты к нашим границам, и с минуты на минуту здесь может начаться… — Как бы спохватившись, что сказал лишнее, генерал заговорил о деле. — Сегодня я свяжусь с начальником штаба округа и уточню некоторые вопросы. Тогда все станет ясным. Приходите ко мне завтра утром, часам к десяти.
Я покинул кабинет генерала с неосознанным чувством тревоги. Ну что ж, завтра все станет ясным. Я и подумать не мог, что ни завтра, ни послезавтра мне уже не удастся встретиться с генерал-майором Н. А. Дедаевым. Лишь много лет спустя, уже после окончания Великой Отечественной войны, я узнаю о том, какая героическая роль выпала на долю этого человека в обороне Лиепаи.
Утром следующего дня я снова отправился в штаб дивизии. У входа в городок меня остановил дневальный, не желавший признавать моего служебного удостоверения, дававшего мне право беспрепятственного прохода на территорию воинских частей округа.
Красноармеец сказал:
— Там нема никого.
Я не поверил бойцу. Как это «нема никого», когда вчера здесь стояла целая дивизия? Однако, попав наконец за ворота, был удивлен необычной тишиной и безлюдьем. Кое-где лишь виднелись группки бойцов, грузивших на подводы ящики и мешки.
Обеспокоенный, побежал к штабу. И там пусто. Двери комнат раскрыты настежь, сквозняк гоняет по полу обрывки газет. Куда же все подевались? В это время в коридор заглянул с катушкой проводов связист.
— Есть кто-нибудь в штабе? — спросил я.
— Есть, пройдите к дежурному.
— А что произошло? — спрашиваю просто так, заранее зная, что боец не ответит.
— Ушли по тревоге.
В комнате дежурного за уставленным телефонами столом сидел незнакомый командир с интендантскими петлицами и громко кричал кому-то в телефонную трубку, что надо пошевеливаться.
Улучив минуту, я спросил:
— Скажите, что произошло? Мне командир дивизии приказал быть у него сегодня в десять утра. Я пришел, но штаб пуст. Как мне поступить?
— А кто вы такой? — спросил меня интендант.
Я коротко ознакомил его со своим заданием.
— Дивизия поднята по тревоге.
— Связь с Ригой есть?
— Есть.
Попросив разрешения позвонить, я уселся за телефон и через многочисленные «Фиалки», «Тюльпаны» и «Незабудки» дозвонился до штаба округа. К сожалению, моего непосредственного начальства на месте не оказалось. Голос дежурного был спокоен, и я не решился спросить, как обстоят дела. Если бы произошло нечто чрезвычайное, дежурный не был бы так безмятежен. Мало-помалу успокоился и я. Значит, генерал Н. А. Дедаев действует по какому-то своему плану. Вот только его намек о немцах… Что бы это значило?
Около часу дня дозвонился до своего руководства в Риге. Доложил:
— Хозяин со своей семьей уехал на новые заработки, не выполнив вашей просьбы.
— Я вас не понимаю, слышится в трубке раздраженный голос. — Говорите яснее, какие заработки и какой хозяин?
Действительно, кто ожидал, что надо будет прибегать к эзоповскому языку? Ясно, что меня никто не поймет. Оставив конспирацию, прямо сказал о сложившейся ситуации. На другом конце провода, видимо, были озадачены не меньше моего. Наконец после долгой паузы получил приказание:
— Оставайтесь в Лиепае. В понедельник, часов в двенадцать снова позвоните мне. Думаю, к этому времени я разберусь, в чем там дело.
Вот так. Война была буквально у порога, а в штабе округа не знали, куда и зачем ушла дивизия.
До понедельника оставалась уйма времени. Вернулся в гостиницу, пообедал в городской столовой и отправился в кино, где шел американский фильм «Анна Каренина». Американская Анна не бросилась под американский поезд, потому что в критический момент появился американский Вронский и два любящих сердца слились воедино.
После кино бесцельно бродил по городу. Нарядные улицы были заполнены людьми, ярко светились витрины уже закрытых магазинов, цветные огни реклам. Работали все кинотеатры, кафе и рестораны. Нормальная городская жизнь. Зашел на вокзал узнать расписание поездов на Ригу. Бросилось в глаза необычное скопление пассажиров. У билетных касс длинные хвосты очередей. На лицах — тревога. Слышалась в основном русская или украинская речь. Билеты брали до Риги, и дальше — на Восток. Что-то здесь не так. Подсознательно тревога охватила и меня.
Около десяти вечера вернулся в гостиницу. В номере нашел соседа — летчика, старшего лейтенанта. Познакомились. Он рассказал, что в его части снова запрещены отпуска комсоставу, а рядовым увольнения. Видимо, это связано о учениями, которые должны начаться в ближайшие дни. Я поведал об очередях на вокзале, он пожал плечами. Пора летних отпусков? Спать легли в двенадцать, так и не решив ничего.
Разбудили нас топот ног в коридоре и тревожные голоса. Через открытое окно с улицы доносились звуки отдаленных глухих раскатов то ли грома, то ли взрывов. В комнате было уже светло. Часы, которые я не снимал на ночь с руки, показывали начало шестого. Мы с летчиком быстро оделись и по коридору, заполненному суетящимися, наспех одетыми людьми, вышли на балкон. На нем уже собралось много гостиничного люда. Над морским портом висели тяжелые черные клубы дыма, доносились взрывы. Вдруг сверху послышались подвывающие звуки моторов. По нежно-бирюзовому небу четким строем, как на параде, летели самолеты. Почти над нами они стали разворачиваться в сторону порта. На желтых концах их крыльев хорошо различимы черные кресты.
— Немцы! Война! — раздались испуганные голоса.
Со стороны порта донесся грохот, сквозь черный дым прорывались всплески багрового пламени. Неужели война? Настоящая? Не хотелось верить. Мы с соседом возвратились к себе, включили репродуктор. Комнату заполнили бодрящие звуки прекрасной песни:
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля, Просыпается о рассветом Вся Советская земля.Боже мой, неужели ТАМ ничего не знают?
— Это не война, — с наигранным спокойствием произносит летчик. — Это хорошо подготовленные маневры. В конце концов это может быть местной провокацией со стороны немцев, но только не война.
Хотелось верить, что это так. Но самолеты с черными крестами, взрывы?!
Надо было немедленно возвращаться в Ригу.
Выступление по радио В. М. Молотова я не слышал и узнал о нем только на вокзала. Теперь даже к воинским кассам пробиться, было немыслимо. «Война», «Гитлер напал», — слышалось со всех сторон.
А на подступах к городу уже шел бой. Позже я узнал, что части 67-й стрелковой дивизии, своевременно выдвинувшись на 17 километров южнее Лиепаи, вместе с отходившими подразделениями 12-го погранотряда встретили противника плотным огнем. Не добившись успеха на южном участке, немцы обошли город с востока и перерезали железную дорогу Лиепая — Рига. Мне повезло. Я успел уехать с одним из последних поездов. Часть пути преодолел поездом, дальше — попутными машинами. Несколько раз попадал под бомбежки, пережидая их в придорожных кюветах.
В Ригу попал только вечером 24 июня. Города было но узнать. Улицы, обычно ярко освещенные, шумные и оживленные, поражали темнотой и пустотой. С трудом добрался до дома. В квартире — никого. Жена с сыном, видимо, находились на даче, которую мы с тремя товарищами по службе снимали у латышской семьи в местечке Меллужи в Юрмале. Кое-как поужинав, свалился на кровать и мертвым сном проспал до утра, и даже не слышал сигналов ночной воздушной тревоги.
Меня разбудил звонок. В передней не умолкая звонил телефон.
Дежурный по управлению срочно вызывал на службу.
Сон как рукой сняло. Схватил что-то из вещей и, на ходу застегивая ремень снаряжения, выбежал на лестничную площадку. Секунду раздумывал: стоит ли запирать дверь? Привычка к порядку и таящаяся в глубине души надежда, что через недельку-другую положение восстановится и квартира мне снова понадобится, взяли свое: повернул в замочной скважине ключ и положил его в карман кителя. А ровно через год за ненадобностью выбросил его в Дон.
Когда через полчаса добрался до управления, уже загружали последнюю машину. Дежурный крикнул:
— Получай оружие и помогай грузить вещи.
Часа через два наши автомобили, влившись в нескончаемый транспортный поток на Псковском шоссе, медленно двигались на восток. Эта длиннющая колонна, состоящая вперемешку из грузовиков, легковушек, тракторов и повозок, пассажирских и санитарных автобусов, которой никто не управлял, была прекрасной мишенью для немецких летчиков. Они, безнаказанно забавляясь, то бомбили шоссе, то поливали его пулеметными очередями. Завидя немецкие самолеты, люди бросали свои транспортные средства и бежали в кюветы, кусты. После каждого такого налета на дороге оставались чадящие автомобили, разнесенные в щенки повозки, трупы людей и лошадей. А живые, подобрав раненых, продолжали двигаться дальше. Немудрено, что в этих условиях наши водители вскоре потеряли друг друга.
Старшим на нашем автомобиле оказался капитан Шустов. Свернув перед очередным налетом на хорошо укатанный проселок и успев спрятаться от фашистских летчиков за высокими кустами ивняка, он, подождав, пока стервятники скроются из виду, устроил маленькое совещание.
— Есть предложение на шоссе не возвращаться. Еремеев, — он кивнул на водителя, — утверждает, что проселками мы быстрее доберемся до Пскова, да и риска получить бомбочку в кузов меньше. Не будут же немцы гоняться за одинокой полуторкой.
Естественно, предложение всех устраивало, и мы покатили по грунтовке, удаляясь на северо-восток от шевелящейся, стонущей ленты шоссе. Наконец оно осталось далеко в стороне, и нам среди полевой тишины с поющими в небе жаворонками показалось вдруг, что нет никакой войны, что все пережитое — какая-то нелепость и мы не бежим из Риги, а просто совершаем очередную воскресную вылазку на природу. Обстановка разрядилась. И вдруг…
Мы не сразу даже поняли, что случилось, когда впереди, слева, от видневшейся невдалеке мызы (так называется хутор в Прибалтике) простучала пулеметная очередь и пули свистнули над головами. Видимо, пулеметчик был неопытный. Нажал на гашетку в тот момент, когда полуторка нырнула в чуть заметную низинку, и этот метровый изгиб спас наши головы. Шофер, быстро сообразив, что на взгорке, стоит туда подняться, нас ждет еще одна очередь, заглушил двигатель. Капитан, открыв дверцу, выпрыгнул из кабины. Мы покинули кузов. Всего нас было вместе с водителем восемь человек. Пулеметчик дал еще одну очередь, но снова безуспешно.
— Наверняка диверсанты, — сказал Шустов. — Надо обезвредить гадину, а то другие пострадают. Давайте по лощинке до леса, а там зайдем в тыл. Они ведь тоже нас не ожидают. Вперед!
Подхваченные общим порывом, мы бросились по низине к лесу. Пулеметчик молчал, видимо посчитав, что разделался с нами. Минут через пять мы оказались в кустарнике, несколько левее мызы. Огляделись. Перед нами возвышались штабеля дров. В Латвии это традиция — загодя и надолго заготавливать топливо. Прячась за ними, мы подошли почти вплотную к стене здания. Прислушались. Тихо. Огонь явно вели со второго этажа, а то и с чердака, но откуда именно? И тут Шустов заметил, что все окна закрыты ставнями, а одно, выходящее на дорогу, открыто. Он показал на него, прижав палец к губам. Приготовив оружие, Шустов, прижимаясь к стене, подобрался к открытому окну и, изловчившись, ловко метнул туда лимонку. Взрывом пулемет выбросило из окна, и неожиданно для нас оттуда полыхнул клуб пламени. Раздался крик. Вероятно, от разрыва гранаты там воспламенился заготовленный заранее, возможно с целью диверсий, керосин или бензин.
Пожар набирал силу с невероятной быстротой. Когда нам удалось выбить входную дверь и по деревянной лестнице взбежать наверх, пламя гудело, как в топке, а коридор был заполнен густым дымом. Никаких голосов уже не слышалось, и мы спустились вниз, так и не узнав, кто в нас стрелял. Тушить пожар не имело смысла, и, предоставив огню завершить начатое им дело, мы, возбужденно переговариваясь, вышли на дорогу. И остановились, потрясенные увиденным. На дороге, метрах в ста от мызы, стояла, уткнувшись в кювет, отечественная эмка с иссеченным пулями ветровым стеклом. В нескольких шагах от машины, за кюветом, ничком лежал человек. Михаил Семенов подбежал к нему первым, перевернул на спину, прижался ухом к груди.
— Убит, — мрачно сказал он, поднимаясь с колен.
— И нас ожидало бы то же самое, не остановись мы в лощине, — сказал капитан Шустов.
Я осмотрел машину. На водительском сиденье, положив окровавленную голову на баранку, застыл шофер, тоже мертвый. Документов ни у кого не было. Мы похоронили убитых у дороги. Помолчали. Семенов отправился за нашей полуторкой. Обсудив положение, мы решили снова выбираться на Псковское шоссе, так как ехать ночью по незнакомым проселочным дорогам было просто неразумно.
— Ну что ж, — сказал капитан Шустов, — поздравляю всех с первым боем и с первой победой. — И, обернувшись к пылавшей мызе, зло добавил: — Они все сгорят в разожженном ими же пожаре, как и эти бандиты.
Около часа добирались мы до шоссе, и все это время нам виделось зарево первого в нашей жизни пожара войны.
В Псков приехали под утро. В военной комендатуре отыскали своих квартирьеров, определивших нас в школу на городской окраине. Начиналось бездомное военное бытие.
На первых порах Псков показался нам мирным тыловым городом, и начальство решило заняться реорганизацией нашего управления. Строить нам стало нечего — в лучшем случае можно было приспосабливать для фронтовых учреждений, в основном для госпиталей, существующие здания. В связи с новыми задачами изменилась и организационная структура КЭУ фронта: ликвидировали проектный отдел, именовавшийся раньше Военпроектом и укомплектованный в большинстве вольнонаемным составом. Да и само управление заметно «похудело» — в нем оставалась от силы треть довоенных штатов. Моя работа должна была заключаться в поиске и переводе на военные рельсы больниц, бань и прачечных, пекарен, столовых. Разумеется, с согласия исполкома горсовета. Надо прямо сказать, что дело это оказалось скучным, с которым вполне мог бы справиться любой призванный из запаса «старик»: а нам, молодым, тогда и сорокалетний казался пожилым человеком. Я начал подумывать, как бы перебраться поближе к фронту, заняться более живым делом, соответствующим моей квалификации. Написал рапорт о переводе в инженерные войска. Однако в Пскове ответа получить не успел — через неделю мы перебрались в Новгород, уже основательно разрушенный немецкой авиацией. Но и здесь не задержались. В конце июля или в начале августа переехали в Валдай. Разместился наш отдел на берегу Валдайского озера в маленьком домике, где раньше располагалось Заготзерно. В середине озера возвышался остров с постройками старинного монастыря. Монастырем, конечно, он был лишь по названию. Все здания давно выполняли иные функции: здесь располагались фронтовой госпиталь и интендантские склады.
На следующий день меня вызвали в Инженерное управление фронта. Оказалось, что из Москвы пришла директива о направлении на академические курсы усовершенствования командного состава при Военно-инженерной академии бывших слушателей. Выбор пал на меня, и скоро я уже был в Москве, в стенах академии, которую окончил всего два года назад.
Курсы, на которые я прибыл, уже начали работать. К своему удивлению, встретил немало своих однокашников, приехавших с разных фронтов. Но больше всего на курсах было призванных из запаса инженеров-строителей. Для них многое, о чем шла речь, было откровением, особенно если учесть, что опыт войны, хотя и небольшой, уже наложил свой суровый отпечаток на все изучаемые дисциплины. Впрочем, и нам, понюхавшим пороху, курсы оказались на пользу, так как к фронтовой практике добавлялась и новая военная теория.
Занятия на курсах завершились несколько раньше, чем предполагалось. В сентябре линия фронта приблизилась к столице настолько, что в военных сводках замелькали названия знакомых москвичам дачных мест. Участились и налеты вражеской авиации.
В последних числах сентября нам объявили об эвакуации академии в Среднюю Азию. Все учившиеся на курсах были направлены в действующую армию.
Я получил задачу принять участив в работе комиссии по приемке ворошиловградского оборонительного рубежа.
Ранним дождливым октябрьским утром комиссия выехала на место. Полсотни километров по размокшей и разбитой дороге мы тащились чуть ли не целый день, помогая машине преодолевать скользкие подъемы и глубокие колдобины. В общем, вымокли и устали так, что в Ворошиловграде на голых канцелярских столах спали как убитые. Утром с представителями городских властей, будущего гарнизона укрепрайона и руководителями работ отправились принимать обвод, как назывались тогда оборонительные рубежи вокруг крупных населенных пунктов, хотя они и не всегда имели замкнутый контур. Чтобы ускорить осмотр обвода, комиссию разделили на несколько подгрупп, одну из которых поручили возглавить мне. Утопая в осенней грязи, с трудом вытаскивая из глины ноги, моя группа обходила свой участок обвода, который строили жители Ворошиловграда и шахтеры ближайших шахт. Передний край оборонительного рубежа обозначал противотанковый ров. За ним, в глубине обороны, были сооружены стрелковые окопы, доты и дзоты, орудийные площадки, командные и наблюдательные пункты и все необходимое для аналогичных узлов обороны. Кое-что еще достраивалось.
Сразу же бросилось в глаза, что все деревянные конструкции в строительном отношении были выполнены безукоризненно, как и наружная земляная обваловка. В самих сооружениях было чисто и, я бы сказал, даже уютно. Чувствовалось, что это было делом рук работавших здесь женщин.
Немало нашел я и недостатков.
Объяснялось это прежде всего тем, что не было среди руководителей строительства квалифицированных специалистов.
Вскоре я получил новое назначение. С головой окунулся в новую работу. Пожалуй, за все время с начала войны я впервые занялся наконец своим делом в должности заместителя командира по технической части одного из военно-строительных батальонов в 151-м армейском управлении полевого строительства. Батальон размещался в хуторе Ново-Золотовском, на левом берегу Дона, и вел строительство оборонительного рубежа по этому же берегу, против Константиновского. Как руководитель работ, я отвечал за то, чтобы все построенное нами отвечало последнему слову фортификационного искусства.
За дело взялся с большим старанием, хотелось приложить все свои знания и опыт. Однако завершить строительство не удалось по не зависящим от меня обстоятельствам. Снова, в который уже раз за первые месяцы войны, пришлось сменить место службы.
Глава вторая ТРУДНОЕ ЛЕТО СОРОК ВТОРОГО
Вначале января 1942 года я получил письменное предписание о явке в штаб 8-й саперной армии, который располагался на одной из центральных улиц Ростова-на-Дону. Впрочем, штаб пока напоминал прорабскую на большой, только начинающейся стройке, ибо здесь не было еще почти ничего, что бы характеризовало его как орган управления войсками. Хотя у входа и стоял часовой — молодой парень с винтовкой, он ни у кого не спрашивал никаких, документов. Двери беспрестанно хлопали. В здание входили и выходили посетители, одежда и возраст которых говорили о том, что к армии они если и имели какое-либо отношение, то в далеком прошлом. Впрочем, среди этой толпы встречались и молодые военные, преимущественно командиры. Коридоры на всех этажах тоже были заполнены разномастной, беспрерывно дымящей цигарками публикой. С трудом разыскал армейский отдел кадров. За столом сидел подполковник с топориками на петлицах — такой была эмблема инженерных войск в то время.
Я представился по-уставному, от чего подполковник, судя по удивленно вскинутым бровям, уже отвык. Потом улыбнулся, довольный, и пригласил меня сесть, что обещало наверняка долгий разговор. Так оно и вышло. Порывшись в сейфе, он достал из груды папок мое личное дело, которое, теперь уже к моему удивлению, оказалось здесь. Вот по страницам этого дела мы и прошлись с подполковником основательно: он задавал вопросы, я по возможности короче отвечал на них. Наконец папка была отложена в сторону, и подполковник задал вопрос:
— А что вы скажете, если мы вам предложим службу в должности инженера-фортификатора в одной из наших саперных бригад?
— Согласен. Когда прикажете приступить? — твердо ответил я.
— Завтра. Штаб вашей бригады располагается по соседству с нами.
Теперь, когда официальная часть разговора была окончена, я поинтересовался, что за люди толпятся в коридорах.
— Это запасники, — пояснил полковник. — Правда, народ в основном немолодой, но опытный. Иными словами — это командиры будущих наших подразделений.
Завтра они получат обмундирование и разъедутся по войскам.
Через день я передал свои батальонные обязанности, а сам отправился в 26-ю саперную бригаду.
Начальник строевого отдела сразу направил в оперативно-производственный отдел к майору Я. П. Комиссарову, сообщив, что я назначен на должность инженера-фортификатора.
Начальник оперативно-производственного отделения штаба бригады майор Я. П. Комиссаров, как и другие только что призванные из запаса, не успел еще сменить гражданский костюм на военную форму, но к исполнению обязанностей уже приступил.
После короткой ознакомительной беседы он сразу заговорил о деле:
— Армия наша еще только формируется, не отлажены вопросы снабжения материалами и инструментом, но шахтеры народ боевой, опытный, так что мы для строительства рубежей используем пока и собственные ресурсы. Что будет неясно, обращайтесь ко мне — помогу.
8-я саперная армия формировалась на базе шахтерских коллективов Донбасса. Командовал ею в первое время заместитель наркома угольной промышленности СССР Г. Д. Оника. Его заместителем по тылу был назначен известный в те годы на всю страну своими рекордами по добыче угля Никита Изотов, последователь и друг Алексея Стаханова.
Шахтеры — отличные, но весьма далекие от военного дела работники — называли в обиходе сформированные воинские подразделения шахтами, трестами, а не ротами и батальонами. Однако нельзя было не отметить их трудолюбие, дисциплинированность, коллективную спайку и высокую политическую сознательность. Они внимательно относились ко всем нашим указаниям и советам и быстро постигали все премудрости нового для них военно-инженерного дела. Однако с шахтерами нам пришлось работать недолго: по решению правительства они были отозваны и направлены в восточные угледобывающие районы страны. Их место заняли воинские саперные формирования, укомплектованные в своем большинстве призванными из запаса людьми, ограниченно годными к службе в военное время. В основном это были люди зрелого возраста.
Шахтеры выехали организованно вместе со своим командующим Г. Д. Оникой.
А вскоре в должность командующего армией вступил генерал-лейтенант инженерных войск Б. В. Благославов. При нем работы по строительству ростовского обвода и других оборонительных рубежей в не занятой противником части Донбасса развернулись в полную силу.
В общем, фронт работ был довольно большим — бригада не батальон. Для непосредственного руководства строительством на месте командование создало специальную группу из четырех инженеров-фортификаторов, во главе с военным инженером 3 ранга Н. П. Филимоновым. Он отличался хладнокровием, эрудицией. Свой КП расположил посреди вверенного нам участка, в село Генеральском, от которого до флангов расстояние оказалось немалым.
Зима даже здесь, на юге, выдалась суровая, и при ветерке с Азова 25 градусов мороза стоили всех 45 на Севере. Личный состав совершал 3—4-километровые пешие переходы ежедневно в один конец. Если учесть, что из-за нехватки топлива — где в степи взять дрова? — костров на месте работ не разводили, а солдаты были одеты лишь в старенькие телогрейки, то легко объясним высокий процент простудных заболеваний.
Строительство в целом шло не столь скорыми темпами, как хотелось. Смерзшийся грунт едва поддавался нашим ломам и киркам. Инструмент быстро приходил в негодность, и для его ремонта мы организовали несколько небольших переносных кузниц. Командование обязало нас изыскать любые возможности для повышения производительности труда на земляных работах.
Мы тоже ломали над этим голову.
— Что можно сделать? — рассуждал Филимонов. — Традиционный прогрев грунта с целью его оттаивания отпадает — нет дров. Траншеекопателя тоже нет, да он бы здесь и не потянул. Остается последнее — взрывчатка.
— Дельное предложение, — усмехнулся А. Чайковский, самый пожилой из нас. — Да только бесполезное, — прибавил он уже серьезнее. — Нам как тыловой части взрывчатка не положена. У нас оружие и то лишь для караульной службы.
— Положено, не положено, — продолжал Филимонов. — А мы попросим, — может, и дадут. В конце концов в армии вообще-то взрывчатка есть.
Но вопрос со взрывчаткой решился самым простым способом. Один из командиров взводов нашей бригады попросил хозяйку дома, к которой был определен на постой, постирать белье.
— Мыла, касатик, нету. Мыло дашь, тогда постираю.
Лейтенант достал из своего мешка обмылок и передал его хозяйке. Та долго и внимательно его рассматривала, а потом, послюнявив палец, провела им по обмылку.
— Гм, мылится, — удовлетворенно произнесла она.
— А вы думали, я обмануть хочу? — обиделся лейтенант.
— Зачем обмануть? Знаешь, какое мыло сейчас пошло? Мылишь, мылишь, а оно не мылится. У меня в сарае такого мыла хрицы несколько ящиков оставили. Да толку от него что? Не мылится — и все тут. Вот сам посмотри. — И хозяйка достала с полки какой-то брикет, напоминающий формой и цветом кусок хозяйственного мыла.
— Да это же тол! — воскликнул лейтенант. — Самый что ни на есть настоящий тол! А ну, хозяюшка, показывайте свой сарай, где лежит это мыло.
— Отчего не показать? Показать можно, если хочешь. — И, накинув на плечи шубейку, хозяйка повела лейтенанта на задворки.
Там в сарае лейтенант обнаружил несколько ящиков толовых шашек, десятка полтора немецких противотанковых мин, мотки бикфордова шнура и коробки с капсюлями-детонаторами.
Мы обрадовались находке. Теперь было чем ускорить земляные работы. В ход пошли и противотанковые немецкие мины, оставшиеся здесь еще от осенних боев. Пока землю не сковал мороз, извлекать их было нетрудно.
По мере наступления заморозков работа на минных полях становилась все опаснее. Инструкциями тех времен запрещалось вести разминирование в зимнее время. Однако нужда во взрывчатке была велика, и на инструкцию пришлось закрыть глаза. Единственное, чего мы требовали: не снимать мины, если они вмерзали в грунт или покрывались льдом, что затрудняло вывертывание взрывателя. Но к сожалению, правила вроде бы для того и существуют, чтобы их нарушали. Однажды командир одного из батальонов, где срочно требовалась взрывчатка, устроил равное лейтенанту, возглавлявшему группу разминирования, за то, что не обеспечил землекопов толом.
— Товарищ старший лейтенант, — начал оправдываться тот, — на нашем участке нет больше легких мин. Теперь там остались только вмерзшие в грунт. Их извлекать запрещено: могут взорваться.
— А ты думаешь на войне без опасностей прожить? Я завтра сам покажу тебе и всей твоей команде, как нужно снимать такие мины.
На следующий день командир батальона, прихватив по дороге комиссара, отправился на минное поле, где его уже ждал старший группы разминирования со всем своим штатом.
— Ну, показывай свои опасные мины, — с усмешкой обратился к нему комбат.
Делать нечего, тот подвел всю группу к немецкой противотанковой мине, за которую никто не решался браться: на поверхности оставалась только круглая головка взрывателя, а весь корпус вмерз в землю.
— Смотрите, как надо с такими минами работать, — сказал комбат.
Он достал из кармана гривенник, вставил его в шлиц винта взрывателя и легонько повернул.
— Вот и все. Теперь на этой дуре плясать можно. Дай-ка сюда лом, — потребовал он у одного из саперов.
Как только лом оказался в руках комбата, все, кроме комиссара, поспешили отойти подальше. И вовремя. В морозном воздухе оглушительно громко грохнул взрыв, взметнув вверх столб черного дыма и комья грунта. Подбежавшие саперы увидели рядом с неглубокой воронкой два обезображенных, бьющихся в предсмертной агонии тела.
Для расследования этого случая из штаба бригады приехала специальная группа во главе с прокурором. Итогом расследования стал приказ по бригаде, в самой категорической форме запрещавший снимать зимой мины с минных полей. А еще некоторое время спустя в Генеральское завезли около двух тонн мелинита, не уступавшего по взрывной силе толу. Так решили проблему зимних земляных работ.
Наконец строительство ростовского обвода было закончено. В апреле прибыла фронтовая комиссия по приемке нашего участка. Работала она почти до самого мая и настояла на дополнительном возведении ряда сооружений, не предусмотренных проектом. Только в мае мы передали рубеж его хозяевам — линейным частям. Нас уже ждали новые задачи.
Участок нового оборонительного рубежа, который предстояло построить нашей бригаде, начинался вблизи города Ровеньки на Донбассе и шел на юг, подходя к ростовскому обводу и прикрывая подступы в районе Зверево, Шахты к важной железнодорожной магистрали, связывающей Москву с Кавказом.
Стояла чудесная погода, которая, вероятно, бывает только в этих краях в переходный период от весны к лету. Весенняя распутица кончилась, но и жара еще не наступила. Все время дул освежающий ветерок, приносивший аромат цветов из зеленеющей под ласковыми лучами солнца Донецкой степи. Радовали и фронтовые сводки. Сокрушительный разгром немецких войск под Москвой, успехи под Тихвином и Ростовом-на-Дону и начавшееся наступление под Харьковом вселяли надежду, что в войне наступил поворот и нам не придется больше переживать горечь отступления. Люди повеселели, трудились с огромным подъемом, не замечая усталости. Каждый думал, что это последний оборонительный рубеж, который возводится, как говорится, на всякий случай. К началу июня рубеж был вчерне готов. «Вчерне», потому что доводка обычно проходила по замечаниям приемочной комиссии и мы имели полное основание полагать, что так произойдет и на этот раз. На наш взгляд, рубеж получился на славу. Почти идеально продуманная система огня, применение для основных сооружений сборного железобетона, отличная маскировка — все это, как нам казалось, делало рубеж крепким орешком для противника, и все бы мы с радостью остались в нем в качестве гарнизона. И даже было чуть-чуть обидно, что в условиях общего наступления этот рубеж обороны уже, видимо, нашим войскам не потребуется. А хотелось бы своими глазами увидеть, как под губительным огнем из дотов, замаскированных под стога прошлогодней соломы или под будки полевого стана, в бессильной ярости откатывается назад гитлеровская пехота. Однако пока мы у себя в Ровеньках предавались голубым мечтам, положение на фронте резко изменилось, причем совершенно для нас неожиданно: просто вдруг ни один т саперных батальонов не появился утром на месте работ. Не придав этому поначалу особого значения — красноармейцев могло задержать какое-либо внеочередное мероприятие, — мы не на шутку встревожились, когда они не появились и после обеда. А вскоре поступило распоряжение немедленно прибыть со всем имуществом в штаб бригады на станцию Должанская.
Должанская жила прифронтовой жизнью — это первое, что нам бросилось в глаза. На станции скопилась масса людей. Их тревожный настрой невольно передался и нам: значит, снова отступаем. Как бы в подтверждение этих мыслей вечером Должанскую довольно основательно бомбила немецкая авиация, чего не случалось с прошлогодней осени.
Майор Я. П. Комиссаров, чрезвычайно суровый, собранный, озабоченно поинтересовался, не бывал ли кто из нас в районе нижнего течения реки Чир — правого притока Дона? Как оказалось, местность эта была неизвестна никому. Комиссаров, помолчав, объявил:
— Оперативная группа должна срочно выехать туда для рекогносцировки. Командовать группой приказано мне. Цель: выявить возможность строительства там нового отсечного оборонительного рубежа.
Меня удивило, что район, в который нам предстояло ехать, находился в глубоком тылу.
Утром наша колонна — маленький штабной автобус и две полуторки — взяла курс на станцию Лихая. Группа, возглавляемая Комиссаровым, состояла из нашего оперативно-производственного отделения и ряда специалистов из технического и некоторых других отделений штаба бригады. Предполагалось, что командование бригады и остальная часть штаба вместе с саперными батальонами прибудут несколько дней спустя.
До Лихой доехали нормально. Станция работала в спокойном, деловом ритме. Дальше наш путь лежал на Морозовск — узловую станцию, через которую проходили две железнодорожные линии: Лихая — Сталинград и Морозовск — Куберле, являясь как бы соединительным эвеном двух больших колец: Морозовск — Лихая — Ростов-на-Дону — Тихорецкая — Куберле — Морозовск и Морозовск — Сталинград — Куберле — Морозовск. Воинские эшелоны шли через Морозовск в различных направлениях, и противник всеми силами старался разбомбить узловую станцию, что способствовало бы прекращению движения на многих участках дорог. Этой цели немцы пытались достичь массированными бомбежками. Таким образом, вместо спокойного тылового города, который мы ожидали увидеть, Морозовск встретил нас огнем пожарищ, выбитыми стеклами окон, воронками от авиационных бомб и неубранными трупами убитых.
А по улицам тянулись вереницы жителей с узлами, сумками и мешками в руках. Некоторые везли свой скарб в детских колясках и на ручных тележках. В этом же направлении двигался и нескончаемый поток воинских повозок, автомашин, тракторов, артиллерийских орудий, санитарных автобусов и толпы измученных и запыленных красноармейцев.
Когда выбрались из Морозовска, майор Комиссаров остановил колонну, собрал командиров и объяснил, что где-то северо-западнее Морозовска прорвались крупные танковые и механизированные силы врага и развернули наступление в общем направлении к Дону. Видимо, цель — Сталинград и Северный Кавказ. Положение создалось серьезное. Предвидя ненужные вопросы, майор закончил, что группа будет выполнять поставленную задачу. Чтобы попасть в назначенное место, от Морозовска нам предстояло ехать на север, навстречу нашим отступавшим войскам, что уже само по себе не очень приятно.
За городом картина отступления предстала еще в более мрачном виде. Но всей ширине дорожного полотна почти непрерывным потоком двигались пехота, конные обозы, колонны автомашин и различная военная техника. О противнике здесь можно было получить самые противоречивые сведения. Одни утверждали, что лично видели немецкие танки в десяти километрах, другие доказывали, что это всего-навсего фашистский десант, третьи говорили, что противник вообще неизвестно где и, если не приказ, они не отступали бы. Вот и разберись в этой кутерьме. Связаться со своим начальством и уточнить положение и собственную задачу не представлялось возможным. Чувствовалось, что сомнение закралось даже к Комиссарову, однако мы упорно продолжали двигаться на север до тех пор, пока перед идущим первым штабным автобусом не встал какой-то пехотный лейтенант и, подняв крест-накрест руки, не потребовал остановиться. Мы вышли из машины.
— Вы что, надумали к немцам драпать? — грубовато спросил лейтенант.
— А вы от немцев драпаете? — в тон ему ответил Комиссаров.
— Танки идут не далее пяти километров отсюда, бой с ними вели. Вот все, что от моего взвода осталось. — Он показал рукой на кучку бойцов.
Если при первых словах лейтенанта майор Комиссаров вспыхнул и уже готов был употребить власть старшего по званию, то теперь, поняв, чем объяснялась ершистость лейтенанта, остыл и, стараясь замять неловкость, участливо спросил:
— Неужели действительно немцы в пяти километрах?
— Теперь, пожалуй, еще ближе, — ответил лейтенант.
— А вы из какой части?
— Из дивизии Родимцева, — как нам показалось, с некоторым вызовом ответил лейтенант. И с превосходством бывалого вояки, притом только что подвергавшегося смертельной опасности, добавил: — Слыхали про такого?
Мы промолчали.
Вдруг лейтенант, смущаясь, спросил:
— Товарищ майор, поесть у вас чего-нибудь не найдется? Двое суток ничего во рту не было.
Мы охотно поделились с лейтенантом и его красноармейцами хлебом и консервами. Поблагодарив, он посоветовал:
— Если вам уж непременно нужно ехать на север, то держитесь проселков. Ими немцы не пользуются.
Кажется, лейтенант со своей группой солдат был последним, кто нам встретился на шоссе.
Как быть? Возвращаться или продолжать двигаться вперед, используя проселки? Но не опоздали ли мы вообще со своим строительством? Положение становилось сложным. Приказом нам предписывалось прибыть в низовье Чира и развернуть работы по сооружению укреплений. Однако реальная обстановка говорила за то, что сделать этого не удастся, ибо вполне вероятно, что противник уже опередил нас. В то же время если обстановка изменится и немцев отбросят обратно, то как мы объясним, почему в указанном районе не развернули предписанных нам работ? Свернув с большака на полевую дорогу, Комиссаров снова остановил колонну. Мы все собрались вокруг него.
— Что будем делать, Яков Петрович? — спросил майора представитель политотдела бригады батальонный комиссар Н. Зак.
— А как вы думаете? — Майор обвел глазами каждого из нас. Все молчали. Тогда он твердо произнес: — У нас есть боевой приказ, и мы будем его выполнять. Других мнений, я думаю, не будет. Итак, вперед!
Дорога была совершенно пустынной. Вот и спуск к мосту через реку Чир. На другом берегу раскинулась станица Обливская. Вместо цветущих садов в ней полыхали пожары. На улицах возле домов тут и там стояли танки, автомобили, тягачи. Открыто, без всякой маскировки.
И невооруженным глазом было видно, что техника эта не наша. Однако майор Комиссаров для надежности приставил к глазам бинокль.
— Да, опоздали мы, — сказал он со вздохом. — Обливская занята противником.
Наша маленькая колонна двинулась по дороге, идущей по правому берегу Чира. Примерно в полутора или двух километрах увидели бойцов, занятых отрывкой окопов. Остановились. К нам подошли три командира: полковник, майор и капитан. Комиссаров предъявил полковнику свои документы, тот в свою очередь сказал, что здесь готовятся к обороне курсанты Новочеркасского стрелкового училища. О противнике они сведений не имели, и наше сообщение о занятии немцами Обливской оказалось для них полной неожиданностью.
— Надо же, утром там все было спокойно, — удивился полковник. — А теперь — нате вам! — немцы. — Потом, обращаясь к капитану, приказал: — Пошлите в том направлении разведку. Окопы надо занять немедленно. Пулеметы поставить на огневые позиции.
— Какие у вас намерения? — обратился он к Комиссарову.
— Трудно сказать, — пожал плечами Комиссаров. — С одной стороны, мы должны выполнить приказ. С другой — выполнить его мы уже не можем. Попытаемся связаться со своим штабом. Хотя в этой сумятице его не так легко отыскать.
— Ну что ж, желаю вам удачи, — попрощался полковник.
Связь со штабом бригады вызвался наладить Зак.
— Я исколесил Ростовскую область вдоль и поперек, — заявил батальонный комиссар, — так что, думаю, сумею найти штаб. Только выделите мне полуторку и неплохо бы парочку бойцов.
Проводив Зака, мы все же решили двигаться к указанному месту работ, куда благополучно прибыли к вечеру. Вслед за нами, совершенно неожиданно, подъехали еще две машины. Оказалось, это наши бригадные связисты со своим имуществом. К сожалению, где находится штаб бригады и личный состав, связисты сказать не могли, так как из Должанской выехали, когда все еще оставались на местах.
Ночь прошла спокойно. Утром ознакомились с местностью, на которой предстояло вести работы. Но где именно должен проходить рубеж? И здесь возникло неожиданное затруднение, Общей схемы мы не знали. Присланная из инженерного управления фронта, она на положении совершенно секретного документа хранилась в спецчасти штаба бригады, и никто из нас, кроме майора Комиссарова, ее не видел. Комиссаров же утверждал, что согласно схеме рубеж намечался по правому берегу Чира вплоть до его впадения в Дон. Это было бы оправданным, если ожидать противника с севера, так как река Чир становилась естественным препятствием по переднему краю всей нашей обороны на данном участке. Но, учитывая изменение обстановки и возможное наступление немцев с запада, из района Донбасса в направлении Сталинграда, возникала необходимость в изменении первоначального замысла, ибо по той схеме будущий оборонительный рубеж оказывался повернутым к противнику своим тылом. Получалась какая-то чепуха. И тут, поразмыслив, я предложил:
— А чего ради мы ломаем голову: спорным стал вопрос для нас лишь потому, что мы смотрим на него с нашей «маленькой» колокольни. А с «большой» он может выглядеть так, как его изобразили на схеме, которую видел в штабе Яков Петрович. Вот и давайте по ней работать, без всякого философствования.
На том и порешили. Тем не менее всех не покидало беспокойство: где бригада? почему в этом районе вообще нет каких-либо частей Красной Армии? что погромыхивает вокруг? Неизвестность на войне хуже всего. Положение начало проясняться на следующий день. Рано утром отчетливо донеслась со стороны Суровикино, находившегося на противоположном берегу Чира, перестрелка. А вскоре прибежал связной от майора Комиссарова и передал распоряжение всем возвратиться в хутор. Здесь нас ожидали плохие новости. Через Чир переправилась группа красноармейцев во главе с легкораненым лейтенантом. Лейтенант рассказал Комиссарову, что сегодня утром их стрелковый батальон, насчитывавший после многочисленных стычек с противником не более семидесяти человек, был атакован какой-то частью противника в Суровикино и, разрезанный на несколько отдельных групп, вынужден был отойти. Их группа из пяти человек — все, что осталось от взвода, — оттесненная к Чиру, переправилась на другой берег на рыбачьей лодке. Немцы их не преследовали. Что сталось с остальной частью батальона, лейтенант сказать не мог.
Судя по этому сообщению, мы в любой момент могли оказаться под огнем противника, От Зака известий пока не поступало. Снова возникал вопрос: быть или не быть строительству рубежа?
Комиссаров рассуждал, что, судя по всему, немцы рвутся к Дону и мы находимся на направлении одного из ударов. Связи со штабом бригады нет, продовольствие и бензин на исходе. Задача, о которой мы сюда прибыли, судя по всему, утратила свой смысл. Час назад бригадир полеводческой бригады сообщил мне, что немцы в Морозовске. Ему было приказано перегнать весь скот в Чернышковский, а недвижимое колхозное имущество уничтожить.
— Так что, товарищи, — заключил Комиссаров, — делать нам здесь больше нечего. Я принимаю решение искать бригаду. Фомин, — обратился он ко мне. — Вам поручаю раздобыть бензин.
И пояснил, что нужно съездить в ближайшие колхозы или в Чернышковский, где находится нефтебаза.
Я выехал немедленно. Без приключений доехал до Чернышковского. Нефтебазу нашел сразу. На ее территории, как сначала показалось, не было ни души.
— Драпанули хозяева, — сказал шофер, — придется самим здесь распоряжаться.
Но в это время откуда-то из-за резервуаров показался старик с охотничьим ружьем за спиной. В неподпоясанной гимнастерке, штанах с лампасами и казачьей фуражке, он имел довольно воинственный вид.
«Прямо дед Щукарь», — промелькнула у меня мысль.
Однако дед не расположен был с нами шутить. Хмуря кустистые брови, он строго спросил:
— Чего вам еще здесь надоть? Шо не бачите, что ли, база закрыта.
— Дедушка, — произнес я как можно мягче, — нам нужно бензинчику, чтобы заправить несколько военных машин.
— А бумага у вас есть? — спросил сторож.
— Какая еще бумага? Мы выполняем военное задание, и нам бензин нужен.
— Ну и выполняйте на здоровье. А без бумаги от нашего головы бензина не отпущу. Так он сам мне лично приказал.
Расспросив сторожа, где искать, как он выразился, городского голову, мы поехали к горсовету. Там царила предэвакуационная суматоха и на меня посмотрели, как на сумасшедшего. Так или иначе, разрешение я получил и вернулся на базу с «бумагой». Впрочем, такой документ я мог написать и сам: дед был явно неграмотен. Добросовестный служака долго всматривался в «бумагу» и даже потер ее пальцами. Потом произнес:
— Хоть и нет тута печати, да уж берите. — И повел нас к одному из резервуаров.
Когда мы наполнили все свои емкости и я собрался ехать, меня окликнул сторож:
— Эй, служивый, иди за полученный бензин распишись!
Он достал из ящика стола толстый журнал учета, ручку и чернильницу-непроливайку. Видимо, в обычное время на базе был и учетчик или, пожалуй, учетчица, так как записи в журнале велись довольно аккуратно и, как мне показалось, женским почерком. Сейчас же сторож был в явном затруднении: кто запишет?
— Я сам напишу, что получил тонну бензина, — пришел я старику на помощь, и он облегченно вздохнул.
Заполнив все как положено, я расписался в графе «Получил». Теперь дед должен был поставить свою подпись в графе «Отпустил», и тут уж я ничем не мог ему помочь.
Он снял ружье, поставил его в угол, кряхтя уселся на расшатанный табурет, явно смущаясь, взял в негнущиеся, заскорузлые пальцы ручку, вытер перо о свои штаны, снова макнул перо в чернильницу, долго, тяжело сопя, прилаживался к журналу и, наконец, начал выводить такие замысловатые каракули, что их не смог бы прочесть самый опытный графолог мира.
Залив баки горючим, мы двинулись по направлению на Тормосин. Как и ранее, дорога и поля вокруг были совершенно пустынны. Только в удивительно синем небе парили степные орлы. Иногда на большой высоте в сторону Дона пролетали немецкие самолеты-разведчики — «рамы», как их успели уже окрестить наши бойцы. И к внимания мы, естественно, не привлекали, зато от пары вышедших, видимо, на свободную охоту «мессершмиттов» нам спастись не удалось. Так как двигались мы по большаку, то, чтобы не глотать пыль, водители держали значительную дистанцию друг от друга. Видимо, это создавало впечатление, что идет большая колонна машин, и вражеские летчики клюнули на приманку. Они летели в стороне от нас, как бы крадучись, низко над землей. Заметив шлейфы пыли, сделали разворот, стараясь зайти в хвост нашей колонне. Разгадав их намерение, мы успели выскочить из машин и залечь в придорожных кюветах.
Трудно сказать, чем не приглянулись фашистам наши полуторки, но лишь ведущий прошелся по замершим машинам из пулемета — самолеты так же внезапно скрылись из виду, как и появились. Однако у немца оказался верный глаз: одна из машин, перевозившая имущество связистов, загорелась. Потушить ее не удалось. Но мы больше всего жалели не те несколько катушек телефонного кабеля, которые остались в кузове, а шины, что сгорели вместе с автомобилем, так как с авторезиной дело у нас обстояло плохо. Далее мы ехали без происшествий. Тормосин весь был забит воинскими частями, вереницами повозок, колоннами автомашин и тракторов. Обтекая городок, прямо по полю двигались беженцы, шли гурты колхозного скота. И весь этот поток — в шуме, грохоте и гаме — направлялся на восток, к переправе через Дон. Мы тоже втиснулись в него и через четверть часа были вынесены его могучим течением за пределы Тормосина в направлении на хутор Суворовский. До него добрались к семи часам вечера. В сам хутор попасть не удалось: он был плотно забит войсками и беженцами со своим и колхозным добром. Да и в окрестностях хутора, в садах и на огородах, находились сотни повозок и автомашин, гурты коров и овец. Едва найдя место для автомобилей в неглубокой балочке, расположились на отдых. Но мне отдохнуть не пришлось: Комиссаров послал к переправе, поручив разведать, что там происходит.
Нелегка любая военная переправа, но одно дело, когда переправляются наступающие войска, и совсем другое, когда на противоположном берегу ищут спасения бегущие. И самое страшное для переправы — пробки — эти гигантские заторы.
Я уже знал, что представляют собой переправы, но увиденное превзошло мои ожидания. С нашей стороны берег обрывисто спускался к речной пойме, заросшей мелколесьем и кустарником, за которыми метрах в двухстах под лучами заходящего солнца зеркалом светилась водная гладь. На самой дороге, проходящей по пойме к Дону, а также по обе стороны от нее впритирку друг к другу непрерывной чередой стояли автомашины всех марок, начиная от легковушек и кончая крытыми грузовиками, В просветы между ними вклинились тракторы с прицепленными пушками, полевые кухни, покрытые брезентом «катюши», танки. Эта очередь напоминала гигантскую бутылку, лежащую горлышком к паромному причалу. У самой воды царила суматоха.
Я понял, что здесь нам переправиться не удастся. А если налет вражеской авиации? И только подумал об этом, как услышал гул авиационных моторов. С юго-запада, под углом к реке, попарно вытянувшись в цепочку, к переправе подходила шестерка «мессершмиттов». Над поймой они разделились. Одна пара, взмыв круто вверх, начала пикировать на паром, обстреливая его из пулеметов. На пароме вздыбились лошади, часть повозок свалилась в воду. Но паром устоял. С него к самолетам потянулись светящиеся трассы пулеметных очередей. И фашистские летчики не выдержали, отвернули в сторону. Остальные самолеты начали обстреливать берег. С обеих сторон реки по «мессерам» вели огонь скорострельные зенитные пушки и крупнокалиберные пулеметы. Били по ним и бойцы из всех видов стрелкового оружия. Один из стервятников задымил и пошел назад, других вскоре отогнали наши истребители. Лично я впервые видел воздушный бой, и он захватил меня своей скоротечностью, виртуозностью, мастерством. Несбывшаяся мечта о небе на минуту тоской сжала сердце.
На обратном пути, расспросив местных жителей, я узнал, что в станице Нижне-Чирская недавно построен мост, которого еще нет на карте.
Майор Комиссаров, которому я сообщил об этом, колебаться не стал.
— Ну, Фомин, тебе в разведке везет. Бери снова полуторку, гони в Нижне-Чирскую, разузнай там обстановку да, как говорится, займи очередь. А мы тронемся вслед за тобой.
Примерно через час я уже подъезжал к Нижне-Чирской. Улицы ее были так же пустынны, как и в Чернышковском. Только пугливо выглянувшая в чуть приоткрытую калитку одного из домов женщина на мой вопрос, как проехать к мосту, скороговоркой ответила:
— Прямо по улице, и никуда не сворачивайте, — и тотчас захлопнула калитку.
Мост через Дон оказался целехоньким, хотя на нем уже вовсю суетились саперы, подвязывавшие к конструкциям заряды взрывчатки. Но удивил меня не сам мост — обычное типовое военное сооружение, рассчитанное на короткий срок службы. Удивился я другому: отсутствию людей. Через этот целехонький, новенький мост никто не переправлялся! Ни войска, ни беженцы. Неужели о нем никто не знал? Могли не знать отступавшие части — это еще как-то можно допустить, хотя военные люди обязаны были иметь информацию о военной переправе, но почему здесь отсутствовали гражданские — жители окрестных станиц и хуторов? Уж они-то знали о строящемся мосте. Впрочем, раздумывать некогда. Я подошел к капитану, руководившему работами, спросил:
— Как обстановка, товарищ капитан? Успеет ли пройти по мосту наша часть, которая сейчас на подходе?
— Это не от меня зависит, а вот от нее, — кивнул капитан в сторону рации, стоявшей на настиле. Она молчала. Около нее томился в ожидании радист с наушниками на голове.
— Жми назад, да побыстрее, — приказал я шоферу, взбираясь в кабину.
Далеко ехать не пришлось: наша колонна встретилась у въезда в станицу.
— Быстрее! — крикнул я Комиссарову. — Мост вот-вот взорвут!
Взревев моторами, машины устремились к Дону. На наше счастье, рация все еще молчала. Саперы, окончив свои дела, отдыхали. Когда мы переправились, начинало уже темнеть. Отъехав от реки с километр, сделали привал, а уже поздно вечером услышали позади раскатистый взрыв.
Нелегким был поиск бригады. Без документов, дающих нам право ехать в избранном направлении, без продовольствия и без горючего мы продвигались вперед черепашьими темпами. Вскоре нас задержали представители вновь формируемой части, отобрали автомобили, оставив только одну полуторку, с которой разрешили девушкам-связисткам продолжать розыски бригады. Нас же, командиров, распределили по батальонам почти сформированной дивизии, которая в нескольких километрах отсюда занимала оборону, готовясь встретить наступавших немцев. Меня назначили командиром стрелкового батальона. Однако пробыл я в своей новой должности менее суток. Майор Комиссаров сумел получить письменное приказание, согласно которому весь командно-инженерный состав нашей группы обязан был прибыть в Зимовники, в штаб бригады. Извинившись перед командиром полка за несостоявшееся комбатство, я вместе с другими специалистами нашей группы на двух машинах направился в Зимовники. На этот раз повезло: бригада находилась там. Как же мы обрадовались, что наконец после стольких мытарств нашли своих однополчан! Только в такие минуты и познаешь, что оно значит, солдатское счастье.
Нашему появлению здесь тоже обрадовались. И немало удивились. Как же, аккуратист писарь в штабе против каждой фамилии давно написал: «Пропал без вести».
— А что еще было делать? — развел руками начальник отделения кадров. — Известий — никаких. Мы думали, что вы либо где погибли под бомбежкой, либо попали в лапы к немцам. А может, примкнули к какой-нибудь части и благополучно воюете.
Так или иначе, в нашем лице бригада получила неожиданное пополнение специалистами, да еще с двумя автомашинами. Остальные мы растеряли по пути, и майор Комиссаров очень переживал из-за этого: спрос-то с него. Но когда выяснилось, что на переправе через Дон под Цимлянской бригада оставила много техники, в том числе несколько десятков тракторов, Комиссаров несколько успокоился. Потеря трех автомашин на этом фоне выглядела мелочью. Действительно, об этом никто потом и не вспоминал.
Согласно приказу Главного военно-инженерного управления Красной Армии мы переподчинялись теперь Северо-Кавказскому фронту и должны были передислоцироваться в район станицы Червленная, расположенной на левом берегу Терека. При сложившейся обстановке на южном участке фронта мы могли попасть теперь на Северный Кавказ только через Калмыцкие степи. Командование бригады выбрало следующий маршрут движения: Зимовники — Хуторской — Ремонтное — Элиста — Арзгир — Буденновск — Ачикулак — Каясулу — Терекли-Мектеб — Червленная. Общая протяженность пути, который предстояло проделать личному составу пешим порядком, составляла около шестисот километров.
Нелегким был марш бригады по Калмыцким степям, в пыли, под палящим зноем.
…Казалось, нет конца и края этой выжженной солнцем земле, покрытой редкой, жесткой, сухой травой. Впрочем, и травой-то в нашем российском понимании эту растительность назвать нельзя: уж слишком она колюча и суха.
Бесконечно тянулась пыльная дорога, на которой каким-то чудом сохранились кое-где узорчатые следы автомобильных покрышек.
Как бы здорово сейчас сесть в кузов полуторки под тент, дать отдохнуть натруженным ногам и подремать под спокойную песню мотора! Но увы, марш пришлось совершать пешком: автомобилей не хватало. Небритые, немытые, черные от солнца и пыли, в обносившемся обмундировании и рваной обуви, мы, наверное, весьма мало походили на воинскую часть. Но это только внешне. Хотя в походной колонне давно уже не было четкого военного строя и люди медленно брели небольшими группками, однако подразделения не смешивались. Все понимали, почему необходимы эти долгие переходы, но было обидно уходить в тыл.
Особенно страдали от жажды. Колодцы встречались только в населенных пунктах, а между ними — десятки степных немереных верст. В колодцах, использовавшихся чабанами для водопоя, в то знойное лето, кроме густой грязи, ничего не было. Несмотря на принимаемые нашими медиками меры, участились случаи тепловых ударов.
Трудности закаляют сильных волей. Переносить тяжелейший марш через Калмыцкие степи нам помогала книга А. Серафимовича «Железный поток», которая тут же появилась в колонне. Ее читали на коротких привалах, обсуждали, говорили о том, что красноармейцам Кожуха было еще труднее, а ведь выстояли.
Без малого месяц длился этот изнурительный марш. Северный Кавказ, куда вышла наша бригада, после перенесенных испытаний показался сущим раем. В станице Червленная нас встретили прохлада тенистых садов, обилие фруктов и овощей, вкус которых, признаться, мы давно уже забыли. А главное — было вдоволь прекрасной, холодной, бодрящей горной воды.
Люди наслаждались отдыхом, прекрасно зная, что неумолимая война готовит им новые испытания.
Действительно, к тому времени общая военная обстановка на Северном Кавказе оказалась весьма тяжелой. Противник рвался вперед, не считаясь с потерями. В целях создания единого командования по обороне Кавказа директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 1 сентября 1942 года Северо-Кавказский и Закавказский фронты были объединены в Закавказский фронт, что повысило оперативность руководства боевыми действиями на всех участках. Несколько раньше прекратили свое существование 8-я и 9-я саперные армии, и теперь наша 26-я саперная бригада вошла в прямое подчинение штаба инженерных войск вновь созданного фронта.
Между тем инициатива пока находилась в руках противника. В начале сентября ему удалось захватить город Малгобек. Далее немцы развернули наступление между Терским и Сунженским хребтами, стремясь прорваться в долину Алхан-Чурт и, обойдя с тыла наши позиции на Тереке и на Терском хребте, выйти к Грозному. Отсюда для немцев открывалась бы заманчивая перспектива наступления в общем направлении на Махачкалу и Баку, Кроме того, представлялась возможность бросить часть сил через сравнительно легко проходимый Крестовский перевал на Тбилиси. Более двух недель в районе Малгобека шли ожесточенные бои. Город несколько раз переходил из рук в руки. Несмотря на то что немцам в конце концов удалось захватить Малгобек, для выхода в долину Алхан-Чурт у них уже не хватило сил. Тем не менее в двадцатых числах сентября они начали наступление на Эльхотово, стремясь прорваться через так называемые Эльхотовы ворота в долину реки Сунжа и по ней выйти к Грозному. Эльхотовы ворота — долина шириной 4–5 километров между двумя параллельными Тереку грядами не очень высоких гор, покрытых лесом и изрезанных ущельями и оврагами. По долине течет Терек, на его правом берегу расположено селение Эльхотово, черев которое проходят железная дорога Прохладный — Грозный и несколько шоссейных дорог. Бои в этом районе шли примерно до конца сентября, но успеха и здесь они немцам не принесли.
Во второй половине сентября наша отдохнувшая, пополненная людьми и техникой бригада получила первую на Закавказском фронте боевую задачу: частью своего состава усилить в инженерном отношении оборону под Эльхотовом. Я получил задание выполнить инженерную рекогносцировку, а затем руководить указанными работами в районе Эльхотово, на отрогах Терского хребта.
К моменту нашего прибытия натиск противника значительно ослабел, напряженность спала. Стороны вели довольно интенсивную артиллерийскую перестрелку, а в отдельных местах — бои за улучшение своих позиций.
Выяснилось, что инженерное оборудование позиций наших войск довольно слабое. Они занимали наспех отрытые окопы и траншеи на довольно пологих скатах гор и были уязвимы для артиллерийского огня противника. Нам предстояло создать здесь сеть инженерных и минно-взрывных заграждений, а также систему огневых точек из железобетонных и броневых колпаков, используя сборный железобетон и дерево. К этому времени удалось организовать на станции Гудермес силами бригады производство сборного железобетона. Был решен вопрос и его доставки на позиции.
Строить укрепления под носом у врага — дело непростое, особенно если учесть, что большинство участков предстоящих работ хорошо просматривалось и простреливалось со стороны противника. Оборона продолжала жить своей жизнью: от подразделения к подразделению пробирались связные, подносчики боеприпасов несли патроны, тянули свои «нитки» связисты и т. п. Подчас даже трудно объяснить, зачем потребовалось тому или иному бойцу или командиру шествовать под прицелом огневых средств противника. Ночью движение резко возрастало. Подходило пополнение, эвакуировали раненых, наши саперы подвозили строительные материалы. В это время за обратными скатами высот можно было встретить колхозников, спешивших под покровом ночной темноты убрать и вывезти буквально из-под носа немцев урожай кукурузы.
Учитывая сложившуюся обстановку, строить мы могли только ночью. Но производить рекогносцировку в ночное время возможности, конечно, не было. Поэтому приходилось изучать местность под артиллерийским и пулеметным огнем противника. На рекогносцировку своих участков ходили в основном в одиночку. Из какого-нибудь укрытия сначала на глаз определялось на местности положение будущей огневой точки. Затем, используя складки местности, окопы, а то и по-пластунски, подбирались к намеченной точке и там окончательно решали, удачно ли выбрано место, каким будет сектор обстрела, легко ли доставить сюда строительные материалы. Если все параметры отвечали требованиям, мы делали необходимые пометки на схеме.
К вечеру схема передавалась командиру саперного подразделения, которому предстояло здесь ночью вести работы. По их окончании схема возвращалась нам с внесенными в нее изменениями, если они появлялись в процессе производства работ. При этом действовал строгий порядок: в какой бы стадии ни находился недостроенный объект, к утру он должен быть тщательно замаскирован. За этим следили и мы, фортификаторы, и командиры стрелковых подразделений, занимавших здесь оборону.
Судя по всему, противник не замечал усилий нашего командования по укреплению обороны. Что касалось углубления и разветвления траншей и соединительных ходов сообщения, то эти работы как у нас, так и у немцев выполнялись днем: вполне законное желание солдата поглубже зарыться в землю ничем не угрожало противной стороне. Но для острастки по местам, где лопатки выбрасывали наверх землю, нет-нет да и давала пулеметную очередь одна из сторон. Совсем другое дело — установка броневого колпака или возведение дота. Тут налицо желание не просто улучшить, а максимально укрепить, усилить свои позиции, и гитлеровцы, едва что замечали, обрушивали на подозрительное место артиллерийский и минометный огонь. Впрочем, так же реагировали на подобные вещи и мы.
В отрывке траншей и ходов сообщения саперам помогала пехота, для которой они были необходимы в любой стадии готовности.
Работа на отведенном мне участке подходила к концу. Мы передали стрелкам уже более половины дотов и других огневых точек. Оставалось согласовать с командованием полка, занимавшего здесь оборону, местоположение последней группы фортификационных сооружений, намеченных на схеме и зафиксированных на местности.
После наполненного опасностями дня короткие часы ночного отдыха мы с военным инженером 3 ранга Михаилом Васильевичем Прохоровым — моим соседом по оборонительному участку — проводили, как правило, в маленьком горном селении Караджич. Почти разрушенное артиллерией и авиацией противника, оно все же продолжало жить, и нам с Прохоровым даже удалось там зацепиться за нечто похожее на чулан в одном из полуразрушенных домишек. Конечно, не ахти что, но хватило места для топчана, а главное, относительно спокойно можно было провести первичную обработку документации по своим участкам работ. Немцы, разумеется, не забывали каждую ночь посылать сюда пять-шесть артиллерийских снарядов, но, измотавшись за день, мы их не слышали.
Позднее, когда наши саперные батальоны полностью получили фронт работ, освоились с обстановкой и отпала необходимость в еженощных бдениях на позициях, мы переселились в большое осетинское селение Дарг-Кох, где по ночам не так часто грохотали разрывы немецких снарядов. Хозяин, у которого мы остановились, хорошо говорил по-русски, был всегда приветлив с нами и стремился поделиться скромными продуктами своего хозяйства. Так же относилась к нам и его жена — тихая и скромная, всегда занятая работой женщина.
На Кавказе мне впервые довелось увидеть наше новое оружие — «катюши», о которых до этого много слышал. Мое знакомство с ними состоялось совершенно неожиданно: во время полевой работы буквально оглушил, ошеломил и чуть не свалил на землю какой-то небывалый по силе рев и свист. Сначала я не мог понять, в чем дело. Но когда из-за ближайшей скалы взметнулось яркое пламя, снова раздался рев и несколько светящихся трасс ушло в сторону противника, догадался, что стреляли «катюши».
Бойцы, работавшие со мной, посоветовали поскорее перебраться подальше от этого места, поясняя, что враг откроет мощный огонь.
Еще не улеглась пыль от залпа «катюш» за ближайшей скалой, как они сами выехали оттуда на дорогу и, покачивая незачехленными направляющими, стали медленно спускаться вниз.
А минут через пять после их отъезда на то место, где только что находились мы, уже густо падали немецкие снаряды.
— Лупи, лупи по пустому месту, — засмеялся боец.
Закончив работы по укреплению наших позиций в районе Эльхотово, мы приступили к строительству оборонительного рубежа по реке Сунжа и грозненского обвода, а также к подготовке к обороне городов Гудермес и Хасавюрт. Штаб бригады переместился в Хасавюрт, а в Гудермесе находилась оперативная группа во главе с заместителем командира бригады по технической части военным инженером 2 ранга Лавровым. Костяк группы составляли инженеры-фортификаторы. Укрепление городов для всех нас было делом новым. Каких-либо методических пособий и руководств по этому вопросу мы не имели, поэтому приходилось полагаться лишь на свое инженерское чутье.
Первые трудности возникли уже в процессе рекогносцировок: лабиринты кривых и узких улочек и тупичков на окраинах таких городов, в то время хаотично застроенных одноэтажными глинобитными, деревянными и очень редко кирпичными домами, не вписывались в общую систему многослойного огня. Зато они являлись отличными путями скрытого просачивания в глубину нашей обороны мелких штурмовых групп противника. Надо было продумывать, как и чем перекрыть эти пути. Лучшим средством для этих целей являлись минные заграждения и всякого рода взрывные и невзрывные ловушки и препятствия, прикрываемые огнем наших автоматчиков и снайперов из засад.
На серьезные трудности мы наталкивались и при строительных работах. Причем не только со стороны отдельных граждан, страшившихся за свою личную собственность, но и нередко со стороны представителей местных властей, еще не почувствовавших войны. Если нам требовалось освободить здание от жильцов, чтобы приспособить его под огневую точку, то те бежали в местный Совет. Иногда в таких случаях к нам жаловал его председатель.
— Дорогие товарищи, — начинал он, — зачем трогать людей? Фронт далеко еще. Фронт совсем далеко. Я вам говорю — немцев здесь никогда не будет. Зачем такой хороший дом портить?
Видимо, эти жалобы дошли и до командования, так как вскоре последовало такое распоряжение:
— На городских подступах выполнить все задания, предусмотренные рекогносцировочными схемами. В городах к местам расположения будущих огневых точек завезти железобетонные и броневые колпаки и расположить их там укрыто. Нежилые строения — сараи, амбары, бани и тому подобное — к обороне приспосабливать с согласия их хозяев.
К счастью для Гудермеса и Хасавюрта, противник до них не дошел, и личная собственность граждан не пострадала.
В это время гитлеровцы упорно рвались к Грозному — центру нефтедобывающей промышленности на Северном Кавказе. Фронт приблизился к городу на расстояние менее сотни километров, однако среди населения не замечалось никаких следов тревоги и беспокойства. Но не было и беспечности. Город жил строгой, размеренной деловой жизнью: работали предприятия, включая и нефтепромыслы, городской транспорт и все учреждения. К нашему удивлению, немцы не бомбили нефтепромыслы. Позже мы догадались, что они надеялись получить эти предприятия в свои руки. Все изменилось, когда они поняли, что их радужные мечты неосуществимы.
Первый массированный воздушный налет немцы произвели на самое мощное нефтеперерабатывающее предприятие города Новые промыслы, кажется, в начале октября 1942 года, около пяти часов вечера, как раз в такое время, когда дневная смена еще не ушла, а вечерняя только что прибыла. Этим самым они рассчитывали не только вывести из строя предприятие, но и уничтожить как можно больше рабочего люда. Трудно сказать, почему фашистским летчикам почти без потерь удалось достичь объекта бомбежки: ведь он, этот объект, хорошо охранялся и нашей авиацией, и средствами противовоздушной обороны.
Фашисты сделали свое гнусное дело. Но и их сумели все-таки наказать. Больше половины фашистских самолетов, участвовавших в налете, не вернулись на свои аэродромы. Но и Новые промыслы превратились в море огня. Здесь горело все: огромные открытые хранилища сырой нефти, многокубометровые резервуары с бензином и керосином, взрывавшиеся с грохотом, сотрясавшим землю, полыхали цеховые и вспомогательные здания и другие строения, горела даже почва, годами впитывавшая в себя бензин, керосин и всякие другие горючие материалы.
Огонь пытались тушить и городские пожарные команды, и воинские части, в том числе и несколько наших батальонов, находившихся в районе Грозного. Но что они могли сделать с разбушевавшейся стихией?! Черный дым достиг Гудермеса, отстоявшего от Грозного на сорок с лишним километров. Дымное марево закрыло солнце, и стало темно, как в самую пасмурную погоду. Пожар угас лишь через несколько дней.
Некоторое время спустя мне довелось побывать на пожарище. Оно выглядело страшно. Поверхность земли покрывал слой остекленевшей от высокой температуры корки, кругом хаотическое нагромождение свернутых невообразимой силой металлических конструкций, распоротых огромных баков. Тогда подумалось, что здесь добыча нефти никогда не возродится. Однако разум и воля человека оказываются всегда сильнее любой злой стихии — промыслы довольно скоро начали выдавать продукцию.
Глава третья САПЕР ОШИБАЕТСЯ ТОЛЬКО РАЗ
Вначале сентября 1942 года гитлеровские войска, ведя наступление из района Моздока, форсировали Терек и вклинились в нашу оборону более чем на десять километров. Судя по данным разведки, они стремились к Орджоникидзе и Грозному. В результате ожесточенных боев противника удалось остановить. Определенную роль в этом сыграли инженерные войска, которые удачно использовали в горной местности средства заграждения. Широко применялись лесные и каменные завалы, барьеры и баррикады, фугасы-огнеметы, на дорогах — металлические ежи. Мины расходовали в основном для прикрытия танкоопасных направлений.
Обороняя нефтеносные районы Кавказа, инженерные войска нередко использовали огневые заграждения: узкие и длинные водоемы наполняли нефтью, которую в нужный момент оставалось лишь поджечь. Применялись и валы из плотно уложенной соломы, залитой нефтепродуктами.
Наша бригада получила задачу — создать сеть опорных пунктов севернее станицы Ищерская. Эти места в то время называли Моздокскими степями. Нам предстояло работать на участке протяженностью свыше ста километров, примерно от селения Ачикулак до Ищерской. Следовало создать не сплошную оборонительную линию, а отдельные опорные пункты с круговой системой огня для небольших гарнизонов. Расположенные в редких здесь населенных пунктах, на узлах наиболее важных дорог и на тактически выгодных высотах, они сковывали бы действия подвижных групп противника, с одной стороны, и прикрывали железную дорогу Кизляр— Астрахань — с другой.
Моздокские степи — это бесконечное множество невысоких холмов, покрытых жесткой травянистой растительностью и до того однообразных, что заблудиться в них ничего не стоило. Сколько раз случалось: целый день кружишь на одном месте, будучи вполне уверенным, что идешь в нужном направлении. Только карты и компасы помогали, ибо отличительных ориентиров на местности почти никаких, глазу не за что зацепиться. В ряде случаев приходилось прибегать к помощи проводников: местные жители отлично знали свои буруны, как называли они эти холмы.
Мой участок работ оказался самым северным и начинался километрах в десяти-двенадцати к юго-востоку от поселка Ачикулак, в районе которого происходила частые стычки между нашими кавалерийскими подразделениями и подвижными отрядами противника. Учитывая все это, мне пришлось обзавестись автоматом и верховой лошадью — первой в своей жизни. И трудно сказать, кому больше доставалось: мне или этой спокойной коняге от ее неопытного всадника. Но мало-помалу сработались.
Я уже упоминал, что в этой малонаселенной местности отсутствовала четкая линия фронта и бои велись в основном между подвижными группами. Определенную роль должны были сыграть и отдельные опорные пункты. Однако для их оборудования требовался строительный материал. А где его взять? Местность безлесная, подвозить издалека строительные материалы не на чем: автотранспорт отсутствовал. В этих условиях нам приходилось сооружать оборонительные укрепления, обкладывая их откосы грунтом и всем, что попадало под руки. Работали все, способные держать в руках лопату.
В середине октября пришел приказ выделить в распоряжение командира 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Н. Я. Кириченко два саперных батальона. Приказ, разумеется, выполнили, людей отправили по назначению, хотя мало кто представлял, зачем кавалерии пешие саперы. Дней десять связь с батальонами отсутствовала. Наконец получили донесение от командира одного из батальонов капитана А. А. Генералова. Он сообщил, что его люди частично распределены по казачьим полкам, частично используются в качестве пехоты. Сам Генералов пребывал неподалеку от поселка Нортон, который находился на моем участке работ. Командир бригады подполковник Тряков поручил мне разобраться на месте со случившимся. Батальон я нашел в небольшом, почти полностью разрушенном хуторке, не значившемся даже на крупномасштабной карте.
Вот что выяснилось. По прибытии в корпус капитан, как и положено, представился начальнику штаба. Тот удивился неожиданному пополнению и доложил в свою очередь командиру корпуса.
Генерал Кириченко, внимательно выслушав капитана Генералова, решил:
— Мы бьем врага клинком. Но людей у нас — кот наплакал. Всех, кто умеет ездить верхом, посадим на коней. Остальные пусть воюют в пешем строю.
Он вышел к саперам и спросил:
— Кто из вас желает бить фашистского гада не лопатой, как вы делали это до сих пор, а пулей, штыком и клинком, два шага вперед!
Почти одновременно шагнули все шеренги.
— Молодцы! — похвалил их генерал. — Воевать по-настоящему хотите?
— Хотим! Давно хотим! — пронеслось по рядам.
— Запомните, — продолжал Кириченко, — я силой в бой никого не гоню. Но если вы добровольно вступили в наши славные казачьи ряды, то я и мои казаки хотим проверить, на что вы способны. Вот вам боевая проверка: выбить нынче ночью немцев из Нортона. Справитесь с ней — примут вас казаки в свои ряды как полноправных боевых товарищей. Не справитесь — ковыряйте землю дальше.
Видимо, здорово хотелось саперам переквалифицироваться в удалых казаков: они так яростно бросились в атаку, что фашисты, побросав все, бежали. Легкая победа в первом бою вскружила саперам голову, и вместо того, чтобы основательно закрепиться, они увлеклись сбором трофеев. Гитлеровцы подтянули танки и контратакой восстановили положение. Саперы, не желая мириться с поражением, готовились к реваншу. Капитана Генералова я застал как раз за подготовкой плана контратаки. Он так увлекся своей новой ролью, что, казалось, совсем забыл о своих прямых обязанностях. Реакция Кириченко на лихие действия саперов была неоднозначной. Личному составу батальона он приказал объявить благодарность, а капитана Генералова разнес в пух и прах за то, что не сумел удержать Нортон.
Эта история с обращением саперов в кавалеристов кончилась тем, что приказом штаба фронта батальоны были возвращены в бригаду, но в половинном составе: вся молодежь осталась в казачьих частях.
Вскоре 26-я саперная бригада получила приказ о передислокации в город Буйнакск для переформирования. Вспоминая ее недлинную историю, особенно обстоятельства рождения, нельзя не отметить, что она, как и вся 8-я саперная армия, была создана для сооружения стратегических тыловых оборонительных рубежей, что имело важное значение на первом этапе Великой Отечественной войны. Комплектование всех саперных армий (их сначала было шесть, а к началу 1942 года — десять), а следовательно, и входящих в них подразделений, осуществлялось в первую очередь за счет призванных из запаса военнообязанных строительной специальности в возрасте до 45 лет. То обстоятельство, что тогда наша бригада состояла из более чем двух десятков батальонов с общим количеством личного состава, превышавшим десять тысяч человек, в какой-то степени оправдывалось объемом и характером выполняемых работ. Но и тогда штабу бригады все же трудно было оперативно управлять таким количеством людей и подразделений.
В целях улучшения инженерного обеспечения боевых действий и управления инженерными подразделениями Ставка ВГК в начале октября 1942 года сочла необходимым, используя базу инженерных батальонов, создать инженерно-саперные бригады (ИСБр) РВГК в составе четырех батальонов и инженерно-разведывательной роты. Тогда же было сформировано несколько горных инженерно-саперных бригад (ГИСБр).
В ноябре 1942 года на базе саперных бригад, оставшихся после упразднения саперных армий, начали формировать инженерно-минные бригады РВГК семибатальонного состава. В Закавказье на этой же основе создавались горные инженерно-минные бригады.
Нашу 26-ю саперную бригаду перебросили в Буйнакск для той же цели — на ее базе формировалась 5-я горная минно-инженерная бригада резерва Верховного Главнокомандования в составе семи минно-инженерных батальонов и подразделений обслуживания и управления. В штабе упразднялись должности инженеров-фортификаторов, в связи с чем многие мои боевые товарищи откомандировывались в резерв офицерского состава фронта. Меня назначили помощником начальника оперативного отделения штаба, которое возглавил майор Я. П. Комиссаров. Прибыл новый командир бригады — полковник А. Ф. Визиров. Произошли изменения и среди среднего и младшего командного состава. Что касается бойцов, то новая бригада значительно помолодела, а следовательно, повысилась и ее боеспособность.
В Буйнакске я получил свою первую боевую награду, а на петлицах вместо трех кубарей появилась одна шпала, и теперь стал я именоваться военным инженером 3 ранга, что соответствовало званию капитана.
Несмотря на конец ноября, стояла чудесная погода. Днем мы обходились без шинелей и только к вечеру, когда с гор начинал сбегать холодный ветерок, снова облачались в них. Но отдых на войне — дело кратковременное. Вскоре бригада получила приказ о возвращении в район Грозного.
Видимо, отличная погода, стоявшая в Буйнакске, соблазнила командование воспользоваться кратчайшей дорогой, проходящей в основном по северо-восточным склонам Главного Кавказского хребта. Местные жители уверяли, что по ней могли пройти и автомобили. Но когда? Летом! Осенью в горах было далеко не так уютно, как в Буйнакске, тем более что по пути следования предстояло преодолеть несколько горных перевалов и переправляться через многочисленные реки и речушки. Как-то поведут себя наши заезженные ЗИСы с лысой резиной на осенних горных дорогах?
Неприятности начались на первых же километрах нашего пути. Один только штабной автобус, побывавший летом в донской передряге, лихо катил впереди колонны, а остальные автомобили постепенно отставали. Когда через час пути майор Комиссаров устроил пятнадцатиминутный привал, то за это время к нам подтянулось всего две машины: продовольственная и с комендантским взводом. Другие остались далеко внизу. К концу дня на седле очередного перевала нас неожиданно остановили… пограничники. Кого угодно, только не бойцов в зеленых фуражках ожидали мы встретить в этом горном урочище. Лейтенант, проверив наши документы, посоветовал:
— Рекомендую переночевать у нас. Светлого времени в вашем распоряжении совсем мало. А ночь в горах— не совсем приятное время для путешествий.
— А что, опасно, что ли? — задал кто-то вопрос.
— А в этих местах всегда опасно, — уклончиво ответил лейтенант.
— Ну что же, — согласился Комиссаров, — ночью в незнакомых горах можно действительно свернуть себе шею. Остаемся здесь. Да и остальные машины, может быть, подтянутся за ночь сюда.
Пожевав колбасы с хлебом и запив все это чаем, которым нас угостили пограничники, стали устраиваться на ночлег.
Лейтенанта-пограничника мы пригласили в свой автобус. Разговорились. Выяснилось, что пограничники в тылу — необходимая мера пресечения диверсионных, шпионских и террористических актов, организуемых гитлеровской разведкой.
Навербовав разного отребья, гитлеровцы создали из них небольшие банды, которые по ночам устраивали поджоги аулов, разрушали мосты и переправы, нападали на семьи активистов. Это была обычная фашистская бандитская тактика: деморализовать наш тыл на том направлении, где они ведут наступление. В данном случае— под Грозным.
— Многих выловили, — закончил лейтенант. — Но не всех. Так что вам двигаться надо с определенными предосторожностями.
Ночь прошла без каких-либо событий. Из нас никто не спал: было очень холодно и сыро, а к утру над горами повис такой туман, что в двух шагах ничего не рассмотреть. Часам к трем дня туман поредел, и мы решили ехать дальше. Беспокоило, однако, то, что за все время, проведенное у пограничников, нас не догнала ни одна бригадная машина.
— Куда они запропастились? — волновался Комиссаров. — Ведь ехали все в одном направлении.
— В такой туман и с такой резиной, как на наших машинах, ехать опасно. Где-нибудь отстаиваются, — успокаивал его шофер нашего автобуса.
Подождав еще некоторое время, решили трогаться в путь. Первым — наш штабной автобус, за ним — ЗИС с продовольствием, замыкающей — полуторка с бойцами. Дорога становилась все хуже. Если на первых порах она еще имела хоть какое-то покрытие, то теперь исчезло и само полотно, сплошь изрезанное стекавшими с откосов дождевыми потоками. Ехали медленно и осторожно.
По какому-то необъяснимому случаю, который в обиходе называют законом подлости, в самом узком и опасном месте, где с одной стороны над дорогой нависала вертикальная стена, а с другой пугал невообразимой крутизны склон, у нашего автобуса закапризничал двигатель. Шофер буквально притер его к скале, уступая дорогу следующим автомобилям. Водитель машины с продовольствием, боясь задеть наш автобус, взял слишком много вправо и, уже объехав нас, вдруг забуксовал.
— Не газуй! — кричал ему наш водитель. — Под откос сверзишься!
— Ничего, выскочу! — самоуверенно ответил тот.
Однако машину начало заносить, и она медленно сползала к обрыву. Едва водитель успел выскочить из кабины, как грузовик пошел под откос. Метров десять он прыгал по камням, потом, повалившись на борт, закувыркался дальше, оставляя бочки и мешки с продовольствием. Наткнувшись на большой обломок скалы, он остался лежать на боку, с обломанными бортами, смятой кабиной и изуродованным радиатором. Водитель разбившейся машины, молча постояв несколько секунд на краю обрыва, вздохнул и уселся в кабину следующей машины. Обычно уравновешенный, майор Комиссаров не выдержал:
— Нашкодил — и в кусты, а продукты кому оставим? Ты знаешь, какая цена тому, что по твоей милости развалилось по откосу? Отправляйся вниз и собери все, вплоть до последнего сухаря. Не соберешь — под трибунал. Понял? — И, обращаясь ко всем нам, добавил: — Давайте, товарищи, поможем этому балбесу собрать продукты и что можно погрузим на вторую машину и в автобус. Не пропадать же такому добру.
Более часа мы собирали банки со свиной тушенкой и колбасой, пакеты с «геркулесом» и ржаными сухарями, мешки с крупой и прочив уцелевшие продукты. Пока мы лазали по откосу, а шофер исправлял мотор, прошло часа три. Но мы не теряли еще надежды до темноты выбраться из гор в Терскую долину. А там, по нашим расчетам, до Грозного оставалось не более 40–50 километров. Но расчеты не оправдались. Во-первых, не учли, что придется делать остановки ежечасно на десять-пятнадцать минут для охлаждения двигателей, натужно завывающих на крутых подъемах. Во-вторых, к вечеру начал вновь сгущаться туман, и вскоре свет фар едва просвечивал его на полтора-два метра. Автомобиль с комендантским взводом безнадежно отстал и затерялся. Мы медленно двигались в полном одиночестве и тишине. Ко всему прочему начало темнеть. В наступивших сумерках окружавшая нас белесая среда казалась даже липкой на ощупь. Ехать было практически невозможно. И все же мы ехали. Чтобы не свалиться в пропасть, пришлось мне встать на ступеньку автобуса и, держась за полуоткрытую дверцу, подсказывать шоферу, куда поворачивать руль, так как я видел хотя бы грань, отделявшую дорогу от откоса. А вскоре даже появился ограничительный дорожный парапет, выложенный насухо из плитняка. Видимо, здесь за дорогой кто-то ухаживал. Это говорило о близости населенного пункта. В одном месте мне показалось, что парапет повернул вправо.
— Право руля! — резко скомандовал я шоферу.
Тот крутанул баранку, и автобус, прыгая по камням, устремился под откос.
— Стой! — крикнул я водителю.
Тот резко затормозил, и я не удержался на подножке. Автобус стоял, уткнувшись радиатором в каменную ограду. За оградой послышался неистовый лай собаки. Мои товарищи повыскакивали из автобуса наружу.
— Кажется, приехали, — произнес кто-то насмешливо.
Майор Комиссаров участливо спросил, не разбился ли я, нужна ли мне какая помощь, и, видя, что со мной все более или менее благополучно, отошел. В это время за оградой показалось движущееся пятно света, послышался резкий гортанный голос, и исходивший лаем пес сразу умолк. Вскоре перед нами предстал старик в лохматой папахе и накинутом на плечи полушубке. В руке он держал фонарь.
— Прости, отец. Попали мы сюда нечаянно. Нельзя ли нам провести здесь ночь? — обратился Комиссаров к старику.
— Сам аллах ведет путников в горах, и он же делает их гостями избранного им горца, — сказал старик довольно чисто по-русски и, пригласив нас в дом, пошел вперед, светя перед собой фонарем. Мы последовали за ним. Хозяин привел нас в комнату, лишенную почти всякой мебели. Только вдоль стен тянулись невысокие, по широкие возвышения, на которых чуть ли не до потолка громоздились стопы подушек и ковров. Стульев в комнате не было, и мы расселись на этих возвышениях. Посредине комнаты прямо на полу горела керосиновая лампа. Два окна, расположенные в той же стене, что и входная дверь, завешаны маленькими ковриками. Поэтому мы и не видели снаружи света в доме.
Старик, пригласив нас в комнату, тотчас же вышел через другую дверь. Через некоторое время он возвратился и внес небольших размеров стол на коротких ножках. Вместе с ним вошли две женщины. Лица почти до самых глаз закрыты платками. Они принесли большое блюдо с фруктами и, поставив его на стол, удалились.
Хозяин переставил с пола на стол лампу и пригласил нас отведать принесенного угощения. Блюдо опустело за несколько минут. Фрукты только разожгли аппетит, тем более откуда-то потянуло жареным мясом. Вскоре те же самые женщины принесли большую миску дымящегося плова и несколько лепешек из кукурузной муки. Упрашивать нас не пришлось. Я был не в состоянии съесть все, что мне положили, и вскоре отодвинул миску.
Один из моих товарищей сказал вполголоса:
— Нужно есть все до конца, иначе обидишь хозяина… Кто отказывается от угощения, считается плохим джигитом.
Хозяин, услышав разговор, вежливо заметил:
— Зачем так плохо говоришь? Джигит должен быть стройным, как кипарис, и ловким, как барс. А для этого он должен не пить вина и мало кушать барашка. Иначе он станет толстым и ленивым, как свинья.
Все засмеялись.
Когда с пловом было покончено, те же безмолвные женщины убрали стол, расстелили ковры, разложили подушки. Ночлег был готов. Комиссаров машинально достал пачку папирос. По лицу хозяина пробежало облачко недовольства.
— Аллах не любит в доме плохой дым, — произнес он. — Но ты не чтишь аллаха и можешь курить.
Комиссаров смущенно убрал папиросы, однако заметил:
— Турки тоже мусульмане, но им их аллах разрешает курить даже кальян.
— То другой аллах. А наш аллах не любит дыма табака, — не сдавался старик.
Пришлось всем курильщикам выйти на улицу.
Утром мы поднялись рано и стали собираться в дорогу. От вчерашнего тумана не осталось и следа. Солнце еще не взошло, но утренняя заря подкрасила окружающие горы и холмы в нежный розовый цвет. Теперь можно было сориентироваться. Оказывается, мы находились в маленьком аульчике, прилепившемся к склонам горы. И надо было так случиться, что этот аульчик оказался тем самым селением, которое по карте Комиссаров наметил накануне местом нашей ночевки. Уму непостижимо, как нам благодаря чистой случайности удалось не проехать его! Старик хозяин отказался взять деньги за ужин и ночлег. Прощаясь, он предупредил, что дальше ехать нельзя: несколько дней назад неподалеку от их аула дорогу завалил оползень. Этот участок надо объезжать стороной.
Понимая, что нам не найти этого объезда, дед позвал внука:
— Он знает дорогу. Проведет вас и вернется.
Черноглазый живой паренек лет пятнадцати-шестнадцати забрался в автобус и с великим удовольствием уселся рядом с водителем. Дорога, которую он нам показал, была отвратительной, нас бросало со страшной силой, и мы удивлялись, что еще живы. Наконец выбрались на старую трассу. Прощаясь с проводником, которому предстоял обратный путь не менее десяти — двенадцати километров, Яков Петрович предложил ему деньги. Тот отрицательно замотал головой.
Через несколько часов мы прибыли в назначенное место, где вскоре сосредоточилась вся бригада.
Возвратившись под Грозный, наша 5-я горная минно-инженерная бригада влилась в состав 44-й армии. Главной задачей бригады становилось обеспечение инженерными средствами наступления армии. Минно-инженерные батальоны, самостоятельно или будучи приданными пехоте, восстанавливали мосты и дороги, наводили переправы, обезвреживали минные заграждения противника, включая разминирование зданий и сооружений. Последнее было делом нелегким не только в силу своей специфики, но еще и потому, что недоставало специалистов и нам приходилось их обучать на месте в основном методом показа. Оперативным отделением бригады командовал Комиссаров, теперь уже, после унификации воинских званий, инженер-майор. Кроме меня у него в подчинении находились его старший помощник инженер-капитан А. Н. Прохоров, инженеры-капитаны Н. Н. Досталь, К. Н. Лавриненко и техник-чертежник старшина В. В. Сбоев. Положена еще была по штату вольнонаемная машинистка, но эта должность постоянно пустовала, и каждый из нас сам печатал свои документы. Вместе мы собирались довольно редко, не видели друг друга неделями, так как большую часть времени находились в частях в качестве инструкторов, технических руководителей, контролеров. Когда минно-инженерный батальон придавался наступающим стрелковым или танковым частям, мы выезжали вместе с ним помогать в выполнении боевой задачи. Нелегкая это была служба: день и ночь мотались на попутном транспорте по грязным, разбитым дорогам, мокли под злыми осенними дождями, перемешанными со снегом, попадали под бомбежки и артобстрелы, обезвреживали вражеские мины и фугасы, ели что придется и спали где попало. Зато мы отлично знали обстановку в передовых частях, были относительно, как это вообще может быть в армии, свободны в принятии тех или иных решений и радовались, когда наша инженерная эрудиция помогала тому или иному комбату выполнить боевое задание малой кровью.
Миновал ноябрь. Фронт стабилизировался. Однако чувствовалось, что равновесие сил на Кавказе носит временный характер и во многом зависит от хода военных действий под Сталинградом. Когда великая битва на Волге закончилась полным разгромом гитлеровских войск, улучшилось и положение на нашем участке фронта. Уже в январе 1943 года гитлеровцы, боясь окружения, стали отходить из района Моздока. Преследуя противника, наши войска наносили ему весьма ощутимые потери. Отступая, гитлеровцы бросали технику, награбленное имущество и даже раненых.
3 января нашими войсками были освобождены города Моздок, Малгобек, а в период между 8 и 12 января — Георгиевск, Минеральные Воды и Кисловодск. 21 января после упорных боев войска фронта овладели Ставрополем.
Наступление осуществлялось в сложных условиях. Враг всячески стремился задержать его и цеплялся за каждый населенный пункт, за любую тактически выгодную возвышенность. К тому же всю первую половину января шли проливные дожди, превратившие дороги в непроходимое месиво, где застревали даже трактора. Вздувшиеся от дождей реки сносили мосты, и нужно было срочно их восстанавливать.
Широкие наступательные действия, предпринятые войсками Закавказского фронта, потребовали серьезной работы по разминированию освобождаемой территории и восстановлению наиболее важных объектов — мостов, переправ и т. д. Сначала разминирование велось силами инженерных войск фронтов, однако опыт показал, что тем самым снижалось их участие в непосредственном обеспечении боевых действий войск.
В феврале-марте 1943 года по решению Ставки ВГК были сформированы тыловые бригады разграждения, к разминированию стали широко привлекаться подразделения собак-миноискателей.
Правда, с лета 1943 года тыловые бригады занялись в основном восстановлением промышленных предприятий, и задачи по разминированию вновь легли на фронтовые инженерные части. Поэтому стали формироваться отдельные батальоны миноискателей, а с апреля 1944 года началось создание отдельных отрядов разминирования за счет личного состава соединений и частей оборонительного строительства.
Разминирование — работа весьма ответственная и опасная. Обезвреживание мин, различных фугасов и «сюрпризов», которые противник оставлял после себя, требовало особой сноровки, знаний и мужества. Недаром говорят, что минер ошибается лишь раз, ибо ошибка стоит жизни.
Мины, фугасы, боеприпасы уничтожались обычно на месте, но при разминировании населенных пунктов и промышленных предприятий приходилось обезвреживать мины ручным способом, а боеприпасы вывозить для подрыва в безопасное место.
Пожалуй, самым сложным во всем этом было подготовить людей — психологически и технически. Знания плюс осторожность — вот, пожалуй, на что опирается минер в своей опасной работе. Страх, а равно и показная лихость, бравада только мешают и могут привести к печальному концу, как и отсутствие знаний, опыта, смекалки.
Профессию минера следует отнести к самым опасным военным профессиям, хотя безопасных военных профессий вообще нет. По правилам разминирования минер работает один, в отдалении от товарищей. И в критической ситуации он не может рассчитывать на их помощь, должен сам, и только сам, искать выход из любой ситуации, надеясь лишь на свое мужество, выдержку, отличное знание минной техники и приемов разминирования. Неисправные винтовка, автомат или пулемет, как правило, не стреляют. Неисправный взрыватель мины, единственного в ней механизма, может стать причиной произвольного взрыва. Минер должен иметь крепкие нервы и отлично знать свое дело в сочетании с безукоризненной дисциплиной. И еще одно правило, которым руководствовались мы: обучающий в любых обстоятельствах не должен показывать обучаемому свою растерянность, неумение. Это может зародить в человеке неуверенность, чувство страха, беспомощность перед опасностью. Такой человек в минеры не годится.
В конце февраля один из батальонов нашей бригады, которым командовал майор К. Шагин, получил пополнение молодых командиров, только недавно окончивших военно-инженерное училище по сокращенным программам военного времени. Майор Комиссаров попросил меня провести с молодыми офицерами несколько показных занятий по разминированию на минном поле, чем, разумеется, они в училище не занимались. Батальон находился в Невинномысске, где осуществлял восстановительные работы и разминирование. Прибыв в батальон, я рассказал комбату о поставленной задаче. Тот посоветовал:
— У нас есть еще неразминированный участок. Вот ты и займись на нем со своими «студентами».
Участок я осмотрел в тот же день. Он вполне подходил для занятий. Располагался за двухэтажным зданием школы, занятым теперь под госпиталь. Видимо, прежде ученики выращивали на нем овощи. Теперь же это был заброшенный пустырь с едва заметными следами бывших грядок. По периметру я заметил указки с надписями на немецком языке: «Мины». Вот эти-то указки и ввели в заблуждение. Я решил, что это минное поле создали немцы, обезопасив указками от случайных заходов на него своих военнослужащих. Мне и в голову не пришло, что немцы с таким же успехом могли огородить, не тратя времени на разминирование, и минное поле противника, оставшееся после отхода отсюда наших войск осенью 1942 года. Проводя на следующее утро инструктаж четырех младших лейтенантов, составлявших пополнение, я говорил им о вражеских минах. И для меня стало полной неожиданностью, когда через несколько минут после начала работ из успевшего уже оттаять грунта извлекли первую отечественную противотанковую мину ЯМ-5. Младший лейтенант, извлекший и обезвредивший мину, спросил:
— Товарищ капитан, а часто фашисты используют наши мины?
— Не знаю, — неуверенно ответил я, еще не сообразив, что к установке этого минного поля гитлеровцы не имели никакого отношения. И только обследовав деревянный корпус, потемневший от времени и сырости, я понял действительное происхождение этого минного поля. Промелькнуло желание подать команду о прекращении работ, но что-то удержало меня от этого. Вскоре один из моих подопечных, работавший на правом фланге цепочки минеров, поднял руку. Это означало, что подзывают руководителя работ, т. е. меня.
— Что случилось? — спросил я.
— Никак не могу из этой мины извлечь взрыватель. Заело — и все тут.
Я попробовал сам. Разбухший от серости деревянный корпус мины заклинил взрыватель. Подобные мины по инструкции подлежали уничтожению на месте. Но как ее подорвать, если рядом находился госпиталь, а неподалеку — местное отделение связи и несколько жилых домов?
— Отойдите на двадцать метров в сторону! — приказал всем, кто находился рядом.
Я должен был сам во всем спокойно разобраться. Взрыватель заклинило намертво. Что предпринять? И тогда я сделал то, что категорически запрещается всеми руководствами: просунул острый конец финского ножа между корпусом мины и чекой взрывателя, удерживающей боевой стержень во взведенном положении, и потянул рукоятку ножа на себя. Но взрыватель не поддался и этому усилию. Вместо того чтобы оставить мину в покое, я еще сильнее потянул на себя рукоятку ножа. И чека переломилась. И именно в том месте, где она проходит через отверстие бойка. Однако под воздействием боевой пружины она удерживалась в отверстии, хотя ее концы медленно сближались, становясь похожими все более и более на хвост ласточки.
Через доли секунды мог последовать взрыв. И в эти доли секунды я успел выпустить из руки нож и схватиться пальцами за выступающий конец бойка. В ту же секунду из отверстия, в котором находилась чека, выпали обе ее половины, и теперь боек во взведенном положении я удерживал только двумя пальцами. А сильная пружина буквально тянула его из рук. Пальцы начали неметь. Но мое сознание работало четко: я медленно, чтобы не допустить удара, освобождал боек, пока не почувствовал, что он уперся в капсюль детонатора. И нервы сдали: я весь покрылся холодным потом, ноги в буквальном смысле подломились, и я сел рядом с миной на холодную землю. Руки не слушались, я никак не мог сделать самокрутку: табак просыпался. Лишь закурив, успокоился и смог уже спокойно рассуждать.
Передо мной лежала боевая снаряженная мина, которая стала опаснее, чем раньше, так как острие ударника теперь упиралось в капсюль взрывателя. И достаточно было самого легкого удара по выступающему наружу концу ударника, чтобы произошел взрыв. Нет, нельзя в таком состоянии оставлять мину. С ней надо что-то делать. А что? И решение нашлось. Еще раз осмотрев мину, удостоверился, что ее деревянный корпус, сбитый на скорую руку из узких, плохо обработанных и даже не покрашенных планок, еле держался. Разбухшие от сырости планки заклинили и взрыватель, и откидную крышку мины. Короче говоря, теперь передо мной лежал ящик, начиненный смертью. Можно попытаться вновь оттянуть ударник взрывателя в первоначальное положение и закрепить его в этом положении новой чекой, запас которых всегда имелся у минеров. Но после пережитого я не решался прикоснуться к взрывателю. Оставалось одно: попытаться вынуть из мины взрывчатку, оторвав планки крышки, а потом уже изнутри обезвредить взрыватель. На этот раз мне повезло: первую планку удалось с помощью все того же ножа отделить сравнительно легко. Но в образовавшееся отверстие рука не входила, удалось лишь разглядеть, что первый ряд толовых шашек в полном порядке и вынуть их можно без особого труда, если отделить и вторую планку, что я и сделал. Теперь я мог уже свободно вынимать шашки из корпуса мины. Извлек первый их ряд. Вижу, в одну из толовых шашек второго ряда вставлен капсюль-детонатор взрывного механизма. С большой осторожностью отделил шашку от детонатора, а затем детонатор от взрывателя. И хотя последний ряд шашек извлечь не удалось, мина как таковая больше не существовала. Наконец-то все! И только теперь я почувствовал такую усталость, что с трудом поднялся на ноги. Поединок со смертью удалось выиграть. Огляделся. Все с волнением наблюдали за мной.
— Почему не работаете? Кто вам разрешил устроить каникулы? Кто сколько снял мин? — спросил у своих подопечных.
Никто не двинулся с места. Обучаемые, переступая с ноги на ногу, смущенно молчали. Потом тот, чья мина досталась мне, спросил:
— Товарищ капитан, мы заметили, что что-то произошло… Если не секрет, что?
— Какой уж тут секрет… Я поторопился, допустил ошибку, от которой, дорогие мои товарищи, предостерегаю вас…
И я рассказал, как все произошло и в чем была моя ошибка. Все же я не удержался от того, чтобы не рассмотреть этот проклятый взрыватель. Оказывается, в том месте, где чека проходила через отверстие боевого стержня, от постоянного увлажнения образовалась коррозийная шейка, где и обломилась чека, когда я поддел ее ножом.
С какими только минами нам не приходилось встречаться в годы войны… Но об этом рассказ в последующих главах.
В начале 1943 года стратегическая инициатива на Северном Кавказе полностью перешла в наши руки. Линия фронта отодвигалась на запад. Еще в конце января она пролегала по рубежу станиц Егорлыкская, Белая Глина, Ново-Александровская, Армавир, восточнее станицы Лабинская, а к концу марта эти населенные пункты уже остались у нас далеко в тылу.
Однако в начале апреля темп наступления стал падать. Одна из причин — распутица. Река Кубань, разлившись, затопила обширные участки местности в полосе наступления наших войск, и они начали испытывать недостаток в боеприпасах, продовольствии и во многом другом, что требует война. С большим трудом измученные лошади тянули по вязкой и липучей грязи повозки, часто задерживаясь в бесконечных дорожных пробках. На автомобили было жалко смотреть. Застряв в этом клейком месиве, они уже не делали попыток самостоятельно выбраться и покорно оставались в ожидании случайного трактора. По обочинам дорог, таким же грязным и разбитым, как и проезжая часть, с трудом вытягивая из грязи ноги, шла пехота. Над дорогами то и дело завязывались воздушные бои. Господству фашистов в небе пришел конец. Краснозвездные истребители не оставляли безнаказанными ни одного нападения фашистской авиации. Десятки гитлеровских асов нашли свой бесславный конец в кубанской земле.
Трудно и неохотно уходили гитлеровцы с нашей земли. Прекрасно понимая стратегическое значение Таманского полуострова, они создавали на подступах к Керченскому проливу мощные оборонительные рубежи, которые предстояло сокрушить.
Серьезные задачи ложились на саперов. Действуя в боевых порядках наступающих подразделений и частей, они потеряли счет снятым минам, отремонтированным и построенным заново мостам, восстановленным участкам дорог. Трудно перечислить все, что сделали тогда наши саперы — в непролазной грязи, нередко по пояс в воде, под бомбежками и артобстрелами. Разумеется, наиболее важными объектами были мосты.
Однажды меня и майора Комиссарова вызвал командир бригады полковник А. Ф. Визиров.
Бригада, — сказал он, — должна направить один батальон для восстановления Невинномысского железнодорожного узла, включая и мост через Кубань. Работы будет вести батальон майора Шагина. Но сам Шагин — не инженер. Среди его офицеров нет железнодорожников и мостовиков. Сроки установлены сжатые: не позже чем через десять суток узел должен заработать. Спрашивать будут строго. — Он помолчал и, посмотрев на меня, сказал: — Решено направить туда в качестве технического руководителя вас, товарищ Фомин.
Признаться, такой выбор меня весьма удивил: ведь я тоже не был ни мостовиком, ни железнодорожником. И, предвидя возможное возражение, полковник продолжил:
— Знаю, знаю, кто вы по специальности. Но вопрос решен. Вы обязаны справиться с этим заданием. Но хочу сразу предупредить: вам надо будет прежде всего установить правильные взаимоотношения с Шагиным. Работает его батальон, и поэтому он формально является начальником. Но Шагин как командир слаб. Так вот, не подрывая его авторитета, вы должны взять на себя руководство строительством. Вас поддержит его замполит.
И, заканчивая разговор, командир бригады сказал, что в Невинномысске мне надо быть не позднее завтрашнего утра.
В тот же день я выехал в Невинномысск, а уже утром мы с Шагиным и представителем железнодорожников осматривали предстоящее место работ. Фашисты здесь «потрудились» основательно, подорвав мост над самой рекой — два пролета и одну опору. Металлические конструкции пролетов обрушились в воду. Промежуточную мостовую опору взорвали только в надводной части, и особых трудностей с ее восстановлением не возникло бы, не поджимай нас сроки.
В общем, картина представилась безрадостная.
— Конечно, одним батальоном не справиться, — подытожил железнодорожник. — Поэтому в ближайшее время мы направим сюда военный мостопоезд, который изготовит фермы вместо подорванных.
Прежде чем принять окончательное решение, поинтересовались у старожилов, как ведет себя река в дни весенних паводков. Они нас успокоили, заверив, что весенний паводок в верховьях Кубани прошел и большего подъема воды можно не ожидать. Таким образом, способ восстановления опоры был утвержден.
Уже во второй половине дня батальон приступил к расчистке русла реки от обрушившихся пролетных строений и к подготовке материалов для шпальной клетки. Но оставалась еще одна важная задача: восстановление железнодорожных путей.
Когда-то здесь была прекрасная двухпутка, но теперь не осталось в целости ни одного рельса, ни одного стрелочного перевода. Надо отдать фашистам должное: разрушать чужое они любили и делали это с величайшим мастерством. Каждый рельс был перебит не менее чем в трех местах: на концах и в середине. У немецких саперов для этих целей имелись специальные подрывные патроны: четырехсотграммовая толовая шашка с прикрепленной к ней магнитной пластинкой. В шашку заранее заделывалась стандартная немецкая зажигательная трубка с терочным воспламенителем. Магнитная пластинка прочно удерживала шашку у шейки рельса, и, чтобы сработал заряд, саперу оставалось только дернуть за кольцо воспламенителя. На установку патрона требовались секунды времени. Такими устройствами группа немецких саперов в 3–5 человек за светлое время дня могла разрушить до 10 километров путей, что они успешно и делали.
Даже не верилось, что это изрытое полотно, искромсанное, изломанное железо можно снова заставить служить людям. Работы предстояло очень много. Отделить от шпал изуродованные рельсы, снять с них исковерканные накладки, обрубить у каждого рельса по два зазубренных взрывами конца, рассверлить в каждом рельсе не менее восьми отверстий под соединительные болты и с помощью костылей или крепежных шурупов снова прикрепить рельс к шпалам, после чего стыки вновь скрепить новыми накладками.
Работа трудоемкая и сложная даже для опытных путейцев, а ее предстояло выполнять людям, многие из которых и железную-то дорогу увидели лишь на войне. Кроме того, явно не хватало рельсов и шпал. По моим расчетам выходило, что мы можем восстановить лишь одну колею, а шпалы со второй использовать на восстановление моста. Начальство одобрило эту идею. Оставалось раздобыть необходимый железнодорожный инструмент и тонны крепежных материалов. Но где?
— С этим мы тоже поможем, — пообещали железнодорожники. — Готовьте заявку. Но подумайте, может быть, вы можете что-то изготовить и сами?
— Часть поковок мы могли бы сделать, — сказал Шагин, — ну а также скобы и некоторый другой легкий крепежный материал.
Оставалось продумать, как выровнять промежуточную опору. Взрывом у нее так отрубило верх, что она торчала, будто скала с острой вершиной. Нам же нужна была ровная площадка для установки на ней шпальной клетки. Ни кайлом, ни отбойным молотком этот бетонный монолит не взять. Оставалось одно: хорошо рассчитанный небольшой взрыв. Быстро прикинув, сколько на это потребуется времени, высказал это предложение коллегам, которые меня поддержали. На следующий день я засел за расчеты величины заряда и мест устройства взрывных колодцев, а батальон Шагина полностью включился в работу.
К вечеру прибыл обещанный железнодорожниками военный мостопоезд. Теперь мы были полностью обеспечены металлическими профилями, крепежными материалами. Путейцы из команды мостопоезда организовали обучение наших саперов приемам правильной обрубки концов рельсов и забивки костылей в шпалы. Лязг и скрежет металла, звонкие удары кувалд разносились по всей округе. Зато спустя несколько дней наши саперы могли всего двумя-тремя ударами по зубилу перерубить рельс и так же лихо вогнать костыль в шпалу по самую головку.
Исходя из гражданских мерок, даже представить трудно, какой огромный объем работ предстояло выполнить всего за десять дней. Справиться с этим мы могли только благодаря четкой организации и, разумеется, военной дисциплине. Работы велись, по сути, днем и ночью: в две смены по десять часов в каждую. Из этого времени один час отводился на подготовку рабочих мест, расстановку людей по объектам и инструктаж, полтора часа на перерывы для приема пищи. В темное время суток места работ освещались прожекторами и кострами. Прожекторами, имевшимися на мостопоезде, освещался в основном мост — объект номер один. Хотя погода большее время стояла ненастная, мы все же выделили специальных дежурных, наблюдавших ночью и за воздухом.
Шагину не хотелось отвлекать людей, как он выразился, «на чепуху», и я понимал его — рабочих рук и без того не хватало, однако на выделении дежурных я настоял, и противник не замедлил подтвердить мою правоту. Уже через сутки над нами закружилась немецкая «рама», а вслед за ней и «мессершмитты», обстрелявшие нас из пулеметов. Стало ясно, что гитлеровцы постараются помешать восстановлению моста.
Вскоре для прикрытия наших работ были установлены несколько зениток и пулеметов, а в воздухе в дневное время стали дежурить наши истребители, не допуская появления над нами непрошеных гостей.
Учитывая важность объекта, к нам чуть ли не ежедневно наведывалось начальство. Хвалили нас редко. Однако помогали хорошо, обеспечивая всем необходимым в короткие сроки. А это в то время было самым важным.
И все-таки мы не укладывались в сроки. Это послужило причиной замены командира батальона майора Шагина. Его отозвали, и, пока не прибыл новый командир, командовать батальоном фактически пришлось мне.
Трудностей встречалось немало. В один из дней не подвезли крепежный материал. Изыскивая его, пришлось направлять представителей на ближайшие станции и разъезды.
Улучшилась погода, грунт оттаял, и вскоре удалось завершить выкладку шпальной клетки. В подразделениях развернулось социалистическое соревнование. «Молнии» извещали о выполнении графика, называли наиболее отличившихся. Благодаря принятым мерам удалось несколько сократить отставание, но в график мы так и не вошли: последний, так называемый серебряный, костыль был забит на два дня позже намечаемого срока. На открытие движения прибыли полковник Визиров, другое начальство. Я доложил о готовности объекта к эксплуатации. Первым должен был пройти пробный поезд в составе паровоза и трех платформ, груженных балластом. Небольшой состав уже подходил со стороны Невинномысска. Паровоз сердито выбрасывал из трубы клубы черного дыма. Оба берега Кубани были усеяны народом: собрались и солдаты, и местные жители. Перед самым мостом состав остановился. Машинист ждал сигнала к движению.
— Фомин, — скомандовал полковник Визиров, — быстро под мост! Ваше место там!
Я, выполняя приказ, спустился по откосу вниз и по переходному настилу перебрался на выступающую из воды часть старой промежуточной опоры, С нее поднималась шпальная клетка. Здесь же находилось примитивное устройство для замеров величин просадки конструкций моста под нагрузкой. Над головой висели металлические балки пролетного строения.
Через решетчатые переплетения балок виднелось голубое небо. Но вот справа оно постепенно стало закрываться чем-то темным, и я не сразу догадался, что на мост медленно вползал состав. Когда он повис надо мной, шпальная клетка, просев, громко затрещала. Противно заскрежетали и стальные конструкции. Не совсем приятное впечатление. Я невольно втянул голову в плечи и едва поборол желание бежать. Между тем паровоз, осторожно пыхтя и роняя раскаленные кусочки шлака, медленно двигался по мосту, таща за собой тяжелые платформы. Снизу хорошо было видно, как поезд уходит на вторую половину моста. Скоро сквозь пролеты снова засияло голубое небо. Только тут вспомнил об указателе просадок: его стрелка почти дошла до красной контрольной черты. Значит, еще оставался запас прочности.
«Все в порядке! — понял я. — Просадка в норме!»
Решил понаблюдать за прохождением через мост еще нескольких составов, чтобы окончательно убедиться в прочности моста. Опора стала трещать меньше. Выбравшись из-под моста, я поднялся на насыпь и доложил командиру бригады о результатах наблюдений. Тот остался доволен, поблагодарил за службу и произнес:
— Представьте мне списки отличившихся солдат, сержантов и старшин для награждения правительственными наградами.
— А офицеров? — спросил я.
— Офицеры несут ответственность, помимо всего прочего, и за сроки строительства, в которые они не уложились. За что же награждать? Впрочем, тех, кого вы считаете нужным, поощрите сами.
Понаблюдав за мостом еще пару дней и убедившись, что мост работает нормально, я убыл на строительство оборонительных сооружений в район станицы Славянская.
Весна 1943 года на Кубани постепенно вступала в свои права. Подсыхали дороги, в нежную зелень одевались поля и леса. Щедрая кубанская земля ждала сеятеля, но вместо зерен пшеницы в дышащий теплом чернозем ложились мины и снаряды, и стонала земля, начиненная металлом. И все-таки жизнь брала свое. В освобожденных станицах люди по горсткам собирали семена, ремонтировали уцелевший сельхозинвентарь и выходили в поле. Нам нередко доводилось видеть, как люди — в основном женщины — сами впрягались в плуги. Где могли, воины помогали селянам техникой.
Но не вся Кубань еще была очищена от захватчиков.
Оказывая яростное сопротивление, противник постепенно отводил остатки разгромленных соединений и частей к низовьям Кубани и на Таманский полуостров.
В начале мая была освобождена станица Крымская. Продолжая наступление, советские войска почти вплотную подошли к Голубой линии — последней и самой сильной полосе обороны гитлеровских войск на Кубани.
Немало в этот период сделали наши инженерные войска, которые подготовили 970 различных плавучих средств, 65 мостов, 13 бродов. Они устраивали проходы в заграждениях противника, блиндажи, вели разминирование. Многие саперы входили в штурмовые подразделения. Немало пришлось поработать и нашей бригаде. В конце марта 5-я горная минно-инженерная бригада получила задание построить несколько оборонительных рубежей по линии станиц Славянская — Абинская. Это делалось с целью закрепления успехов весеннего наступления наших войск и, видимо, на случай ответных действий противника.
Правильность такого решения подтвердилась позднее, когда армии Северо-Кавказского фронта перешли к обороне. Наступление возобновилось лишь осенью 1943 г. Пока же наша бригада играла довольно скромную роль. Прибыв на место, мы сразу же приступили к рекогносцировке. В рекогносцировочную группу были включены вместе со мной капитаны Досталь и Лавриненко. Вслед за нами должен был отправиться инженерно-саперный батальон под командой майора В. В. Мосина.
Местность, где нам предстояло работать, представляла собой довольно ровное плато с небольшим уклоном к западу. Кое-где на нем росли деревья и кустарник, но они не закрывали ни обзора, ни обстрела. Участок пересекал небольшой ручеек, который можно было использовать в качестве переднего края обороны. Каких-либо характерных признаков, которые могли бы стать прививочными ориентирами, кроме неизвестно как уцелевшей тригонометрической вышки, не оказалось. Вот ее мы и решили использовать в качестве одного из реперов. До-сталь уже подходил к тригонометрической вышке, как вдруг раздался глухой взрыв, и на том месте, где только что находился капитан, возникло темное облачко. Молнией мелькнуло в сознании: мина! Не успел я что-либо сообразить, как грянул второй взрыв, на этот раз под ногами Лавриненко, и он, будто споткнувшись, упал.
Первым желанием было броситься напрямик по полю на помощь товарищам. Но усилием воли я заставил себя не бежать, а возвратиться к тому месту, где мы только что стояли втроем, и по их следам направиться к попавшим в беду товарищам. К нам уже спешили бойцы, услышавшие взрывы.
— Куда? Назад! — крикнул я им, но они меня, видимо, не слышали.
Тогда я вынул пистолет и дважды выстрелил в воздух. Солдаты остановились. Знаками я приказал им оставаться на месте. Они поняли меня. А я, придерживаясь хорошо еще сохранившихся в мокрой траве следов Досталя и Лавриненко, двинулся дальше. Первым я увидел Досталя. Он лежал ничком, слегка отвернув голову в сторону, как бы слушая землю. Одна рука вытянута вперед, другая — прижата к туловищу. Вместо ног торчали какие-то темно-багровые лохмотья, на которые невозможно было смотреть без содрогания. Неподалеку от него стонал Лавриненко: у него оторвало левую ступню. Я пытался его перебинтовать, но из моих усилий ничего не получалось.
— Отойдите, — произнес позади меня требовательный женский голос, и чья-то рука отодвинула меня в сторону. Только теперь я начал осознавать происходящее. Оглянулся: позади почти весь штаб батальона, включая врача и замполита. Врач занялась ранеными.
— Как вы сюда попали? — устало спросил я Мосина.
— Прибежал солдат, доложил, что вы все подорвались.
— Надо немедленно уходить. Здесь кругом мины.
— Мои минеры уже расчищают проход к дороге, сказал Мосин.
Результаты рекогносцировки таковы: Досталь умер в госпитале, Лавриненко остался инвалидом.
Минеры Мосина сняли с этого участка несколько десятков мин различного типа. Особенно много их оказалось вокруг тригонометрической вышки. Да, недаром фашисты оставили ее напоказ: они понимали, рано или поздно к ней кто-то придет. После этих потерь наш отдел сократился вдвое: под началом у майора Комиссарова остались лишь мы с Прохоровым. Но работа не ждала прибытия новых специалистов. Закончив рекогносцировку и передав участок под строительство, мы занялись другими неотложными делами.
Предстояло как можно скорее подготовить трудный в природном отношении участок для большой наступательной операции и в то же время постоянно укреплять оборону на случай, контрударов со стороны противника. К решению задач командование фронтом привлекло большое количество инженерных соединений и частей. Строились укрепления, восстанавливались мосты и дороги, активно велось разминирование. Чаще всего наша бригада действовала в составе 9-й и 56-й армий.
В период подготовки наступательной операции по прорыву Голубой линии в мае 1943 года инженерные войска вели непрерывную инженерную разведку переднего края обороны противника. Саперы уходили в тыл врага для выявления систем заграждения в глубине его обороны: инженерные части 56-й и 37-й армий построили вновь и усилили более 50 мостов, проложили 17 колонных путей. Перед началом наступления саперы проделали проходы в минных полях, сняв 5 тысяч мин только в полосе 56-й армии. Каждому танковому полку была придана саперная рота. Что касается нашей бригады, то особенно много инженерных задач пришлось ей решать в районах станиц Славянской, Северской и Абинской. Строили оборонительные рубежи, восстанавливали дороги и мосты, сами минировали подходы к укрепленным пунктам и разминировали важные объекты и участки местности.
Учитывая, что бригада оказалась разбросанной в радиусе десятков километров, мы с Прохоровым почти все время проводили в дороге: из штаба — в батальон, из батальона — в штаб. И настолько привыкли к этой кочевой жизни под бомбежками и обстрелами, что даже наловчились спать в кузове прыгающего по ухабам грузовика или производить в это время какие-нибудь неотложные расчеты.
Как-то в начале мая вечером меня вызвал командир бригады полковник А. Ф. Визиров.
— Вы хутор Тополи знаете?
— Название слышал, а бывать не приходилось, — ответил я.
— Вот завтра и побываете. Вернее, побываем. Там должен находиться капитан Плошев, батальону которого предстоит в районе этого хутора строить оборону.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что мы должны на месте встретиться с представителем штаба 56-й армии, а мне придется на первых порах помочь капитану Н. П. Плошеву, человеку у нас новому и не успевшему еще полностью войти в курс дел.
Утром следующего дня мы с полковником Визировым выехали на его эмке в эти самые Тополи, находившиеся где-то между станицами Абинской и Крымской. Ехали и все время посматривали на небо: в нем почти беспрерывно кружились самолеты, и приходилось быть начеку, так как немцы особенно усердно гонялись за легковыми машинами. Но все шло пока хорошо, и мы даже начали подремывать.
— Смотрите, заяц! — вдруг крикнул водитель. Сон как рукой смахнуло.
— Вот негодник! — шутливо выругался комбриг. — Говорят, если заяц перебежит дорогу — жди беды.
— Что вы, товарищ полковник, — улыбнулся шофер. — Так говорят, если черная кошка дорогу перебежит…
Но не успел он еще закончить фразы, как в воздухе, довольно близко, послышался нараставший гул авиационных двигателей. Два «мессершмитта» на бреющем промелькнули рядом с дорогой и, видимо, заметив нас, начали боевой разворот. Едва мы успели остановиться, выпрыгнуть из машины и скрыться в придорожном кустарнике, как по эмке хлестнула пулеметная очередь. Брызнуло осколками заднее стекло, зашипел, выходя из пробитого ската, воздух.
— У-у, сволочи, — погрозил вслед улетевшим самолетам Визиров и почти радостно сказал, обращаясь к шоферу: — Что я говорил насчет зайца? А ты — кошка, кошка…
— Теперь и в зайца поверю, — хмуро ответил шофер, которому предстояло менять колесо. К счастью, это оказалась единственная серьезная неисправность, и через полчаса мы прибыли в хутор Тополи.
Однако главное несчастье нас ожидало именно здесь. Выяснилось, что все офицеры вместе с Плошевым отправились на строящийся рубеж обороны. Чтобы не терять даром времени, пошли туда и мы. Проводить нас вызвался писарь.
Идти пришлось через весь хутор, большая часть домов в котором сильно пострадала, чернели свежие воронки — следы недавнего артиллерийского обстрела. Зелеными свечками стояли лишь уцелевшие пирамидальные тополя. Особенно густо скопились они за хутором, где протекала небольшая речка. К этой рощице мы и направлялись. И вдруг на нее обрушился шквал артиллерийского огня. Сразу все заволокло дымом и пылью.
— Товарищи, да там же наши! — с болью в голосе воскликнул сопровождавший нас писарь. Мы сразу догадались, что под этот артобстрел попали офицеры саперного батальона. Артналет кончился раньше, чем мы успели добежать до рощицы. Страшная картина предстала перед нами: груды развороченной земли, обломки досок и кольев и окровавленные человеческие тела. В первую очередь мы начали вытаскивать из этого месива тех, кто подавал еще признаки жизни. Писарь побежал за батальонным врачом, и тот вскоре явился с целой свитой санинструкторов и санитаров. Они сменили нас.
Долгое время на том месте, где произошла беда, стояла наша батарея дивизионных пушек. Видимо, она много причиняла немцам неприятностей, и те засекли ее, но батарея сменила огневые позиции, а фашисты ударили по пустому месту. Хорошим ориентиром для противника служила группа пирамидальных тополей, росших рядом с площадкой. Командир же нашего саперного батальона, прибывшего сюда накануне, не знал всей этой артиллерийской истории и лучшего места, чем старые артиллерийские позиции, искать для начала строительства не захотел.
— Останьтесь в батальоне на несколько дней, — приказал мне комбриг, — помогите наладить работу. А мы постараемся как можно скорее укомплектовать батальон офицерами.
…В самый разгар боев за станицу Крымская мы получили приказ о переводе бригады с Северного Кавказа в город Юрьев-Польский.
Никто из нас о нем раньше не слышал, а когда выяснилось, что расположен этот небольшой городок во Владимирской области, далекой от всяких фронтов, на лицах офицеров появилось недоумение. И пошли разные догадки: не придется ли переучиваться, куда поедем потом?
Вскоре мы погрузились в эшелоны и выехали в сторону Тихорецкой. Итак, прощай, Кавказ!
Путь наш долгое время пролегал в зоне активного действия немецкой авиации. Если крупные железнодорожные узлы прикрывались средствами ПВО, то на перегонах и на маленьких станциях нас от нападения немецких самолетов защитить никто уже не мог. Мы вынуждены были сами побеспокоиться о себе. И позаботились: на каждой из платформ у нас находилось по 2–3 пулемета начиная с ручных и кончая крупнокалиберными, хотя таковые нам по штату не полагались. Но это было трофейное оружие, которое бойцы тайком сохранили. И теперь оно нам очень пригодилось. Не раз в дороге на наш эшелон пытались нападать немецкие воздушные стервятники, по, встречаемые огнем, уходили прочь, чтобы поискать себе добычу полегче.
Наш эшелон благополучно миновал Мичуринск и остановился на станции Кочетовка. Это крупная железнодорожная станция, которая вместе с Мичуринском составляла большой узел. К моменту нашего прибытия все многочисленные пути станции были забиты воинскими эшелонами с боевой техникой, боеприпасами, личным составом, горючим… Среди этих составов стояли санитарные поезда, но пока еще без раненых. Чувствовалось: идет подготовка к серьезной военной операции.
Когда эшелон остановился, мы обнаружили, что соседями нашими являются с одной стороны — порожний санитарный поезд, с другой — состав с бензином.
— Ничего себе соседство, — пошутили одни. — В случае бомбежки горячо нам будет.
— Зато слева есть кому нас приласкать и приголубить, — отвечали другие.
В тот день заболел командир бригады, и его отправили в местный госпиталь. А ближе к полуночи мы услышали нарастающий гул немецких самолетов. Тревожно завыли паровозные гудки, резко застучали скорострельные зенитные пушки. Над станцией повисли желтые огни немецких осветительных бомб. Прогремел первый взрыв, от которого вздрогнула земля. И тотчас же к небу взметнулось огромное пламя, окрасившее темный небосвод в тревожный, багровый цвет. Вскоре нельзя уже было отличить выстрелов зенитных орудий от разрывов бомб: все слилось в сплошной гул. Пламя охватило почти все составы, в гул бомбежки вплелась трескотня рвущихся патронов. Несколько бомб упало вблизи от нашего эшелона, не причинив ему вреда. Но это вынудило нас податься подальше от вагонов, в поле.
Уже давно погасли немецкие «фонари», а самолеты все шли и шли, сбрасывая бомбы туда, где бушевал пожар. Более двух часов длился налет на Кочетовку, превративший все то, что стояло на основных путях, в гигантский костер. Но последствий налета мы не увидели: на рассвете пришел паровоз, взял наш состав, и мы помчались по нашему маршруту. Я не зря употребил слово «помчались», так как первая остановка после Кочетовки была в Рязани. Здесь мы простояли не больше часа. После этого двинулись в сторону Москвы. Но в Воскресенске наш эшелон повернул на восток. Часов в девять вечера мы прибыли в Орехово-Зуево и здесь снова услышали сигналы воздушной тревоги и гул неприятельских бомбардировщиков. Но на этот раз все очень скоро стихло. На следующий день мы узнали, что немцы совершили воздушные налеты на промышленные предприятия Горького и Ярославля. Еще через день рано утром наш эшелон прибыл в город Юрьев-Польский и начал выгружаться. Скоро собралась вся бригада. Начинался новый этап в ее боевой биографии.
Глава четвертая «ПАНЦИРНАЯ ПЕХОТА»
Юрьев-Польский — маленький древний городок во Владимирской области. К полякам никакого отношения не имеет. Польский он потому, что лежит в полях, и среди одно- и двухэтажных домишек исполином возвышается богато украшенный резным камнем Георгиевский собор. Основанный Юрием Долгоруким как крепость Суздальского княжества, город когда-то имел оборонительное значение, бывал здесь и Иван Грозный. Потом, став практически ненужным, Юрьев-Польский потихоньку превратился в небольшой уездный, а ныне районный центр, уютный и тихий.
Штаб бригады расположился в городе, личный состав — в ближайших деревнях. О войне здесь, по крайней мере внешне, ничто не напоминало — и для нас она будто кончилась. Бомбежки, артобстрелы, взрывы мин и свист пуль, кровь и раны, трупы убитых — все это осталось где-то далеко-далеко, словно и не с нами это было, а на экране кино.
Но минуло два-три дня — и маховик войны начал снова медленно раскручиваться для нас.
Сначала прошло совещание в штабе, на котором нам сообщили, что 5-я горная минно-инженерная бригада переформировывается в 13-ю штурмовую инженерно-саперную бригаду резерва Верховного Главнокомандования (13-я ШИСБр РВГК). Она будет состоять из пяти штурмовых инженерно-саперных батальонов, моторазведроты, легкого переправочного парка, оснащенного складными деревянными лодками, позволявшими собирать из них паромы, взводов связи и комендантского. В дальнейшем в разное время в бригаду вошли рота вожатых собак-миноискателей, батальон ранцевых огнеметов и батальон американских автомобилей-амфибий. Но это случилось позже.
Теперь и вооружение у нас стало иным: каждый воин имел автомат и финский нож, к тому же на батальоны выделялись довольно щедро снайперские винтовки, противотанковые ружья и ручные пулеметы, не считая различного вида гранат: противотанковых, противопехотных и специальных зажигательных, предназначенных для уничтожения огнем оборонительных сооружений противника. Соответствующим образом строилась и подготовка: наибольшее время уходило на изучение приемов рукопашного боя, метание гранат и т. п.
Боевое снаряжение наших воинов состояло из обычной стальной каски и уж совсем необычного для пехоты стального нагрудника, не пробиваемого автоматными пулями и мелкими осколками. Благодаря этим нагрудникам бойцы наши впоследствии получили полунемецкое название «панцирная пехота». К сожалению, панцирь в боевой обстановке себя не оправдал. Правда, он предохранял грудь от пуль и осколков, пока солдат шел или бежал. Но в том-то все и дело, что саперы-штурмовики больше передвигались по-пластунски, и тогда стальной нагрудник становился абсолютно ненужной помехой. В общем, вскоре эти нагрудники перекочевали сначала на батальонные, а потом и на бригадные склады.
Учитывая новые задачи, пришлось значительно омолодить личный состав бригады. Отчислили всех бойцов старше сорока лет и так называемых ограниченно годных. Под эту категорию попали и инженер-капитан Прохоров, и ряд других офицеров. Командование бригадой принял полковник С. Л. Штейн. Новые задачи потребовали и организационной перестройки. Наше отделение стало называться оперативно-разведывательным, начальником остался майор Я. П. Комиссаров, но оно пополнилось новыми людьми. Новый командир бригады был военным, что называется до мозга костей, пройдя путь от прапорщика старой русской армии до полковника в советской. Вежливый, но требовательный, отлично знающий военное дело и притом обладающий широким кругозором, он, как бы теперь сказали, быстро вписался в коллектив.
Умеющий четко и ясно излагать свои мысли, новый командир требовал того же и от подчиненных, и мы вскоре поняли, что прошла пора наспех подготовленных докладов и приблизительных расчетов.
Однако не лишен был С. Л. Штейн и недостатков. Он почему-то патологически страшился, что его могут заподозрить в трусости, и потому старался казаться храбрее других даже там, где от него это совсем не требовалось. А отсюда — излишняя нервозность, суетливость и порой действия на грани опрометчивости. Но, надо отдать новому командиру должное, в подлинно опасных ситуациях он не терялся, всегда сохранял спокойствие и выдержку.
Начальником штаба новой бригады остался подполковник Н. А. Сергеенко. Как и прежде, в дела нашего отделения он вмешивался редко, ограничиваясь общими указаниями и передачей для исполнения приказов комбрига. Заместителем комбрига по строевой части был назначен подполковник А. Н. Ларин. Человек прямой, честный и чрезвычайно скромный, он не любил рассказывать о себе, и мы лишь окольными путями узнали о его боевых подвигах на фронте, совершенных до назначения к нам. Вот один из них.
Немецким десантникам удалось захватить важный мост, который Должна была взорвать рота А. Н. Ларина. Должна, но не успела. Противник же получил возможность выхода в тыл нашим войскам. Тогда Ларин сам сел в машину, груженную толом, и помчался на этот мост. От неожиданности гитлеровцы растерялись, и Ларину удалось доехать до середины моста. Там он остановился, зажег бикфордов шнур и прыгнул в воду.
Все произошло так, как в приключенческом фильме, с той «маленькой» разницей, что там эту роль исполнил бы каскадер, а Ларин был всего-навсего профессиональный сапер. Пятьдесят секунд горит стандартная зажигательная трубка. За эти пятьдесят секунд Ларин добежал до перил, прыгнул в воду и успел отплыть от моста на несколько десятков метров. Но этих пятидесяти секунд не хватило гитлеровским солдатам, чтобы оценить ситуацию, броситься к машине со взрывчаткой и выдернуть дымящийся фитиль. Они лишь открыли бестолковую запоздалую стрельбу, а потом, почуяв недоброе, бросились наутек. Огромной силы взрыв обрушил в воду весь пролет, а контуженного Ларина еле вытащили из реки бойцы его роты.
Заместителем командира бригады по политической части — начальником политотдела стал подполковник П. Г. Подмосковное, а заместителем по тылу — подполковник И. Г. Кузнецов. Все батальоны были снабжены коротковолновыми портативными радиостанциями, позволявшими поддерживать связь в любых условиях. Кроме того, действовала и телефонная связь. Короче говоря, бригада стала боевым соединением, готовым к выполнению задач во взаимодействии с частями других родов войск, а при определенных обстоятельствах — вести самостоятельный бой с противником.
Мы догадывались, что нас готовили к крупной наступательной операции. Но где? И как должны действовать саперы-штурмовики? Предполагалось, что они, что-то вроде тяжелой пехоты, будут прорывать укрепленные рубежи противника совместно с другими родами войск. Но в какой конкретной форме выразится это взаимодействие, ясности пока не было. Правда, опыт использования штурмовых подразделений уже имелся. Учитывая, что гитлеровское командование после поражения под Сталинградом потребовало от своих войск заботиться о прочной обороне путем создания мощных опорных пунктов и узлов сопротивления с применением железобетонных и бронированных сооружений, в нашей армии, уже ведущей преимущественно наступательные операции, стали создаваться штурмовые группы и отряды, ядро которых составляло стрелковое подразделение, усиленное саперами, огнеметчиками, пулеметными расчетами и отдельными орудиями, танками и САУ.
Организационно штурмовые группы были неодинаковыми, оснащение саперов в них составляли удлиненные, сосредоточенные и кумулятивные заряды ВВ, «кошки» на веревках, миноискатели, укороченные щупы, дымовые шашки и гранаты. Руководил штурмовой группой, как правило, командир стрелкового подразделения.
Для взятия больших узлов сопротивления, а также фортов в городах-крепостях формировались штурмовые отряды, как правило, по одному на полк первого эшелона.
Расширение масштабов наступления потребовало усиления штурмовых действий, и с 1943 года стали формироваться штурмовые инженерно-саперные бригады (ШИСБр).
Опыт применения ШИСБр показал, что их зачастую использовали неправильно. Вместо действий в составе групп и отрядов при штурме особенно сильно укрепленных позиций противника они использовались как обычные стрелковые части, получая самостоятельную полосу наступления. А поскольку штурмовые инженерно-саперные бригады не имели тяжелого стрелкового оружия и артиллерии, то несли при этом большие потери. Случалось, что ШИСБр выполняли и другие задачи, не связанные с обеспечением штурмовых действий.
Только в декабре 1943 года был наконец четко определен порядок использования таких соединений. Бригады вводились в действие для инженерного обеспечения прорыва сильно укрепленных позиций в тактической зоне обороны противника. После выполнения своих задач части бригады следовало немедленно выводить в резерв для приведения в порядок и боевой учебы. Их разрешалось также использовать на разминировании маршрутов, на сплошном разминировании местности или дорожно-мостовых работах. Боевой опыт показал, что ШИСБр успешно выполняли задачи лишь при четком взаимодействии их подразделений со стрелками, артиллерией и танками.
Недостатки, имевшиеся в применении ШИСБр, в дальнейшем были устранены. Эти бригады (в начале 1944 года в действующей армии их было 20), являясь соединениями РВГК, использовались на важнейших направлениях и сыграли значительную роль в достижении успеха в наступательных операциях.
Однако я забежал далеко вперед.
Во время переформирования нашей бригады мы еще, естественно, ничего подобного не знали и, исходя из (вооружения, полученного нами, полагали, что бригаде придется самостоятельно прорывать укрепленные полосы противника, и для усиления ей будут приданы танки и артиллерия. После прорыва в брешь, проделанную штурмовиками, должны вводиться стрелковые и танковые части и соединения. Такой точки зрения придерживался и полковник С. Л. Штейн.
Не буду повторяться, говоря о том, что боевая практика внесла серьезные коррективы в наши разработки, как, впрочем, и во многие другие постулаты военного искусства, основывающиеся на устаревших уроках гражданской войны или на волевых решениях «сильных» личностей, мало смыслящих в военной науке. А солдаты за эти ошибки платили кровью. Так или иначе, но боевая работа предстояла серьезная, и мы усиленно взялись за подготовку личного состава. «Тяжело в учении, легко в бою», — гласит первая суворовская заповедь, которая будет жить столько же, сколько будет существовать сама армия.
Уже через неделю мы написали программы, где особое внимание, как я уже упоминал, отдавалось элементам рукопашного боя, оборудовали учебные ноля и инженерные городки, и боевая подготовка пошла полным ходом. Красноармейцы, сержанты и младший комсостав учились штурмовать вражеские позиции, действовать автоматом, прикладом и финкой, метать гранаты, особенно термитные, правильно пользоваться взрывчаткой, переползать на животе, используя складки местности. На отдельном стрельбище готовили снайперов и расчеты противотанковых ружей.
Как же много нужно знать и уметь бойцу, чтобы грамотно воевать! Сколько технических знаний, силы, смекалки, сноровки надо приложить, чтобы победить в бою! И сегодня невольно возникает мысль, если бы всю эту энергию и ум человечество направило исключительно на мирные цели, как того добивается наша партия, сколько бы доброго можно сделать на земле!
Но, увы… Не мы виноваты, что и поныне приходится учить солдат самому мерзкому искусству — искусству убивать. Впрочем, тогда мы все думали о прямо противоположном — как можно лучше научить своих воинов именно этому. На нас, офицеров оперативного и технического отделений штаба бригады, легла значительная нагрузка. Мы не только разработали учебные программы для рядового и сержантского состава, но и контролировали ход учебы, проводили показные занятия, обучали командный состав батальонов. Особенно ценным для необстрелянных новичков был наш фронтовой опыт, которым мы щедро делились. Надо сказать, не все шло гладко. Беспокойство вызывал очень уж мирный вид наших полигонов. А хотелось создать обстановку, близкую к боевой, без чего занятия не приносили необходимой пользы. Например, довольно трудно было заставить солдат переползать по-пластунски даже в хорошую погоду, а уж в грязь и подавно. Однажды по такому поводу я сделал замечание командиру 62-го штурмового батальона капитану М. Цуну.
— А что делать? — ответил тот вопросом на вопрос. — Не стрелять же по ним боевыми патронами.
— А если попробовать? — в шутку предложил я. Дернули же черти за язык!
— И попробую! — воскликнул Цун. — Только отвечать будем вместе.
Теперь уж отступать было некуда. Комбат всерьез уцепился за идею. А я не стал его отговаривать, ибо в глубине души уж очень хотелось испытать этот «горячий» метод. Кажется, мы оба еще не понимали, какую ответственность берем на себя. Комбат отправил одного из красноармейцев за боевыми патронами, тот живенько их принес, и Цун, построив взвод, обратился к солдатам с краткой речью:
— Вы не хотите ползать по-пластунски, уверяя, что, пока стреляют холостыми, не стоит пачкать обмундирование, а в настоящем бою, дескать, сделаете все, как надо. Так вот смотрите, сейчас я снаряжу диск боевыми патронами, — говорил он, вкладывая один за другим патроны в прорезь диска дегтяревского пулемета, — и займу позицию вон на том бугорочке, — и он показал рукой на недалекий пригорок. — Вы меня будете атаковать по всем правилам, то есть ползти по-пластунски. Стрелять буду, видите, чем? — повертел он над головой снаряженный боевыми патронами диск. — Если кто приподнимет задницу, отстрелю в два счета. Поняли? А теперь, лейтенант Нефедов, приступайте к занятиям.
— Может быть, не стоит этого делать? — неуверенно обратился я к комбату по дороге на намеченную позицию.
— Да нет уж, механизм пущен, его теперь останавливать нельзя, — отрезал комбат. — Кстати, ты сам же и подал эту мысль.
На облюбованном Цуном бугорке мы легли за пулеметом.
Вскоре из маленького лесочка, метрах в 50–70 от нас, показалась цепь взвода лейтенанта Нефедова.
— Приготовиться! — подал команду Цун, судя по всему, самому себе и мне. Приготовились. Бойцы быстро бежали в нашу сторону, придерживая автоматы на груди.
— Огонь! — скомандовал сам себе Цун и дал первую короткую очередь в воздух. Бежавшие тотчас залегли.
— Вперед по-пластунски! — донеслась до нас команда Нефедова. — Не отрываться от земли!
Цун дал в сторону наступавших еще одну короткую очередь, держа ствол пулемета довольно высоко. Красноармейцы этого не знали и ползли так, как ползают только инструкторы-пластуны на показных занятиях в присутствии самого высокого начальства.
— Молодцы! — завопил над моим ухом Цун. — Ведь умеют, черти, переползать по-настоящему, только не хотят. — И, поднявшись с земли, громко выкрикнул: — Отбой!
А на обратном пути к тому месту, откуда мы с ним отправились на огневую позицию, комбат оживленно рассуждал:
— Ты прав! Только так надо учить бойцов: создавать на занятиях подлинно боевую обстановку, а не слегка приближенную к ней. Мы ведь не только должны научить воина что-то делать под огнем противника, но и психологически подготовить его к опасности, выработать в нем хладнокровие и самообладание для работы в боевых условиях.
Возбужденные и довольные возвратились мы в штаб бригады. Однако наша «методика» не вызвала там одобрения. Командир бригады отчитал обоих, пообещав, что за подобные дела в следующий раз мне не миновать военного трибунала. Потом, уже более сдержанно, заметил:
— Если хоть один солдат при вашем опыте был бы только поцарапан, то вам с Цуном не миновать больших неприятностей. В следующий раз, прежде чем экспериментировать, ставьте меня в известность.
А потом, словно размышляя, продолжил:
— Боевая учеба должна сделать из воина не только специалиста, но еще и фронтовика. Красноармейцев надо в буквальном смысле пропускать через огонь и воду, обкатывать танками, имитировать артобстрел, но только имитировать! Использовать же боевые снаряды и патроны, конечно, нельзя.
Эти идеи были воплощены в практику несколько позже. Мы же в дни подготовки к боям могли только размышлять над ними.
Через два месяца командование решило, что наша 13-я штурмовая инженерно-саперная бригада вполне подготовлена к выполнению боевых задач. В июле мы распрощались с тихим русским городком и двинулись на север, к Ленинграду, все еще находившемуся в кольце врага. Правда, уже с января 1943-го городу на Неве дышалось уже несколько легче. Войска Ленинградского и Волховского фронтов ликвидировали непосредственную угрозу, которая висела над городом, и, благодаря вновь построенной железной дороге, по которой, кстати, двигались и эшелоны нашей бригады, он обрел устойчивую сухопутную связь со страной.
Создались благоприятные условия для окончательного разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом. Определенная роль в этом деле отводилась и нашей бригаде. Таким образом, во второй половине июля 1943 года, в разгар ожесточенного сражения на Курской дуге, Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам Волховского и Ленинградского фронтов провести новую наступательную операцию, разгромить синявинско-мгинскую группировку противника и сковать в этом районе возможно больше его сил, не допуская переброски их на центральный участок советско-германского фронта.
В период проведения этой операции — с 22 июля по 24 августа — войска Волховского и Ленинградского фронтов, по оценке Ставки Верховного Главнокомандования, привлекли на себя значительные оперативные резервы противника, нанесли его войскам тяжелые потери. Войска фронтов обескровили до десяти пехотных дивизий врага, хотя задача по разгрому названной выше группировки противника и не была решена. Тем не менее наше наступление не позволило немцам перебросить силы из-под Ленинграда в район Курской дуги, что само по себе было уже весьма крупным успехом.
Бригада следовала к Ленинграду через Ярославль — Вологду — Волховстрой пятью эшелонами. В первом — штаб и один из батальонов. Недалеко от Ладожского озера остановились. Здесь начиналась новая железнодорожная ветка, построенная между Шлиссельбургом и участком Северной железной дороги в январе 1943 года.
Еще дымились развалины Шлиссельбурга, еще не затянуло льдом воронки от снарядов и бомб на Неве, а сюда уже прибывали воины-железнодорожники.
В короткий срок, всего за 18 дней, под непрерывными бомбежками и артиллерийским обстрелом они проложили железнодорожную линию Шлиссельбург — Поляна протяженностью 33 км и возвели железнодорожную переправу через Неву у Шлиссельбурга, представлявшую собой дугу в 1300 м.
Несмотря на то что противник с Синявинских высот просматривал и обстреливал один из участков вновь построенной железной дороги, по ней двинулись поезда с грузами для Ленинграда. Ее полотно проходило по самому берегу Ладожского озера, на расстоянии всего 10–12 километров от линии фронта. Поэтому в светлое время суток линия практически не действовала. Но под Ленинградом июль — это время белых ночей. Только между 12-ю ночи и двумя часами пополуночи небо сереет и наступает тот полумрак-полусвет, который с большой натяжкой можно назвать темным временем суток. Именно тогда и оживала железная дорога.
Наш состав прибыл на берег Ладожского озера в первом часу ночи. Поступила команда разгружаться. Работали все, включая офицеров и вольнонаемных: машинисток, поваров, врачей, медсестер и санитарок. Через полтора часа станция опустела и даже самые глазастые вражеские наблюдатели не заметили бы никаких следов только что прибывшей воинской части. В последующие ночи также благополучно разгрузились и остальные наши эшелоны, за исключением последнего, на котором находился переправочный парк. Железнодорожники почему-то поторопились и подали его под разгрузку еще засветло. Противник не замедлил открыть артиллерийский огонь. Машинист сумел уйти из-под обстрела, но один снаряд все же попал в концевую платформу и повредил несколько понтонов. Разгрузился этот эшелон несколько позднее, но уже без всяких происшествий.
Штаб бригады с подразделениями обслуживания и моторазведротой разместился в поселке Нижняя Назия, в котором чудом уцелело одно-единственное здание школы. После разгрузки последнего эшелона командир бригады собрал практически весь офицерский состав и объявил боевой приказ, полученный им в штабе Ленин- градскою фронта, согласно которому наша бригада должна была штурмовыми действиями обеспечить наступательную операцию войск 67-й армии по разгрому синявинско-мгинской группировки противника с захватом железнодорожных станций и поселков Синявино и Мга. Для проведения этой операции бригаду побатальонно раздали на усиление стрелковых дивизий. При этом штаб бригады, по существу, оказался не у дел, поскольку батальоны обязаны были выполнять волю командиров стрелковых соединений. Но, в конце концов, не это было главным. Если бы штурмовые батальоны действовали в составе дивизии единым кулаком, толку, на мой взгляд, от них было бы больше. К сожалению, в дивизиях продолжали дробить их на роты и взводы. Каждому стрелковому батальону придали по штурмовому взводу. Кончилось тем, что каждой стрелковой роте выделили по одному отделению. Иными словами, в намечаемой операции наша штурмовая инженерно-саперная бригада перестала существовать как единое оперативное соединение.
Приказом командующего фронтом было определено место расположения штаба бригады: Рабочий поселок № 1. Для размещения нашей оперативной группы, состоявшей из офицеров оперативного и технического отделений, а также политотдела и связи назначался Рабочий поселок № 5. Впрочем, это были только названия. От поселков, в которых проживали рабочие-торфяники, остались только обуглившиеся сваи.
Наступление намечалось на 22 июля. Оперативному отделению предстояло к этому времени уточнить расположение оборонительных объектов на переднем крае обороны противника. Мне приказали подготовить в районе Рабочего поселка № 5 командно-наблюдательный пункт для оперативной группы штаба бригады, для чего в мое распоряжение выделили роту из батальона В. В. Мосина, находившегося в резерве командира бригады. Для нового КНП мы использовали частично землянки и блиндажи, оставшиеся здесь от прежних боев. Эти землянки приглянулись мне тем, что были врыты в насыпь узкоколейки, по которой когда-то вывозили добытый торф. Теперь от нее сохранилась одна насыпь, пожалуй, самое сухое место во всей округе. Мы отремонтировали несколько подходящих землянок, убрали из них различный хлам, усилили покрытия, изготовили новые двери и выставили на всякий случай часовых. Эта мера оказалась далеко не лишней: землянки расхватывали штабы многочисленных частей, готовящихся к участию в намеченной операции. Рядом с нами тоже расположился штаб какой-то дивизии. Поражала скученность размещения всех этих хозяйств, ведь участок находился в зоне досягаемости огня войсковой артиллерии и тяжелых минометов противника. Но другого места, увы, найти возможности не представилось. Кругом болота.
Вот что писал о событиях того времени начальник инженерных войск Ленинградского фронта Б. В. Бычевский:
«Кто из воинов, сражавшихся летом 1943 года под Ленинградом, не помнит Синявинских болот?.. Даже ночью тебя мутит от зловонных испарений, от смрада непрерывно тлеющего торфа. За неделю преют и расползаются на солдатах гимнастерки. Узкие тропы между квадратами торфяных выемок пристреляны минометами противника. Здесь нередко гибнут и санитары, выносящие раненых: они не могут быстро бежать. Здесь артиллеристы тянут орудия на руках. Я видел, как одно из орудий ушло в болото на четыре метра».
В таких условиях подразделениям 67-й армии и нашим штурмовикам, распределенным по частям 11, 43 и 45-й дивизий, предстояло вести наступление на противника, прочно обосновавшегося на господствующих Синявинских высотах, откуда просматривалось и простреливалось все болотное пространство вплоть до самого Ладожского озера.
Я уже говорил, что до наступления оперативному отделению поручили наблюдение за передним краем противника с целью выявления всех проводимых им мероприятий по инженерному усилению своей обороны. Для этого капитан Калпаксиди устроил уютный наблюдательный пункт в нейтральной полосе перед передним краем немцев. Он приспособил под НП полуразрушенный, без покрытия, с раздерганными стенами блиндаж, не раз, по всей вероятности, переходивший из рук в руки и оставленный наконец в покое обеими сторонами из-за полной непригодности.
Блиндаж находился почти у фашистской колючей проволоки и метрах в 50–60 от нашей передовой траншеи и, как бы ни был плох, все же укрывал нас от глаз противника. Отсюда хорошо просматривался весь передний скат, пожалуй, самой большой возвышенности в общей гряде Синявинских холмов, утыканный дотами, дзотами и другими укреплениями и огневыми точками. Хотя наблюдения дали много дополнительных сведений об обороне противника, нам все же не удалось полностью вскрыть всю огневую систему передовой немецкой оборонительной полосы, которую гитлеровцы строили, совершенствовали и маскировали в течение многих месяцев с момента окончания боев на этом участке по прорыву блокады. Судя по всему, враг догадывался о нашей подготовке к наступлению и ночами вел инженерные работы по укреплению своих передовых позиций. Темного времени суток противнику не хватало так же, как и нам, и с рассветом мы обнаруживали плохо замаскированные новые траншеи, блиндажи, доты.
Долгожданное наступление началось погожим июльским утром. Около шести часов утра заговорила наша полевая артиллерия, которую вскоре басовито поддержал более мощный калибр. Через некоторое время выстрелы отдельных орудий слились в сплошной грохот. Вдруг канонада внезапно смолкла, и над полем боя повисла зловещая тишина, которую постепенно начал вытеснять гул авиационных моторов.
Со стороны Ладожского озера к окутанным дымом и пылью Синявинским высотам шли наши бомбардировщики. Дойдя до цели, они обрушили на вражеские укрепления свой смертоносный груз и до нас донесся обвальный грохот рвущихся бомб. Не успели отбомбившиеся самолеты лечь на обратный курс, как отдохнувшие пушки вновь открыли неистовую стрельбу. Где-то за нами стояла батарея 152-мм орудий. Снаряды летели над нашими головами с таким звуком, будто груженые подводы мчались по бревенчатому настилу. Скаты Синявинских высот, окутанные тяжелыми тучами дыма и пыли, сверкали вспышками багрового пламени. Казалось, там не могло остаться ничего живого, но артиллерийский огонь, чередуясь с бомбардировкой, продолжал бушевать с неистовой силой. Но вот грохот орудий смолк. С. переднего края донеслось нарастающее тысячеголосое «Ура-а-а», под аккомпанемент пулеметных очередей.
— Пошли, — облегченно сказал Комиссаров. — Теперь будем ждать донесений.
Мы спустились в блиндаж и приготовились к работе, развернув на столах карты. Шли минуты, но телефоны, связывавшие нас с дивизиями, где воевали наши подразделения, молчали.
— Странно, — волновался майор Комиссаров. — Почему нет донесений? Фомин, — обратился он ко мне, — свяжитесь с сорок пятой дивизией, куда прикомандирован батальон капитана Цуна.
Едва я крутанул ручку полевого телефона, как артиллерия противника открыла огонь но всей глубине наших боевых порядков. Разрывы ложились все ближе к нашему КИП и наконец почти накрыли его. Затрещали балки, с потолка посыпалась земля, снаружи послышался крик — смертельно ранило часового, не успевшего укрыться. Вдруг раздался звонок. Полковник Штейн интересовался положением дел в батальонах.
— Ничего, к сожалению, сказать не могу, товарищ полковник, — извиняющимся тоном докладывал майор Комиссаров. — Сначала дивизии молчали, видимо, нечего было докладывать, а сейчас не можем созвониться. Артобстрел нарушил связь. Да, хорошо, поправим, — закончил он телефонный разговор и обратился к нам: — На линии уже работают связисты майора Муравского, но если от комбатов по-прежнему не будет донесений, придется отправляться на розыски наших батальонов.
Немецкая артиллерия около часа долбила наши позиции, забираясь все глубже в тылы, видимо нащупывая сосредоточение наших резервов, потом стала постепенно стихать, и лишь отдельные снаряды или мины изредка разрывались теперь в разных местах. Вскоре майор Н. Муравский доложил, что линии связи восстановлены. Первым позвонил командир 62-го штурмового батальона капитан М. Цун. Он сообщил нерадостные вести: наступление идет вяло, на ряде участков вообще застопорилось.
— Как воюют наши саперы? — задал я вопрос.
— Несем большие потери. Я не имею связи со многими своими подразделениями, они буквально растворились в стрелковых частях.
Стали поступать донесения из других батальонов. Общая картина складывалась примерно такая: хотя на отдельных участках нашим подразделениям все ж удалось вклиниться в немецкую оборону, общего наступления не получилось. К ночи оно совсем выдохлось, сменившись оживленной артиллерийской перестрелкой.
Ночь прошла в бесчисленных телефонных переговорах, сборе донесений, их анализе и передаче в штаб бригады. Командир бригады, по сути дела, остался без подчиненных частей, и понятно было его нетерпение выяснить, где они и что с ними.
Нам удалось установить более или менее точно, что наступление успеха не имело, что саперы всюду использовались в качестве пехоты на самых трудных участках и понесли большие потери. Около четырех утра был готов проект донесения в штаб инженерных войск Ленинградского фронта и начальнику инженерных войск Советской Армии. У нас тогда действовала двойная отчетность.
Полковник Л. С. Штейн этим не удовлетворился и решил лично побывать в передовых подразделениях. Утром он появился на нашем КНП.
— Капитан Фомин, вы знаете, где находится батальон Цуна?
— Знаю, где штаб батальона, — ответил я, — а личный состав распределен по полкам, батальонам и ротам сорок пятой стрелковой дивизии, которая ведет наступление вот на этом участке, — и я показал участок на карте.
— Хорошо. Поедете со мной к Цуну.
— Есть!
До штаба 62-го штурмового батальона километра два, не более, но какие это были километры! Дорога — в воронках, тут и там подбитая техника, но самое главное — вся она как на ладони: фашисты просматривали дорогу от начала до конца и стреляли даже по одиночным целям. Мы по ней ходили лишь с наступлением сумерек, а днем с большой опаской, перебежками от укрытия к укрытию. Но Штейн, то ли соблазненный наступившим затишьем, то ли боясь упреков в трусости, решил проскочить на эмке. Мои доводы о необходимости соблюдать осторожность его не убедили. И вот, не успели мы миновать и половины пути, возле машины внезапно взметнулся столбик болотной грязи, поднятый разорвавшейся миной. За ним второй, третий.
— Давай быстрее вперед! — крикнул Штейн шоферу, и машина так рванулась, что у меня аж хрустнули шейные позвонки. Теперь мины взрывались впереди и сзади нас.
— Стой! — приказал комбриг шоферу, как только мы поравнялись с подбитым танком. — Всем в укрытие, а ты разворачивайся и жми назад.
Водитель ювелирно развернулся и повел машину в обратном направлении. А мы бросились к подбитому танку и молниеносна забрались ему под днище. И вовремя: рядом шлепнулись две мины, осколки и земля застучали по броне.
— Так мы можем, — сказал Штейн, — пролежать здесь до вечера, а нас уже ждут в батальоне. Надо что-то придумать.
— Бросит еще десяток и успокоится, товарищ полковник, — бодро отвечал красноармеец-связной, сопровождавший нас.
— И что тогда?
— Перебежками, быстренько. Я тут тропочку знаю, как раз к нашей землянке приведет.
Фашисты, видимо решив, что с нами разделались, прекратили обстрел. Мы по очереди выбрались из-под танка и, пригнувшись, побежали за связным. И все же засек нас враг! Метров за двести от хозяйства Цуна вражеские минометчики снова заставили нас искать укрытие, и в землянку мы ввалились, едва переводя дух, грязные, мокрые. Но — живые! На нас с изумлением глядели все, кто там находился. Комбат опомнился первым, вскочил и начал докладывать комбригу. Но тот, тяжело дыша, прервал:
— Дайте сначала напиться. Доложите потом.
Проворный ординарец схватил стоявший на столе котелок, протянул Штейну. Напившись, командир бригады вытер платком худую, загорелую шею, отдал котелок назад ординарцу, позвал меня и приказал:
— Побывайте во взводе Нефедова, который включен во второй батальон сто тридцать первого полка. Если успеете — и в других наших подразделениях. Надо выяснить на месте характер и объем боевой работы наших штурмовиков.
Облачившись в одолженные кем-то замызганные солдатские штаны, телогрейку и пилотку, прихватив с собой автомат, я, вслед за выделенным в мое распоряжение связным, отправился в передовые подразделения, где воевали наши воины. Некоторое время мы шли во весь рост, стараясь держаться кустарника, росшего в изобилии в этой низине, но скоро свист пуль заставил нас спуститься в неглубокий и грязный ход сообщения, под который, видимо, приспособили обычную канаву, оставшуюся от торфоразработок. Местами полузасыпанный и полуразрушенный неприятельскими снарядами и минами, ход сообщения служил все-таки хоть каким-то укрытием от пуль, так как по всей линии началась оживленная перестрелка, в которую басовито вторгались пушки, подтянутые почти к самому переднему краю. Где ползком, а где согнувшись в три погибели, мы добрались наконец до самой подошвы одного из Синявинских холмов, черно-рыжие склоны которого возвышались довольно внушительно прямо перед нами.
— Лейтенант Нефедов, — представился молодой офицер, приложив руку к пилотке, и четко доложил: — Мой взвод придан второму стрелковому батальону сто тридцать первого гвардейского полка сорок пятой гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии.
— Капитан Фомин, — назвался я, ибо раньше этого лейтенанта не знал. — Направлен командиром бригады для выяснения обстановки.
— Откровенно говоря, хвастаться нечем, — сказал лейтенант. — Этот орешек нелегко раскусить, — кивнул он в сторону холмов, а затем рассказал подробно, что после окончания артподготовки стрелковые подразделения, едва поднявшись в атаку, залегли: их прижал к земле интенсивный пулеметный огонь из уцелевшего дзота на правом фланге наступавшего стрелкового батальона. Между ним и нашими наступавшими цепями была довольно ровная площадка, заросшая высокой травой и кустарником, в которых укрылись фашистские автоматчики и снайперы, тоже встретившие огнем наших солдат. Взвод получил боевую задачу уничтожить вражеский дзот. Штурмовая группа из семи человек и группа прикрытия — из четырех — выдвинулись вперед. Их плотный огонь из автоматов и ручного пулемета заставил на время замолчать фашистов, а артиллерийский огонь по дзоту помог нашим бойцам подобраться к нему на расстояние броска гранаты, обойдя засевшую в кустах вражескую пехоту. К сожалению, ни артобстрел, ни бомбежка дзот почти не тронули. Его амбразура продолжала выплевывать злые язычки пламени, не давая подняться атакующим ротам. Штурмовая группа, вооруженная зарядами взрывчатки и противотанковыми минами, имела задание уничтожить дзот. Несмотря на огонь из амбразуры, воины заложили в нее две противотанковые мины и подорвали их. Взрыв почти развалил дзот, и огонь прекратился. Но в этот момент на штурмовую группу навалились немецкие автоматчики. В жестоком бою половина группы погибла, остальные через заросли кустарника все же сумели пробиться к своим.
Однако, хотя огонь из дзота больше не мешал нашим наступающим подразделениям, их порыв угас. Батальон возвратился на исходные позиции.
Я побывал и во многих других подразделениях, поговорил с командирами стрелковых подразделений, которым придавались наши воины. Постепенно вырисовывалась общая картина, сами собой напрашивались важные выводы о порядке использования саперов-штурмовиков в наступательном бою. Чтобы не растерять впечатлений, я тут же, в штабной землянке, при звуках близкого боя, принялся за наброски доклада командиру бригады.
Ночью в душной землянке не спалось. Мы с М. Цуном обсуждали прошедшие бои. Капитан сетовал на большие потери и с беспокойством думал вслух о завтрашнем дне. Забылся я тревожным сном только под утро.
— Вставай, капитан, вставай, — тряс меня за ногу Цун, — а то Берлин без тебя возьмут. Сейчас умываться будем.
В землянке уже никого, кроме меня и Цуна, не было.
— Пошли умываться, — повторил Цун.
Я достал из своей полевой сумки полотенце, мыльницу и вышел из землянки. Стояло тихое, ясное, прохладное утро.
Умывались мы долго и, видимо, привлекли внимание вражеского наблюдателя. Внезапно в воздухе засвистело, и одна за другой рядом с нами шлепнулись две мины.
— Ложись! — крикнул Цун.
Мы оба бросились на землю. Переждав, не кинет ли немец еще парочку гостинцев, я поднялся, отряхивая с себя землю.
— Вставай, комбат, — позвал Цуна. — Пронесло.
Цун не отзывался.
— Ты что? — спросил я испуганно и тотчас понял всю нелепость своего вопроса: капитан был убит.
О случившемся по телефону доложил командиру бригады.
— Немедленно возвращайтесь на КП бригады, — приказал Штейн.
Когда я прибыл, он, не дав мне и рта раскрыть, приказал:
— Срочное задание вам, товарищ Фомин. Обобщите все, что видели в 62-м батальоне и что узнаете из рапортов наших представителей, побывавших в дивизиях, и свои выводы представьте мне к исходу дня, Я направлю документы по команде.
Помолчав, прибавил:
— Потом расскажете поподробнее, как погиб Цун.
Но едва я засел за работу, позвонил Комиссаров.
— Начинж Ленфронта приехал, — сообщил Яков Петрович. — Требует подробного доклада. Говори все, что видел. В выводах тоже не стесняйся.
— Но вы с комбригом еще не знакомы с моими выводами.
— Теперь уже поздно, — ответил Комиссаров, — при докладе и познакомимся.
В маленькой землянке командира бригады, разместившись кто на чем мог, находились командир, начальники штаба и политотдела бригады и еще два незнакомых мне человека, одетых точно так же, как был я одет вчера: в солдатские телогрейки и пилотки. Один из них — моложавый, симпатичный, чернобровый — по-хозяйски сидел за столом командира бригады, а сам Штейн примостился рядом. Мы с Комиссаровым представились тому, кто сидел за столом, догадавшись, что это и есть полковник Б. В. Бычевский, начальник инженерных войск Ленинградского фронта.
— Вот тот самый офицер, который совсем недавно возвратился из сорок пятой дивизии и которому я поручил подготовить донесение на ваше имя, — сказал Штейн, полуобернувшись к полковнику Бычевскому.
— Так что же вы собираетесь доложить? — обратился ко мне Бычевский.
— У меня с собой черновик проекта донесения на ваше имя, товарищ полковник. Разрешите его зачитать? — ответил я, и тут меня охватило сомнение: о моих выводах никто из бригадного начальства не знал.
Торопливо добавил:
— Но это пока мое личное мнение, товарищ полковник. Я еще не докладывал командиру бригады.
— Вот и хорошо: значит, будем иметь дело с первоисточником, — заметил Бычевский. — Выкладывайте, но только самую суть.
Набрался духу и выложил все, что думал:
— Считаю неправильным использование саперов в качестве основной пробивной силы на главных участках наступления. Штурмовые батальоны несут неоправданные потери. Штурмовые группы должны кроме саперов состоять из пехоты, артиллерии, танков. Это должен быть мощный кулак.
Когда я закончил, в землянке воцарилась напряженная тишина. Первым заговорил Бычевский, зло, недовольно:
— Очень уж жалостливый тон у вашего донесения. Прямо доставай платок и вытирай слезы. Да уж если на то пошло, капитан, вы и созданы для действий в самых опасных местах. А для чего, скажите, вас облачили в стальные панцири и вооружили так, как никогда не вооружали пехоту? Каждому ясно, что сделано это именно для того, чтобы вы пробивали брешь во вражеской обороне. А вам, видите ли, дайте пушки, танки, самолеты.
— Простите, товарищ полковник, но стальной нагрудник — это не пушка и им дот не подавишь. К тому же саперы их выбрасывают, они только мешают в бою.
— Вот как, вам и вооружение не нравится, — усмехнулся Бычевский. — Может быть, и Штейн так думает, как его подчиненный?
— Нет, я так не думаю, — ответил тот.
— А как же?
— Штурмовые саперы в наступательном бою по прорыву оборонительных рубежей противника должны получать самостоятельные боевые задачи и действовать под руководством своих командиров и начальников. В особых случаях им могут придаваться артиллерийские подразделения. Но руководить этими подразделениями должны командиры штурмовых частей и подразделений.
— Вот это уже ближе к делу. Но штурмовые инженерно-саперные подразделения, части и соединения только что появились в нашей армии, и надо тщательно изучать на боевой практике опыт их правильного использования, — закончил этот разговор Бычевский. — А донесение надо основательно переработать, чтобы поменьше в нем было жалостливых ноток, — добавил он на прощание.
…Наступил август. Активность боев не снижалась. В них продолжала участвовать и наша бригада. Ее последняя боевая операция — попытка без артподготовки внезапным ночным штурмом овладеть одной из высот Синявинской гряды, значащейся на военных картах как высота 22,0. Брать высоту предстояло 63-му отдельному штурмовому инженерно-саперному батальону, одному из лучших в бригаде, и находящемуся пока в резерве. Командовал батальоном спокойный, грамотный и рассудительный майор В. В. Мосин. Под стать командиру был заместитель но технической части капитан В. И. Курин, инженер-строитель, сумевший быстро освоить военно-инженерное дело. Маленького роста, неукротимой энергии, Курин пользовался авторитетом не только у себя в батальоне, по и в бригаде. Возможно, именно потому, что батальон был отлично подготовлен, Штейн держал его в резерве, сберегая для главных дел. И час настал.
Высота, которую предстояло отбить у противника, имела важное значение. Она как бы запирала собой вход в долину, выводящую к станции Мга. Тактически правильно оценивал ее и противник, укрепив мощными инженерными средствами и насытив до предела всеми видами оружия. Попытки наших войск взять высоту результата но дали. И вот тогда кому-то из начальствующих лиц пришла в голову мысль овладеть нужной высотой, что называется, «без шума». Возможно, ее подсказал начальству сам полковник Штейн, не расстававшийся с идеей самостоятельных боевых действий нашей бригады при прорыве укрепленных позиций противника. Для осуществления идеи и был назначен батальон Мосина.
Первому эшелону батальона под командой капитана Корина удалось незаметно для противника сосредоточиться на исходном рубеже, проделать проходы в заграждениях и изготовиться для атаки. Ждали только условного сигнала. И тут случилось то, чего никто не мог ожидать. Со стороны Ладожского озера появился ночной бомбардировщик, «кукурузник», как его еще иногда называли, и закружился в темном небе, как раз над высотой.
Судя по всему, это был агитационный полет. С неба из мощного динамика зазвучала немецкая речь. Немцы извещались о нашей победе под Харьковом. Для убедительности летчик повесил над высотой «фонарь» и бросил на прощание парочку бомб.
Трудно сказать, подействовала ли пропаганда на фашистов, но устроенная иллюминация им оказалась кстати. Медленно снижающаяся на парашюте светящая авиационная бомба высветила как раз то, чего не нужно: готовые к броску наши подразделения. А немцы страшно боялись ночных атак. Высота мгновенно озарилась вспышками выстрелов. Ураганный огонь из всех видов оружия, казалось, вдавил батальон в землю. На беду, один из первых снарядов угодил в старый полуразваленный блиндаж, где оборудовали ячейку управления боем. Все, кто там находился, погибли, в том числе и командир третьей роты. Были уничтожены также рация и телефон. Курин остался без связи. На свой страх и риск он приказал отходить. Но не так-то просто это сделать под ураганным огнем. И только тогда, когда наша артиллерия заставила противника поутихнуть, оставшиеся в живых бойцы возвратились в свои окопы. Раненые и убитые весь день лежали у немецкого переднего края. Их удалось собрать только ночью.
Неудавшаяся атака, а главное, большие потери привлекли внимание армейской прокуратуры. К нам зачастили следователи, но вскоре бригаду вывели из подчинения Ленинградскому фронту, и «дело» заглохло само собой.
Десять суток 13-я штурмовая инженерно-саперная бригада, распределенная между 45-й гвардейской стрелковой дивизией, 43-й и 11-й стрелковыми дивизиями, сражалась на Синявинских высотах. Люди, какой бы приказ ни получали, дрались геройски, выполняя свой долг.
Вот что писал много лет спустя об использовании 13-й штурмовой инженерно-саперной бригады в июльско-августовских боях 1943 года под Синявино бывший начальник инженерных войск Ленинградского фронта генерал-лейтенант Б. В. Бычевский в своей книге «Город-фронт»:
«Нелегко было мне и начинжу 67-й армии С. И. Лисовскому проследить, с толком ли будут использованы батальоны 13-й штурмовой инженерно-саперной бригады, будут ли саперы-штурмовики решать инженерные задачи или сразу растворятся в пехоте? Как и ожидалось, командиры дивизий, получив в свое распоряжение по батальону саперов-штурмовиков, сплошь вооруженных автоматами, с панцирными нагрудниками, и раздумывать не стали, сразу выдвинув их на авансцену… Через 10 суток бригаду полковника Штейна пришлось вывести в резерв для пополнения, а затем Москва отозвала ее с нашего фронта».
Глава пятая В ЗАПОЛЯРЬЕ
Под Ленинград бригада прибыла на пяти железнодорожных эшелонах. Теперь же нам хватило всего трех. Иными словами, около половины личного состава осталось навечно в Синявинских болотах. Немало воинов находилось в госпиталях.
Через неделю мы прибыли в Ногинск и разместились в окрестных селах. Штаб бригады обосновался вместе с подразделениями обслуживания в деревне Починки. Мы с Я. П. Комиссаровым поселились у пожилой вдовы.
Жила старушка впроголодь, и мы, как могли, поддерживали ее, хотя и собственный рацион, учитывая тыловые нормы питания, стал весьма скромным.
Едва расквартировались, начало прибывать пополнение, которое надо было учить нелегкому боевому и саперному ремеслу, так как бригада продолжала оставаться штурмовой инженерно-саперной.
Если с программой и методикой боевой подготовки рядового и сержантского состава после Ленинграда все более или менее утряслось, то с обучением офицеров полной ясности пока не было.
С первых дней мы вводили в учебные программы боевой подготовки офицерского состава неизвестную до того новую военную дисциплину: тактику инженерных войск.
Сразу встал вопрос: с чего начать. Ведь даже мы — разработчики программы — не могли провести ясной разграничительной линии между общей тактикой и тактикой инженерных войск. Тогда решили, что командиры штурмовых взводов должны досконально изучить работу командира стрелкового батальона в наступательном бою, а командиры рот — работу командира стрелкового полка. Лишь терминология осталась наша: вместо атаки мы говорили — штурмовые действия, вместо района обороны — укрепленный район.
Вскоре занятия по боевой подготовке развернулись с полным напряжением. Учились не только воины боевых частей и подразделений, но и вспомогательных подразделений и служб: автороты, рота вожатых собак-миноискателей, комендантского, медико-санитарного взводов, саперы легкого переправочного парка. Раз в неделю при штабе бригады занимались командиры батальонов и отдельных рот. Практиковались показные занятия с целью изучения методики боевой подготовки. Руководил занятиями или командир бригады, или кто-либо из его заместителей. Привлекались и офицеры штаба бригады. Немало времени уделялось политзанятиям с личным составом.
Здесь надо сказать о том, что упразднение в октябре 1942 года института военных комиссаров и переход к полному единоначалию, а также упразднение весной 1943 года заместителей командиров рот по политчасти привели к определенным изменениям во всей политработе в войсках.
24 мая 1943 года ЦК ВКП(б) принял постановление о реорганизации структуры партийных и комсомольских организаций в Красной Армии. В соответствии с ним в батальонах были созданы первичные партийные организации, а в ротах — ротные парторганизации. Вместо избираемых ранее секретарей был введен институт назначаемых парторгов рот, батальонов и полков.
После реорганизации политические отделы инженерных и понтонно-мостовых бригад состояли из начальника (он же заместитель командира бригады по политической части), агитатора, старшего инструктора по оргпартработе, помощника начальника политотдела по работе среди комсомольцев, инструктора по учету партийных документов и делопроизводителя. В батальоне партийно-политический аппарат составляли заместитель командира по политической части, парторг первичной партийной организации, комсорг первичной комсомольской организации, в роте — парторг ротной партийной организации, комсорг ротной комсомольской организации (оба неосвобожденные).
Создание в батальонах первичных парторганизаций приблизило их к массам красноармейцев, способствовало оживлению партийной жизни и создало необходимые предпосылки для того, чтобы поднять уровень партийно-политической работы в соответствии с новыми задачами, стоявшими перед инженерными войсками по обеспечению готовящихся наступательных операций.
Скромно встретили Новый, 1944-й, год. Наступил февраль. Боевая учеба подходила к концу. Мы уже начали строить догадки о дальнейшей судьбе бригады. В конце февраля нагрянула представительная комиссия из Москвы, а в начале марта С. Л. Штейна и начальника политотдела П. Г. Подмосковнова вызвали в ГВИУ, откуда они возвратились с боевым приказом, согласно которому бригада направлялась на Карельский фронт.
И вот — снова теплушки, перестук колес. Из Беломорска начальник инженерных войск Карельского фронта генерал А. Ф. Хренов направил бригаду в распоряжение командующего 19-й армией генерала Г. К. Козлова. Армия занимала оборону на Кандалакшском направлении. Линия фронта проходила параллельно железной дороге Ленинград — Мурманск, то приближаясь к ней на расстояние до 40–50 километров, то отдаляясь на сто и более километров. Весь участок этой дороги находился в зоне действия неприятельской авиации. Результаты работы вражеских воздушных пиратов мы увидели, как только отъехали от Беломорска: ни одного целого станционного сооружения, разбитые пути, остовы сгоревших вагонов, всюду груды металлолома и кучи щебня и мусора. И тем не менее дорога действовала, воевала и защищалась от воздушных разбойников. К каждому составу, в том числе и к нашему, прицепляли платформы с установленными на них зенитками и крупнокалиберными пулеметами. И надо сказать, не один фашистский стервятник нашел здесь свой конец.
К конечному пункту нашего следования, станции Ням-Озеро, мы прибыли ночью и, соблюдая все правила светомаскировки, быстро выгрузились из вагонов, сосредоточившись восточнее цепи озер со странным названием — Верман. Каждое из них носило дополнительное, уточняющее наименование: Большой Верман, Малый, Средний и т. д. Пока бригада грузилась в автомобили, мы по карте прикинули маршрут. Вроде бы по северным меркам и недалеко. Но «недалеко» оказалось только на бумаге. Едва отъехали от Ням-Озера, как попали в пробку. Дорога была забита автомашинами, обозами, артиллерийскими орудиями на всех видах тяги, танками. В ночной темноте вся эта масса техники медленно двигалась, завывая моторами и освещая дорогу короткими вспышками света. Объехать этот поток стороной оказалось невозможным: по обочинам тянулись двухметровой высоты снежные валы: почти неделю до нас здесь бушевала пурга.
— Снегу-то, снегу-то, — то и дело приговаривал заместитель комбрига по тылу подполковник И. Г. Кузнецов. — Север есть север. Не разбежишься.
— Да, — вторил ему майор Н. В. Филатов, ведавший снабжением. — Как тут будем подвозить боеприпасы, мины и прочее? Что хочешь делай, из такой пробки не выбраться.
— Техники идет, товарищи, много, — деловито подводил итог разговору начальник политотдела бригады полковник П. Г. Подмосковнов. — Значит, решено проводить в Карелии крупное наступление. Вы посмотрите, какая складывается обстановка. — И он прочитал нам маленькую лекцию. Рассказал, что истощенная Финляндия мучительно ищет выход из войны. Экономика страны уже не в состоянии нести непомерное бремя военных расходов. Финская промышленность задыхается от недостатка сырья, население голодает. Короче говоря, страна находится на грани экономической и политической катастрофы. Правительство не пользуется доверием, чтобы удержаться, оно начинает нащупывать контакты с нами, зондирует почву, не пойдем ли мы на перемирив. Но в стране имеется мощная гитлеровская военная группировка, без разгрома которой не может быть и речи ни о каком перемирии.
Вот для того чтобы облегчить переговоры о перемирии, сегодня необходимо наше наступление, — как бы подвел итог Подмосковное. — Разобьем фашистскую двадцатую горную армию, выйдет Финляндия из войны. А разбить надо. Поэтому Ставка выделила Карельскому фронту столько сил, в том числе и нашу штурмовую бригаду.
— Трудно в таких условиях будет наступать, — сказал Н. В. Филатов. — Вот летом — другое дело.
В принципе, он оказался прав.
С первых же дней нашего пребывания под Кандалакшей со всей остротой встал вопрос о хотя бы самом примитивном жилье. Населенные пункты, в которых мы обычно размещали личный состав, здесь отсутствовали. Для штаба бригады наш заботливый заместитель по тылу подполковник И. Г. Кузнецов раздобыл где-то большую госпитальную палатку, которая стала и кабинетом, и спальней. В целях маскировки сверху забросали брезент еловым лапником. Но батальоны, к сожалению, такой роскоши не имели, и люди устраивались как могли. Чаще всего в толще снега рыли нечто похожее на землянки. Внутри устанавливали железные печурки, входы завешивали плащ-палатками.
Отрыть зимой настоящие землянки в этом болотистом, схваченном морозом и нашпигованном крупными и мелкими валунами грунте не смогли даже саперы. К тому же наше пребывание здесь считалось временным, и все ждали приказа о передислокации на новый участок фронта.
Время шло, приказ все не поступал, и солдаты постепенно привыкли к житью под снегом, которым по утрам «умывались», а днем растапливали в котелках на чай. От растирания снегом лица людей постепенно приобретали «африканский» цвет, а негаснущие «буржуйки» оставляли такие неприглядные подпалины, а то и дыры на солдатских полушубках и валенках, что старшины рот только за голову хватались: ведь перед отправкой на фронт они одели людей во все новое, а теперь на каждом полушубке хоть заплаты ставь.
Главной задачей личного состава бригады стала борьба со снегом. Необходимо было как можно скорее расчистить дороги и тем самым уберечь застрявшие в снегу боевую технику и транспорт от ударов авиации противника, активность которой возрастала с каждым днем.
Не знаю, где раздобыли снабженцы такое количество инвентаря, но им наделили всех, способных держать в руках лопату. Работали и днем и ночью. В дело пошли не только лопаты, но и всякого рода ручные и конные скребки и треугольники, прицепляемые к тракторам и автомашинам, — плоды изобретательного ума наших солдат и офицеров. Постепенно дороги начали пустеть, а мы занялись подготовкой к наступлению с основательного изучения вражеской обороны.
Линия фронта здесь в основном определилась еще в сентябре 1941 года и мало изменилась с тех пор, проходя в 90 километрах западнее Кандалакши. Обе стороны сумели создать хорошо укрепленные боевые рубежи с множеством закрытых огневых сооружений, артиллерийских позиций, командных и наблюдательных пунктов, с разветвленной сетью траншей и ходов сообщения и многочисленными препятствиями.
Учитывая трудные условия прорыва подобной обороны, сюда и бросили нашу «панцирную» пехоту, надеясь, что она пробьет брешь, в которую войдут стрелковые подразделения для развития и закрепления успеха в оперативной глубине обороны противника. На нас ложилась задача уточнить детали маршрута движения войск и составить схемы, а затем определить объем работ для прокладки колонного пути. Для этого требовалось пройти по тылам противника свыше тридцати километров, преимущественно в светлое время суток, иначе не составить никакой схемы.
Задача несколько облегчалась отсутствием сплошной линии фронта. У обеих сторон имелись лишь отдельные опорные пункты в редких здесь селах, на высотах и развилках дорог. Остальная территория контролировалась подвижными отрядами. Промежутки между опорными пунктами являлись своеобразными «окнами», через которые проникали друг к другу разведывательные и диверсионные группы. Через одно из таких «окон» прошла и наша разведка. Командовал ею начальник 2-го отделения штаба бригады капитан Ф. Ф. Попов. Ядро группы составляло отделение разведчиков во главе с командиром взвода старшим лейтенантом Царевым, однофамильцем И. С. Царева, офицера штаба бригады. Вооружение, в целях маскировки, — немецкие автоматы, финские ножи и… отечественные гранаты.
На всю группу имелся один ручной пулемет с солидным запасом снаряженных дисков. С собой взяли пятидневный запас продуктов. Пулемет, запасные диски к нему, продукты и медикаменты везли на легких санях, типа нарт. Поверх ватных брюк и телогреек надели белые маскировочные костюмы-комбинезоны с капюшонами, закрывавшими форменные шапки-ушанки, а валенки, по совету армейских разведчиков, заменили удобными трофейными лыжными ботинками пьексами. Предполагалось, что в таком одеянии с немецкими автоматами в руках разведчики при возможной встрече с противником должны сойти за финских или немецких солдат.
Через линию фронта переходили ночью с провожатым офицером-пограничником. Сильная поземка заметала следы, но Попов беспокоился, что противник их все же обнаружит.
— Не волнуйтесь, товарищ капитан, — успокаивал его пограничник. — Через час так заметет, что и самим свои следы найти не удастся.
Пограничник должен был довести разведгруппу до старой разрушенной финской заставы и возвратиться.
В целом рейд по тылам врага прошел успешно, хотя на обратном пути наши разведчики попали в очень сложную ситуацию.
Уже недалеко от линии фронта дозорные, высланные вперед, обнаружили, что дорогу, которую предстояло пересечь, расчищают подразделения гитлеровцев. Что было делать? Укрыть людей в овраге и ждать, что на тебя вот-вот натолкнутся враги? Или рискнуть и идти смело, без опаски, будто свои? И Попов решился на дерзкий, но продуманный шаг: пересечь дорогу и двигаться дальше на глазах у противника. Он предупредил бойцов о том, что идти нужно спокойно, ровным шагом, не показывая нервозности и не обращая на работающих никакого внимания. Оружие подготовить к бою.
Группа двинулась вдоль ручья и вскоре поднялась наверх. Первым увидел ее вражеский солдат, возившийся у заглохшего трактора. Он с любопытством, но без тревоги посмотрел на людей в белых маскировочных костюмах, ровным накатистым шагом идущих на лыжах в его сторону. Обернулись в их сторону и офицеры, которые стояли на снежном отвале. Прикинув, что дорогу лучше всего пересечь именно там, где стоит трактор, чтобы все-таки держаться подальше от офицеров и основной массы работавших солдат, Попов поднялся на снежный вал и громко крикнул по-немецки:
— Не смотреть по сторонам. Вперед! Быстрее!
Группа беспрепятственно миновала дорогу. Шли не оглядываясь, но невольно прибавляя шаг и стремясь скорее добраться до спасительного леса. Углубившись в него метров на двести, сделали привал, и Попов вместе с Царевым и командиром разведотделения нанесли на схему пройденную трассу будущего колонного пути с перечнем всех первоочередных работ, необходимых для приведения ее в состояние, допускающее движение дивизионной техники. Заодно наметили и наиболее короткий путь к своим. Он оказался удачным, и еще засветло вышли на боевое охранение одного из подразделений 104-й дивизии. К утру добрались до штаба бригады. В течение следующего дня были обработаны данные этой глубокой инженерной разведки и отправлены специальным нарочным в штаб инженерных войск 19-й армии. Там ими остались очень довольны. Поступил приказ всех участников рейда представить к правительственным наградам.
К сожалению, данные этой разведки оказались уже не нужны. Противник пронюхал о готовящемся наступлении, улучшил и укрепил свои позиции, значительно активизировалась его авиация. Учитывая потерю фактора внезапности и по ряду других причин, операцию перенесли на лето.
В ожесточенных летних боях капитан Ф. Ф. Попов погиб.
…Наступила вторая половина мая 1944 года. Заполярная весна все сильнее и настойчивее вступала в свои права. На возвышенностях и открытых местах снег сошел совсем, и там уже робко зеленела трава, но в лесах, ложбинках и оврагах он еще лежал. Солнце, недавно такое скупое и холодное, теперь почти не скрывалось за горизонт.
Весна — всегда радость, волнение души, ожидание чего-то светлого, нового. Что ждали мы тогда от третьей военной весны? Конечно, окончательного изгнания врага с нашей земли и уничтожения фашизма в его логове.
В декабре 1943 — апреле 1944 года Красная Армия в ходе целого ряда наступательных операций освободила от врага практически всю Украину; в результате Ленинградско-Новгородской операции была полностью снята блокада с этого великого города и освобождена почти вся Ленинградская и часть Калининской области, советские войска вступили на территорию Эстонии, тем самым положив начало освобождению от оккупантов Прибалтийских республик. Уже был освобожден Крым, а вот на Севере, в Мурманской области и в Карелии фронт с 1941 года застыл.
Пришла пора ударить по противнику и здесь. И вот в конце мая наша бригада была погружена в эшелоны и переброшена из-под Кандалакши к югу, в распоряжение командующего 7-й армией генерал-лейтенанта А. Н. Крутикова. Его армия с 1941 года стойко держала оборону между Ладожским и Онежским озерами.
За три года финское командование создало в Южной Карелии мощную глубоко-эшелонированную оборону. Между Онегой и Ладогой было построено шесть оборонительных полос, густо насыщенных огневыми сооружениями долговременного и полевого типа, командно-наблюдательными пунктами и разветвленной сетью открытых и закрытых траншей и ходов сообщения. Все рубежи прикрывались противотанковыми препятствиями и минными полями, даже артиллерию упрятали в крепкие доты и дзоты. Были заминированы также все мосты через многочисленные реки и ручьи, их берега, участки и узлы дорог, узкие дефиле, а также места обходов и объездов, даже отдельные здания и сооружения в населенных пунктах, из которых финны изгоняли жителей. При минировании противник широко использовал всякого рода взрывные ловушки, называемые иногда горько-иронически «сюрпризами». Эти «сюрпризы» требовали для обезвреживания привлечения большого количества саперов, хорошо знавших свое дело.
Таким образом, перед 7-й армией, которая наносила главный удар из района Лодейного поля вдоль Ладожского озера в общем направлении Олонец, Сортавала, стояли серьезные трудности, а на инженерные войска ложились ответственные задачи по обеспечению их успешных действий, особенно в районах форсирования реки Свирь.
Нашей бригаде поручили подготовить десантную переправу легкого переправочного парка, выделить часть батальонов в первый эшелон для комплектования штурмовых групп. Штаб бригады обязан был снабдить исчерпывающими сведениями наши штурмовые батальоны о системах оборонительных рубежей противника, а также ознакомить офицеров с образцами минно-взрывной техники финской армии.
Кроме того, офицерам штаба бригады предстояло договориться со стрелковыми и танковыми частями о правильном и эффективном использовании придаваемых им наших саперов, чтобы не повторить ленинградских ошибок. Короче говоря, работы хватало на всех.
При подготовке к операции там, где наносился главный удар, в полосе 7-й армии, были сосредоточены большие силы. Удалось создать превосходство над противником в людях более чем в два раза, в артиллерии и танках — почти в шесть раз.
21 июня мощные орудийные залпы и гул авиационных моторов возвестили о начале Свирско-Петрозаводской наступательной операции. Три с половиной часа продолжалась артиллерийская и авиационная обработка финской обороны. На берегу, занимаемом противником, стоял громоподобный, непрерывный гул, в котором невозможно было расслышать разрывов отдельных снарядов и бомб. Еще не прекратилась канонада, а по реке уже поплыли лодки, плоты и паромы с передовыми отрядами, среди которых находились и наши воины. Таких десантных переправ на участке форсирования реки действовало почти одновременно около десяти. Противник, ошеломленный пашей артиллерийской подготовкой, на первых порах не оказывал сопротивления. Потом на реке стали рваться его снаряды, но десант уже занимал противоположный берег. В это время понтонеры начали наводить понтонный мост, невзирая на артиллерийский огонь врага. Через несколько часов мост заработал.
А всего к часу дня инженерные войска навели через реку одиннадцать, а к исходу дня двадцать паромных переправ и два моста. На следующий день через Свирь непрерывным потоком двигались автомашины, конные обозы, танки и артиллерия. Тогда же переправился и штаб нашей бригады.
В это время передовые части были уже далеко. Несмотря на упорное сопротивление противника, к концу второго дня операции плацдарм на реке Свирь был увеличен до 60 километров по фронту и 12 — в глубину. После ожесточенных боев войска 7-й армии 25 июля прорвали вторую полосу обороны и овладели городом Олонец. 28 июня совместно с частями 32-й армии был освобожден Петрозаводск.
Отходя, противник оставлял диверсионные группы и отряды, иногда достаточно крупные. Они нападали на отдельные мелкие подразделения, разрушали мосты, уничтожали склады, линии связи, минировали в наших тылах дороги, которые считались уже безопасными, и чинили прочие неприятности, стараясь всячески задержать наше продвижение вперед. Особенно трудно приходилось танкистам. Привязанные к дорогам, они то и дело рисковали напороться на засады. Если же на узкой лесной дороге подрывался головной танк — надолго задерживалась вся колонна, а замаскированные «кукушки» метким огнем поражали всех, кто пытался вызволить товарищей из беды.
Наши воины-саперы воевали в первых рядах наступающих, обеспечивая продвижение вперед пехоты и танков. Они разминировали пути движения колонн, восстанавливали мосты и дороги, строили переправы, вели прокладку объездных путей. Кроме того, танкисты нередко сажали саперов на броню, и те защищали их от финских фаустников. Противник же в первую очередь стремился истребить саперные десанты, отлично понимая, что без них в лесной и болотистой местности танкистам приходилось весьма туго.
Отражая многочисленные контратаки противника, 9 июля части 7-й армии вышли к Лоймоле, а 10 июля заняли важный узел вражеской обороны Питкяранта. На рубеже Питкяранта, Лоймола наши уже изрядно измотанные войска встретили стойкое и хорошо организованное сопротивление финнов, опиравшееся на заранее оборудованную в инженерном отношении систему оборонительных рубежей. Все лето здесь шли затяжные, но безрезультатные бои.
К 9 августа фронт стабилизировался здесь по рубежу Кудамгуба, Куолисма, восточнее Лоймола, Питкяранта. «Солдатский телеграф» уже разносил вести о готовящемся перемирии с Финляндией.
Впрочем, саперы продолжают воевать и тогда, когда прекращаются сражения. Для них началось выполнение ответственных задач по разминированию, без чего нельзя в полной мере приступить к налаживанию мирной жизни в освобожденных районах. Такое разминирование требовало значительных сил. Сначала его вели лишь инженерные войска, затем подключились тыловые бригады разграждения и подразделения войсковых собак-миноискателей.
С лета 1943 года, когда тыловые бригады стали переключаться на восстановление промышленных предприятий, сплошное разминирование полностью легло на фронтовые инженерные части и соединения резерва ВГК. Поэтому для выполнения этой задачи были сформированы отдельные батальоны миноискателей, а с апреля 1944 года началось создание отдельных отрядов разминирования за счет личного состава соединений и частей оборонительного строительства.
Ответственность за сплошное разминирование в полосах армий возлагалась на начальников их инженерных войск.
Сплошное разминирование территории заключалось в отыскании, уничтожении или обезвреживании минных полей, различных взрывных «сюрпризов» и боеприпасов (бомб, снарядов, минометных мин и др.), оставшихся после изгнания противника. Инженерные мины, а также боеприпасы уничтожались чаще всего взрывным способом на месте. Однако во многих случаях сделать этого не позволяла обстановка, и тогда обезвреживали мины ручным способом, а боеприпасы вывозили для подрыва в безопасное место.
Обезвреживание мин, различных фугасов и «сюрпризов», сбор и вывоз неразорвавшихся боеприпасов были связаны с большим риском, требовали особой сноровки и мужества от саперов.
Здесь хотелось бы сказать, что установившаяся терминология военных сводок и донесений «работы по разминированию местности» выглядела какой-то будничной, невоенной, небоевой. А ведь слово «работа» здесь не годилось. Какая же это работа, если ежедневно гибли и получали ранения люди, гремели взрывы, а смерть ходила за каждым буквально по пятам? Это — самый настоящий бой с врагом, неодушевленным, но коварным, не прощающим ни малейшей оплошности. Недаром говорится — сапер ошибается только раз.
Сплошное разминирование начиналось с разведки минных полей. Ее вели наиболее подготовленные команды минеров. При обнаружении минного поля они уточняли и обозначали его границы, определяли тип мин и систему их установки. Встречавшиеся отдельно боеприпасы собирались в небольшие штабеля для последующего вывоза и уничтожения, а наиболее опасные подрывались на месте. Разведка, как правило, производилась не менее двух раз.
Районы разминирования распределялись между частями и подразделениями по административно-территориальному делению, что создавало наиболее благоприятные условия для взаимодействия инженерных частей с местными органами власти.
Самым сложным было, пожалуй, разминирование городов.
По приказу штаба инженерных войск Карельского фронта два наших штурмовых батальона и рота вожатых собак-миноискателей были привлечены к разминированию городка Подпорожье. Когда я туда приехал впервые, стало жутковато. Представьте себе город, целехонький на первый взгляд, но без единого жителя. Мертвый город, город-призрак, сплошное минное поле. Заминировано было буквально все: немногочисленные здесь инженерные сооружения, общественно-бытовые здания, магазины, ларьки и палатки, водоразборные колонки, большинство жилых домов, школы и детские садики и даже качели в их дворах. Все цело, а ногой ступить никуда нельзя!
Больше месяца работали в Подпорожье наши саперы, пока не вернули его жителям.
Кроме Подпорожья бригада участвовала в разминировании дорог и участков местности в районах базирования наших войск.
При разминировании для минера не устанавливалось заданий, не указывалось, сколько мин или других взрывоопасных предметов он должен был обезвредить в течение рабочего дня. Главное — не оставить на своем участке необнаруженных мин. Уверенность в безопасности, причем уверенность полная, подтверждалась подписью командира части или подразделения, люди которого производили разминирование. На таком участке на видном месте укреплялась вывеска с четкой надписью: «Проверено. Мин нет. Лейтенант Иванов».
Рабочий день минера, согласно положению, не должен был превышать шести часов. Перерывы предусматривались через каждые 50 минут. На наиболее сложных участках рабочий день сокращался иногда до четырех часов. Но не всегда эти правила соблюдались: чаще всего, чтобы не задерживать движения войск и техники, минеры работали столько, сколько надо. Хотя, как я уже упоминал, нормативов на снятие мин не существовало, велся учет: кто и сколько обезвредил мин. Для этого существовали «карточки минера». Результаты ежедневно объявлялись личному составу. По сути, это являлось формой соревнования.
Среди минеров были подлинные мастера своего дела. Громкая слава ходила в бригаде о ефрейторе И. И. Новикове из 62-го штурмового батальона, который иногда за день обезвреживал более ста мин и «сюрпризов». Маленького роста, энергичный и подвижный, он обладал каким-то особым уменьем разгадывать самые хитроумные минные ловушки противника. Свой опыт он щедро передавал товарищам не только из своего батальона, но и из других частей, куда его посылали для проведения инструктивных занятий. Солдатская судьба оказалась благосклонной к Новикову: он дожил до окончания войны и продолжал трудиться, но уже на мирном фронте. Менее повезло его командиру — гвардии подполковнику И. Д. Тютюрову, который принял батальон после Цуна: он подорвался на противопехотной мине. Возвратился, однако, в строй и, несмотря на протез, продолжал командовать тем же 62-м батальоном до самого конца войны. Добиться этого права стоило ему нелегких усилий, так как медицинская комиссия признала Тютюрова полностью негодным к военной службе. Но человек волевой, он сумел преодолеть все препятствия и возвратился в свой родной батальон. На войне такие случаи были весьма редки.
И неудивительно, что именно в его батальоне чаще всего можно было встретить воина с нагрудным знаком «Отличный минер» или «Отличный сапер». А они, как известно, вручались лучшим мастерам своего дела.
Наряду с разминированием Подпорожья штаб инженерных войск Карельского фронта поручил нам произвести военно-инженерное описание финского оборонительного рубежа на участке от Обжи до Мегрозера.
На выполнение задания отводилась всего одна неделя. Мы наметили несколько рекогносцировочных групп, состоявших из командира — офицера из штаба бригады или какого-либо батальона — и нескольких саперов-разведчиков. Мне также довелось возглавить одну из групп.
Работа предстояла не только довольно кропотливая, но и опасная: в лесах бродило еще немало финских солдат, подчас целыми подразделениями. Кроме того, мы не без основания полагали, что оставленный противником рубеж с избытком нашпигован всякого рода взрывными устройствами, что могло оказаться опаснее бродячих солдат.
Что же представлял собой этот мощный оборонительный рубеж противника?
Вторая оборонительная линия финнов прикрывала оперативное направление между Ладожским и Онежским озерами. Слегка холмистая местность, поросшая густым лесом, с бесчисленным количеством озер, болот, рек и речушек, сама по себе являлась трудно преодолимой для наших наступавших войск, особенно для танковых и механизированных частей. Слабо развитая дорожная сеть еще больше сковывала их маневр. Но и эти дороги противник постарался сделать непроходимыми.
Сама линия обороны представляла собой систему отдельных опорных пунктов, хорошо вписанных в местность и способных благодаря этому обороняться в полном окружении. Промежутки между отдельными опорными пунктами были густо минированы, перекрыты лесными завалами и другими препятствиями и к тому же зачастую прикрывались огнем пулеметов из отдельных, хорошо замаскированных дзотов или стальных колпаков. В целом же тактические принципы этих опорных пунктов мало чем отличались от наших.
Огневые точки состояли из дотов, дзотов, бронепулеметных колпаков и стрелковых окопов полного профиля, с укрепленными крутостями. Все они связывались между собой системой открытых и закрытых ходов сообщения.
Артиллерия в таких опорных пунктах, в зависимости от калибра орудий, размещалась или на оборудованных специальным образом открытых площадках, или в закрытых сооружениях. Гарнизоны опорных пунктов размещались в блиндажах-землянках, способных выдержать прямое попадание авиабомбы калибра до 50 кг или снарядов войсковой артиллерии. В глубине опорных пунктов располагались командные пункты, узлы связи, хозяйственно-бытовые помещения и даже… церкви. Перед передним краем опорных пунктов во многих случаях устраивались системы управляемых и неуправляемых минно-взрывных препятствий, в том числе и противотанковых, если в этом была необходимость.
Имелось довольно много и так называемых скрытых огневых точек (СОТ), предназначенных для расстрела в упор наступающих солдат противника. Такие «соты» представляли собой грибовидные стальные колпаки, в которых размещались пулеметчики. Эти колпаки устанавливались на специальное деревянное или железобетонное основание так, чтобы их верхние части находились на уровне земли. Но в нужный момент пулеметчик с помощью ручного привода поднимал стальную часть колпака над землей и губительным «кинжальным» огнем поражал атакующих.
Бросалась в глаза добротность всех сооружений, будто строились они на века. По всему чувствовалось, что военные инженеры противника не страдали ни от недостатка времени, ни от скудности денежных средств. Так, боковые крутости земляных сооружений надежно укреплялись хорошо подогнанными друг к другу бревнами, жердями и досками, удерживавшими их от разрушений в непогоду и при близких разрывах бомб и снарядов. Во всех жилых сооружениях имелись камины, а стены были облицованы толстым декоративным картоном. Но что особенно поражало, так это блестящие от воска паркетные полы в офицерских блиндажах.
В том опорном пункте, который довелось описывать мне, я нашел даже углубленный в землю гараж для легковой автомашины возле командирского блиндажа. Ко всему прочему, опорные пункты финны мастерски замаскировали. Все это говорило о том, что данная оборонительная линия строилась основательно и прочно, в расчете на длительное сопротивление. Но расчеты профашистских финских правителей не оправдались: наступление наших войск, организованное и проведенное с подлинным полководческим искусством, стало столь стремительным и мощным, что противник в панике бросил все и обратился в бегство. Во время работы мы находили в дзотах пулеметы с заправленными, но не расстрелянными дисками или лентами, пушки со снарядами в казенниках, передвижные электростанции в полной готовности, мощные фугасы с подведенными к ним проводами, которые, в свою очередь, были подключены к распределительным электрощиткам.
Дел у наших рекогносцировщиков было много, времени — в обрез, так что на объекте приходилось находиться по 10–12 часов, благо что ночи снова стояли белые.
Я почти закончил описание порученного мне опорного пункта и уже прикидывал, что через день-два могу везти донесение в штаб бригады, как вдруг неожиданно приехал капитан Н. Петровский, недавно зачисленный в наше оперативное подразделение, и, мрачный, молча передал мне сложенный вдвое лист бумаги. Еще ничего не понимая, но предчувствуя, что случилось ЧП, машинально разворачиваю бумагу и читаю прыгающие строки:
«Товарищ Фомин, вчера погиб Комиссаров. Вам необходимо срочно прибыть в штаб для его замены. Вопрос со Штейном и Подмосковновым согласован. Вашу работу закончит Петровский. Введите его в курс дела. А. Дуборг».
Я еще и еще раз перечитывал записку начальника штаба бригады, но ее смысл никак не хотел укладываться у меня в голове. Не верилось, что погиб Яков Петрович, к которому когда-то, в начале войны, я поступил под начало и с которым потом прошагал больше двух лет по фронтовым дорогам, съел, как говорится, пуд соли, по-мужски крепко сдружился. Погиб не просто мой фронтовой друг и непосредственный начальник. Погиб талантливый инженер, умевший находить решения там, где их, казалось бы, не найти.
— Как погиб Яков Петрович? — спросил я Петровского.
Тот только руками развел:
— Говорят, подорвался. А где и как — не знаю.
— Что на словах приказал передать Александр Александрович? — Я имел в виду полковника Дуборга, который незадолго до того стал начальником штаба бригады, сменив переведенного в другую инженерную бригаду Сергеенко.
— Больше ничего… Просил только поторопить.
Как разведчик-мотоциклист ни торопился, ночь, хотя и белая, застала нас в лесу, что, надо прямо сказать, не очень нравилось. К счастью, все обошлось, и, едва забрезжил ранний северный рассвет, мы были у себя в штабе. А еще час спустя я уже беседовал со Штейном.
— Принято решение назначить вас вместо Якова Петровича на должность начальника первого отделения. В принципе, задачи свои вы знаете. — И, тяжело вздохнув, прибавил: — Видите, как получилось: не у кого принимать дела.
Я спросил, как погиб Яков Петрович.
— Дурацкая случайность. Впрочем, все случайности дурацкие. Мы ехали с ним на моей эмке в шестьдесят второй батальон. Откуда ни возьмись, два вражеских истребителя. Хотя и перемирие, но береженого, как говорится, бог бережет. Мы выскочили из машины — и в укрытие. И вот — я ничего, а Яков Петрович подорвался на мине. Отвез я его в госпиталь, но ничем помочь там уже не могли. В тот же день он скончался.
Комбриг помолчал, потом добавил:
— Вы находились с Комиссаровым в товарищеских отношениях, поэтому я прошу проследить за тем, чтобы его личные вещи отправили родственникам. Возьмите это на себя.
Я выполнил поручение командира бригады, оставив себе на память о товарище лишь маленькую записную книжечку, куда Яков Петрович вносил всякого рода справочные сведения военно-инженерного характера бисерным почерком и которая хранится у меня до сих пор.
Глава шестая БОЙ С ДИВЕРСАНТАМИ
Едва успел осмотреться на новой должности, как из штаба 99-го стрелкового корпуса, которому теперь оперативно была подчинена 13-я штурмовая инженерно-саперная бригада, поступил приказ о перебазировании из Видлицы в район озер Суоярви.
— Вот, Алексей Иваныч, где будет размещаться штаб, — сказал мне полковник А. А. Дуборг и поставил карандашом точку на карте — на берегу одного из озер. — Как раз на этом мысочке.
— А кто видел этот мысочек, Александр Александрович? — задал я вопрос начальнику штаба.
— Пока никто. Распорядитесь послать туда группу бойцов из комендантского взвода. Пусть все приготовят к нашему прибытию.
Учитывая, что личный состав батальонов уже давно взаимодействовал с частями 99-го стрелкового корпуса, переправляться на новое место предстояло лишь отделам и службам штаба, комендантскому взводу и взводу связи, моторазведроте, батальону ранцевых огнеметов, на днях прибывшему в бригаду, роте вожатых собак-миноискателей, интендантским службам и складам и медико-санитарному взводу.
Колонны вел полковник А. А. Дуборг. 150 километров по разбитым лесным дорогам мы одолели довольно быстро. Правда, без отстающих не обошлось, но в девять вечера в основном все были на месте. Кругом стеной стоял лес. Справа, метрах в двухстах, просматривалось озеро, а слева — небольшая поляна, видимо, старая вырубка, поросшая редким кустарником и отдельными небольшими деревцами.
— Заповедник, да и только, — недовольно проворчал Дуборг. — Не удивлюсь, если встретимся с медведем.
Но встреча нам предстояла гораздо более худшая. Впрочем, все по порядку…
От основной дороги, по которой мы ехали, к озеру вела неширокая просека, вдоль которой мы разместили автомобили штаба бригады и моторазведроты. До въезда в расположение штаба, вдоль основной дороги, с одной стороны расположился 40-й батальон ранцевых огнеметов (40 ОБРО), с другой дымились костры и полевые кухни, где повара спешно готовили совмещенный обед и ужин. Я в штабной машине при свете электролампочки, питаемой от автомобильного аккумулятора, готовил кодированное радиосообщение частям бригады о новом месте расположения штаба. Внезапно открылась дверца, и появившийся в ее проеме начальник связи бригады майор Муравский встревоженно произнес:
— Товарищ майор, прошу подойти к штабной рации.
— А что случилось?
— Сами услышите.
Переносная радиостанция была развернута прямо на земле, всего в нескольких шагах от моей машины. Девушка-радистка, как только я подошел, сдернула с головы наушники и передала мне. Сначала слышались лишь потрескивание атмосферных разрядов и какие-то непонятные далекие голоса, потом в наушниках раздался мужской голос, отчетливо произнесший на русском языке:
— Я — «Гора»… Я — «Гора»… Всем «Пригоркам», «Сопкам» и «Бугоркам»… Всем «Пригоркам», «Сопкам» и «Бугоркам»… Нашими «голубками» в районе вашего размещения замечено много чужих «гостей». Примите меры по усилению своей охраны и обороны. В случае появления их немедленно докладывайте Первому, а сами постарайтесь их ликвидировать. Повторяю… — И текст радиопередачи повторился.
— Как по-вашему, что это за радиостанция? — спросил я майора Муравского.
— Видимо, корпусная и, судя по громкой слышимости, находится неподалеку. И работает она в корпусном волновом диапазоне. Других подобных здесь не должно быть.
Я знал, что штаб 99-го стрелкового корпуса располагался в двух-трех километрах от нас, так что предположение Муравского имело основания.
— Пойдем докладывать начальнику штаба.
— Ну и что вы предлагаете? — спросил тот, выслушав мое сообщение.
— На охрану на ночь вместо комендантского взвода следует выставить подразделение моторазведроты капитана Нежурина и там же держать дежурный взвод. Неплохо было бы собрать весь командный состав, включая командира батальона ранцевых огнеметов, и поставить перед ними конкретные задачи на случай внезапного нападения. Я же быстренько, до того как они соберутся, набросаю план нашей обороны.
Полковник Дуборг, подумав минуту, ответил:
— Думаю, что особых оснований для беспокойства нет. Охрану надо усилить — с этим я согласен. И немедленно установите, Муравский, телефонную связь со штабом корпуса. Собирать офицерский состав не следует: не надо порождать панических настроений. Но план обороны нашего расположения доложите мне через час.
Скажу откровенно: не во всем я был согласен с начальником штаба, но перечить не стал. Однако кое-какие необходимые, на мой взгляд, меры решил все же предпринять по собственной инициативе. Первым делом срочно расставить посты и секреты, для чего использовать разведчиков. Затем повидать командира 40-го отдельного батальона ранцевых огнеметов майора В. Г. Олейникова, чтобы предупредить об опасности и наметить совместные действия на случай нападения. По дороге меня остановил Муравский:
— Мои девушки под командой старшего сержанта Николаева уже тянут связь к штабу корпуса. — И он показал рукой направление, куда ушли связисты.
И именно в это мгновение в той стороне, особенно гулкие в ночной лесной тишине, треснули два винтовочных выстрела, послышался женский крик, полный страха и боли, и заглушающая его автоматная очередь. И вновь все замерло, как в природе в предчувствии грозы. Затем, точно пламя по пропитанной бензином веревке, пулеметно-автоматная стрельба побежала вдоль дороги, с каждой секундой разрастаясь.
Мелькнула мысль: не напрасно нас предупреждали.
— Эх, как жалко, погибли мои девчата! — вскрикнул Муравский и побежал к своим связистам.
Я, вынув пистолет, бросился к дороге, вдоль которой в ряд стояли штабные автомобили. Там слышалась самая отчаянная стрельба.
С неба безучастно светила луна, и в ее мертвенном свете все происходящее принимало какой-то зловещий, фантастический оттенок.
Стараясь побыстрее достичь дороги, я нырнул в первый же темный промежуток между машинами. И почти столкнулся с финским солдатом, которого, видимо как и меня, тоже прельстила эта затененная сторона. Я, почти не делясь, машинально нажал на спусковой крючок. Солдат глухо вскрикнул и стал валиться мне под ноги. Перепрыгнув через него, я выбежал на освещенную луной дорогу.
Метрах в десяти — пятнадцати от меня ее наискось пересекал командир моторазведроты Нежурин, с ходу строчивший из ручного пулемета в сторону леса за дорогой.
— Ложись! — крикнул я ему. — Убьют!
Но Нежурин то ли не слышал меня, то ли не обратил на мой окрик внимания. Продолжая стрелять, он дошел почти до противоположной стороны и тут, покачнувшись, упал. Я инстинктивно бросился к нему. Но меня опередил один из разведчиков его роты. Он подхватил своего командира, я — пулемет, и мы, пригнувшись, бросились на свою сторону дороги. Вдоль ее обочины, в неглубоком кювете, лежала реденькая цепочка наших штабных офицеров, бойцов разведроты и с максимальной интенсивностью вела огонь по невидимому в кустах противнику. Я не успел еще толком установить пулемет на обочине, как рядом со мной оказался разведчик, тащивший Нежурина.
— Командир убит, — сказал он глухо. — Но пулемет, товарищ майор, мой и разрешите мне самому вести из него огонь. Я с ним лучше управлюсь. — И он короткими экономными очередями стал бить по вспышкам выстрелов, особенно ярким на теневой стороне леса.
Судя по разгоревшейся перестрелке, которая распространилась вплоть до того места, где, по моим предположениям, находился батальон ранцевых огнеметов, против нас действовал примерно армейский батальон. Связисты Муравского, потянувшие телефонный провод к штабу корпуса, ценою своей жизни предупредили нас об опасности, дали возможность хотя и наспех, но все же подготовиться к отражению нападения.
В то же время противник, видимо, просто не подозревая, что ему противостоит горстка штабных, тоже решил не рисковать.
Перестрелка и минометный огонь постепенно затихли. Но зато над нашими головами просвистел снаряд и разорвался где-то на берегу озера. За ним проследовал второй, третий… Финская артиллерия била, судя по орудийным выстрелам, откуда-то издалека и редко. Прилетят два-три снаряда, ухнут разрывами на берегу или в воде озера, а следующая очередь — минуты через три.
— Дальнобойная бьет, — заметил лейтенант Николай Чулошников, заместитель начальника политотдела бригады по комсомолу.
— Боятся своих накрыть, вот и лупят с перелетами.
«Слава богу, что так, — подумал я про себя, — а то горячо нам пришлось бы». Но Чулошникову я ничего сказать не успел: ко мне подбежала Лиза Опрышко, писарь интендантского отдела, и скороговоркой произнесла:
— Товарищ майор, вас вызывает полковник Дуборг.
— А где он?
— В медсанвзводе. Ранен. — И, увидев, что я собрался уходить, попросила: — Товарищ майор, разрешите мне остаться здесь?
— Ни в коем случае, — возразил я.
— Товарищ майор, — настаивала Лиза. — Ну пожалуйста…
Я хотел одернуть ее, но, увидев на лице девушки печаль, сказал:
— Впрочем, у тебя есть свое начальство. Вот и разговаривай с ним.
Лиза поняла это как разрешение и, взяв лежавшую здесь винтовку, приготовилась к стрельбе.
— Спасибо, товарищ майор! — И ее глаза озорно блеснули. — А то война скоро кончится, а я еще ни в одном бою не была!
Дуборга я нашел в медсанвзводе. Раненный в руку, он сидел на земле, привалясь спиной к колесу санитарной летучки. Китель накинут на одно плечо. Здоровой левой рукой он бережно поддерживал правую, забинтованную почти до плеча.
— Как себя чувствуете? — спросил я его.
— Неважно, — глухо ответил начальник штаба. — Потерял много крови. Вы теперь, Алексей Иванович, остались старшим по должности.
— А где же Подмосковное и Кузнецов? — поинтересовался я.
— Они уехали вместе со Штейном. Так что берите командование на себя. Не давайте возможности противнику захватить дорогу и ворваться в наше расположение. Любой ценой спасите Боевое Знамя бригады. Свяжитесь со штабом корпуса и попросите у них помощи. Идите… — И Дуборг утомленно закрыл глаза.
Я потихоньку отошел от него, раздумывая, с чего начать? Ко мне подошел наш бригадный военврач.
— Товарищ майор, надо срочно эвакуировать в Олонец тяжелораненых.
— А как Дуборг?
— Ранение средней тяжести, но сильно ослаб из-за потери крови. Его надо бы тоже отправить в армейский госпиталь.
— А до утра это дело не терпит? Видите, что творится! Боюсь, что финны где-то перерезали дорогу… Так что прошу сделать все возможное для раненых. Утром при первой возможности эвакуируем их.
Теперь надо было решить вопрос о Боевом Знамени бригады. Я знал, что во время наших переездов оно находилось под охраной вместе со спецчастью, начальником которой был лейтенант Гончаров, человек уже немолодой, умеющий сохранять спокойствие в любых обстоятельствах.
Гончарова я нашел около автомобиля спецчасти. Он невозмутимо курил толстую «козью ножку».
— Где наше знамя?
Гончаров молча расстегнул поясной ремень и приподнял гимнастерку. Под ней алел бархат знамени.
— Не бойтесь, товарищ майор, — сказал Гончаров, снова застегивая ремень, — финнам нашего знамени не видать. В случае чего, попытаюсь вплавь через озеро добраться до штаба корпуса. Я ведь вырос на Азове, неплохо плаваю. В общем, знамя со мной.
Я понял, что этому человеку можно верить, и молча пожал ему руку.
Гончаров остался у машины, а я поспешил к дороге, на которой вновь началась перестрелка.
— Товарищ майор, — обратился ко мне офицер 2-го отделения штаба бригады капитан М. В. Ченакин, — на передке кончаются боеприпасы. Уже вычистили подсумки и диски у убитых и раненых.
— А где майор Филатов? — Он ведал в бригаде всем нашим боеснабжением.
— Вот майор Филатов, — раздался где-то рядом его голос, и он сам возник из-за одной из штабных автомашин.
— Николай Васильевич, дорогой, что у тебя есть из боеприпасов? Ты успел что-нибудь захватить?
— Успел, Алексей Иванович, как душа чуяла. Боеприпасы я уже отправил в цепь. — И он показал на дорогу. — И еще туда послал с десяток автоматов из своего резерва.
— Hy молодец! — не удержался я от неуставной похвалы. — Ченакин! — крикнул я в темноту. — Возвращайся, патроны у всех будут.
— Есть! — раздалось в ответ.
Мне, однако, не давали покоя два вопроса: как связаться со штабом корпуса и что происходит у огнеметчиков, в районе расположения которых все время шла перестрелка? Впрочем, раз там стреляют, значит, огнеметчики держатся.
Начинало светать. Луна потускнела, и без того редкие тени утратили свои контуры, от озера наплывал туман.
Мелькнула тревожная мысль, что именно на рассвете противник попытается предпринять решительную атаку, чтобы разделаться с нами.
И как бы в подтверждение моей тревоги в нашем расположении одна за другой с характерным звуком начали рваться мины, затем со стороны дороги раздались крики, заглушенные шквалом выстрелов. Я поспешил туда. Пели пули, срубая ветви или глухо ударяясь в стволы деревьев.
Вот и дорога. Из леса к ней выдвигалась вражеская цепь. Темные фигурки финских солдат двигались в нашу сторону, на ходу строча из автоматов.
Но что-то в их приближении было не так. Что-то сковывало их движения. И тут я догадался: болото! Поляна, которая нам отсюда — да, видимо, и им сначала — казалась ровной и сухой, ибо была густо укутана высокой травой, на самом деле представляла собой кочковатое болото. Хорошо, что мы не сунулись туда со своими машинами… Да, на нем не разбежишься, хотя сзади подхлестывают резкие выкрики команд. Финны падали, цеплялись за кусты, помогали друг другу выбраться из трясины. Малоподвижная, их цепь стала прекрасной мишенью для наших пулеметчиков: многие, падая, уже не поднимались. Не одолев и половины пути, атакующие стали пятиться назад и вскоре скрылись за стволами деревьев. Миномет, бивший с их стороны, замолчал. Мы тоже прекратили стрельбу. На болоте остались лишь финские санитары, которые оказывали помощь раненым.
— Все! — удовлетворенно произнес лежавший рядом со мной боец из разведроты. — Больше, наверное, не полезут. Уже утро.
Я поднял голову. Действительно, исчезла та серая дымка, которую и темнотой назвать нельзя, а высокие вершины сосен заметно порозовели от разгоравшегося за лесом утра.
«Теперь, пожалуй, можно побывать и у огнеметчиков», — подумал я, поднимаясь с земли и закидывая за плечо автомат. Но в это время со стороны Олонца послышался шум мотора, и на дороге показался «виллис». «Слава богу, комбриг», — мелькнула радостная мысль. «Виллис» вильнул в сторону наших штабных машин и остановился. Я поспешил к нему. Штейн уже выбрался из машины и, как мне показалось, несколько растерянно осматривал все вокруг.
— Что здесь происходит?
Я сжато, как только мог, обрисовал ему обстановку.
— А со штабом Девяносто девятого корпуса связались?
— К сожалению, такой возможности не было…
— Но дорога-то свободна, — удивился Штейн. — Я же проехал.
— Видимо, противник отошел в лес, не сумев опрокинуть ни нас, ни огнеметчиков. А заминировать либо просто не успел, либо нечем было.
— Может быть, — согласился комбриг. — А где начальник штаба?
— Ранен.
— Какие потери?
— Убиты Нежурин, Царев, погибли четверо у Муравского, из них три девушки, имеются убитые и в моторазведвзводе. Более десятка раненых, из них четверо — тяжело. Военврач еще ночью требовал их отправки в армейский госпиталь.
— Хорошо, сейчас прикажу отправить их на санитарной летучке. А вы, майор, берите пару бойцов из моторазведроты и на моем «виллисе» немедленно двигайте в штаб корпуса за подмогой.
— Товарищ полковник, вы один проскочили, и я проскочу. Людей лучше оставить для охраны санитарной летучки.
— Согласен. Но офицера-штабника возьмите обязательно: кто-нибудь из вас двоих должен до штаба корпуса добраться. Возьмите, например, капитана Попова.
Через пять минут я и капитан Ф. Ф. Попов на комбриговском «виллисе» мчались в сторону Олонца. В душе каждый ожидал, что из леса, молчаливо стоявшего стеной по обеим сторонам дороги, вот-вот ударит автоматная очередь, и водитель до отказа давил на газ, выжимая из своего американского друга все, на что тот был способен. Минут через тридцать бешеной гонки радиатор машины уперся в шлагбаум.
— Приехали, — сказал водитель, до того не проронивший ни слова.
Вышедший из будки дежурный офицер, узнав, откуда и кто мы, приказал водителю:
— Машину вон к тем кустам, а вы, — обратился он к нам, — за мной.
Несмотря на раннее утро, штабной народ толпился тут и там, большинство с автоматами в руках.
— Всю ночь где-то за озером шел бой, — сказал наш провожающий, — вот мы и приготовились.
— Мы вели этот бой, — ответил я.
Командир корпуса сидел на берегу озера в накинутой на плечи кавказской бурке и рассматривал лежавшую на коленях карту. Поодаль сидели на траве и о чем-то вполголоса спорили между собой три офицера. Я представился генералу и коротко доложил о ночных событиях.
— Почему же вы молчали столько времени? — удивился генерал. — То-то мы слышим бой, да не можем понять, кто с кем дерется. Почему не наладили связь?
Я рассказал, как все произошло.
— Значит, здорово досталось?
— Есть убитые и раненые.
— Хорошо, хоть сами не попали в плен, — сказал подошедший полковник, как оказалось, начальник штаба.
Представив меня, генерал обратился к нему:
— Чем мы можем помочь саперам? У нас в тылу оказался весьма крупный диверсионный отряд противника, пока с неясной для нас задачей, и с ходу наскочил на их штаб, — и он кивнул в мою сторону. — Те, молодцы, пока держатся. Но силенок у них маловато. — Он помолчал. — Эта банда может нам здорово напакостить, и ее надо немедленно задавить. Что у нас сейчас под рукой?
Полковник назвал несколько частей и добавил:
— От вашего имени я отдал приказ немедленно направить сюда один полнокровный батальон из резерва.
Саперам можно сейчас выделить пару тридцатьчетверок и взвод пулеметного батальона. Думаю, что с этим подкреплением они отобьются. А мы не позволим диверсантам пробиться к своим.
— Добро! — сказал генерал. — Но вызовите еще «илы», пусть как следует обработают лесной массив, где сейчас сосредоточилась неприятельская группа.
Примерно через полчаса мы во главе колонны, состоявшей из двух танков Т-34 и двух грузовиков, в кузове которых сидели бойцы пулеметного батальона со станковыми пулеметами, появились в расположении нашего штаба.
— Кажется, подкрепление уже не потребуется, — сказал капитан Попов.
Действительно, кругом тихо. Судя по всему, противник отступил. Тем не менее танкисты и пулеметчики обстреляли лес, а звено «илов» проутюжило его сверху, бомбя и обстреливая ракетами и из пулеметов.
Днем на берегу озера Суоярви мы похоронили наших солдат и офицеров, погибших в этом неожиданном ночном бою.
Для нас он оказался здесь последним.
Поражение финской армии вынудило правительство Финляндии поторопиться с принятием решения о выходе из войны. 25 августа Финляндия обратилась с просьбой начать переговоры о мире, а 19 сентября в Москве было подписано соглашение о перемирии. Умолк грохот пушек и на Карельском перешейке, между Ладожским и Онежским озерами. И однажды утром вдруг наступила неожиданная тишина. Даже не верилось, что никто больше не будет стрелять. Молчали финны, молчали и наши.
Глава седьмая ОТ КИРКЕНЕСА ДО БЫДГОЩА
После заключения перемирия с Финляндией 13 я инженерно-саперная штурмовая бригада была придана 14-й армии, которой командовал генерал-лейтенант В. И. Щербаков.
Финские войска в соответствии с договором о перемирии к сентябрю отошли на участке от Ухты до Ладожского озера за линию государственной границы. Опасаясь выхода советских войск в тыл 20-й горной армии с юга, немецкое командование начало отводить свои подразделения с Кандалакшского и ухтинского направлений в северные районы Финляндии. Но на мурманском направлении противник прочно удерживал занимаемые рубежи, придавая большое значение районам Петсамо и Киркенеса. Здесь добывались никель и медь, необходимые для германской промышленности, и находились незамерзающие порты Баренцева моря, где базировались гитлеровские военные суда. На этом участке линия фронта оставалась неизменной с сентября 1941 года. Здесь, в условиях труднопроходимой горно-лесистой и болотистой местности, за три года фашисты создали мощную трехполосную оборону глубиной до 150 километров. Наша 14-я армия при поддержке кораблей Северного флота и авиации должна была окружить и уничтожить главные силы противника.
7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция, в которой наша бригада участвовала совместно с 99-м и 131-м стрелковыми корпусами.
Инженерным войскам предстояло не только в составе штурмовых групп прорвать оборону противника, но и обезвредить тысячи различных мин, взрывных устройств, построить десятки мостов через многочисленные реки, восстановить старые и проложить новые участки дорог в трудных горных условиях. И все это — в самые сжатые сроки, да еще коварной полярной осенью.
В боевые порядки 99-го и 131-го стрелковых корпусов от бригады были выделены два штурмовых батальона и два взвода ранцевых огнеметов. Остальные батальоны состояли в резерве армии. После артиллерийской подготовки пехота, с которой взаимодействовали наша подразделения, прорвав главную полосу обороны противника, с ходу форсировала реку Титовку и захватила плацдармы на ее западном берегу. К исходу третьего дня, несмотря на ожесточенное сопротивление гитлеровцев, войска 14-й армии полностью прорвали их оборону на направлении главного удара и создали условия для наступления на Петсамо (Печенгу) и Луостари.
Наши саперы участвовали в штурме двух узлов обороны противника, значившихся тогда на военных картах как Большой и Малый Кариквайвиши. На этот раз они действовали гораздо успешнее, чем летом 1943 года под Ленинградом, так как, учтя печальный опыт, в штурмовые группы помимо саперов включили пехоту, пушки, минометы и даже по два-три танка. И эффект от их действия оказался совершенно иным: каждая штурмовая группа полностью выполнила боевую задачу с минимальными потерями. Иными словами, опыт рождался в боях.
Наступление 14-й армии продолжало успешно развиваться. 15 октября во взаимодействии с силами Северного флота был освобожден город Петсамо (Печенга), а 25 октября соединения 131-го и 99-го стрелковых корпусов, сломив упорное сопротивление противника на промежуточных рубежах, заняли город и порт Киркенес — главную базу снабжения 20-й армии гитлеровцев. В этих боях участвовало два батальона морской пехоты. К концу октября наши войска завершили Петсамо-Киркенесскую операцию, закрепившись на рубеже севернее Найдена и юго-западнее Наутси.
В приказе Верховного Главнокомандующего от 1 ноября 1944 года указывалось: «Войска Карельского фронта во взаимодействии с соединениями и кораблями Северного флота, наступая в трудных условиях Заполярья, сегодня, 1 ноября, завершили полное освобождение Печенгской области от немецких захватчиков». Труден был путь до Киркенеса. Саперы восстанавливали взорванные отходящим противником мосты через многочисленные реки, приспосабливали для движения разрушенные участки дорог на крутых откосах гор и на болотах, освобождали от мин дороги и тропинки, которые в этих условиях приобретали тоже серьезное значение. Все было подчинено главной задаче ни на один час, ни на одну минуту не задержать наступления. Офицеры штаба бригады почти постоянно находились в батальонах.
Особую сложность представляло сооружение мостов. Прежде всего — где раздобыть нужный материал? Для временного моста лучшего строительного материала, чем дерево, не найти, но попробуйте раздобыть его в тундре! И все же мы находили выход из положения. Разбирали освободившиеся после нашего наступления землянки и прочие времянки, искали стволы деревьев по берегам рек, обшаривали всякие закоулки, где, по нашим предположениям, могло иметься хотя бы одно бревнышко. И, как ни странно, находили, и мосты делали в срок, хотя и весьма неказистые на вид.
Как же много значат на войне смекалка и находчивость! Сколько бы авторских свидетельств можно было бы, по нынешним меркам, выдать бойцам, сержантам, офицерам за рационализаторские предложения, а порой и изобретения!..
Штаб бригады разместился на окраине Киркенеса, где не оставалось целым, пожалуй, ни одного здания — настолько пострадал он за время войны. К тому же, уходя, фашисты довершили разрушение города, уничтожив все пригодные для жилья строения. Немногочисленные оставшиеся в живых жители ютились в наспех сколоченных бараках, землянках и даже в пещерах. Не хватало продовольствия, топлива, одежды. Наше армейское командование, а также советские и партийные органы Мурманска приняли ряд мер по снабжению населения северных районов Норвегии продовольствием, хотя никаких излишков и сами не имели. Помогли норвежцам и саперы, очистив от мин город и прилегающую территорию. Одному из наших батальонов довелось принять участие в восстановлении электростанции. И наши солдаты искренне радовались, когда загорелись электрические лампочки.
Другой батальон участвовал в возведении временного наплавного моста через широкий Яр-фьорд и восстановлении взорванного немцами подвесного моста для пешеходов. Там, где фашисты разрушали, мы строили. То, что гитлеровцы намеревались взорвать, мы разминировали. Тех, кого они морили голодом, мы накормили. Я не знаю ни одного случая, чтобы городские власти или жители пожаловались на кого-нибудь из советских воинов.
Как дань глубокой признательности советскому народу и его армии за освобождение от гитлеровцев в Киркенесе воздвигнут памятник советским воинам, погибшим при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских оккупантов.
В конце ноября 1944 года бригада возвратилась на территорию СССР Штаб бригады с 64-м батальоном и мелкими подразделениями расположился в поселке Кильдинстрой, что под Мурманском, а остальные батальоны — в разных населенных пунктах и бывших военных городках, многие из которых состояли сплошь из землянок. Здесь когда-то размещались армейские резервы и различные тыловые учреждения.
Как и прежде, в перерывах между боями развернулась боевая учеба личного состава.
Хотя война явно подходила к концу, новый командир бригады полковник И. М. Гурьев, сменивший С. Л. Штейна после той печальной ночи под Лоймолой, когда штаб бригады едва уцелел от разгрома, приказал организовать учебу без всяких скидок на близящийся конец войны и сложные погодные условия.
Вернувшийся в бригаду после излечения в госпитале А. А. Дуборг был того же мнения, и мы с начальником второго отделения штаба капитаном Ю. Н. Глазуновым, прекрасным специалистом, бывшим уже тогда кандидатом технических наук, сменившим на этой должности капитана Ф. Ф. Попова, засели за составление планов учебы.
Главным для нас было учесть полученный опыт и подготовить подразделения, особенно новое пополнение, к предстоящим боям. Вместе с тем мы подумали и о специализации наших батальонов. Так, основываясь на уже приобретенном боевом опыте, решили проводить боевую подготовку дифференцированно: с 61-м батальоном — по переправам, с 62-м — по инженерному сопровождению танков, с 63-м — по строительству мостов, с 64-м и 65-м — по штурмовым действиям. Подобная практика позволяла максимально сократить время на подготовку к новым боям.
В батальонах прошли собрания о задачах коммунистов и комсомольцев по изучению опыта сражений в Заполярье. Командование, политотдел, партийные организации прежде всего позаботились о повышении технических знаний офицерского состава и особой его ответственности за высокое качество проводимых занятий.
На служебных совещаниях были поставлены конкретные задачи по изучению этого опыта, после чего организованы специальные методические занятия с офицерами и отдельно с сержантами. Политработники организовали обмен опытом передовиков, широко освещали ход изучения военной техники в боевых листках, обсуждали на собраниях личного состава.
Важное значение в партийно-политической работе придавалось распространению боевого опыта, накопленного в инженерных войсках. Для этого также использовались самые разнообразные формы работы — от лекций и бесед о боевых возможностях инженерной техники до встреч с саперами — героями боев, до партийных и комсомольских собраний, на которых обсуждались пути овладения наиболее эффективными приемами и способами выполнения инженерных задач.
Важную работу вели агитаторы. Они, как всегда, помогали командирам и политработникам воспитывать у личного состава чувство советского патриотизма и жгучую ненависть к фашизму, мужество в бою и волю к победе. Мы старались, чтобы агитаторы были в каждом взводе и чтобы с ними регулярно проводились инструктажи.
Здесь надо сказать, что направленность партийно-политической работы с личным составом всегда определялась общей обстановкой на фронтах. Если в оборонительных боях первого периода войны командиры, политработники, партийные и комсомольские активисты главное внимание сосредоточивали на воспитании воинов в духе непреклонной стойкости в бою при защите занимаемых рубежей, то в наступательных операциях упор делался на воспитание боевой активности, наступательного порыва. Теперь же, после перенесения военных действий за рубежи нашей Родины, большое внимание уделялось разъяснению великой освободительной миссии Советских Вооруженных Сил, интернациональному воспитанию воинов и повышению бдительности.
В начале февраля 1945 года мне пришлось отправиться в штаб инженерных войск Карельского фронта, который после заключенного перемирия с Финляндией находился в Ярославле, на десятидневные сборы по обмену опытом боевой работы оперативных отделений штабов инженерных соединений.
На сборы собралось человек пятнадцать. На первом же занятии получили наказ: никому, кроме своих прямых начальников, не рассказывать о проделанной на сборах работе, ибо она носит секретный характер.
В перерыв в курилке оживленно обсуждали это предупреждение. На войне вообще все требует секретности, и подготовка к любой операции проводится в строжайшей тайне, так чего нас об этом предупреждать?
— Будем брать Берлин, — высказывали предположение одни.
— Чего же здесь секретного? — возражали другие.
— А вы обратили внимание, что на картах, которые нам раздали, местность пустынно-гористая? — замечали третьи.
Сошлись в мнении, что придется отправляться на восток. Но — когда?
Более недели мы, пользуясь странными картами, на которых значились явно выдуманные названия рек, гор и населенных пунктов, по всем правилам составляли расчеты-заявки на необходимое количество вагонов и платформ для переброски бригад со всем их имуществом и техникой, допустим, из-под Мурманска до пунктов, указанных на картах.
Когда кто-то из нас, видимо шутки ради, вместо условного населенного пункта написал на своей карте «Харбин», представитель штаба фронта, собрав всех, сказал:
— Не занимайтесь сопоставлением наших карт с подлинными географическими. Мы же предупреждали вас, что районы, изображенные на учебных картах, может быть, вообще не существуют в природе и не стоит их привязывать к конкретной местности.
Около недели мы старательно отрабатывали все необходимые документы.
Руководители сборов не допускали никаких условностей и неточностей. Все должно было быть так, как на самом деле. Мне даже пришлось несколько раз по военному телеграфу запрашивать в штабе бригады нужные сведения. Наконец работа была закончена, принята штабом фронта, и я возвратился в бригаду. После моего подробного доклада комбриг и начальник штаба многозначительно переглянулись.
— Ну, Иван Митрофанович, — полушутя-полусерьезно сказал начальник штаба, обращаясь к полковнику Гурьеву, — не пришлось бы нам в скором времени танцевать вальс «На сопках Маньчжурии».
— Пожалуй, — согласился командир бригады, — хотя там и своих танцоров хватает. В общем, поживем — увидим… В любом случае — Фомин был в Ярославле на разборе последней операции Четырнадцатой армии. И все.
Однако события развивались не так, как мы предполагали. В начале апреля бригаду передали в оперативное подчинение 2-го Белорусского фронта, которым тогда командовал Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Местом дислокации был определен польский город Быдгощ. Немцы именовали его Бромбергом. Всего за двое суток из зимы, стоявшей под Мурманском, мы оказались в крае, где буйствовала весна. Ярко-зеленая трава, цветущие сады, птичий гомон и соловьиные соло — все это после северного белого безмолвия казалось каким-то чудом, волшебством.
Если прибавить сюда задорные улыбки польских девчат, которыми они одаривали нас при встречах на улицах почти не пострадавшего от войны города, то, откровенно говоря, очень трудно было бороться с ощущением возврата к мирной жизни. Естественно, это несколько расхолаживало людей, снижало бдительность. Неохотно занимались надоевшей боевой учебой: сколько можно?
— Быстрее бы на фронт, — высказывались командиры рот и батальонов, — а то, пока мы тут прохлаждаемся, война кончится…
Все завидовали батальону ранцевых огнеметов и батальону амфибий — его вместе с четырьмя десятками американских машин бригада получила еще под Мурманском, — которым в этот период довелось участвовать в боевых действиях — огнеметчикам при штурме укрепленного пункта в районе Грауденца (Грудзендза), а подразделению амфибий — при форсировании Одера под Штеттином. Надо отдать должное американской технике: машины, по отзывам экипажей, показали себя хорошо в боевой и эксплуатационной обстановке.
В основном же, находясь в Быдгоще, бригада занималась боевой подготовкой и несла охрану отведенных ей участков города и ведущих к нему дорог. Боевики из так называемой Армии Крайовой, подчинявшейся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне, совершали в городе и на дорогах диверсии, нападали на мелкие подразделения и отдельных наших и польских военнослужащих, убивали местных активистов, выступавших за прочный союз с СССР. В самом Быдгоще бандиты решили помешать проведению первомайского митинга. Впрочем, польские власти предполагали, что возможна бандитская вылазка, поэтому накануне праздника в штаб бригады прибыл военный комендант города, полковник Войска Польского, хорошо говоривший по-русски. Он просил, чтобы в праздничных мероприятиях принял участие и личный состав нашей бригады.
— Одно ваше присутствие удержит контрреволюционную нечисть от провокаций.
Мы согласились совместно отпраздновать 1 Мая, однако полученное предупреждение о возможных провокациях игнорировать не могли и решили: вывести личный состав с оружием и боевыми патронами, не вникая при этом, разумеется, в дела польской милиции.
С раннего утра по улицам города к стадиону, где должен был состояться митинг, потянулись колонны демонстрантов. Ласково грело солнце. Люди приоделись по-праздничному, на лицах были улыбки, звучали веселые песни. Разноцветными майками выделялись в толпе демонстрантов ребятишки.
Часам к одиннадцати колонны демонстрантов втянулись на стадион, расцвеченный флагами, лозунгами и транспарантами. Праздничная толпа широким кольцом окружила трибуну, возвышавшуюся в центре футбольного поля. Ребятишек, как водится, пропустили вперед, поближе к трибуне, на которой находились представители политических партий, органов городского самоуправления и несколько польских и советских офицеров, в том числе наш комбриг полковник И. М. Гурьев и начальник политотдела полковник П. Г. Подмосковнов.
После официального открытия митинга бригадный оркестр заиграл «Интернационал». Мы замерли в строю, а стоявшие на трибуне и вокруг нее — я имею в виду мужчин — сняли головные уборы. Но вдруг какое-то непонятное волнение произошло около трибуны. Оркестр продолжал играть, но теперь в мелодию вплелись звуки какие-то новые, непонятные, отрывистые. Вдруг оркестр резко смолк, только одинокая труба еще протянула несколько нот, и тут до нас донеслись те, непонятные, другие звуки — выстрелы и крики людей. А над стадионом зазвучал твердый голос польского военного коменданта. Говорил он на польском, но мы, уже попривыкшие, понимали его почти дословно:
— Товарищи, по митингу стреляют замаскировавшиеся враги польского и советского народов, стремясь помешать нам отпраздновать Международный день солидарности трудящихся. Среди участников митинга имеются жертвы этого злодеяния. Мы принимаем меры к поимке преступников. Но чтобы число жертв не росло, митинг решено закрыть. Прошу всех разойтись. А вас, товарищи советские воины, прошу помочь в задержании бандитов.
По команде полковника Дуборга наши бойцы оцепили прилегающие городские кварталы. Неизвестно по каким причинам, но вокруг стадиона оказалось множество пустующих домов. Из их окон и чердаков велась стрельба по безоружным людям, по детям. Увы, мерзавцы, воспользовавшись минутами общей растерянности, успели скрыться. На месте преступления остались лишь стреляные гильзы.
…Война подошла к своему логичному концу. 2 мая пал Берлин. Соединения 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов встретились на Эльбе с американскими частями, а войска 2-го Белорусского фронта, выйдя на линию Висмар, Шверин, Демиц, Виттенберг, — с английскими.
8 мая радиостанции западных стран передали в эфир сообщение о том, что подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Оно было принято и нашей радиостанцией, однако никаких официальных подтверждений этому мы не получали. В это время начальник штаба бригады полковник А. А. Дуборг по служебным делам уехал в Москву, и на меня временно возложили выполнение его обязанностей. Поздно вечером 8 мая начальник связи бригады майор Муравский доложил, что получено распоряжение из штаба фронта переключить все войсковые радиостанции на прием и ждать особо важного сообщения.
— Конец войне! — радостно закончил он.
Похоже, он был прав.
— Будите связиста, — приказал я, — и, если телеграмма окажется большой, приносите ее по частям.
Не более чем через час наш бригадный связист принес мне первую часть телеграммы, на которой значилось: «Срочно. Секретно. Для немедленного исполнения». Текст адресовался всем командующим армиями, командирам отдельных соединений, частей и подразделений фронтового подчинения и гласил, что 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте представителями германского верховного командования подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Далее говорилось о том, что война, развязанная четыре года назад фашистским руководством немецкого государства, закончилась полной победой Советского Союза и его союзников, и шли поздравления с великой исторической победой. В приказной части определялись задачи войск на первые послевоенные дни.
Я вместе со связистом сразу же направился к командиру бригады. Он жил на частной квартире в польской семье. В большой комнате, видимо гостиной, нас встретил адъютант старший лейтенант Саральпов.
— Будить полковника? — спросил он.
Но Гурьев, застегивая на ходу пуговицы кителя, ужо сам входил в гостиную.
Иван Митрофанович взял текст телеграммы и быстро пробежал глазами.
— Наконец-то, — широко улыбнулся он. — Срочно собрать всех командиров частей и офицеров штаба. И постарайтесь, Алексей Иванович, к тому моменту, когда они соберутся, оформить приказ по бригаде о поведении личного состава в мирное время. Успеете к пяти?
Я взглянул на часы, было уже половина четвертого утра.
— Постараюсь.
— Тогда действуйте, не теряя времени.
Отдав приказание дежурному собрать всех, кого указал командир бригады, сел за машинку и сам начал печатать проект приказа о поведении личного состава в первые дни наступившего мира, текст которого был мной еще накануне подготовлен и согласован как с командиром бригады, так и с начальником политотдела полковником П. Г. Подмосковновым. Основная мысль была такова: бдительности не терять, боевую готовность поддерживать на должном уровне.
Совещание руководящего состава бригады началось точно в назначенное время: в 5 часов утра 9 мая. Тогда мы еще не знали, что отныне этот день навечно войдет в историю как День Победы — всенародный праздник в нашей стране. После официальной части в гостиной накрыли стол. Слово взял командир бригады. Я до сих пор помню, что он тогда сказал.
— Товарищи офицеры! — И мы все как по команде поднялись. — Товарищи офицеры! — повторил комбриг, выждав, когда утихнет шум от отодвигаемых стульев. — Я поздравляю всех вас с Великой Победой, достойной великого народа и великой партии, которая им руководила все эти неимоверно трудные годы войны и лишений. Только такой народ, только такая партия могли выдержать эти испытания огнем и железом. И не только выдержать, но и победить вооруженного самым современным оружием и самой разбойничьей идеологией врага и отстоять свободу и независимость…
Разбуженные шумом, прибежали хозяева-поляки. Гурьев пригласил их за стол.
— Победа! — громко провозгласил он. — Наша и ваша победа!
— Слава Иисусу Христу и деве Марии! — не стесняясь, как-то странно, не по-нашему, перекрестился поляк и громко добавил: — Слава Красной Армии!
Несмотря на раннее утро, улицы Быдгоща были запружены народом. Гремела музыка, звенели веселые песни, трещали выстрелы, взлетали в небо ракеты. Люди смеялись, обнимались, целовались.
К нашим воинам тянулись десятки дружеских рук, какие со снедью, а какие — чего греха таить — и со стаканом крепчайшего польского самогона. Плясуны втягивали солдат в свой круг, а чаще всего просто качали их под радостные крики «ура».
Около 600 тысяч советских воинов отдали жизнь в боях за освобождение Польши, и поляки теперь как могли выражали чувства благодарности к своим освободителям от кровавого фашистского режима.
…В середине мая мне с товарищами довелось побывать в Берлине. Не скрою, очень хотелось взглянуть на столицу третьего рейха, откуда на мир, и прежде всего на нашу Родину, обрушилось столько бед и несчастий и которая теперь сама испытала их в полной мере. Но нами руководило не мстительное чувство победителя, желающего лицезреть поверженного врага, а обычное любопытство: каков он — Берлин? И еще втайне надеялись оставить свои автографы на рейхстаге. Чем мы хуже других?
Город тогда еще не делили на зоны, и в нем по нраву была одна-единственная военная комендатура — советская. И комендатура эта под руководством первого коменданта генерала Н. Э. Берзарина уже делала самое главное — то, что она делала бы в Киеве или Минске, Курске или Харькове, — налаживала нормальную городскую жизнь. Жители и военнопленные расчищали бесчисленные завалы, предпринимались меры по восстановлению транспорта, связи, медицинского обслуживания. Однако наипервейшим, не терпящим отлагательства делом было накормить людей. И в городе на перекрестках и площадях дымили наши походные полевые кухни, около которых в очередях стояли женщины, старики и дети, и наши веселые повара раздавали им щи и кашу.
Может, нам тогда только так показалось, но Берлин предстал перед нами в сплошных руинах, особенно центральная часть. По многим улицам не только не проехать, просто не пробраться, так они были загромождены развалинами домов. Кое-где еще дымились очаги угасающих пожаров, с которыми энергично боролись наши воины.
Рейхстаг, исклеванный снарядами, пулями, осколками и разукрашенный копотью пожара, произвел мрачное впечатление будто огромный кусок доменного шлака. Внутри его облупленные стены сплошь исписаны. Это были автографы победителей. С трудом в одной из комнат мы нашли свободный кусочек стены и также оставили на ней росчерки своих фамилий. Покидая район рейхстага, невольно оглянулись. Красное знамя, трепетавшее от ветра на его куполе, как бы озаряло своим светом весь этот грязно-черный хаос беспорядочных нагромождений.
В имперской канцелярии мы ходили по кипам каких-то бумаг, каждая была не так давно, видимо, важным для врага документом, а теперь стала просто мусором. Отовсюду — со стен, с обложек книг, с орденов и медалей (они почему-то навалом лежали на столах) — назойливо лезла в глаза свастика. Гитлеровцы лепили ее всюду, где только можно: на карнизные внутрикомнатные пояски, на капители колонн, на потолочные плафоны. В ряде комнат даже паркет выстилали так, что темными вставками выделялась свастика. В комнате, которую занимал Гитлер, каждый из нас, не отдавая себе ясного отчета, для чего он это делает, запихнул в карман по паре хрустальных подвесок от люстр. Я привез свои в Москву, но недолго они хранились: сыновья обменяли их на что-то, с их точки зрения более интересное.
Если посещение Берлина нами планировалось, то встреча с союзниками, произошедшая на обратном пути, оказалась полной неожиданностью.
Мы едва отъехали от Берлина километров пятьдесят, как у нашего безотказного «виллиса» вдруг закапризничал мотор. Водитель свернул на обочину, поднял капот и начал копаться в двигателе. Но по тому, как он ругал «этих чертовых американцев, наворотивших в моторе неизвестно что», мы поняли, что скорее всего придется искать попутку. Тем более что уже смеркалось и ночевать на дороге никому не хотелось. Вдруг показался точно такой же «виллис», как и наш. Ивченко поднял руку, и машина, поравнявшись с нами, резко затормозила и свернула на обочину, встав впереди нашей. В ней сидели три человека в незнакомой военной форме. Это были американцы.
Дверцы «виллиса» распахнулись, и к нам подошел, судя по знакам на погонах, офицер. Впрочем, кто еще мог сидеть в хозяйской позе рядом с водителем? Сам водитель и двое солдат — один чернокожий — с автоматами оставались в машине. Подошедший что-то произнес по-английски, возможно приветствие, и, не дожидаясь ответа, довольно бесцеремонно отстранил от машины нашего шофера и сам заглянул в мотор. Присвистнув, покопался в нем несколько минут, выпрямился и захлопнул капот, молча влез в кабину, нажал стартер. Двигатель заработал.
— О’кэй, — засмеялся американец и хлопнул нашего шофера по спине. — Ка-ра-шо! — вдруг добавил он по-русски.
Я, желая как-то отблагодарить союзника за помощь, протянул ему раскрытый портсигар с папиросами «Беломорканал», которыми снабжало офицерский состав наше интендантство.
— О-о-о! — удивленно произнес американец и, осторожно, словно взрывчатку, извлекши одну папиросу, стал ее внимательно рассматривать.
Мне показалось, что он не понимает назначения папиросы, и с целью облегчить союзнику изучение столь дивного предмета я достал зажигалку и щелкнул ею, предлагая прикурить. Тут уж любой курильщик понял бы этот жест. Понял его и американец.
— О’кэй! — снова засмеялся он, сунул папиросу в рот и прикурил. Но то ли наш «Беломор» для его изнеженных легких оказался крепковат, то ли он для первого раза затянулся слишком глубоко, только зашелся союзник кашлем, да таким сильным, что в сердцах бросил папиросу на дорогу.
Передохнув и отдышавшись, открыл пачку своих сигарет и, достав одну из них, снова прикурил от моей зажигалки, затем преспокойно сунул пачку обратно в один из своих многочисленных карманов. Так и не удалось нам тогда отведать американского табачка. Пришлось доставать снова свой «Беломор». И тут американец обратил внимание на портсигар, еще под Мурманском подаренный мне кем-то из солдат. Надо отдать должное фронтовому умельцу: сработал он его мастерски. Крышку украшала гравировка: участок Кремлевской стены со Спасской башней, над которой алела красная звезда и развевалось знамя. На знамени — профиль Сталина.
— О-о! Сталин! — уважительно воскликнул американец и что-то быстро начал говорить.
Я пожал плечами. К сожалению, в академии мы учили только немецкий. Тогда американец выхватил у меня портсигар, поспешно запустил руку в карман брюк и извлек оттуда часы на тонкой металлической цепочке. Не спрашивая моего согласия, вложил часы в мою руку, давая понять, что сделка завершена. Свободной рукой похлопал меня по плечу и со словами «рашен», «ка-ра-шо», «бизнес» направился к своей машине. Признаться, нас несколько обескуражил тот бесцеремонный натиск, которому мы подверглись со стороны союзника в майорских погонах.
— М-да, — как-то неопределенно-насмешливо промычал наш политотдельский инструктор капитан Ивченко, подкрепляя свое недоумение исконно русским жестом — запустил пятерню в затылок, отчего фуражка наехала на глаза. — Вот они какие — союзнички. Не успел увидеть — рашен бизнес, рашен бизнес. — Он так умело и интонацией, и мимикой передразнил американца, что мы расхохотались. — Надо было бы ему объяснить, что обмен сувенирами и бизнес — разные вещи. А впрочем, может, для них и вся эта война — своего рода большой бизнес. Как ты думаешь, Фомин?
Оставшуюся часть пути мы оживленно обсуждали, искренними ли союзниками являются американцы и как долго это союзничество продлится.
— Разойдутся после войны наши пути-дорожки, помяните мое слово, — горячился Ивченко.
Мы соглашались, ибо интуитивно чувствовали — но очень-то нас, советских, жалует «дядя Сэм». На эту мысль наводило многое, особенно бесконечное затягивание с открытием второго фронта. Разумеется, мы не знали тогда всей сложности внутриполитической обстановки в США. На президента Рузвельта в «русском вопросе» оказывалось весьма сильное давление, его постоянно толкали на проведение по отношению к нам жесткой линии, а то и на разрыв отношений. В этом же направлении подвергалось постоянному прессингу американское общественное мнение. Отвечая на поставленный советником президента Сэмом Розенманом вопрос о том, к кому прислушивается большинство американцев — к сторонникам углубления советско-американского военного сотрудничества или к их критикам, Джозеф Дэвис, бывший посол США в СССР, в своем письме от 29 июля 1943 г. высказался так: «…суть дела в том, что пестрая банда, куда входят те, кто всегда был против Рузвельта, а также крайние реакционеры и (что довольно-таки странно) некоторые леваки, столковавшись друг с другом после того, как опасность уменьшилась, вышли из своего укрытия, сплотились и обрели отвагу. И вся эта свора подняла дикий визг. Настали собачьи времена. Мы накануне острых политических боев».
Усиление консервативных настроений в политической жизни США тревожило многих как внутри страны, так и за ее пределами, в первую очередь, естественно, руководство Советского Союза. Дело дошло до того, что наиболее горячие головы в США настаивали на ультимативном тоне в переговорах с СССР, а генерал Дж. Маршалл в меморандуме для президента в марте 1944 г. даже развивал идеи «сдерживания» Красной Армии и приостановки советского наступления «на границе 1941 г.». Так что послевоенное похолодание в отношениях между СССР и США вызревало задолго до победы над общим врагом. После окончания второй мировой войны политика Вашингтона, нацеленная по-прежнему на силу доллара и кулака, все больше ставилась на службу имперским амбициям: интенсивно пошло дело по сколачиванию агрессивных военных блоков, развертыванию военных баз на чужих территориях, расширению внешнеэкономической экспансии США. Мне и самому в дальнейшем пришлось принять участие в работе, направленной на сдерживание агрессивных устремлений американского империализма. Но это все будет потом. А в те майские дни сорок пятого не хотелось думать ни о чем плохом. Хотелось просто жить, радоваться долгожданной победе, радоваться тому, что ликвидирована самая страшная на том этапе угроза человечеству — германский фашизм… Так что о встрече с американцами мы вскоре за делами забыли, тем более что подарок заморского бизнесмена прослужил недолго — часы как-то нечаянно я уронил на пол, и они остановились намертво. В ремонт их не приняли. «Штамповка, — объяснили мне в мастерской, — служат только до первой поломки». Вот тебе и бизнес…
Глава восьмая МОЙ НЕ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Если раньше, мечтая о том, чем мы займемся «после войны», мы и сами не очень верили в реальность своих планов, ибо до этого «после» еще надо было дожить, то теперь мечты становились явью, и выражались они чаще всего одним словом — «домой». К матери, жене, детям, мирному труду. Разговоры только и велись вокруг демобилизации. Мы же, профессиональные военные, гадали о предстоящих назначениях, радовались возможности выписать на новое место службы семьи.
В этой обстановке как-то совсем позабылись сборы в Ярославле, когда мы гадали над незнакомыми географическими картами. Так шли дни за днями, и вдруг на одном из совещаний, на которое были приглашены лишь начальник штаба А. А. Дуборг, начальник политотдела П. Г. Подмосковнов, заместитель по тылу И. Г. Кузнецов и я, командир бригады ознакомил нас с приказом ГВИУ, гласившим о выводе 13-й штурмовой инженерно-саперной бригады из оперативного подчинения 2-го Белорусского фронта и о передислокации по железной дороге в новый пункт назначения.
— Что бы это значило? — спросил Подмосковнов.
— Давайте не строить никаких догадок, — сказал Гурьев. — Прошу не забывать, что мы боевая воинская часть и расформированию пока не подлежим.
«Наверное, путь наш лежит на Дальний Восток», — с грустью думал я, возвращаясь с совещания. Верить в это, откровенно говоря, не хотелось. И в то же время я уже строил планы, как бы между двумя войнами повидаться с семьей. «Если поедем через Москву, отпрошусь хотя бы на сутки, потом догоню».
«До-го-ню, до-го-ню» — размеренно стучали колеса вагонов. Никто не знал, куда мы едем. На тормозных площадках дежурили часовые, платформы с техникой щетинились стволами пулеметов, возле раскрытых дверей теплушек постоянно находились автоматчики. Предостережения эти были тогда совсем не лишними. Польские леса еще кишели бандами местных националистов всех мастей и оттенков, способными на любые пакости.
Тем не менее Польшу проехали благополучно. Миновали границу. Полковник Гурьев назначил меня начальником штабного эшелона. Как и многие другие офицеры, обычно начальники тех или иных служб, я обосновался в своей штабной крытой трехтонке, установленной на одной из платформ. Это было довольно удобно, так как автомобиль имел все необходимое для работы и отдыха.
Пожалуй, только теперь, дорогой, в полной мере осознавалось, какие громадные разрушения принесла нам война. На всем пути следования не попалось ни одной мало-мальски уцелевшей станции! По обеим сторонам железнодорожного полотна валялись обгоревшие остовы вагонов, тут и там торчали голые печные трубы, напоминавшие о когда-то стоявших здесь деревнях, груды обломков и битого кирпича высились там, где были школы, больницы, фабрики и заводы. Казалось, сюда уже никогда не вернутся люди.
А в теплушках шла обычная армейская жизнь: радовались теплу, солнцу, победе, возвращению домой. В разговорах только и слышалось: Москва, Москва… Все были уверены, что она и явится конечным пунктом нашего марша. Там бригаду расформируют, и все отправятся по домам. Это настроение захватило даже нас, и полковник Подмосковнов иногда чуть ли не с отчаянием говорил:
— Может, еще все обойдется? Как бы мне не хотелось разочаровывать людей. Раньше все было понятно: политработа в пути направлялась на обеспечение боевых задач на новом месте. Теперь же — только политинформация. И люди поверили в демобилизацию. Ждут, побыстрее бы в Москву…
Москву с нетерпением ждал и я — туда уже возвратилась из эвакуации семья. Но столицу мы миновали окольными путями через Могилев, Рославль, Тулу, а оттуда наш эшелон направлялся на Ряжск.
По мере того как оставались позади Ряжск и Пенза, Волга и Урал, все более тускнели надежды на так ожидаемую демобилизацию, встречу с близкими и родными. И хотя официального заявления о вступлении СССР в войну против Японии еще не было, солдатский телеграф понес эту весть до сотням идущим на восток эшелонам. Нельзя сказать, чтобы она обрадовала наших воинов, но в целом люди правильно восприняли решение навсегда покончить с постоянной угрозой нашим дальневосточным границам.
Из теплушек, разгоняя тоску, полетела песня:
…И летели наземь самураи Под напором стали и огня!После выгрузки на станции Чойбалсан со дня на день ожидали правительственного сообщения об объявлении войны Японии и начале боевых действий. Стрелковые и танковые части, выгружавшиеся здесь же, не задерживаясь, направлялись в сторону монголо-китайской границы, проходившей примерно километрах в ста от Чойбалсана. Наконец 8 августа Советский Союз объявил войну Японии. Этому предшествовал целый ряд весьма серьезных событий. Как известно, в апреле 1941 г. был подписан советско-японский пакт о нейтралитете. Япония, занятая войной на Тихом океане и здорово в свое время напуганная итогами Халхин-Гола, хотя и дурно, но в целом этот пакт выполняла, что дало возможность советскому командованию, не без опаски, конечно, в самые критические минуты войны усиливать за счет дальневосточных дивизий Действующую армию. Однако наша страна, естественно, не могла смириться ни с «японским нарывом» на Дальнем Востоке, ни с территориальными потерями тех русских земель, которые в результате позорного мира в 1905 г., не без помощи США, отошли к Японии. И если в Тегеране И. В. Сталин устно обещал союзникам оказать помощь в войне против милитаристской Японии после разгрома гитлеровской Германии, то на конференции в Ялте это было закреплено соответствующими договоренностями. Давая понять, что мы всерьез готовы к выполнению принятых обязательств, Советское правительство 5 апреля 1945 г. денонсировало советско-японский пакт о нейтралитете, что в то время могло создать для нас весьма рискованную ситуацию на Востоке, учитывая, что основные силы армии находились далеко на Западе.
Переброска советских войск на предстоящий театр военных действий началась уже в мае. В общей сложности к 8 августа удалось перевезти свыше 400 тысяч человек, 7137 орудий и минометов, 2119 танков и САУ.
Из передислоцированных и имевшихся на Дальнем Востоке войск создали три фронта: Забайкальский под командованием Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, 1-й Дальневосточный, которым командовал Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, и 2-й Дальневосточный во главе с генералом армии М. А. Пуркаевым. Получился весьма увесистый кулак — свыше полутора миллионов человек, отлично для того времени вооруженных.
Нашей бригаде предстояло обеспечивать действия 6-й гвардейской танковой и 39-й общевойсковой армий, входивших в состав Забайкальского фронта.
И вот час настал: в ночь на 9 августа передовые отряды перешли границу и развернули стремительное наступление. На рассвете вперед двинулись главные силы. Преодолевая безводные степи и горные хребты Большого Хингана, они разгромили калганскую, солуньскую и хайларскую группировки противника и вышли на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии.
Штаб нашей бригады получил приказание разместиться в китайском городке Халун-Аршане вместе с другими резервными частями и подразделениями. Но туда еще надо было добраться!
Жара, пыль, безводье, жгучее дыхание недалекой пустыни Гоби — как все это напомнило мне лето 1942 года и наш нелегкий переход по калмыцким степям! Под палящими лучами безжалостного солнца, поднимая тучи пыли, почти без дорог, если не считать дорогами пути перегона скота, двигались колонны наших войск в общем направлении на Чанчунь и Шэньян (Мукден).
Мельчайшая, словно просеянная через сито, пыль проникала в легкие, вызывая надрывный кашель. От пыли все становилось однообразно серым, начиная с одежды и обуви и кончая лицами. Только глаза да зубы выделялись белизной на этом сером фоне.
Обозные лошади тоже приобретали серый цвет, и уже невозможно было определить их истинную масть.
С раннего утра и до позднего вечера все живое изнывало от зноя и жажды. Воды по пути движения войск почти не было, и чтобы обеспечить ею наступающие части, пришлось немало потрудиться инженерно-саперным подразделениям. Еще до прибытия с запада основной массы войск Забайкальского фронта для обеспечения их водой было выделено 5 инженерных батальонов и рота полевого водоснабжения. Они развернули работы в районах предстоящей выгрузки войск, на маршрутах выдвижения и в районах сосредоточения.
Когда прибыли с запада три армии, инженерные части и соединения фронтового подчинения, мероприятия по водообеспечению приняли еще более широкий размах. Из каждой штурмовой или инженерно-саперной бригады, в том числе и из нашей 13-й, выделялись специальные подразделения для водоснабжения. В частях создавались нештатные команды водоснабжения. В результате удалось почти полностью удовлетворить потребность фронта в воде. И все же экономия воды имела огромное значение. Воду выдавали и людям и животным не более трех раз в сутки, причем строго нормированными порциями. Пользоваться водой на марше из собственной фляги солдату мог разрешить лишь командир взвода, да и то при особых обстоятельствах. Довольно часто с людьми и животными случались тепловые удары.
Прославленный герой Сталинграда, Герой Советского Союза генерал-полковник И. И. Людников, командующий 39-й армией Забайкальского фронта, так писал впоследствии в своих воспоминаниях об этих днях: «…солнце жгло нещадно. Температура днем достигала тридцати пяти градусов. Врачи встревожились: есть случаи тепловых ударов. Воды мало. Дорог каждый глоток живительной влаги. Солдат знал: чем чаще хвататься за флягу, тем сильнее жажда. Солдат терпел. А вот машины не выдерживали — в радиаторах бурлил кипяток…»
Жара, пыль и жажда — вот что, пожалуй, запомнилось больше всего о нашем продвижении от Чойбалсана к монгольскому поселку Тамцаг-Булаг, состоявшему из двух десятков глинобитных одноэтажных домиков да монгольских юрт.
Правда, от неприятельской авиации войсковые колонны прикрывали крупнокалиберные пулеметы и скорострельные пушки, находившиеся в боевой готовности, но за все время марша из них не произвели ни единого выстрела: даже японские воздушные разведчики не появлялись в сером от зноя небе. Отдохнув в Тамцаг-Булаге, двинулись на восток, к Халхин-Голу. На наших картах здесь уже не значилось никаких дорог, хотя примерно на полпути к границе чернела маленькая точка с надписью «Улан-Цирик», что значило «Красный Солдат».
Этот поселок состоял всего из нескольких зданий, бараков и землянок. Здесь размещались штаб дивизии и ее тыловые подразделения, а полки постоянно находились на боевых позициях вблизи границы. Офицеры с семьями жили в бараках и землянках. Русские женщины, загорелые дочерна босоногие ребятишки, подобие огородиков возле землянок, обычные гарнизонные дела и заботы — как-то не ожидали мы все это встретить здесь, за сотни километров от Родины, в непривычных для русского человека условиях.
— Знаешь, Фомин, — сказал мне Дуборг, когда мы покидали Улан-Цирик, — я бы этим женщинам — каждой по ордену. — Подумав, он добавил: — И не только этим, а всем нашим матерям, сестрам, женам. Как ни крути, а войну на своих плечах они вынесли.
Через Халхин-Гол переправились по понтонному мосту, уже наведенному нашими понтонерами. Река не очень широкая, но быстрая, вода прозрачная. На ее восточном берегу громоздились полузасыпанные песком, в хаотическом беспорядке подбитые наши танки, орудия, автомашины — еще из того, из 1939 года. Без всякой команды колонна остановилась. Все молча сняли головные уборы. Слава вам, герои тех далеких дней, слава вам, воины, сложившие свои головы за свободу братской Монголии!..
Надо сказать, что в полосе Забайкальского фронта, протяженность которого была 2300 километров, непосредственно у границы противник не имел крупных сил и подготовленной обороны, за исключением, пожалуй, Халун-Аршанского, Чжалайнор-Маньчжурского и Хайларского укрепленных районов. Основная группировка Квантунской армии сосредоточивалась в районах Мукдена, Чанчуня и Улан-Хото.
В итоге шестидневного наступления советские и монгольские войска нанесли Квантунской армии серьезное поражение, разгромив вражеские войска в 16-ти укрепленных районах. Далее других фронтов — на 2500400 километров — продвинулся Забайкальский фронт.
15 августа войска Забайкальского фронта своими главными силами вели бои на Маньчжурской равнине, 6-я гвардейская танковая армия силами 5-го гвардейского танкового и 9-го гвардейского механизированного корпусов развивала наступление на Шэньян, а ее 7-й механизированный корпус двигался на Чанчунь, войска 89-й армии, с которыми тоже взаимодействовали подразделения нашей бригады, сосредоточивались в районе Ванъемяо.
Несмотря на серьезные трудности, части 5-го гвардейского танкового корпуса 20 августа вступили в Шэньян, где накануне был высажен воздушный десант, а части 39-й армии развивали наступление на Чанчунь вдоль железной дороги.
Официально Квантунская армия капитулировала 18 августа, однако на многих участках японские фанатики продолжали сопротивление и для захвата важных объектов, городов, пунктов, баз наше командование широко применяло подвижные отряды и воздушные десанты. Территория Маньчжурии была освобождена лишь к концу августа.
Учитывая, что 39-я армия не вела затяжных боев, изменились задачи и наших подразделений. В условиях бездорожья и начавшихся дождей они в прямом смысле слова толкали пехоту вперед: исправляли дороги и мосты, устраивали объезды, настилали лежневки, а чаще всего под дружное солдатское «А ну, взяли!» выволакивали ив грязи застрявшие автомашины и орудия.
Наша штабная колонна с моторазведротой и некоторыми другими подразделениями батальона двигалась следом за наступавшими частями к Халун-Аршану.
Халун-Аршанский укрепрайон располагался в западном предгорье центральной части Большого Хингана и должен был прикрывать развертывание соединений Квантунской армии в случае ее вторжения в восточные районы Монгольской Народной Республики с последующим ударом по приграничным районам нашего Забайкалья.
При оборонительном же характере операций Квантунской армии укрепрайон прикрывал важные горные проходы Большого Хингана и выходы через них к китайским городам Халун-Аршан и Солунь. По своей боевой вместимости он был рассчитан на гарнизон в одну-полторы дивизии. Его протяженность по фронту составляла около сорока, а в глубину пять-шесть километров. Он был разделен на отдельные тактические участки, соответствовавшие по размерам примерно нашим батальонным узлам обороны. Большинство боевых сооружений состояли из монолитного железобетона, хотя все же к числу долговременных я бы их, пожалуй, не отнес. Они могли противостоять не более чем одному-двум прямым попаданиям снарядов 76-миллиметровых орудий и одному попаданию авиабомбы калибром не более ста килограммов. Дерево-земляных боевых сооружений в укрепрайоне было мало, но землянок и убежищ достаточно. Хозяйственные постройки — наземного типа и полностью деревянные. Они походили больше на времянки, чем на постоянные сооружения.
Огневая система укрепрайона обеспечивала многослойность ружейно-пулеметного огня по переднему краю из глубины обороны и с флангов. Артиллерийские позиции располагались во вторых эшелонах стрелковых частей и могли обстреливать подходы к переднему краю обороны и усиливать ружейно-пулеметный огонь. Укрепрайон был достаточно хорошо подготовлен к круговой обороне, хотя возможность длительного боя в таких условиях вызывала сомнение из-за полного отсутствия хорошо защищенных и емких хранилищ боеприпасов.
Траншей и ходов сообщения здесь было сравнительно мало, и но всему чувствовалось, что их начали готовить лишь в последнее время. И вообще бросались в глаза тут и там начатые, но неоконченные сооружения. Заинтересовало нас и другое — отсутствие искусственных противотанковых препятствий. Видимо, противник был абсолютно уверен, что танки через Большой Хинган не пройдут. Стационарного вооружения в боевых сооружениях тоже не было. По всей вероятности, предполагалось, что в нужное время УР займут полевые войска со своим табельным оружием. В общем, укреп-район мог бы стать для нас крепким орешком. Полагаю, что эта вероятность учитывалась нашим командованием.
Части 39-й армии и танкисты 6-й гвардейской танковой армии в результате хорошо продуманных и четко проведенных маневров обошли Халун-Аршанский укреп-район и вынудили японцев оставить его без боя.
Маньчжурия оказалась удивительной страной. Проходя по улицам маньчжурских городов, особенно расположенных на КВЖД, разглядывая магазинные вывески и рекламные объявления, написанные или китайскими иероглифами, или по-русски, но по дореволюционным правилам правописания и с терминологией тех времен, я испытывал ощущение, что здесь остановилось время, что каким-то чудом оказался в прошлом веке, на одной из улиц уездного или, в лучшем случае, губернского городка старой России.
Правда, сейчас витрины пустовали, зато ключом била жизнь на базарах. В людском потоке, на городских улицах русская речь перемешивалась с китайской скороговоркой, в которую иногда вклинивались английские и французские фразы. Здесь продавалось все что душе угодно, начиная от зажигалок и носков японской машинной вязки и кончая оружием и наркотиками под видом японских сигарет «Императорские».
Купля-продажа сопровождалась отчаянным торгом. Разноязычность покупателя и продавца при этом не играла никакой роли. Когда они сходились и приступали к делу, первоначальная цена писалась продавцом-китайцем пальцем на песке. Покупатель носком своего сапога стирал эту надпись и также пальцем писал свою цену. Так продолжалось, пока стороны не достигали согласия. А вокруг обязательно собиралась толпа зевак, которые, словно болельщики на футбольном матче, криками подбадривали торгующихся. После успешного завершения сделки они поочередно пожимали руки продавцу и покупателю, благодаря их за доставленное удовольствие.
Базар — единственное место, где мы могли потратить свою «валюту» — китайские юани, которыми нам в Маньчжурии в те дни выплачивали денежное содержание. Причем курс юаня по отношению к нашему рублю был так низок, что деньги мы получали буквально мешками. В глазах китайцев по этой причине мы выглядели, вероятно, миллионерами, ибо дневной заработок рикши или кули в то время не превышал десятка юаней.
Однажды дела службы привели меня с одним из офицеров штаба бригады, капитаном И. С. Царевым, однофамильцем командира моторазведроты, погибшего в Карелии при обороне штаба бригады, в Харбин, древнюю столицу Маньчжурии. Ее архитектурный облик носил много черт русских городов, но в целом контраст между Европой и Азией ощущался резче. Например, рядом уживались дореволюционные русские извозчичьи пролетки, с их хозяевами на облучках в одеянии тех же времен, с китайскими рикшами, часто соревновавшимися в скорости между собой на городских улицах, но не ради спортивного интереса, а в конкурентной борьбе за пассажиров. Непривычно смотрелись, особенно в этой компании, и легковые автомобили диковинных форм: к примеру, «форд» начала века — с газогенераторной колонкой сбоку и добрым запасом дров в багажнике!
Если шикарные магазины смотрели на улицы пустыми глазницами витрин, то вовсю торговали мелкие лавчонки, любезно принимали гостей бесчисленные трактирчики, кафе, рестораны и ресторанчики. И всюду — русские лица, русская речь! В перворазрядных ресторанах посетителей обслуживали официанты-мужчины, с лицами и манерами патентованных аристократов, в ресторанах рангом пониже и в кафе — миловидные, опрятные и очень вежливые и проворные русские девушки-официантки. Нам разрешалось посещать только рестораны первых разрядов. В этих подавали такие блюда, названия которых мы знали только по книгам. Сервис был на самом высшем уровне.
Ресторанные оркестры исполняли залихватские мотивы времен старых офицерских кутежей и купеческих загулов. Признаться, мы им этого не запрещали. Но с неменьшим удовольствием исполнялись и советские песни вроде «Синего платочка», «Катюши». Вот когда накатывали острые приступы тоски по дому!
Откуда в Маньчжурии, в частности в Харбине, появилось так много русских? Очевидно, одни строили КВЖД да так и остались при ней, другие, напуганные революцией, бежали сюда, третьи перевели в Китай свои капиталы, четвертые, ярые белогвардейцы, как могли вредили отсюда своей бывшей родине… В общем, русские в Харбине были разные, и встречи с ними — неодинаковые. Хотелось бы рассказать об одной из них, так сказать, типичной.
…Закончив служебные дела, мы с Царевым решили пообедать. Хотелось отдохнуть, и как по щучьему велению на тихой улочке оказался маленький ресторанчик с весьма привлекающим названием «Уют». Сели за свободный столик в уголке. Тотчас подошел, вернее, подбежал изящной трусцой полноватый элегантный мужчина в черном костюме и белой сорочке с «бабочкой». Это оказался сам хозяин.
— Чего желают господа офицеры?
В памяти тотчас всплыло нечто похожее, только другая обстановка и голос — женский, с прибалтийским акцентом.
Конечно же довоенная Эстония, наше первое знакомство с буржуазным сервисом!
А хозяин, смутившись из-за «господ», а выговорить «товарищи» у него язык просто не поворачивался, заворковал:
— Водочки желаете? Есть чуринская «Слезинка» и «Жемчужина». Маленький графинчик по вашему усмотрению.
Чудак, он, видимо, не догадывался, что мы не только вкуса этой водки не знали, названий-то таких никогда не слышали. Мы заказали весьма скромный обед. В ожидании рассматривали зал. Вдруг Царев зашептал:
— Не оборачивайтесь назад, Алексей Иванович… За вашей спиной сидит мужчина, который пил пиво, когда мы вошли, и теперь все время смотрит в нашу сторону… Даю руку на отсечение, что он ужасно хочет перебраться за наш столик.
— Только этого нам и не хватало. Обязательно заведет разговор о политике. Беляк, вероятно, какой-нибудь…
— Возможно. Но нам от него не отделаться. Если он сядет за наш столик, то у нас с вами будет только два выхода из положения: или попросить его убраться к черту, или проявить вежливость и терпеливо перенести его присутствие.
Мы уже заканчивали обед и маленькими глоточками потягивали кофе, когда человек, о котором шла речь, действительно подошел к нам. Царев незаметно мне подмигнул.
— Простите за бестактность, но я не мог пересилить в себе желание поговорить с соотечественниками. Перезвонов, Сергей Аркадьевич, — старомодно поклонился он.
Следовало представиться и нам, но, переглянувшись с Царевым, мы этого делать не стали: зачем ему знать наши фамилии? А называться вымышленными именами не хотелось.
Вместо этого я, как старший по званию, пригласил Перезвонова сесть.
— Хотите кофе? — спросил я его.
— О, не беспокойтесь! Разрешите мне услужить вам. Ведь вы, в некотором роде, гости… — И он смутился.
Царев недобро усмехнулся:
— А такие, как вы, уж тут за хозяев орудуют? Хозяева в этой стране, по-моему, все же китайцы.
— Простите, я, может быть, не так выразился. Великодушно простите. Просто мне хотелось угостить вас от чистого сердца. Вы, наверное, думаете, что я отъявленный белогвардеец? Я преподаватель одной из русских гимназий. Вырос в Харбине, но тем не менее своей родиной считаю Россию. Здесь много проживает таких, как я. Да не только в Харбине, а по всей Маньчжурии. Мои родители еще до революции перебрались сюда, на КВЖД.
— А что вы преподаете в гимназии? — спросил успокоившийся Царев.
— Географию.
— А географию России вы преподносите своим ученикам с большевиками или без них? — вновь спросил его Царев.
— Видите ли, Урал всегда был Уралом, а Волга — Волгой. Надеюсь, их-то еще не переименовали? — кольнул, не удержавшись, и он нас. — Однако за правдивое описание советского строя можно было оказаться в местной полиции, отведать там бамбуковых палок и навсегда потерять работу. А то и вообще угодить в японскую контрразведку, из которой никто и никогда не возвращался. А я не герой, а простой смертный.
Действительно, чего придираться к человеку?
— Скажите, а как вообще здесь жили русские? Как они воспринимали войну СССР с фашистской Германией? — задал я нейтральный вопрос.
— В двух словах не рассказать. Но если не принимать во внимание тех русских, кто так или иначе связан с Советским Союзом работой на КВЖД или в других его представительствах, то остальных можно приближенно поделить на две группы: проживавших в Маньчжурии еще до того, когда произошла революция в России, и эмигрантов, прибежавших сюда от этой самой революции. Если первая часть русских жила с настроением «посмотрим, что у большевиков получится», то эмигранты в основном были настроены к вам враждебно. Особенно белое офицерство и особенно после прихода японцев. Последние охотно пользовались их услугами.
— Не все же они были одинаковые, — перебил его Царев.
— Конечно нет. Много офицеров, особенно в младших чинах, видя, что Советская Россия развивается и крепнет, постепенно отошли от антисоветской деятельности и занялись гражданскими делами, чтобы заработать на жизнь. Другие разъехались по белу свету. Остались на антисоветских позициях лишь те, кто слишком много потерял от революции или слишком много натворил во время гражданской войны. В японцах они видели силу, которая поможет им вернуться в Россию.
— На белом коне? — усмехнулся Царев.
— Вполне вероятно, — серьезно ответил собеседник.
— Ну, и как они относились к нападению на нас Германии? — спросил я.
— Знаете, что я вам посоветую? Зайдите лучше в русскую библиотеку в Харбине и попросите там подшивки белоэмигрантских газет за 1941–1945 годы. Вы там найдете больше, чем я вам расскажу. Когда ваши войска отступали, эмигрантские газеты захлебывались от восхваления немцев. Когда же вы начали наступать, те же газетки начали ругать бездарных немецких генералов и восхвалять русского солдата. Поверите ли, газеты требовали во всех православных церквах отслужить молебны за победу русских воинов над супостатом, да японцы запретили.
Перезвонов как-то невесело улыбнулся, помолчал а задал осторожный вопрос:
— А как вы думаете, прошлых белогвардейцев будут судить советские суды?
— Вот уж чего не знаем, того не знаем, — засмеялся я. — Кто виноват, вроде атамана Семенова, конечно, надо наказать. Но вы, видимо, знаете, что Президиум Верховного Совета СССР разрешил всем бывшим белоэмигрантам, кто этого пожелает, переехать на жительство в СССР. Так что прошлое может быть забыто, если оно не запятнано кровавыми злодеяниями.
Беседовали мы долго. Было интересно и нам, и ему. К концу беседы наш учитель географии предложил:
— Хотите, я вас познакомлю с самыми настоящими, теперь уже бывшими, конечно, русскими аристократами? Я вхож в одну графскую семью, с которой вам, на мой взгляд, будет интересно познакомиться, а им, надеюсь, с вами.
— Простите, — холодно сказал Царев, — мы с майором антиквариатом не увлекаемся, тем более что у нас в Союзе графы тоже еще не перевелись. А некоторые даже в большом почете.
— Как это?
— А очень просто: у нас чтут графа Льва Толстого. Большой популярностью пользуются произведения графа Алексея Толстого. Мы с уважением относимся к революционеру князю Кропоткину, хоть и не разделяем его анархического учения. Их фамилиями и именами в Москве названы улицы и переулки. Правда, без титула «граф».
— Да, да! Я как-то об этом забыл. Виноват. Разрешите последний вопрос: может ли мой сын, закончивший в этом году полный курс местной гимназии, рассчитывать на поступление в Московский или Ленинградский университет? Ведь разрешили же теперь переезд в СССР русским, проживавшим в Маньчжурии?
Тогда мы удивились этому вопросу и посоветовали обратиться в компетентные органы, а теперь вот я думаю: как далеко смотрел этот человек, и очень жаль, если его сын не попал учиться в Москву.
Зима в Маньчжурии в 1945 году легла довольно рано: уже в конце октября снег покрыл землю и ударили морозы, чувствительные даже для нас, северян. Весьма холодными установились отношения у нас и с местными органами китайской гоминьдановской администрации. Правительство Чан Кайши, тесно связанное политическими, экономическими и военными интересами с правящими кругами США, естественно, не собиралось дружить с Советским Союзом, тем более если учесть, что присутствие в Маньчжурии советских войск резко активизировало революционную борьбу трудящихся. Население Маньчжурии встретило нашу армию доброжелательно, а если говорить о трудовом китайском народе, то с восторгом. Мне запомнился один плакат в китайской деревушке, натянутый поперек улицы и привязанный веревками к деревьям. На полотнище из красной материи, сшитом из нескольких кусков, белыми буквами, похожими на китайские иероглифы, было написано: «Красна армиа ура ура китайска дома!!!» Сколько неподдельной искренности и сердечной теплоты содержали эти корявые слова! Да, китайский народ хотел, чтобы Красная Армия помогла ему избавиться и от ненавистных захватчиков, и от собственных эксплуататоров и провести в стране демократические преобразования с установлением подлинно народной власти.
В Северо-Восточном Китае на конференциях народных представителей избирались исполнительные органы местной власти во главе с коммунистами и демократическими деятелями — активными участниками борьбы с японскими захватчиками.
Но в ряде городов продолжали действовать и местные органы гоминьдановского правительства, опиравшиеся на полицию и реакционные антикоммунистические организации, пытавшиеся всеми силами подавить революционные процессы. И в этом состояло своеобразие политической обстановки тех лет в Маньчжурии, с которой нельзя было не считаться советскому командованию.
Гоминьдановские власти начали охоту за коммунистами. Не решаясь на открытые репрессии против своего народа и явную конфронтацию с советскими войсками, они прибегали ко всякого рода провокациям и выстрелам из-за угла: помогали бандгруппам создавать тайные склады оружия, боеприпасов и снаряжения, натравливали их не только на рабочих-активистов, но и на советских воинов, в основном на офицеров. Естественно, подобное положение долго продолжаться не могло.
Штаб нашей бригады размещался в то время в Чанчуне, где обосновался и штаб Забайкальского фронта, реорганизованный вскоре в штаб Забайкальского военного округа, который возглавлял Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский. Вскоре из достоверных источников стало известно, что китайцами завозится в город оружие и где-то складируется. Для кого, зачем? Явно, что не для хороших целей, и в подобной ситуации возможна угроза штабу фронта. На нашу бригаду возложили несение комендантской службы. Командование поставило задачу — пресечь нелегальный завоз оружия в город, найти и ликвидировать террористов.
Удалось установить, что оружие доставляется лицами, якобы едущими на базар. В повозках под овощами и фруктами провозились винтовки и патроны. Нам пришлось на всех въездах в город установить полевые заставы, а впереди них выдвинуть полевые караулы. В заставы, как правило, выделялось до взвода, а на важных магистралях — и до роты. Полевые караулы не превышали отделения.
На каждой заставе имелась рация, так что связь поддерживалась не только со своим батальоном, но и с дежурным по штабу бригады, а полевые заставы были связаны со своими полевыми караулами телефонами.
Рота разведки получила приказание иметь в постоянной боевой готовности дежурный взвод. Благодаря принятым мерам у террористов, действующих под видом крестьян, удалось изъять свыше тысячи винтовок, десятки пулеметов и даже минометов. Это, естественно, пришлось не по душе чанкайшистам, и на наши заставы и полевые караулы участились вооруженные нападения. Правда, обходилось, как правило, без потерь о нашей стороны, но обстановка, особенно по ночам, создавалась весьма тревожная, а главное, нервозная. Постреляв, китайцы разбегались по переулкам ночного Чанчуня, так что отыскать кого-либо в лабиринтах дворов или в пустовавших домах было совершенно невозможно. Особенно много нападений совершалось на заставу, находившуюся на дороге, ведущей из Чанчуня в Сыпин. Без стычек не обходилась почти ни одна ночь. Пора было принимать надлежащие меры. Начальник политотдела бригады полковник П. Г. Подмосковнов как-то упрекнул меня:
— Плохо действуете. Нас бьют, а кто — не знаем. То ли это гоминьдановцы, то ли хунхузы…
— Нападающие каждый раз уходят как вода сквозь сито, — ответил я. — На месте перестрелки обычно не остается ни убитых, ни раненых.
Полковник П. Г. Подмосковнов тем не менее потребовал от нас более активных действий. Не скажу, насколько в целом они были результативны, но одна из акций, в которой мне довелось принять участие и которая едва не окончилась трагически, мне запомнилась очень хорошо.
Темным и холодным ноябрьским вечером на полевую заставу лейтенанта Кирьянова напала, как обычно, группа неизвестных. Разгорелся бой. Я поднял по тревоге дежурный взвод разведроты, и вскоре мы мчались на грузовике на помощь Кирьянову. Не доезжая метров ста до заставы, выгрузились, взвод развернулся цепью, стараясь охватить заставу полукругом, и двинулся в атаку. Сначала с опаской, потом, не слыша никаких выстрелов, побежали во весь рост.
— Товарищ майор, — на ходу делился со мной своими сомнениями старший сержант Исаев, исполнявший обязанности командира взвода, — что-то уж очень тихо. Либо хунгузы отошли, либо побили всех наших.
— Давай вперед, сейчас разберемся!
Видимо, нас заметили: со стороны заставы послышались голоса:
— Эй, славяне, не вздумайте палить…
А через пять минут лейтенант Кирьянов, у которого из-под шапки белели бинты, докладывал:
— Бандгруппа напала, как всегда, внезапно. Вон из того здания, — указал он на дом, судя по всему, уже давно нежилой, — вдруг открыли винтовочно-пулеметный огонь. Мы ответили огнем. Они попытались нас окружить — не вышло. Мы приготовились к долгому бою, а они вдруг как сквозь землю провалились.
— Видимо, услышали или увидели, что идет машина, — предположил я. — А как обстоят дела у вашего полевого караула?
— К сожалению, телефонная связь прервалась в самом начале боя.
— Не выяснили, почему?
— Не успел, как раз отбивались от хунгузов.
— Тогда давайте сделаем так: вы, Исаев, — старший сержант присутствовал при нашем разговоре, — возьмите человек пять — семь и проверьте полевой пост, а я с автоматчиком пока пройдусь вокруг заставы.
Кирьянов посмотрел на меня недоуменно, но отговаривать не стал: дескать, начальству виднее, что надо делать. Честно говоря, вспоминая потом тот случай, понять не мог, какая нелегкая понесла меня в разведку и с какой целью? Но… бывают же необъяснимые поступки.
За суетой не заметили, как начало светать. Ночь уже отступала. Зато усилился мороз, под ногами весело поскрипывал снежок — и кроме этого ни одного звука не раздавалось в округе. На столь мирном фоне вся эта ночная суматоха показалась вдруг какой-то почти нереальной. Не выдуманной, конечно, но малозначительной. «Стоило ли поднимать взвод по тревоге, — с сомнением думал я, — из-за пустяков. Эти ночные бандиты — вроде комара: до смерти не заест, но и спать толком не даст. А в целом много шума из ничего».
Как-то незаметно свернули мы на другую улицу, и вдруг слышится, что на скрип снега от наших шагов где-то недалеко накладывается другой такой же звук. Мы остановились, прислушались. Да, шаги и голоса. Слов не разобрать, но говорят не по-русски. Может, это и есть та исчезнувшая внезапно бандгруппа, которая только что атаковала пост Кирьянова? А теперь охотится за нами?
— Давай за угол дома, — приказываю солдату, — и приготовь автомат.
Едва успели спрятаться, как в предутреннем тумане показалась группа людей, явно китайцев. Человек семь-восемь. Остановились в замешательстве, о чем-то тихо переговариваются. Я начинаю понимать, что за нами следили, а теперь вдруг нечаянно упустили из виду. Но вот они, посовещавшись, замолчали и, прижимаясь к стене противоположного здания, начали двигаться в нашу сторону. Положение становилось критическим: через минуту-другую мы будем обнаружены.
— Ну-ка, пугни их из автомата, — приказал я своему спутнику, вынимая пистолет. Не торопясь прицелился а выстрелил. В тишине выстрел прозвучал неожиданно громко. На той стороне, то ли от неожиданности, то ли пуля нашла цель, вскрикнули, и в ответ посыпалась такая частая стрельба, будто на нас нападало по меньшей мере около взвода.
— Ну, давай! — Я обернулся к солдату и увидел странную картину: он взводил затвор, нажимал на спуск, но вместо веселой очереди слышалось мягкое шипение, с каким затвор возвращался в свое первоначальное положение. Солдат потихоньку матюгался, но автомат не стрелял. Вот это номер! Парень, не ожидая такого мороза, перестарался со смазкой, и излишки загустели. Ситуация, как теперь бы сказали, складывалась экстремальная: один пистолет против восьми нападавших. Второй выстрел с моей стороны, третий… Интересно, захватил ли запасную обойму?
— Отогревай автомат хоть на брюхе, — приказываю солдату и добавляю, естественно, далеко не дипломатическое выражение. Тут, как говорится, не до протокола. Ага, есть запасная обойма. Чуть отлегло.
— Гранаты есть? — спрашиваю своего незадачливого спутника, совершенно, впрочем, не надеясь на положительный ответ: ведь шли-то вроде как на прогулку.
— Есть, товарищ майор, — отвечает мой провожатый. Голос повеселел: хоть этим-то искупил свою вину.
— Приготовь на всякий случай. Могут броситься в атаку, вот тут граната будет самый раз.
Перезарядил обойму, продолжаю стрелять. Нападающие почему-то активности не проявляют. Боятся? Потом вдруг что-то загомонили, закричали и скопом бросились в ближайший двор. И тут наконец им вдогонку у меня над ухом басовито застрекотал автомат, да так длинно, словно наверстывал долгое молчание. Слышу, еще раздаются выстрелы и уж явно наши, русские, голоса. Это со стороны заставы бегут разведчики. Вот почему так внезапно ретировались бандиты!
— Живы, товарищ майор? — с облегчением в голосе, видя, что мы оба на ногах, спросил, еле переводя дух, Исаев. — А мы слышим — стрельба, да не поймем — где. Вы же пошли вроде в другую сторону… А тут еще какой-то туман. И потом — автомата не слышно. Думаю сначала, если на вас напали, так при вас Федя, он бы шуганул из автомата.
— Твой Федя шуганет, дожидайся от него, — пряча пистолет в кобуру, ответил Исаеву. Конечно, и его, старшего сержанта, надо бы как следует взгреть за оплошность с оружием, но едва я вспомнил недоуменный Федин взгляд, каким он смотрел на «пшикающий» затвор, сам невольно улыбаюсь, и все это только что закончившееся ночное происшествие начинает представляться в каком-то юмористическом свете. Вот уж не замечал за собой раньше подобной склонности! Пытаясь напустить на лицо подобающую строгость, все же говорю Исаеву:
— Проверь у своих оружие, не застыла ли смазка…
Поняв, в чем дело, Исаев метнул сердитый взгляд в сторону своего Федора.
— Ладно, потом разберетесь, давай на заставу…
И все же прекрасна жизнь! Война окончилась, ты молод, полон сил и энергии, руки-ноги целы, и тебе кажется, что способен свернуть гору. А эти мелкие стычки с хунгузами — они только бодрят, не позволяют расслабиться, не дают забыть, что ты — военный человек. Военный… Но все же не просто военный, а военный инженер, и не пора ли перестать разрушать, а начать строить. Уж столько разрушили всего — уму непостижимо. И думалось по молодости — все наверстаем, возведем новые заводы и города, на пепелищах сел вновь встанут русские избы, на безлюдных дворах послышатся звонкие ребячьи голоса.
Учитывая сложность военно-политической обстановки в Маньчжурии, советское командование приняло решение уничтожить те укрепления японцев, которые не были разрушены в ходе наступательных боев.
Нашей бригаде достались Халун-Аршанский укрепленный район и гигантский арсенал на окраине Чанчуня, территория которого, огороженная в несколько рядов колючей проволокой, да еще под током, напоминала концлагерь. Черев каждые 100–150 метров по всему периметру и по углам стояли сторожевые вышки с пулеметами.
Арсенал являлся не только хранилищем огромного количества стрелкового и артиллерийского оружия и боеприпасов, но располагал также производственными цехами по ремонту военной техники. Короче говоря, это было солидное военное предприятие, буквально начиненное оружием, боеприпасами, порохом и взрывчаткой. Все это добро японцы не успели, а может, не захотели ни уничтожить, ни вывезти. К тому же содержимое беспрестанно пополнялось: части Квантунской армии одна за другой капитулировали, а их оружие и боеприпасы свозили сюда.
Естественно, арсенал привлекал банды и различных темных людишек, жаждущих заиметь оружие. Не проходило ночи, чтобы на него не совершались нападения. По утрам охрана снимала с проволочных заграждений трупы пораженных током или подстреленных бандитов. Но полностью пресечь попытки проникновения экстремистских элементов на территорию арсенала охрана не могла, а это было чревато самыми серьезными последствиями: случись большой пожар — маленькие уже не раз устраивались различными поджигателями, — и эта гигантская бочка с порохом могла бы снести половину города. Видимо, по этой, а также по ряду других причин командование фронтом решило ликвидировать Чанчуньский арсенал. Выполнение этой задачи поручили нашей бригаде, минно-взрывные работы производил 64-й штурмовой батальон.
Командир батальона гвардии подполковник Б. И. Фотькин объездил все окрестности Чанчуня, пока не нашел подходящее место для подрыва боеприпасов: глубокий заброшенный карьер, к которому ничего не стоило подвести подъездные пути.
По первоначальному плану снаряды и авиационные бомбы крупного калибра намечалось взрывать в глубоких каменных выработках, засыпая свободное пространство вокруг них мелкими снарядами, гранатами, винтовочными патронами. Надеялись, что взрыв большой бомбы вызовет детонацию, и мелочь взорвется сама по себе. Боеприпасы крупного калибра солдаты окрестили «арбузами», а мелкого — «семечками». Еще Гоголь заметил: силен русский человек на меткое словцо. Новая «терминология» быстро прижилась и из фольклора перекочевала в официальные отчеты, телеграммы и сводки. Однако вскоре выяснилось, что «семечки» не желали погибать в компании с «арбузами». Взрыв крупных снарядов или бомб выбрасывал мелочь наружу чаще всего целехонькой. Приходилось ее собирать и снова закладывать в адские горны. Но саперы нашли выход. В снарядах калибром менее ста миллиметров предварительно вывертывались взрыватели. Потом из таких снарядов выкладывался где-нибудь на закрытой площадке стаканоподобный штабель, в котором снаряды лежали открытыми отверстиями для взрывателей к центру штабеля. Внутрь штабеля помещался снаряд или бомба побольше, и производился взрыв. При таком способе «семечки» уже не разлетались по сторонам.
Что касается находившегося в арсенале японского стрелкового оружия, то, помнится, нас поразило отсутствие у них автоматов. Оказалось, что японская пехота была вооружена лишь двумя типами винтовок: системы Арисаки, калибром 6,5 мм, с которыми она воевала против русской армии еще в 1904–1905 годах, и системы «Маузер», имевшей иной калибр. Аналогичное положение было с пулеметами. На вооружении находились ручные и станковые пулеметы разных систем. Например, легкий пулемет был несколько похож на наш «дегтярь», но в его магазин помещалось пять винтовочных обойм с пятью патронами каждая. Почему пулемет заряжался винтовочными обоймами, сказать трудно.
Разнокалиберность японского стрелкового оружия не могла не создавать трудностей в снабжении японской армии боеприпасами, особенно в боевой обстановке. Как нам потом стало известно, не блистали новизной и другие виды японского вооружения. В частях и соединениях Квантунской армии совершенно отсутствовали противотанковые ружья, реактивная артиллерия, мало было крупнокалиберной артиллерии. На вооружении бронетанковых и механизированных войск состояли легкие и средние танки, во всем значительно уступавшие нашим. Устаревшей была и авиация.
Но, несмотря на некоторую техническую отсталость, Квантунская армия оставалась сильным и опасным противником, так как имела ряд преимуществ, которыми не располагали наши вооруженные силы на Дальнем Востоке.
Японцы действовали на хорошо изученном и соответствующим образом подготовленном театре военных действий, опираясь на большое количество укрепленных районов, военных аэродромов и складских баз, построенных заранее. Они имели в своем распоряжении довольно развитую сеть сравнительно коротких по протяженности различных транспортных коммуникаций, позволявших осуществлять быстрое маневрирование живой силой и техникой. Снабжение же наших войск в Маньчжурии происходило в основном из глубинных районов страны по одной-единственной транспортной нитке — Транссибирской железнодорожной магистрали, которая к тому же в своей восточной части с началом боевых действий оказывалась под ударами японской авиации и диверсионных групп.
Японский солдат в бою был стоек до самопожертвования. Безгранично преданный императору, он слепо верил в то, что японский народ превосходит другие и ему свыше предначертано управлять всем миром.
Так что быстрый разгром Квантунской армии — это не следствие ее слабости, а следствие военного искусства наших талантливых полководцев, огромного боевого опыта и патриотизма наших солдат и офицеров, мощи Советской Армии и ВМФ, оснащенных современной техникой. Существенный вклад в разгром Квантунской армии внесли монгольские вооруженные силы. Дружба советского и монгольского народов в эти дни вновь была скреплена совместно пролитой кровью в борьбе с общим врагом.
Приказ штаба Забайкальского военного округа, образовавшегося из Забайкальского фронта, о переводе бригады в Советский Союз поступил спустя некоторое время. Трудно описать радость, с которой мы встретили это долгожданное известие. Наконец-то домой! И даже вагонные колеса стучали весело, отчетливо выговаривая: «До-мой, до-мой!» Вот и граница. Таможенники ограничились тем, что, проходя вдоль состава, лениво спрашивали без всякого выражения, видимо заранее зная, какой может последовать ответ:
— Золото, драгоценности, иностранная валюта, иностранная литература, спирт и водка есть?
— Нет, — дружно неслось из открытых теплушек.
Да, теперь, судя по всему, война для нас окончилась.
В вагонах только и разговору, что о демобилизации.
Прибыли в Забайкалье. Однако прошел апрель, наступил май, а приказа о демобилизации все не было. Люди начинали нервничать. Тем более что плохо обстояло с питьевой водой, а с середины мая к тому же начали дуть постоянные, не прекращавшиеся ни днем ни ночью южные горячие ветры, и вскоре от зеленой апрельской травы осталась только жесткая желтая стерня. Стояла невыносимая жара от горячего ветра и палящего солнца. Ветер часто нес мелкую черную пыль, которая проникала в помещения даже через плотно закрытые окна. Ночи не приносили облегчения, и мы поднимались по утрам физически разбитыми и злыми. Днем от зноя укрыться было негде и нечем: во всей округе не росло ни деревца. Но солдат есть солдат. В городке шла размеренная жизнь: боевая подготовка и работа. В выходные дни, мобилизовав весь автотранспорт, мы старались как можно больше людей вывезти на реку Онон.
Совершенно неожиданно пришла директива о расформировании бригады. Тех, кто по возрасту и срокам службы не подлежал демобилизации, направляли на укомплектование других инженерных частей и соединений, а вооружение и боевая техника передавались на склады.
Как же трудно расставаться со своими боевыми товарищами! Но и оставалось-то их, тех, с которыми довелось пройти длинный и трудный путь от Ростова-на-Дону по калмыцким степям, по кавказским предгорьям, ленинградским и карельским болотам, по заполярной тундре, землям Польши, по знойным пустыням Монголии и по воспетым нашими предшественниками сопкам Маньчжурии, очень мало.
Мы прошли через огонь пожаров, через гибель друзей, черев муки и смерть — к Великой Победе. Это и нашими трудами, и нашими руками завоевана жизнь и свобода для наших детей и внуков и внуков наших внуков.
Немалый вклад в общую победу над врагом внесли советские инженерные войска, и Родина высоко оценила их героизм и боевое мастерство.
Массовый героизм, высокую организованность и боевую выучку показали целые соединения и части. Шесть инженерных бригад, 190 инженерных, саперных и понтонных батальонов, 5 отдельных рот были удостоены звания гвардейских. За период войны было произведено 773 награждения орденами инженерных, саперных и понтонных частей, многие из них удостоены почетных наименований. Около 100 тысяч воинов были удостоены государственных наград, 650 заслужили звание Героя Советского Союза, из них 224 генерала и офицера, 249 сержантов и старшин, 117 рядовых. Две трети удостоенных этого высокого звания — коммунисты. Среди воинов-Героев — представители более 20 национальностей нашей страны, вставших плечом к плечу против врага в минуту грозной опасности.
Но если бы та война была последней!.. Мы страстно желали этого. Но вскоре оказалось, что еще предстоит долгая и нелегкая борьба за мир и в этой борьбе еще придется участвовать нашему фронтовому поколению.
О новом оружии — атомной бомбе — мы узнали еще во время войны с Японией. Взрывы американских атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки офицеры бригады восприняли однозначно:
— Американцы грохнули атомом в Японии, надеясь, что стекла из окон посыплются в Москве, — говорили тогда наши политработники.
Мудрецы утверждают, что всякая уходящая война таит в себе зародыш новой. На этот раз очень уж буйным оказался зародыш.
Тогда же прошел слух, передаваемый шепотом, намеками, с недомолвками, о том, что и у нас идут работы по созданию сверхмощного оружия.
Я, конечно, тогда и предположить не мог, что тайну, хранимую за семью печатями, познаю сам. Не физик, не математик, не химик даже… Мое дело — мосты, дома, дороги, доты, мины, фугасы, в общем, классические атрибуты войны. Но атом — нет, не по мне. Так что строгий подполковник из отдела кадров Военно-инженерного управления Советской Армии, куда я прибыл за новым назначением, удивил меня, спросив без всяких, как говорится, наводящих вопросов:
— Вы, конечно, об американской атомной бомбе слыхали? Так вот, у нас принимаются самые энергичные меры по созданию своей атомной бомбы. И вам предстоит принять в этом деле самое активное участие.
— Но я, простите, не специалист!
Подполковник усмехнулся и сказал:
— Работы для всех хватит. Направляйтесь в распоряжение генерала. — И он назвал фамилию, которая тогда мне ни о чем не говорила, как и город, в который я должен был прибыть.
Тут же оформили документы, вручая которые кадровик заметил:
— Кстати, по имеющимся данным, у американцев всеми делами по изготовлению такой бомбы заправлял военный строитель.
Действительно, как узнал я позже, руководителем так называемого Манхэттенского проекта, объединявшего весь комплекс работ по созданию атомной бомбы, был генерал Л. Гровс — военный инженер-строитель, руководивший в свое время строительством Пентагона. В тот же день я выехал к новому месту службы.
Так перевернулась очередная страница моего житейского календаря, как будто бы и мирная, но насыщенная событиями исключительно военного характера. Впрочем, это тема уже совершенно другой книги…
Фотоиллюстрации
Михаил Филиппович Гулякин. 1945 г.
Алексей Иванович Фомин.
Под Сталинградом. Вторая слева — М. А. Морозова (Гулякина).
Весной сорок пятого на Одере.
Офицеры медицинской службы 37-й гвардейской стрелковой дивизии.
Только что начальник Центрального военно-медицинского управления Министерства обороны генерал-полковник медицинской службы Ф. И. Комаров объявил Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении М. Ф. Гулякину звания Героя Социалистического Труда. 1978 г.
Группа офицеров 62-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона. В центре (сидит) И. Д. Тютюров.
М. Г. Муравский.
В. И. Курин.
В. С. Татаренко (справа), И. С. Малофеев (сидят) и М. А. Шугуров среди красноармейцев.
В. И. Загибенин (в центре) со своими подчиненными.
Т. Ю. Царева и И. С. Царев.
В Забайкалье.
Ветераны у Боевого Знамени бригады.
Примечания
1
Это было вторичное создание Центрального фронта 15 февраля 1943 года после упразднения его 25 августа 1941 года.
(обратно)

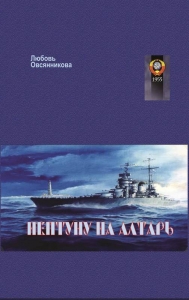

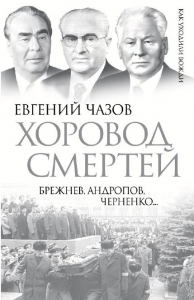
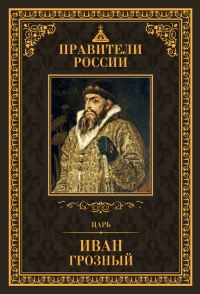
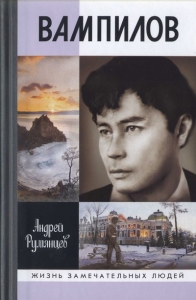



Комментарии к книге ««Будет жить!..». На семи фронтах», Михаил Филиппович Гулякин
Всего 0 комментариев