Геннадий Смолин МОЦАРТ Посланец из иного мира Мистико-эзотерическое расследование
Выражаю большую признательность немецким ученым-исследователям: Гунтеру Дуде (Мюнхен), Дитеру и Сильвии Кернерам (Майнц), Йоханесу Дальхову (Росток) и Вольфгангу Риттеру (Марбург), благодаря их изысканиям и открытиям «Расследование» приобрело необходимую полноту и законченность. Весьма кстати оказались неоценимые советы и пожелания Игоря Бэлзы (Москва) — энциклопедиста и интеллигентнейшего человека. Так же мне трудно переоценить вклад и роль русских эмигрантов первой волны — этих истинных хранителей великой русской и мировой культуры, а Веру Лурье (Берлин, Вильмерсдорф) хочется поставить первой в литерном ряду виртуального пантеона подвижничества…
Мне хотелось бы поблагодарить ученого-атомщика Николая Захарова, благодаря научным исследованиям и измерениям которого вышла в свет статья в научном журнале с фактическими доказательствами убийства великого композитора.
Большое спасибо академику РАЕН Александру Портнову за консультации и помощь в аналитическом расследовании того круга потенциальных вельможных персон, кто выдал «ордер на убийство» и ритуально уничтожал композитора.
Низкий поклон писателю-философу Николаю Луневу за участие в проекте.
О тайне вечного гения
Книга Геннадия Смолина «Моцарт. Посланец из иного мира» посвящена одной из самых таинственных страниц истории мировой культуры — причине болезни и смерти гения музыки, несравненного Вольфганга Амадея Моцарта. История, построенная на документах, фактах и современных расследованиях, где дни нынешние тесно связаны с днями минувшими, апеллирует к святая святых человека, заставляя его задуматься над главными вопросами бытия.
Нонконформизм и свобода духа вместо приспособленчества и подчинения воле сильного, добро и любовь вместо зла и ненависти, бескорыстие и доброжелательность вместо стяжательства и зависти. Это — наследие Моцарта, его урок, преподанный нам своей жизнью и смертью, что как лакмусовая бумажка все прошедшие годы отделяло «своих» от «чужих». И это пребудет всегда, не связанное ни с национальными особенностями, страной проживания, религией, языком, имущественным цензом человека. Главное — взять ответственность за свою жизнь на себя и делать все, на что ты способен, что предопределено тебе свыше. Это диктует нам не только вечная музыка Вольфганга Амадея (возлюбленного Богом) Моцарта, но пример излучающей путеводный свет его жизни и даже смерти.
Смолин построил книгу как социально-психологический детектив, В большей части книги, где приводятся малоизвестные и заново осмысленные старые данные, относящиеся к последним месяцам жизни композитора, а также подвергаются анализу действия его реального окружения, стиль строгий и взвешенный. Скрупулезное исследование этих сознательно искажаемых более двух веков действий и мотивов окружения делают честь автору книги, а также его добровольным помощникам в России, Германии и Австрии. Выводы и доказательства, представленные в опусе Смолина так существенны, имеют такие далеко идущие последствия, что я позволю себе дать не только краткий их пересказ, но по ходу дела и свои комментарии к ним.
В книге собраны все документы, касающиеся последней болезни и смерти Моцарта. В первую очередь — показания его семейного врача доктора Николауса Франца Клоссета, которые представлены в виде записок разных лет, так как архив и дневниковые записи, которые он вел, наблюдая Моцарта в последний год его жизни, не исчезли бесследно. Чудом сохранились лишь несколько листков бумаги, исписанных его почерком. По утверждению доктора Клоссета «история болезни» Моцарта вплоть до лета 1791 года была пуста, о чем свидетельствует и его сверхнасыщенная творческая, личная и интимная жизнь. Получившая хождение после смерти композитора легенда о якобы «чистой, спокойной уремии», свойственной ему, должна быть отвергнута уже потому, что он до последних часов находился в полном сознании и сохранял гигантскую работоспособность. За три предсмертных месяца им создано две оперы, две кантаты и концерт для кларнета, не говоря уж о том, что он ездил в Прагу для управления праздничным представлением «Дон Жуана» и премьерой оперы «Милосердие Тита», дирижировал первым спектаклем «Волшебной флейты» в «Виденер-театре» Шиканедера и своим последним сочинением — «Небольшой масонской кантатой на основание храма» (за две недели до смерти! — 18.11.1791 г.). И это больной хронической уремией?! Ведь известно, что они неделями, даже месяцами не способны к работе, а последние дни проводят в бессознательном состоянии.
Если и говорить о болезни почек у Моцарта, то острая почечная недостаточность на базе токсико-инфекционного заболевания, что в эпикризе о смерти предлагал написать консультирующий Клоссета доктор Саллаба, главный врач центральной венской больницы, гораздо ближе к истине — «острому токсическому некрозу». И тут, по словам Клоссета, приведенным Смолиным, «меня на минутку попросил уединиться герр Готфрид Ван Свитен. — Каков Ваш вердикт, доктор Клоссет? — Да как Вам сказать, герр барон… Мы с доктором Саллабой расходимся в диагнозе. — Есть мнение, что это острая просовидная лихорадка, болезнь, всегда сопровождающаяся характерными изменениями кожи, — вдруг резко заявил Ван Свитен. — У вас все эти симптомы налицо. И потому никаких вскрытий тела не производить, эпикризов не писать!» Этим дали понять, для истории и общественности, что речь должна идти о заразном заболевании — все указывало на быстрое разложение тела. Такой диагноз во многом развязывал руки, позволяя пренебречь даже сложившимся правилом, по которому погребение усопшего может совершаться «не ранее 48 часов».
Моцарт потерял сознание только за два часа до смерти, наступившей 5 декабря 1791 года около 00 часов 50-ти минут. А в три часа пополудни 6 декабря у входа в Крестовую капеллу собора Св. Стефана, где маэстро был главным органистом, уже шло отпевание его тела. Проводить его в последний путь собрались немногие: доктор Клоссет, Ван Свитен, Сальери, Зюсмайр, органист Альбрехтсбергер, благодарный почившему за протекцию в закреплении за ним места главного органиста собора. И никого из родных и семейства Вебер — ни тещи, ни вдовы, ни ее сестер. Единственной женщиной, пришедшей проститься, была его ученица, жена друга по масонской ложе, Мария Магдалена Хофдемель, и в горе утраты прекрасная как всегда (ей мы и обязаны сохранению пряди волос Моцарта, данной ей графом Деймом-Мюллером!). Барон Ван Свитен, оплативший похороны Моцарта по третьему разряду, сообщил собравшимся, что согласно декрету Кайзера Леопольда II от 17.07.1790 г. для воспрепятствования возможному распространению инфекции тело маэстро будет оставлено в специально отведенном месте капеллы до наступления темноты. Сопровождать тело на кладбище Св. Марка запрещено. Погребение совершится в отсутствие каких-либо близких людей, кроме могильщиков. Такой представлена скорбная картина проводов в последний путь величайшего из музыкантов мира Вольфганга Амадея Моцарта в этой книге. При этом автор замечает, что диагноз «острая просовидная лихорадка» не встречалось ни до, ни после смерти Моцарта.
Страшная кончина того, чье имя было известно многим, усугубленная посмертным вздуванием тела и его быстрым разложением, вызвавшая необходимость спрятать его так, чтобы никто никогда не смог найти и следа его останков, и потому совершенная без свидетелей, породила массу толков. «Предполагают даже, что он отравлен» — вот лейтмотив тогдашних разговоров и писем венцев. Моцарту отказано в элементарном: ни горсти земли не упало на его гроб из рук близких, ни вдовы, ни друзей, ни братьев масонов не было при его погребении, и все это ради того, чтобы заговор против его жизни полностью удался.
Пришлось смириться с тем, что все это не могло не вызвать нежелательных разговоров среди разных слоев жителей не только Австро-Венгрии, но Европы. Главное сделано — Моцарта нет, и он уже не сможет никого смущать своим свободомыслием и поисками справедливости. Так по сей день и неизвестна могила Моцарта, да и трудно сказать — существует ли она вообще. Гроб с телом Моцарта был после отпевания внесен служителями внутрь Крестовой капеллы, а когда он был оттуда вынесен и куда под покровом темноты отбыл, — сия тайна велика есть. Те, кто сумел проделать все это, заинтересованы в сохранении этой тайны на все времена, а силы эти — ох как значительны!
Заговор сильных мира сего, увидевших в Моцарте с его ярким гением, чувством собственного достоинства и нонконформизмом угрозу вечной своей власти, так же, впрочем, как потом в Пушкине и Лермонтове, тоже обреченных на раннюю насильственную смерть, без статистов свершиться не мог. А их, готовых ради сиюминутных привилегий безоговорочно исполнять все приказы, во все времена предостаточно.
В книге эти статисты, сыгравшие разную роль в гибели Моцарта, и обрисованы по-разному. Вот — один из самых близко стоящих к маэстро в последние месяцы людей, его ученик и почти что прислужник — Франц Ксавер Зюсмайр. Да-да, тот самый, который завершил его Реквием и по его подсказке написал некоторые, не слишком значимые фрагменты «Милосердия Тита», так как сам Моцарт просто не успевал все сделать в спешно заказанной ему Леопольдом II для коронации в Праге опере. Но ведь Зюсмайр, попросившийся к Моцарту в ученики, прежде был учеником Сальери, все время сохранял к нему добрые чувства и хорошие отношения, а в 1794 году по протекции Сальери был сделан капельмейстером Венского оперного театра! Маэстро Сальери даже не требовалось самому подсыпать в чашу Моцарта яд, так близок в последние месяцы был к моцартовскому семейству этот «свинмайр», что часто, когда сам композитор был занят (а занят он был постоянно), тот сопровождал на воды в Баден жену Моцарта Констанцию, которая стала, как считали тогда многие венцы, его любовницей и даже родила от него сына — Франца Ксавера Моцарта. Плохо, кончают свои дни апологеты и статисты зла. В 1803 году 37-летний Зюсмайр скончался при симптомах, похожих на симптомы Моцарта и был похоронен в общей(!) могиле.
1803 год был критичен и для властных недругов Моцарта: в этот год приказали долго жить Зальцбургский архиепископ Иеронимус Колоредо и Венский архиепископ Кристофоро Мигацци. Ну а уж смерти, как у Сальери, в психиатрической лечебнице никто не пожелает.
Те, кто были убеждены, что, скрыв тело Моцарта, они тем самым сделали невозможными доказательства насильственной смерти, оказались посрамлены.
Пришла пора сказать, что утверждение — Вольфганг Амадей Моцарт отравлен сулемой HgCl2, - доказано. Еще в 1958 году три немецких врача Иоханнес Дальхов, Дитер Кернер и Гунтер Дуда на основе симптомов болезни Моцарта, главными из которых были депрессия, бледность, обмороки, общий отек, лихорадка, дурной запах, специфический привкус и при этом ясное сознание и способность писать, выдвинули и обосновали версию отравления Моцарта ртутью, которая в первую очередь вызывает нефроз почек. Это удалось установить в результате проведения нейтронно-активационного анализа волос Моцарта, вскоре после смерти сбритых под корень императорским и королевским камергером графом Деймом-Мюллером, когда он делал гипсовый слепок его лица, с которого впоследствии отлил бронзовую посмертную маску.
Нейтронно-активационный анализ волосков Моцарта был проведен в Государственном научном центре (ГНЦ), и результаты были опубликованы в «Бюллетене по атомной энергии» за август 2007 г. Ртуть, попадая в организм человека, оседает и в его волосах, а точность метода такова, что проведение исследования возможно даже на одном волоске. Известно, что волосы растут с постоянной скоростью, примерно 0,35 мм. в день, т. е. за 6 месяцев они вырастают до 9-10 см. Моцарт очень дорожил своими волосами и заботливо за ними ухаживал, так что волоски из пряди, сбритой графом Деймом-Мюллером, были от 9 до 15 см. Методика эксперимента такова. Волосок, запаянный в кварцевую ампулу, бомбардировался в активной зоне реактора для активизации исследуемого вещества (Hg). Далее пронумерованные, начиная от корня, сегменты этого волоска длиной по 5 мм., вновь загруженные в кварцевые ампулы, помещались в ядерный реактор на предмет облучения их нейтронами, после чего измерялась их вторичная эмиссия.
Результаты, полученные для более длинного волоска, где по оси абсцисс отложена его длина, а по оси ординат — содержание ртути в граммах на тонну веса, показали, что в день смерти (0 — по оси абсцисс) концентрация ртути у Моцарта составляла 75 г.! на тонну веса, в то время как среднее содержание ртути в живом организме — 5 мг. на тонну веса (более, чем тысячекратное превышение!). Кроме того, видно, что за последние 6 месяцев Моцарта травили сулемой сериями, перемежаемыми относительным покоем. Первая — с 15.06 по 15.07.1791 г., далее 15.08–07.09.1791 г., 15.11–20.11.1791 г. и, наконец, последняя 28.114.12.1791 г. Если сопоставить эти даты с тем, как разные источники описывали состояние Моцарта в последние 6 месяцев, то поражаешься, как через промежуток в два века можно точно проследить всю картину преступления день за днем. Вот так в XXI веке русская наука подтвердила то, о чем в веке XIX во всеуслышание сказал Пушкин.
Как говорили древние римляне — Quod erat demonstrandum! (Что и требовалось доказать!). Авторами работы, представившей научное доказательство отравления Моцарта, являются к. х.н. Николай Захаров и писатель Геннадий Смолин, ранее — физик-атомщик.
Итак, тайное и на сей раз стало явным. Но доколе же мы будем терпеть это тайное, да и явное зло тоже? Ведь страшно не только убийство гения. Страшна посмертная диффамация его имени. «Гуляка праздный» — это еще самое мягкое из того, что до сих пор слышишь и смотришь о Моцарте.
Слушая музыку Моцарта и отмечая ее гармонию и красоту, часто не хотят замечать ее глубины, свободы и особенно света. К постижению его музыки идешь всю жизнь, а ведь ему было только 35, когда его убили. И кроме «покоя и воли», ему всего-то и было надобно — любви окружающих. Так давайте хотя бы на будущее не забывать, что «когда хронопы поют свои любимые песни, они приходят в такое возбуждение, что частенько попадают под грузовики и велосипеды, вываливаются из окон и теряют не только то, что у них в карманах, но и счет дням». И потому будем стараться еще при жизни окружать их теплом и заботой.
Елена Антонова
доктор физико-математических наук
Вместо вступления
Обстоятельства смерти великого австрийского композитора и сегодня, 226 лет со дня смерти Вольфганга Моцарта, побуждают исследователей возвращаться к документам, фактам и преданиям тех далеких лет. В надежде, хоть и призрачной, те достопамятные события, будто Ивиковы журавли, вновь и вновь возвращают нас к нынешним венским и зальцбургским «хранителям Грааля», чтобы приблизиться к истине, иероглиф которой выбил на скрижалях истории русский солнечный гений Александр Пушкин.
Так вот, вся эта круговерть началась с обычной поездки в Западный Берлин, вернее — с прозаической просьбы приятеля: заехать в Вильмерсдорф — предместье германской столицы — передать бандероль с лекарствами для бабушки-эмигрантки. С этого все и началось. Как будто я нажал на «спусковой крючок», раздался «выстрел», и моя жизнь стала развиваться по иным, необъяснимым правилам и таинственным канонам. Изложенное ниже находится за гранью моего — я имею в виду человеческого — понимания. И, тем не менее, это невыдуманная история жизни и смерти Вольфганга Амадея Моцарта.
Рукопись попала ко мне совершенно случайно. Но по порядку.
Этот манускрипт передала мне перед отъездом в Россию эмигрантка первой русской волны, поэтесса и графиня Вера Лурье, жившая в предместье Берлина — Вильмерсдорфе. То был своеобразный подарок от казачьего офицера Войска Донского — Александра Ивойлова, успевшего передать ей манускрипты о Вольфганге Моцарте. Александр значился в «Казачьем стане» генерала Т. И. Доманова; это формирование оказалось в зоне оккупации англичан и, как она узнала позже, все казаки были выданы советскому командованию под Линцем. Помочь Сашеньке Ивойлову Вера Лурье не сумела, смогла лишь страстно долюбить до конца дней своих.
Во время моего вояжа в Берлин загадочным образом ушел в мир иной мой приятель и внучатый племянник Лурье Виктор Толмачев. Следуя наставлениям графини, мне пришлось лично продолжить «дело жизни Толмачева» и заняться собственным мистико-эзотерическим расследованием, в результате которого были найдены сенсационные данные крупнейшего скандала в европейской культуре XVIII столетия, связанного с тайной раннего ухода гения музыки Вольфганга Амадея Моцарта.
Приступая к изучению доставшихся мне документов, я понятия не имел о тайных ложах, франкмасонах, иллюминатах, об эзотерических знаниях, ничего не знал про обряды посвящения для «профанов», которых рядили в смирительные рубашки масонских лож и прочих эзотерической организаций, руководители которой пытались оспаривать власть самого Господа Бога. Исподволь, мастера и гроссмейстеры убеждают нас в исключительности и высшем предназначении «:посвященных» или масонов, имя которых легион, как записано в Библии.
Ныне я осведомлен об этом, скажем так, чересчур хорошо. Слишком уж часто смерть подстерегала тех, кто, как Виктор Толмачев, осмеливался жить собственной правдой и переступил ту роковую черту, за которой их поджидала неминуемая смерть. Вопрос в другом и главном: а стоит ли жить по-иному — быть толерантным и амбивалентным, быть конформистом?
За два столетия истории, которую поведали мне эти манускрипты, а если быть точнее — рукописные и иные документы, опалили «по краям» мысли и души не одного человека. Череда смертей вовлекла каждого из них в бешеную пляску, которой не было сил противиться. Теперь пришел мой звездный час. Я это понял и воочию ощутил на себе. Вот почему я пришел к выводу, что обязан обнародовать то немногое, что мы знаем (или думаем, что знаем) об Амадее Вольфганге Моцарте. Зачем? Ответ прост. Я надеюсь, что сумею — пусть даже на мгновение — прервать безумную пляску смерти и лишить ее злой колдовской силы, чтобы она не успела поглотить следующие персонажи этой интеллектуальной трагедии.
Задача осложнялась тем, что я сам был вовлечен в этот завораживающий процесс и захвачен вихрем страшных танцев. Прямо на моих глазах смерть обольщала, лаская и обволакивая очередную жертву и все крепче и крепче прижимаясь к ее бедрам. Нескончаемая цепь сцеплений событий во временную последовательность, только распаляла смерть, кружа ее в мучительно-сладостных па, в ожидании своего вожделенного часа «икс».
Преуспею ли я в своем праведном намерении, не ведаю. Но что меня насторожило — это то, что на меня снизошло некое безразличие, в душе зазвенела леденящая пустота равнодушия. Это случилось после того, как я обнаружил в пакете с переданными манускриптами прядь волос В. Моцарта и договорился с физиками-ядерщиками из государственного научного центра (ГНЦ) о проведении тест-исследований с помощью нейтронно-активационного метода. Снятие характеристик, их анализ, совместно с хронологией течения болезни Моцарта дал бы наконец ответ: был ли отравлен великий композитор или это просто досужие вымыслы. Иными словами, удалось бы фактически доказать преступление в европейской культуре XVIII столетия, гениально описанного Пушкиным, а именно: начиная с июня — вплоть до 4 декабря 1791 года Моцарту с едой и питьем дозировано вводилась двухлористая ртуть — сильнейший металлический яд сулема. В итоге получилось бы, что тот круг вельможных персон, кто выдал «ордер на убийство» и ритуально уничтожал композитора, не ограничивался бы одним только Антонио Сальери.
Есть один момент, который я хотел бы прояснить, прежде чем вы перевернете эту страницу, что я вовсе не рвался распутывать этот клубок тайн, проблем и загадок, поскольку не по своей воле оказался причастным к этой истории. Разгадка проста. Меня заворожила роскошь и красота музыки Моцарта, как и другие реальные персонажи этой истории: русская эмигрантка первой волны, графиня Вера Лурье, австрийский профессор музыки Гвидо Адлер, русский музыковед профессор Игорь Бэлза, ученые-медики и музыковеды из ФРГ Дитер Кернер, Вольфганг Риттер, Гунтер Дуда. Похоже, во всем этом был виновен бог музыки и гениальный музыкант Вольфганг Амадей Моцарт.
Часть первая Noblesse oblige[1]
«Что значит знать?
Вот, друг мой, в чем вопрос.
На этот счет у нас не все в порядке.
Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали,
Как вам известно, с самых давних дней».
Иоганн Гете, «Фауст»Возвращение в «Шарлоттенград»
«Ночь! Обольщенье! Кокаин! — Это Берлин!..»
Андрей Белый, «Шарлоттенград», 1924 годМой вояж в Германию был обставлен как надо. Мы с Николаем Митченко, моим однокашником по институту, планировали его уже давно, но до реализации наших планов все никак не доходило. Тогда, в апреле, я чувствовал себя довольно неважно. Сказалось все: и пресловутый червь сомнений касательно нынешней работы и призрачность моего будущего. Все это подтачивало мой организм изнутри, а тут сошлось все воедино: меня неожиданно легко отпустили с работы на две недели. Николай прислал вызов, а я в экспресс-манере прошел стихию оформления необходимых документов в германском посольстве.
У меня был неразлучный компаньон, старый мой приятель-технарь Виктор Толмачев, работающий на кафедре МИФИ. Он был страстно влюблен в творчество великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, организовал музыкально-исторический и просветительский клуб «Кенгуру», рассказывая там о композиторах Германии, России, Италии и Франции. Толмачев много переводил с немецкого и горел единственной страстью — напечатать в России как можно больше книг по истории музыки. Узнав, что я собираюсь в Берлин, Виктор поинтересовался, не смогу ли я оказать ему любезность — заехать к его дальней родственнице, очень старой и больной женщине, жившей в Вильмерсдорфе, пригороде германской столицы и отвезти ей небольшую бандероль с лекарствами.
Уже дома, собирая сумку и наткнувшись на розовый сверток от Толмачева, прочитал адрес на бумажке: фрау Вера Лурье, проживает в предместье Берлина — Вильмерсдорфе, (такая-то улица, № дома). Бандероль от друга из Москвы Виктора Толмачева (Цветной бульвар, дом №, квартира №, Россия).
Немного подумав, я зашвырнул бандероль на самое дно. И тут же о ней забыл.
И вот документы при мне, спортивная сумка приятно оттягивает правую руку. Мчусь в экспрессе в аэропорт. Слава Богу, самолет не поезд или автобус. Не успел я занять кресло в салоне аэробуса в Шереметьево-2, как уже приземлился в берлинском аэропорту «Шенефельд».
Еще до паспортного контроля приметил однокашника по питерскому Политеху Николая Митченко. Да, это был он, мой славный, немного возмужавший онемеченный Николай фон Митченко! Вот он подходит ближе, уже с тележкой, улыбается, говорит что-то, берет за руку, здоровается. Мы троекратно целуемся, он опять говорит, а я не слышу. Идем вместе за багажом, долго — почти вечность ждем мою нехитрую поклажу. И я начинаю рассказывать ему о полете, о наших друзьях-товарищах по Политеху, с которыми связь потеряна окончательно, еще о какой-то ерунде. Он внимательно и вежливо слушает, рассматривая меня большими, немигающими глазами, и не перебивает.
Получаем наконец-то багаж, и идем в буфет пить кофе.
Он принес две чашки кофе и круассоны, уселся напротив.
Пьем кофе, расправляемся с круассонами, а я исподволь, с некоторым любопытством рассматриваю его лицо, движения рук, вслушиваюсь, как он говорит. Николай почти не изменился, тот же облик, те же большие печальные глаза; возраст не наложил свой отпечаток: кожа не утратила молодости, а во взгляде пробиваются знакомые искорки радости. Приобретенная немецкость пошла ему на пользу: он кажется высоким, спортивным: еще ладным и крепким гренадером. Аккуратно одет, вышколен. Европеец что надо!..
Выходим на улицу, садимся в его машину, в салоне — запах хорошего парфюма; мягко трогаемся и несемся из аэропорта в Берлин. Я поглядываю в окно, всматриваюсь и хочу увидеть то, что ожидалось; и мои надежды не обманывают: красивые улицы, сверкающие машины, хорошо одетые люди. Какой великолепный симбиоз построек из старинных и в стиле модерн, а главное — ухоженных домов, зданий — все, как представлялось по иллюстрациям, роликам из кино, телерепортажам.
Ехали долго, или показалось так. Дом, обыкновенная многоэтажка, каких в Москве полно на окраине. Жена — молодая, красивая брюнетка. Никакая не фрау, а почти что фройляйн.
Николай знакомит нас.
— Ich heißе Lotta («Меня зовут Лотта»), — холодновато представилась фройляйн и, извинившись: («Entschuldigen Sie!») — ушла.
Меня это не обескуражило, я расплываюсь в счастливой улыбке, выпаливаю свое имя:
— Макс! — и почтительно склоняю голову.
Побросав вещи, мы решили по стародавней русской традиции помыться и попариться… Николай повез меня в термены в «русско-румынские» бани…
Чтобы развязать себе руки и не быть обузой герру фон Митченко и его юной жене, я поселился в недорогом номере гостиницы недалеко от Митченко. На следующий день я вспомнил о просьбе Виктора — навестить его дальнюю родственницу, графиню Веру Лурье, живущую в предместье Западного Берлина — Вильмерсдорфе, и передать ей пакет с лекарствами. Созвонившись с Верой Сергеевной Лурье, мы договорились встретиться на следующий день. Пунктуально, по-немецки: в девять ноль-ноль. Я попросил Николая, подбросить меня до нужного места на его вишневом «Опеле».
С утра пораньше, я принял душ, побрился и полил распаренную кожу крепким французским одеколоном. Посмотрелся в зеркало ванной комнаты: выпрямился, втянул живот, расправил плечи — вроде бы, сносно. Форму надо держать, и я дал себе слово, что по возвращении в Москву возьмусь за гантели, штангу, оседлаю тренажеры; буду бегать трусцой или рысцой до Самотеки или — чем черт не шутит! — по Воробьевым горам.
Николай был по-немецки точен; и мы минута в минуту въехали в Вильмерсдорф и остановились у сельского типа коттеджа — в получасе езды от центра Берлина. Небольшой дом, расположенный в тени деревьев, — типичный для этих мест пейзаж, отличался безукоризненной немецкой опрятностью и вылизанностью.
Николай предупредил:
— Буду нужен, позвони — приеду за тобой, и он мягко отъехал, оставив меня совершенно одного.
В глаза бросился пейзаж в стиле «а-ля-рюс»: напротив коттеджа у забора русская поленница — она была сложена настолько аккуратно, будто с картин художников-передвижников из России.
Итак, мне предстояло навестить женщину, о которой Виктор сообщил много интересного. Ее звали Вера Сергеевна Лурье. Возраст — фантастический: около ста лет. Дочь крупного российского чиновника, дворянка, она мало что смыслила в свои юные годы в политике, когда с родителями спешно покидала Петроград. Лирическая поэтесса Вера Лурье, была в здравом уме и твердой памяти. Чтобы подчеркнуть историзм своего бытия, она окружила себя памятными фото начала прошлого столетия и экспозициями европейских столиц того же периода. С графиней проживала ее помощница, Наденька, внучка казачьего генерала Науменко.
Четыре огромные комнаты своего вильмерсдорфского дома старой постройки Вера Лурье сдавала в наем русским студентам. Но ненадолго — в последние годы она работала над книжкой и малейший шум раздражал ее, не давал сосредоточиться.
По словам Толмачева, мадам долгие годы трудилась над мемуарами, а сейчас подыскивала издателя для публикации истории своей жизни, которая у нее началась в 1902 году в Санкт-Петербурге. В своем грандиозном побеге с родителями в 1921 году из советской России юная Лурье попала, как говорится, с корабля на бал. И на берегах Шпрее столкнулась со всем великим, что вынес поток эмиграции из России. Молодая графиня отмечала шумные праздники с известными художниками Иваном Пуни и Элом Лисицким или проводила философские беседы с писателями Борисом Пастернаком, Ильей Эренбургом, Виктором Шкловским. Позже в круг ее друзей вошли многие видные деятели русской православной эмиграции, крупные философы: Бердяев, Франк. Перед самой войной Вера Лурье близко познакомилась с известным генетиком из СССР Николаем Тимофеевым-Ресовским. Она поддерживала дружеские отношения с ним и его семьей до падения гитлеровской Германии.
У Лурье сложился тесный круг друзей, среди которых был эксцентричный писатель Андрей Белый, заостривший внимание общественности в 1924 году на «Шарлоттенграде» — местности по обеим сторонам Курфюрстендамм, следующими рифмованными строками:
«Ночь! Обольщенье! Кокаин! — Это Берлин!»
Такие русские, как Андрей Белый, порой поражались олимпийским равнодушием берлинцев. Он пытался спровоцировать прохожих-немцев на маломальское удивление, а для эпатажа мог сделать стойку на голове или вывесить на свой спине какое-нибудь абсурдное изречение. Но все оказывалось тщетным. В конце концов, русский поэт пришел к пессимистическому выводу:
«Берлинцам этого не постичь. Эта их немецкая приземленная проза жизни не может охватить того, что выше их разума, а уж тем паче — запредельного, на гране помешательства».
Ныне, как и в 20-х годах берлинцы принимают новых русских из далекой России. Так же равнодушно и даже со смесью безропотности и наплевательства сегодняшние горожане столицы лицезреют на то, как Берлин распухает от эмигрантов, становясь провосточным и даже русским. И это не трогает наследников тевтонских рыцарей.
…Я подошел к сосновой двери под стилизованной крышей и повернул изящным ключом. На звук валдайского колокольчика тотчас отозвалась прислуга — девушка с утонченным славянским обликом — открытым красивым лицом, живыми глазами и пухленькими губами. Она проводила меня в прихожую, залитую дневным светом.
Я сменил обувь, оставил куртку и планшетку и прошел следом за девушкой.
Переступив порог комнаты, я ослеп от яркого луча весеннего солнца, ударившего вдруг из окна. И почувствовал скованность; меня поразила немота. Ошеломление длилось в течение нескольких секунд. Пока глаза не привыкли, я различал лишь очертания женской фигуры, устроившейся передо мной на диване, спиной к окну.
Помещение было декорировано приглушенными тонами: от кофе с молоком — потолок и стены — до темно-коричневого — мореный дуб антикварной мебели. Длинношерстный ковер на полу, накидка на креслах и покрывало на софе вместе с коричневыми ламбрекенами на окнах тоже не выбивались из общей цветовой гаммы.
Я разглядел хозяйку особняка более внимательно. Это была элегантная старая леди с аккуратной прической льняных волос — высокая, бледная, с правильными чертами лица. Вероятно, она плохо чувствовала себя — ее движения были степенными, но как будто давались с трудом.
Я подошел ближе, представился:
— Фрау Лурье, я — друг Виктора Толмачева из Москвы. Он передал вам низкий поклон и пожелания всего наилучшего. И вот небольшая бандероль с лекарствами, тут целебная мазь и витамины — ретеноиды. Все это, как он надеялся, поможет вам.
Я вручил женщине небольшой пухлый пакет. Она протянула руку с роскошным серебряным браслетом на запястье с дивными инкрустациями из яшмы, малахита, сапфира. У нее были изящные руки с длинными пальцами и маникюром, над которым трудился профессионал.
Она мягко усмехнулась и сказала низковатым, будто прокуренным голосом:
— Благодарю вас, сударь из России. Присаживайтесь. Только ради Бога, не называйте меня фрау Лурье, а просто Вера Сергеевна.
По крайней мере, сейчас. Никогда я не была фрау и, надеюсь, что уже не буду.
Мне стало неловко.
Но Вера Сергеевна стала говорить дальше:
— Боже ты мой, как приятно видеть у себя в гостях соотечественника! Безусловно, это в духе нашего славного Викториши (она делала ударение на «о») — послать мне с оказией лекарственные снадобья из заповедных русских мест. Он ведь хорошо знал, что я на дух не перевариваю ту «химию», которой потчуют здешние врачи, особенно этот ужасный концерн медпрепаратов, раскинувший щупальца по всему миру. Берлинские доктора невежественны изначально, ни в одной болезни не разбираются, зато так и мечут заумными терминами, что бы скрыть свой непрофессионализм. Да, Вам пришлось истратить на меня свое время. Прошу извинить.
Глядя в ясно-зеленые глаза старой дамы из высшего петербургского света, которая, несмотря на возраст, говорила очень живо, а передвигалась с изумительной грацией, я понемногу успокоился и перестал ощущать себя неуклюжим и неповоротливым чурбаном.
Скоро я был в своей тарелке, сохраняя внешне некое подобие приличных манер. Лаконизм и простота комнаты в неброском английском стиле казались уже своими, по-домашнему покойными. Комната, залитая солнечным пронзительным светом, создавала ощущение покоя и тихой радости. А интеллигентное лицо почтенной графини почему-то казалось до боли знакомым, словно я видел ее где-нибудь в поезде или на картине русских классиков в Третьяковке. А может быть во сне?.. Как говорят французы, включился синематограф под названием déjà vu («я уже где-то это видел»)
Я стал рыться в кладовых своей памяти, возрождая то, что еще Виктор поведал мне о Вере Сергеевне Лурье. Делая вид, что внимательно слушаю графиню, я невольно размышлял о хозяйке этого сказочного коттеджа. Я вспомнил о побеге юной Веры с родителями из роскошных гостиных старого Петрограда через Прибалтику в Германию, вернее — в ее столицу, в этот район Западного Берлина. Но для каких высших предназначений? Для бескорыстного служения некоей идеи фикс, скорее самопожертвованию во имя высокого чувства, например любви?..
Вера Лурье вышла замуж за отпрыска барона Вальдштеттен, получив титул баронессы Вальдштеттен-Лурье, вошла в превосходную семью, но скоро стала жить отдельно от мужа, в окружении несколько сомнительного сообщества русских эмигрантов. Эта романтичная чудаковатая женщина, довольно экстравагантная, принимала у себя пестрое многоцветье тамошней богемы, состоявшее из самых различных людей. Разумеется, мадам Лурье часто приходилось выслушивать нарекания по поводу ее «эксцентричного стиля жизни, нарядов и суждений». Именно в ее доме играли в «невинные игры свободных граждан мира», что, по сути, походило на заседания масонских лож. Ко всему этому с подозрением относился как тамошний свет, так и политический истеблишмент. Тем не менее, Вера Лурье преуспела во всех делах: даже выучилась ткать и прясть не хуже местных бюргерш, потакая традициям и менталитету тогдашних берлинских аристократических кругов. Правда, политический окрас в Германии менялся, уступая место кондовым черно-коричневым тонам.
Жизнь резко изменилась в конце июня 1941 года, как только стал реализовываться план «Барбаросса» (в отношении Советского Союза). В период Третьего Рейха фрау Лурье использовала свое высокое положение в обществе, чтобы помогать и спасать перемещенных лиц и, конечно же, ученых. Образовался своеобразный тандем: Лурье — Ресовские. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, крупнейший генетик, был заместителем директора Института исследования мозга. Общества содействия наукам имени кайзера Вильгельма не убоялся носить в кармане пиджака до конца войны советский паспорт.
Почему немцы его не трогали? Тут много неразгаданных тайн.
Тимофеев-Ресовский был величайшим ученым-генетиком, он входил в верхний эшелон руководства НИИ, опекаемого самим фюрером и занимался проблемами антропологии — вопросами рас, евгеникой. С приходом нацистов к власти, Николай Тимофеев-Ресовский стал прятать перемещенных европейских ученых и даже военнопленных, помогал многим, кому грозила опасность, предоставляя им спокойную работу в своем институте.
Но его старший сын Дмитрий (по-домашнему — Фома), тогда 18-летний студент физического факультета Берлинского университета, участвовал в делах, действительно, опасных. Он сотрудничал с группой молодых людей, помогавших иностранным рабочим, попавших в нацистское рабство, бежать и скрываться. Полиция напала на след этой «молодогвардейской» организации. Старший Тимофеев-Ресовский был арестован в начале 1945 года и брошен в тюрьму. Вера Лурье, используя свои великосветские связи, пыталась вытащить Дмитрия из застенков гестапо, но безрезультатно. Фому Ресовского перевели в концентрационный лагерь Маутхаузен, где он погиб еще до прихода Красной Армии.
Николай Владимирович до последней минуты надеялся, что сын выживет, а потому был в некоей прострации. Чтобы помочь ему, Тимофеев-Ресовский остался в Берлине после капитуляции Германии и не уехал в США, куда его звали, а передал Институт в руки полпредов из СССР. Из-за гибели Дмитрия он пал духом. Вера Лурье, как могла-умела, утешала его, но вскоре ученый, его жена Елена Александровна и младший сын Андрей пропали из ее поля зрения.
Они были арестованы и отправлены в СССР. Так же, как и ее возлюбленный — казачий офицер Кубанского казачьего войска Александр Ивойлов, успевший передать ей документы и реликвии, связанные с великим Вольфгангом Моцартом. Казачий офицер значился в списках «Казачьего стана» генерала Тимофея Ивановича Доманова; это формирование оказалось в зоне оккупации британцев и, как она узнала позже, все казаки были выданы англичанами советскому командованию под Линцем и препровождены в СССР. Многие были расстреляны или сгнили в Сибири.
Только в 60-х годах прошлого столетия имя знаменитого ученого-генетика Николая Тимофеева-Ресовского вновь всплыло в международных научных кругах в связи с присуждением Кимберевской премии США, а Вера Лурье, узнав об этом, написала в СССР письмо на имя Николая Тимофеева-Ресовского. Но ее весточка осталась без ответа; и только через десять лет Веру Лурье нашла короткая депеша из подмосковного Обнинска, где Николай Владимирович сообщал, что работает в Институте медицинской радиологии, и вновь интересовался о своем сыне Фоме: нет ли каких-либо документальных следов его окончательной судьбы в Маутхаузене (хотя бы, в захваченных американцами архивах). Вера Сергеевна отправила открытку в Обнинск; но более никаких вестей из СССР на ее имя не поступало.
Грозное «мяу» Василия, любимца Веры Сергеевны, кота сиамской породы, нарушило царившую в комнате тишину. Я стряхнул с себя оцепенение и вернулся к разговору.
— Благодарю вас, Вера Сергеевна, за беспокойство обо мне.
Но эта услуга для вас — сущая для меня безделица, — заверил я графиню. — Более того, я, конечно же, премного обязан Вам. Выдали мне только повод, чтобы сбежать из хаоса скучной и беспокойной столицы. А то сидел бы я сейчас в прокуренном кнайпеи под звон пивных кружек слушал разноголосицу завсегдатаев, болтающих бог знает о чем.
Вера Лурье искренне рассмеялась.
— Вы, Макс, более, чем правы, — деликатно заметила она. — У нас одни и те же критерии и постулаты в жизни.
Кожа Веры Сергеевны была настолько бела и гладка, что казалось, будто это не старая-престарая графиня, а молоденькая студентка. И эти ее изумительные глаза — ярко-зеленые, ясные!.. Никогда не видел таких очей. Чистые, как изумрудные всходы озимых под ясным весенним небом. До умопомрачения прекрасные глаза! Похоже, и морщинки были не фактом ее возраста, а игрой света и тени. А смеялась она с той загадочностью и тайной, которые делали ее похожей на Джоконду Леонарда Да Винчи.
Искушению смеяться поддался и я. И в тот же миг у меня исчезло чувство неловкости. Утренняя мигрень и внутренний дисбаланс будто улетучились. Все печали ушли без следа. Только роскошное весеннее солнце в промельках вековых деревьев за окном гостиной да покой, разлитый в мягко освещенной комнате.
Чем дольше я был у Веры Сергеевны, тем становился раскованнее, умнее и обаятельнее. По крайней мере, так мне казалось.
Лурье интересовалась всем без остановки: Москвой, Россией, переменами в обществе, нынешней властью. Потом еще раз поинтересовалась, как поживает мой друг из Москвы, герр Виктор Толмачев?
Я как-то неубедительно отозвался одним, но емким:
— О’кей! — и для верности выставил вперед большой палец.
Вера Сергеевна кивнула и как-то пристально посмотрела мне в глаза, но тут же переключилась на воспоминания об Андрее Белом.
Внезапно старая леди спохватилась, вызвала девушку-прислугу Надежду, одетую в стародавний казацкий наряд, и попросила подать чай.
Буквально через пять-десять минут Надежда, пылая пунцовыми щеками, вошла с подносом, на котором уместился компактный самоварчик, заварочный чайник из фарфора и большие кружки.
Скоро мы пили крепкий, приправленный пряностями чай, восхитительный на вкус, и беседовали обо всем на свете. Я расспрашивал Веру Сергеевну о состоянии ее здоровья. Узнал, что у нее больное сердце, что вот уже в пятый раз врачам приходится подключать аппарат, стимулирующий работу сердечной мышцы. Здоровье ухудшилось в начале года, а до той поры все было неизменно хорошо. Тем более фрау Вера старалась проводить большую часть дня на природе или как она с усмешкой говорила: «на моем огороде».
— Люблю моционы на свежем воздухе, — призналась она. — Все началось с моего небольшого приусадебного участка. Еще до войны. Там приходилось много работать физически, отрабатывать добровольную барщину. Все это, несомненно, закаляло организм, а главное врачевало душу. Сейчас так никто не делает. Слишком многое перепоручалось машинам, или другим людям. Организм слабел и дряхлел.
Ну ладно, дождемся лета. И я снова окунусь в природу, в садово-огородные дела.
В солнечные лучи высвечивали невесомые пылинки.
Сладкий и крепкий чай с бергамотом вдохнул в меня порцию энергии, и я почувствовал себя необыкновенно бодрым, — даже голова слегка закружилась.
Я зажмурился и представил Веру Сергеевну, бредущую по чащобам Подмосковного леса, — ее высокую, худощавую фигуру в простеньком ситцевом платье. Захотел представить рядом с ней ее соседей — берлинских бюргеров, но не получилось: что-то было неестественное в воображаемой картинке: «правильные» немцы в упрощенном и дешевом молодежном одеянии а-ля-рюс.
И вновь послышался голос Веры Сергеевны:
— В последнее время я немного сдала. Но я не ропщу. Он всегда был добр ко мне, поддерживал меня во всем, даже в мелочах. И я надеюсь, что теперь, когда я так нуждаюсь в его поддержке, он не оставит меня.
Поначалу я решил, что под именем «Он» старая женщина подразумевала моего друга Толмачева. Только потом сообразил, что Вера Сергеевна имела в виду Господа Бога.
Тут я был полностью разделил сторону Веры Сергеевны.
Как только мне становилось плохо или что-то мерзкое оживало во мне, и все кругом портилось и блекло — меня спасала одна только мысль, что существует Всемогущий Спаситель. И я шел в ближайшую церковь или отправлялся на метро до станции Бауманская, в кафедральный Елоховский собор. Еще в разгар оголтелого материализма в эпоху СССР я всегда искренне удивлялся: отчего был наложен запрет на Бога? Ведь немощным, сирым и обездоленным или когда человеку мерзопакостно на душе — нужна вера как надежда и опора.
Хотя, в самом раннем детстве, в классе первом мы со смехом спрашивали у однокашника, родители которого верили в Спасителя: кто главнее — Бог или наука. К нашей вящей радости однокашник искренне отвечал: разумеется, Господь Бог. И мы оголтело хохотали, уверенные в своей правоте: что Наука, а вернее — ее законы, формулы и расчеты правят бал на Земле и в Космосе.
Разумеется, Вольтер был абсолютно прав, когда сказал, что если бы Бога не было, то его нужно было обязательно выдумать.
При всем моем уважении к религиозным чувствам старой леди (по крайней мере, полагаю, что относился к ним с должным уважением), я не устаю поругивать себя за то, что недостаточно педантично верую, плохо соблюдаю посты, не исповедуюсь батюшке, дабы осознать весь божественный смысл своего существования. Вот о чем думал я, глядя на русскую баронессу Веру Лурье.
Она молчала. Ее лицо оказалось наполовину в тени. Контрастность тени и света, заливавшим комнату, была так причудлива, что мне стало не по себе. Пауза затягивалась. Фрау Лурье повернулась к окну и с минуту глядела в него, словно ожидая чего-то или кого-то. Затем вновь устремила взгляд на меня и продолжила разговор о Германии, но, похоже, потеряла свою предыдущую мысль и принялась развивать новую.
Вера Лурье поведала о том, как во времена нацистов она выучилась сучить овечью шерсть, выращивать овощи на маленьком огородике и даже шить и прясть; о том, как она вставала ежедневно в четыре часа утра, чтобы помолиться в православном храме.
И вновь Вера Лурье, потеряв нить разговора, замолчала.
Помолчав с минуту, она спокойно, с тонким юмором и с каким-то затаенным наслаждением заговорила о смерти.
— Смерти я не боюсь, — категорично заявила Вера Сергеевна.
Невооруженным глазом было видно, что она истово верила в то, что ее душа непременно улетит в небеса, а там встретится со всеми, кого она знала, любила и за кого молилась.
После паузы, баронесса заговорила наставительно, будто священник с амвона:
— После смерти, всем нам предстоит заново родиться — духовно.
Смерть только кажется чудовищной нелепостью — это взгляд профанов со стороны, в действительности — она наш старый добрый друг.
А разве можно бояться друзей?..
Честно говоря, я почувствовал себя не в своей тарелке: страшный и неестественный уход из жизни преподносился, как о что-то само собой разумеющееся в бытии каждого конкретного человека.
Вера Лурье, немного помолчав, продолжила говорить, но уже с какой-то тихой радостью:
— Я прожила три жизни, вы меня понимаете, дорогой мой?..
Не уловив смысл ее слов, я только пожал плечами.
— Первую — вместе с Моцартом, вторую — с Пушкиным и Россией, о которой у меня туманные представления; а нынче вот эту, третью, — опять с Моцартом.
Она снова замолчала. Взгляд ее умных проницательных глаз обжигал мою душу, словно в нее тонкой струйкой вливался раскаленный металл.
Мне уже становилось интересно: куда клонила графиня.
— В принципе, я полагаю, что Моцарт и Пушкин очень похожи или даже идентичны, — сказала она, не спуская с меня пытливого взгляда. — Знаете, великий Шиллер великолепно сказал в своем гениальном «Деметрии»:
Сорвать хочу я паутину лжи, Открою все, что мне известно. Вновь пауза и уже другая мысль Веры Сергеевны:
— Можно ли выразить словами то, что творил Бог музыки — Моцарт, преисполненный духовного подъема и искренности, когда исполнял на фортепиано свою фантастическую музыку. Сам Господь удостоил его такой благодати.
Чуть подавшись вперед, ко мне, Вера Лурье добавила:
— Люди, никогда не знавшие близко тех, кто велик душой, могут не понять этих слов поэта. Для других, например, для меня, много лет находившейся в лоне Православия, смысл сказанного абсолютно ясен.
Знаете, душа человека излучает нечто невидимое глазом, создавая некое биополе или ауру. Все зависит от того, у кого какая аура: у одних она несет позитив в окружающий мир, у других напротив, имеет другой знак — устремлена в собственное «я» или эго.
И тут окружающий мир вокруг стал уменьшаться, скукоживаясь словно шагреневая кожа, — религиозные пассажи-откровения старой леди и неожиданно прозвучавшая тема по иному обустроенному параллельному миру, — все это выбивало меня из привычной колеи.
Вера Лурье не дала времени на раздумье, а перешла в атаку.
— Конечно же, вы считаете, что тут оказались чисто случайно? — спросила она и сама же ответила: — Нет, мой русский друг. Я точно знала наперед, была просто убеждена, что вы — именно тот самый посланник. Разумеется, я не ведала, кто вы и как будете выглядеть — это стопроцентная правда. Попытаюсь вам пояснить.
Я невольно вздрогнул: тема о предчувствиях, подсознании — все это было знакомым и близким, поскольку я в последнее время стал увлекаться этими категориями. В беллетристике, в оккультной или околонаучной литературе. Правда, поверхностно — на уровне терминологии или расхожих определений.
Пока Вера Сергеевна делилась со мной своими воспоминаниями, мне было приятно с ней беседовать. Однако, выслушивать рассуждения о тонкостях христианской веры, о вечной человеческой душе или про некие потусторонние силы и ее религиозные воззрения было для меня не вполне интересно. И я даже стал откровенно скучать.
Но не успел я вымолвить придумать предлог, чтобы откланяться и уйти, как Вера Сергеевна резко поменяла тему, переключив разговор в иной ключ.
— Вы можете мне возразить, если я скажу: душа Моцарта чудесным образом реинкарнировалась в Пушкине, — неожиданно заявила она и пояснила: — Александр Сергеевич об этом догадывался и пытался рассчитать траекторию своей судьбы, когда работал над своим шедевром «Моцарт и Сальери». Действительно, между Моцартом и Пушкиным много общего. Они даже внешне похожи. Современник маэстро, повстречав Вольфганга Амадея в Берлине в 1789 году, сказал:
«Маленький, суетливый, с туповатым выражением глаз, в общем — непривлекательная фигура». Действительно, располневший, небольшого роста — чуть более 150 сантиметров, этот вечно находящийся в движении человек с большой головой, крупным носом и изуродованным оспой лицом с желтоватым оттенком — внешность, конечно же, не фотогеничная. Чувствуете, какая идентичность? Ну а по темпераменту, остроте языка, нонконформизму — у Моцарта и Пушкина — совпадения просто разительные!
Ну и самое главное — бесспорная гениальность Композитора и Поэта!
Но верно и то, что их сходство выявляется на совсем другом, более высоком уровне. Идентичность душ. — Вера Сергеевна умолкла и вновь заглянула мне в глаза да так, будто собиралась вывернуть наизнанку мою душу. Мне стало не по себе, я даже подумал: «А не схожу ли я с ума, не посетила ли меня шиза?». А может, сама Вера Сергеевна не в себе, психически больной человек?
И я уже был готов встать, откланяться — уйти.
Как вдруг фрау Лурье неожиданно спросила:
— Моцарта вы любите?
Я был огорошен. Вопрос был задан в такой форме и таким тоном, словно Вера Лурье интересовалась: а был ли я когда-нибудь представлен Моцарту, поддерживал ли с ним знакомство и знал его накоротке.
— Чрезвычайно, без всяких границ! — выпалил я и пояснил: — Божественная музыка великого маэстро мне по душе — нет слов. Бесспорно, Моцарт — гений! Но. но я почти ничего не знаю о его жизни да и музыку не всю, а фрагментарно.
— Значит, так тому и быть, — кивнула Вера Лурье и тяжело вздохнула. — Мы с вами, действительно, очень разные люди, вам не кажется? С Моцартом я вступала в жизнь и, видно, с Моцартом скоро ее закончу. К тому же, эти ужасные берлинские врачи довершат свое никчемное предназначение.
Вера Сергеевна замолчала и видимо надолго. Она сидела, не шелохнувшись, положив руки на колени, и смотрела на меня, как строгая учительница на разочаровавшего ее ученика.
Затем она неожиданно спросила:
— Признайтесь, он вам ведь снился?
Ее вопрос заставил меня вспомнить нечто почти забытое. Мне действительно снился Моцарт. Точнее, я каким-то фантастическим образом оказался задействованным в фильме «Амадеус», американского режиссера Милоша Формана. Причем я играл роль королевского капельмейстера Антонио Сальери. Сновидение было настолько необычным, что полностью так и не изгладилось из памяти.
— Да, действительно. — пробормотал я.
Мне стоило больших усилий скрыть свое волнение. Я лихорадочно думал, чтобы найти всему этому объяснение: мол, не исключено, что каждому из нас, кто слушал музыку Моцарта, может пригрезиться и образ самого композитора или его врага по венским подмосткам. Эта мысль меня успокоила.
— Да, — повторил я. — Однажды мне приснилось нечто — в общем, черт знает что!.. Но почему вас это так интересует?
С трудом обретенное состояние душевного покоя рухнуло в тар-та-ра-ры. Каким-то чужим, раздававшимся ниоткуда голосом — то ли чревовещателя, то ли экстрасенса — графиня принялась с невероятными подробностями рассказывать содержание моего давнишнего, полузабытого сна.
— Я прошу только одного: подтверди мне все то, что я тебе поведаю, если это окажется правдой! — проговорила она жестко и принялась говорить: — Ты шел по анфиладам императорского дворца Шенбрунн в обличии Сальери. Шел, как плыл, завороженный музыкой Моцарта. Вернее, ты понимал, что это аккорды божественного Моцарта, хотя ничего подобного прежде не слышал.
В глубине комнат, в небольшой зале, стоял рояль с партитурой. Ты сел, посмотрелся в его черное лаковое зеркало и, увидев свое отражение, стал играть известный концерт композитора. Музыка звучала все громче, раскованнее, мощнее. Ты улыбался так, будто играл свое (Сальери) произведение. И вдруг заметил, что ты, твоя душа преобразились. Вспыхнул некий божественный свет. И сразу же темные анфилады комнат, небольшая зала озарились — все краски гобеленов на стенах, лепнина потолка словно облил ослепительный белый свет. И ты увидел в перспективе сообщающихся комнат силуэт, а затем фигурку кого-то страшно знакомого, родного и близкого. И ты почувствовал, что это. или нет, скорее осознал, что это Вольфганг Моцарт. Ведь так, так!?.
Вера Сергеевна умолкла, задумалась, а потом тихо пробормотала, будто говоря, сама с собой:
— Именно, так оно и было.
Я ловил каждое слово Лурье, потрясенный тем, насколько точно она пересказывала мой сон. Откуда она знала такие подробности? Ведь никому на свете я ни словом не обмолвился о тех сновидениях, которые привиделись мне! А самое главное, что люди чувствовали и думали в этой конкретной ситуации.
Монотонный, металлический голос Лурье вещал дальше:
— Ты испугался — нет, не Моцарта, тебя ошеломил тот реализм происходящего, который уже не казался сном. Да, человек не в силах вынести всю эту мощь, сияющий свет и красоту явления, — все, что пришло к нам нежданно и негаданно в сновидениях.
Ты зажмурился, зажал уши ладонями, чтобы ничего не видеть и не слышать. Мы так делаем а детстве, будучи маленькими.
Она поправила непокорную льняную прядь своих волос, то и дело ниспадавшую на правую часть лица и закрывавшую глаз.
Затем повернулась к окну и внимательно посмотрела на улицу.
У меня создалось впечатление, будто она кого-то ждала и даже немного нервничала.
Она вновь посмотрела на меня.
Меня шокировало нечеловеческое ясновидение Веры Лурье, которое поразило меня так, что состояние потрясенности не проходило.
Но вот лицо ее потеплело, а на глазах навернулись слезы. Похоже, у баронессы были какие-то резоны относиться ко мне с состраданием, даже по матерински жалеть.
Она опять откинула непослушную прядь назад и продолжила свое повествование:
— Но вот кульминация в твоих сновидениях прошла, залы дворца окрасились в естественные тона. Ты открыл глаза — наступило пробуждение. Все! Ну, говори же: так и было? Или я что-то запамятовала?..
На минуту задумался: когда же он мне снился, этот странный сон? Ах, да! В один из дней или ночей этого безвременья, когда я остро переживал свой развод с женой, мне приснился этот странный сон в ярких красках. Кажется, накануне я ходил на «Амадеуса» Милоша Формана. Он пронял насквозь и даже глубже, потряс до слез.
Слушая графиню, я многозначительно молчал.
— Не принимай близко к сердцу, друг мой, — сказала Вера Сергеевна, склонившись в мою сторону.
И тут она неожиданно взяла мою руку в свои ладони — они были прохладными и гладкими, как у ребенка; мои же источали жар и были потными. Погладила меня по голове, точно мальчика, она проговорила обыденным тоном:
— Запомни: когда встретишься с подобным в следующий раз, ты легко выдержишь все испытания.
Лурье вновь сменила тему разговора, и к ней вернулся обычный ее тембр:
— Сударь, вы привезли мне русские лекарства. Ваша презентация подразумевает мой ответный ход, и мы с вами поступим согласно ритуалу, принятому в Европе. Теперь моя очередь вручать вам подарок.
Фрау Лурье вновь заговорила со мной нормальным тоном, а я вдруг осознал, где я нахожусь и по какому поводу. Германия, предместье Западного Берлина — Вильмерсдорф. А я вновь вернулся на грешную землю в столь привычно-серые будни.
Хотя, ответный ход графини вызвал у меня протест.
— Нет, нет! — вскричал я. — Пожалуйста, не нужно никакой благодарности! То, что я здесь, у вас — уже для меня награда, даже честь.
В самом деле.
Пока я очень неубедительно отказывался от ответного подарка, Вера Сергеевна поднялась с дивана и открыла створку книжного шкафа. На полке лежал какой-то предмет, очертаниями похожий на увесистую бандероль. Сверток был завернут в пергамент — наподобие древних манускриптов и перевязан пеньковой веревкой; мне померещились даже сургучные печати. Время не пощадило пергамент — тот выцвел, бечевка была истерта и обтрепана.
— Если говорить корректно, то это рукопись — сказала Вера Лурье, протягивая мне сверток. — Можно это считать и подарком, но в другом смысле.
Манускрипт в пергаменте, настойчиво предлагаемый мне, странным образом просился в руки. Лишь только он оказался у меня в руках, как все внутри похолодело, как будто от свертка исходила реальная опасность.
Это ощущение было знакомо мне по экзаменационной лихорадке во время сессий в институте, когда еще не вошел в аудиторию и не взял билет. Ощущение: пан или пропал!.. Но тут все было иначе: я вытянул «экзаменационный билет», который стопроцентно не знал.
Уютно устроившись в кресле, на левой спинке которого безмятежно развалился кот Васька, безвольно вытянув все четыре лапы, Вера Лурье приготовилась, как я понял, к серьезному со мной разговору. Свою речь она повела медленно, будто исполняла священный ритуал; наверное, с единственной целью: чтобы я запомнил каждое ее слово:
— Отныне, мой русский друг, на вас ложится серьезная, даже опасная для жизни миссия. Во-первых, ни одна сторонняя душа не должна знать, что вы — обладатель тайных документов, поскольку вы можете поплатиться за это. Во-вторых, постарайтесь не реагировать на домогательства или попытки вторжения в ваши сферы посторонних сил. И в-третьих, когда все, чем вы обладаете, будет опубликовано и станет явью, тогда ничто не будет угрожать больше вам. Так что, главная линия поведения — невозмутимость, смелость и чувство собственного достоинства. И все атаки будут с успехом отбиты!
Затем, словно чуткая антилопа, учуявшая грозящую ей опасность, Вера Лурье встрепенулась, кинула тревожный взгляд в окно. И так же нервно повернулась ко мне.
— И если силы Зазеркалья загнали вас в тупик, и выхода нет, не поступайтесь принципами — используйте ваше главное оружие против зла: мысленно водрузите перед собой Крест Господний. И темные силы сдадут все свои позиции.
Опять что-то обвалилось внутри меня, коленки стали ватными, захотелось одного — выбраться отсюда.
— А что мне прикажете с этим делать? — полюбопытствовал я глупо-растерянным голосом, указывая на пакет.
— Только прочитать — не более того, — отозвалась старая леди. — Хотя. хотя, это половина артефактов, хотя и важная часть своеобразного проекта «Русский Моцартеум». Но не все сразу. Об остальном поговорим позже.
— Простите, но что это за проект «Русский Моцартеум»? — взмолился я и вдруг вспомнил, что есть ее дальний родственник Виктор Толмачев, который денно и нощно трудился на ниве музыковедения, регулярно приезжал к Вере Лурье, переводил письма, документы с немецкого на русский.
Баронесса замолчала, будто споткнулась на полуслове, — в комнату вошла девушка-прислуга. Вера Лурье улыбнулась и, подозвав ее поближе, шепнула ей что-то на ухо.
Девушка кивнула и отправилась по поручению фрау.
Вера Сергеевна вновь обратилась ко мне и, понизив голос, стала произносить фразы, в которых я не мог уловить смысла:
— К сожалению или к счастью судьбу мы не выбираем, — вдруг заговорила Вера Сергеевна. — Каждый раз мы оказываемся во власти некоей силы, управляющей нами. Люди амбициозные, честолюбивые — заложники идее-фикс — становятся великими учеными, изобретателями, писателями, композиторами, философами. Всяк сущему на Земле определено конкретное место. У каждого — свое предназначение. Что касается великого Александра Пушкина, то он определил, что его предназначение — борьба за свободу и достоинство человека.
Его волшебное оружие — золотое перо Поэта и Писателя. Этой борьбе он посвятил всю жизнь. И поэтому наш солнечный гений сложил голову. Что касается меня, то здесь одержимость другого уровня, иного ряда: одержимость Пушкиным, Моцартом.
Все началось, когда я была еще маленькой девочкой. Та же тайная подспудная сила привела меня в Германию, заставив порвать все связи с родительским гнездом, родиной. Те же силы и указали мне цель — создать правдивое жизнеописание гениального композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
— Вы говорите все правильно, — сказал я. — Но я не тот герой, о котором вы думали. Мне кажется, что я не справлюсь.
Графиня пропустила мою реплику мимо ушей.
— Как ни странно, мой молодой друг, но именно великая поэзия Пушкина привела меня к гениальной музыке. Возможно, когда-нибудь я расскажу вам об этом, — Вера Сергеевна с тревогой выглянула в окно и добавила: — Его музыка завлекла меня и сюда, в Германию, в страну, откуда вышли праотцы Моцарта. А тут революция семнадцатого, железный занавес. И я окончательно поняла, что буду жить тут, поскольку обратного пути в Россию нет. Кстати сказать, мой друг, размышляли ли вы о том, что все страхи, страсти и наваждения — понятия с противоположным смыслом. Они либо приведут вас к истине, тогда нужно будет отречься от всего на свете. Или, наоборот, могут запутать вас буквально в трех соснах. Гитлером и Сталиным знаете ли, тоже управляли страсти. Другое дело, что оба они были игрушками в руках мировых сил. Хотя, есть вещи, природа которых из века в век будет оставаться строго охраняемой тайной. Тщеславные, завистливые и с чрезмерной гордыней жаждут власти, благородные и невинные душой молятся о том, чтобы обрели тишину и покой сами, а также свои родные и близкие.
Зеленые блестящие глаза Веры Сергеевны будто впились в мое лицо. Я уже перестал понимать, что ей нужно от меня, к чему эти страстные речи.
Но баронесса Лурье, не переводя дух, продолжала свою пламенную речь:
— На свете немало людей, отмеченных судьбою, но осознавших слишком поздно, что их удел — растительная жизнь; но поворачиваться лицом к тьме им ни в коем случае нельзя. Это будет гибель. — Она перевела дух и добавила: — Я слишком поздно поняла свою миссию, свое предназначение. Теперь я знаю, в чем мой главный просчет. Я мечтала выкрасить окружающий мир невинной ослепительно-белой краской. Все же черное и серое я либо вовсе не замечала, либо, в лучшем случае, считала второстепенным или декоративным. Недавно я осознала свою ошибку, да что толку? Мое время истекло, стрелки показывают без пяти минут двенадцать.
Вера Лурье говорила слишком туманно, вуалируя фразы, пересыпая речи подтекстом, который мне не хотелось ни понимать, ни расшифровывать. Я был всецело на стороне этой старой изумительной графини, искренне сочувствовал ей, сожалея о том, что у нее все так нескладно сложилось.
Я поднялся со стула и, вопреки этикету, подал Вере Лурье руку.
— Простите, Вера Сергеевна, но я действительно не могу взять в толк, что вы имеете ввиду. Мне пора идти. Пока я нахожусь в Германии, я смогу быть вам еще полезен. Созвонимся? Правда, я скоро улетаю в Москву.
Ноги мои стали свинцово-тяжелыми и с трудом повиновались мне. Я покосился на сверток, который вручили мне, — я сейчас держал его в левой руке. И осторожно положил презент на край софы. Мое желание отделаться от всей этой «чертовщины» было так велико, что я даже не поинтересовался содержанием пакета.
Вера Сергеевна отчаянно вцепилась в мою руку так, словно собиралась держаться за нее до последнего вздоха.
— Нет-нет, вы должны это забрать с собой! — баронесса сделала ударение на слове «должны», ее глаза блестели. — У меня вышел лимит времени, я не могу держать это у себя! Уже был звонок, предзнаменование!.. Уже случилась непоправимое. И не единожды. как тогда, с доктором Клоссетом. Грядет другая беда, а ведь ставка выше, чем жизнь!..
А время уходит. Только вы и никто иной. Поторопитесь же, друг мой!
Она умолкла, пристально всматриваясь в мои глаза, потом сказала, как ошпарила кипятком:
— Мне только-что сообщили из Москвы: Виктора Толмачева уже нет с нами. Вы улетели из России, и потому ничего не знаете.
Его устранили те, кто присылал к нам этих посланцев в «сером». Они преследовали когда-то Моцарта, затем пришла очередь других, пока, наконец, они не добрались до Викториши. А теперь обставили красными флажками и мою терра виту — территорию жизни. И потому, мой друг, главное — не паниковать, быть мужественным и идти вперед с открытым забралом.
Я почувствовал противную слабость, дрожь в коленках.
— Разумеется, «люди в сером» обставили все строго по ритуалу. Над софой, где лежало его тело, была приколота графическая вкладка, — сказала она. — Если бы ты пригляделся, то на этом рисунке увидел высокую колонну Гермеса-Меркурия, которую украшали 8 символов Меркурия (среди них — голова барана с лирой, жезл-змея, ибис); под ней — мертвец, это архитектор храма Соломона Адонирам. И, скорее всего, там были жуткие сцены жертвоприношений — вверху на фризе, которые можно рассмотреть только через лупу. А перед входом в кабинет Виктора, к дверному проему был приколот листок, где в двойном квадрате, а это знак комнаты мертвых, был изображен классический знак сулемы — символ S. Это ангел смерти от Меркурия или своеобразный «ордер на убийство».
— Неслыханно! — только и сказал я и спросил: — Итак, тело Толмачева лежало тоже в позе символа S (сулемы) или ртути?
— Да, — кивнула Вера Сергеевна. — Наконец, сумма цифр его полных лет жизни — 35 — опять-таки чистая восьмерка. Если числам 1 и 2 в алхимии нет соответствия, то число 8 было посвящено ртути, то есть яду, который давался Моцарту с едой и питьем. Вдобавок, на том же рисунке в комнате, где был Викториша, ты нашел бы даже его изображение!.. Он переступил опасную черту, за которой — смерть.
Вера Лурье, потрясенная смертью Виктора, едва сдерживая слезы, рассказала мне о том, что Виктор был ее единственным родственником, внучатым племянником, которому она завещала свое состояние, включая редкие документы на немецком языке, касающиеся, как утверждал Виктор, тайны смерти великого Моцарта.
Занимаясь жизнеописанием Моцарта, каждый год Виктор приезжал к Вере Лурье и работал с этими документами. Я попросил Веру Лурье показать ей эти уникальные бумаги и с удивлением обнаружил, что в них содержится информация об исповеди Сальери из церковных архивов Вены. Я поинтересовался, откуда у Веры Лурье эти манускрипты. Вера Лурье рассказывает Максу свою историю любви с казачьим офицером Александром Ивойловым, успевшего передать ей эти бумаги, перед тем, как он в числе казачьего стана генерала Доманова, был выдан англичанами Советскому командованию. Вера Лурье сказала, что эти документы ценные и, беспокоясь за свою жизнь, попросила меня забрать с собой как эти бумаги, так и недописанную работу Виктора Толмачева.
— Возьмите это все с собой в Москву. Прочитайте, изучите, сделайте выводы. Для начала и этого достаточно. Затем жду вас у себя. Непременно возвращайтесь, мой дорогой, — вздохнула Вера Лурье. — И поторопитесь. А то будет слишком поздно. Одно только скажу: это был подарок от казачьего офицера Кубанского казачьего войска Александра Ивойлова — человека, чья отвага заворожила меня. Помочь ему я ничем не могла, сумела лишь страстно полюбить до конца дней своих. И будьте мужественным, нападайте сами — они этого боятся, как хищники, чувствующие в жертве некую «эманацию страха» или «запах» слабости.
Я ощущал себя как тот соленый заяц из притчи, которого гоняли по лесам и долам, пока, наконец, тот не угодил в западню. Так и я. Выдавив жалкую улыбку, я забрал сверток и сунул его в черный полиэтиленовый мешок.
Поблагодарил Веру Сергеевну за чай, щедрое русское гостеприимство и задушевную беседу, клятвенно пообещал, что вскоре позвоню или пришлю письмо. В момент ухода вышла и прислуга Надежда.
— Запомните, Макс, если что случится со мной, то Наденька, Надежда Науменко, все вам расскажет и покажет. Она тоже русская, вернее — из кубанских казачек. Во время краха гитлеровской Германии ее прадед войсковой атаман генерал Вячеслав Григорьевич Науменко принимал участие в спасении регалий — исторического достояния кубанского казачества. Вы, наверное, знаете про тот библейский Апокалипсис, который устроили союзные ВВС в сугубо мирном городе под кодовым названием «Удар грома», когда от авиабомб в феврале 1945 года заживо сгорели, погибли в развалинах домов или сварились в кипятке фонтанов половина населения Дрездена? В тот час ее прадед с адъютантом направлялся к коменданту Дрездена за разрешением на выезд, но попали под бомбежку и едва не погибли. Тогда Казачий штаб сумел вывезти 24 ящика на грузовике с имуществом и регалиями, и бесценный груз доставили в небольшой австрийский городок Ройте. Вот тогда я и повстречалась с бабушкой Наденьки — она была такой же барышней.
Вера Лурье замолчала и внимательно посмотрела на меня. По всему было видно, что она довольна моим визитом. На лице хозяйки сияла благодарность и даже умиление; она вся светилась и была неподражаемо красива, а почему — я не мог никак постичь.
Я откланялся и перецеловался с Верой Лурье и Наденькой Науменко. Удивительно, но мне было так хорошо, как никогда.
По мобильнику вызвал Николая с его «Опелем». Он скоро прибыл в Вильмерсдорф, забрал меня, и мы поехали в Берлин. Возвращались молча, я равнодушно смотрел в окно и размышлял.
Знаковый получился день! Меня по собственной милости затащило в дьявольскую воронку, откуда, как оказалось позже, не было обратного пути. Попавшему в такой переплет, мечтать о выходе из игры не приходилось. Только вперед! Иного не дано.
Немаловажные обстоятельства
«Сорвать хочу я паутину лжи,
Открою все, что мне известно»
Ф. Шиллер «Деметрий»А через три дня Николай провожал меня в аэропорту Шенефельд. На этот раз мы отдали дань традиционному пиву в баре. Пиво оказалось отменным, а кружки большие, полуведерные. Обменялись малозначащими фразами, попрощались; я пригласил его в гости, он вежливо кивнул:
— О’кей!
И я пошел к стойке на регистрацию. Затем с толпой пассажиров взошел на борт самолета, отправлявшегося в Москву.
— Все, абзац, с Германией покончено, — плюхнувшись в кресло, подумал я, глядя, как земля за бортом провалилась в пропасть.
У меня неожиданно заболела голова. Мигрень достигала такой силы, что меня начало подташнивать, и я попросил у борт-проводницы пакет.
С тихой ненавистью я стал поминутно поглядывать на сумку, где лежал сверток от фрау Лурье, как будто этот дар был виной всему на свете.
— Стоп! — оборвал я себя. — Причем тут я? По большому счету это предназначалось для Толмачева, а не для меня. Положу пакет в долгий ящик — и баста! И чего я так разволновался? Спокойно, секретная миссия должна идти как надо, без эмоций.
В течение всех передвижений я практически не выпускал сверток из рук и, выполняя рекомендации Веры Лурье, никому не обмолвился о нем ни единым словом. Он стал для меня своеобразным оберегом. У меня даже сложилось стойкое убеждение, что бандероль защитит меня от всяких неожиданностей — пока она, разумеется, у меня.
Я уже не припомню, когда впервые подметил за собой склонность к вере. Это было неким новым приобретением или же латентным свойством моей натуры. Надо заметить, что всю прежнюю жизнь мне довелось просуществовать атеистом по невежеству. Я даже полагал, что подобные вещи чужды и противны мне по сути своей. И вдруг — эдакий переворот в моей душе и сознании!..
И если не замечать существования свертка и не вспоминать о странной встрече с Верой Лурье, то осознание высокой миссии тут же улетучивается из моего сознания и кажется нелепостью.
Возвращение в Москву было крайне бедным на события. Хотя, на несколько эпизодов, внешне не связанных между собой, я потом все-таки обратил внимание.
В аэропорту Шереметьево-2 произошел некий эпизод, которому поначалу я не придал особого значения, но который потом явилось своеобразным прологом к череде странных событий.
Когда самолет подрулил к пассажирскому терминалу, поступило сообщение, что где-то в таможенном отделении спрятано взрывное устройство. Эта шалость телефонного хулигана вылилась в длительную задержку; и всем нам пришлось проторчать там более часа, пока специалисты с собаками обшаривали зал, выясняя, соответствует ли истине информация о бомбе.
В помещение, куда нас привели, скопилась множество людей; вдобавок было жарко и душно. Я оказался зажатым между дородной дамой, перегруженной несколькими сумками, смазливой девушкой и худым мужчиной степенного вида. У него был холодно оценивающий взгляд и узкие, несколько подобранные губы; одет он был во все серое. Худой раздражал меня более всего. Казалось, его снобистская внешность, высокомерное презрение, застывшее как маска на лице, — бесили всех и каждого. Мы еще долго стояли совершенно неподвижно в проходе, огражденном перилами; людей пропускали по одному.
Этот субъект неопределенного возраста попал в поле моего зрения неожиданно. Его внешность все более и более притягивала мой взгляд. Я рассмотрел его. На его бледном лице, словно обтянутом пергаментной кожей, застыли водянисто-белые глаза. Присутствие худого непонятным образом выводило меня из себя.
Самое странное было то, что у человека в сером костюме не было никаких вещей, тогда как руки у любого из нас были перегружены: кейсами, спортивными сумками, рюкзаками или пакетами из пластика. Несмотря на ЧП, давку и духоту, он был по олимпийски спокоен.
Меня стала раздражать дородная дама, и я повернулся к ней спиной. И — о, черт! — я очутился лицом к лицу с человеком в сером. Наши взгляды встретились. Он выдавил подобие улыбки, которая казалась тут совершенно неуместной. Затем, указав на небольшой кейс в моей руке, произнес с характерным польским акцентом:
— Древние рукописи?
— Вас так это волнует?! — со злостью отозвался я.
— Нам все известно, документы у вас.
Мне стало не по себе, я промолчал.
Он продолжал:
— Я собираю книги, все, что написано про масонские ложи, иллюминатов, мондиализм.
— А причем тут я? — задиристо спросил я. — Ни масонами, ни заговорами я не интересуюсь.
— В самом деле? — искренне удивился тот и мягко добавил: — И ничего не попадалось что-нибудь в этом роде?
— Нет! — обрезал я. — Я — технарь, человек приземленный, и фантазиями не занимаюсь.
— А вы вообще читаете что-нибудь?
— Нет. Ничего, кроме про боевиков и бандитские разборки. — пробурчал я. — Плюс воровские авторитеты, ментовские войны и блатные песни.
— Да-да, разумеется, — кивнул он. — Мне тоже претит лезть со своими иконами в чужой монастырь.
Я вдруг понял в чем дело: этот тип раздражает меня даже больше, чем вся эта толкотня в аэропорту. Диалог с худощавым мужчиной в сером плаще взорвал меня изнутри. И чего в душу лезет? Я одарил его одним из своих самых презрительных взглядов. Но он не дрогнул.
— Вы любитель классической музыки? — не унимался тот.
— Да, — выдавил я. — Предпочитаю классический хард рок.
— Вот как. — протянул он. — А я, знаете ли, интересуюсь только музыкой восемнадцатого века. Вы случайно не знакомы с музыкой маэстро Моцарта, из Вены?
Я почувствовал, как в горле у меня сгущается комок тихой ненависти. Казалось, еще минута-другая — и по достижению критической массы последует нервный срыв. Тогда я переключился на общение с яркой дамой. Медленно, боясь всколыхнуть клокочущую во мне ярость, я повернулся к мужчине в сером спиной.
В тот же миг я увидел, как пальцы дамы с изобилием перстней и колец потянулись к ручке одной из ярко-желтых дорожных сумок. Я кинулся на опережение, оторвал от пола обе сумки и решительно двинулся за яркой женщиной. И тут же был награжден ее бархатным голосом:
— Благодарю вас, рыцари еще не перевелись!
Так мы прошагали минут десять-двадцать. Я был верен себе и ни разу не оглянулся назад. Коридор, по которому нас пропускали, окончился. Мы попали на таможенный пост. Впереди была свобода. Теперь я оглянулся, чтобы увидеть мужчину в сером, но того и след простыл. Я внимательно всмотрелся в лица усталых и сердитых пассажиров, но так и не обнаружил своего преследователя. Тогда я обратился к шедшему за мной хилому молодому человеку в синих джинсах:
— Куда девался тот зануда в сером?
— В сером плаще? — переспросил хиляк и, не удосужившись ответить, устремился к свободному в тот момент таможеннику.
Домой, в свой бастион в Лиховом переулке, я прибыл поздно вечером.
И я только обратил внимание на то, что потолок и стены ванной покрылись черными пятнами — вероятно, каким-то видом плесени. Гниющий запах грибка, будто валерьянка, успокоил мои взвинченные нервы. Как говорится, и дым отечества. Я вновь оказался в привычной обстановке, ощутив себя в безопасности. Возникло ощущение нирваны только оттого, что все было, как прежде: моя жизнь и дальше текла в том же русле.
Я распаковал вещи и, прежде всего, опустошил свою спортивную сумку. И только потом решил взглянуть на сверток, в котором были рукописи: а вдруг они исчезли вместе с человеком в сером? Что тогда сказать фрау Лурье из Вильмерсдорфа?
Взяв в руки пакет, я почувствовал облегчение. Слава Богу, подарок Веры Лурье был на месте, в кейсе. Будучи в ясном уме и полностью отдавая себе отчет в своих действиях, я выдвинул нижний ящик моего раритетного, задубевшего от времени до гранитного камня письменного стола, втолкнул туда объемистый пакет, задвинул ящик и запер на ключ.
Немного перевел дух.
И стал просматривать почту. Несколько счетов на оплату квартиры, телефона.
Поразмышляв обо всем понемногу и вспомнив нелепую встречу с человеком в сером — агента то ли масонов или спецслужб да еще неизвестно каких, я решил отложить решение вопроса в дальний ящик и завалился на кушетку.
Спал как убитый.
В полшестого поднялся, — мигрень продолжала немного терзать мою голову. Я пошел на кухню и, словно себе назло, приготовил огромную чашку крепчайшего чая «Ахмад». И вспомнил только что виденный, но уже забытый сон: картины мастеров, какие-то сообщающиеся комнаты — целая анфилада сквозных помещений, стены которых были увешаны холстами в дорогих рамках. Господи, как тут все знакомо!.. Третьяковка или Русский музей — точь-в-точь видения, повторяющие калейдоскоп картин, пригрезившихся мне в самолете, а музыкальным фоном была музыка Моцарта. Причем, это был один из тех снов, где реальность фантастическим образом перемешана со сновидениями.
Опять эти навязчивые déjà vu («я уже где-то это видел»).
Моя квартира, пропитанная запахами гниения и сырости, напомнила мне средневековый семейный кладбищенский склеп из голливудского ролика, где повсюду царствует сюрреализм, где весь этот виртуальный мир становится явью с помощью полифонии звуков и образов, рождаемых современными аудио и видеотехникой.
Ни свет, ни заря я появился на работе. Войдя в свою прозрачную келью, я автоматически включил системный блок компьютера и откинулся на крутящемся стуле-кресле, ожидая, когда компьютер загрузится. Атмосфера в кабинете была привычная — пыль на подоконниках, спертый воздух. Я машинально открыл фрамугу для свежей струи воздуха.
Не особенно вникая в суть, принялся разбирать бумаги, скопившиеся за мое отсутствие.
Мне было приятно снова очутиться здесь в таком привычном для меня мире столов, заставленными компьютерами, телефонами и факсами, сканнерами и множительными агрегатами. Этот мир был моим на протяжении нескольких лет; он въелся в кожу, в организм и стал утверждаться, по-моему, на клеточном уровне.
Однако после моего возвращения из Берлина он вдруг стал казаться плоским, скучным и неинтересным. Его можно рассматривать, изучать, в нем можно было даже жить, но лишь до поры до времени. Но он был настолько прогнозируемым, что дальнейшее существование потеряло для меня смысл и комфортность. Не было здесь скрытой энергетики, подтекста, а значит высокого предназначения, а главное — связи с космосом. Эта тихая пристань для души, которую я выстроил для себя, этот удобный декоративный мирок теперь разваливался, как карточный домик, а жизнь моя, бывшая до этого пустой и никчемной, теперь вдруг преобразилась, приобретая новые краски, звучание и смысл.
И тут меня пронзила мысль о Викторе Толмачеве, о его по сути предсмертной просьбе — передать бандероль его дальней родственнице графине Вере Лурье из предместья Берлина, о навязанной мне бандероли с какими-то документами, предметами.
— Господи! — всколыхнулся я. — Что я сижу?..
Сверток со сногсшибательным презентом графини Лурье у меня дома, да так надежно спрятан в закромах квартиры, что никто не доберется до тайника, если даже и взломает дверь.
Поднял трубку, набрал номер домашнего телефона Толмачевых. И только тут сообразил, что в такую рань все еще спят, но трубку на том конце уже подняли.
— Алло? — спросил незнакомый женский голос.
— Извините, я так рано, — потерянно проговорил я и добавил: — Я по поводу Виктора?
Молчание продолжалось недолго, наконец, на другом конце женский голос сухо произнес:
— Виктора больше нет, он скоропостижно скончался.
— Скончался? — глупо повторил я и добавил: — Не подскажите, где его похоронили?
— На Ваганьковском кладбище, возле колумбария, — и в телефоне запикали частые гудки.
Дверь скрипнула, в комнату вошел шеф, мы с ним пожали друг другу руки.
— Как съездили в Берлин?
— Нормально, — односложно ответил я.
— Мгм, а что так рано? Вам еще отдыхать пару дней — в счет праздника.
— Даже так, — неприкрыто обрадовался я. — Можно воспользоваться?
— Поступайте, как знаете, по своему усмотрению.
— Тогда всего хорошего, до понедельника.
Я машинально вышел на улицу, мимоходом думая, куда же пойти. Мои мысли были заняты сообщением о том, что Виктор похоронен на Ваганьковском кладбище; по-прежнему меня волновала дальнейшая судьба свертка из предместья Берлина.
Было еще рано; и я зашагал в направлении Тверской улицы и далее — к Манежной площади. Город уже кишел туристами. Вечно улыбающиеся японцы, увешанные фото- и киноаппаратурой, беспардонные и сытые американцы, громко лающие на своем искаженном английском, правильные до тошноты немцы.
Я выбрался из толпы, свернул к метро и проехал до остановки «Улица 1905 года».
Поднявшись по эскалатору метро, я направился дворами к старинному погосту. И вскоре вышел на крошечную площадь, миновал распахнутые ворота и оказался в тиши Ваганьковского кладбища.
Передо мной посредине асфальтовой дорожки три крупные вороны шумно расправлялись с большим куском поживы — то ли падалью, то ли полуфабрикатом, украденным из павильончиков с хот-догами или шаурмой, разбросанными там и сям.
Центральная аллея была абсолютно пуста. Ни прохожих, ни служителей церкви или ритуальной службы. И оглушительная тишина. Ни единого звука, только клекот и возня пирующих ворон. Впрочем, на необычность происходящего я обратил внимание не сразу, а несколько позже. Поначалу мне все казалось совершенно нормальным.
Я продолжал стоять и смотреть на привычно-серых птиц так же неосознанно, как разглядывал все остальное — будто мираж. И точно так же ни сердцем, ни душой не воспринимал возникавшие в моем сознании образы, как будто это были некие знаки или источники света другого мира, который вроде бы пытается или входит в непосредственный контакт со мной.
Но скоро я понял, что тот, иной, параллельный мир громко стучится ко мне в сердце, пытается общаться с моей душой. Это Зазеркалье, с которым я впервые соприкоснулся, показалось мне ошеломительным, коварным и непредсказуемым, ибо я не знал его законов и чувствовал себя в нем совершенно беспомощным и уязвимым.
На главной аллее, возле церкви меня неожиданно окликнул святой отец, волосы которого были увязаны в косицу:
— Вам чем-нибудь помочь, сын мой?
— Нет, спасибо. Впрочем, я ищу могилу своего друга, его похоронили здесь недели две назад, я как раз был за границей. Виктор Евгеньевич Толмачев. Может, вам что-нибудь говорит это имя?
— По странному совпадению, да. Я отпевал его. Пойдемте, я покажу вам место упокоения раба Божьего.
Мы прошли с батюшкой до колумбария, свернули направо.
— Пришли, — сказал святой отец. — Здесь он и упокоился.
Постояли молча.
— Давно не встречал человека с такой чистой и светлой душой, как у покойного, — сказал батюшка и, собираясь уйти, попрощался: — С Богом, сын мой!
Я быстро подошел к священнику, прикоснулся к его руке и смиренно попросил:
— Благословите, батюшка, — и поцеловал его руку.
Он троекратно перекрестил меня.
Я недолго оставался у могилы Виктора, вглядываясь в его лицо на огромной фотографии. На глаза навернулись слезы.
— Прости меня, Виктор, — проговорил я и, стиснув зубы, поклялся: — Даю слово — все сделаю, как ты хотел.
Боясь разрыдаться, я стремительно зашагал к выходу с кладбища.
За воротами ко мне навстречу вышел незнакомец, одетый как-то нелепо: в какую-то серого цвета толстовку, поддевку, рубашку навыпуск, рваные замусоленные джинсы; на ногах были огромные яркие кроссовки.
— Привет от тех, кого вы знаете, — таким было начало его речи, перебиваемой астматическим дыханием.
Я поинтересовался, с кем говорю.
— Это Меркурий. Конечно, такой образованный человек, как вы, помните, что Меркурий — не только идол муз, но и посланец богов?
— Чего вы хотите? И откуда вам известно, где я бываю и что делаю? — спросил я.
— Мы хотим, чтобы вы держали свой нос подальше от людей и мест, к которым не имеете отношения, — ответил Астматик. — Иначе однажды поутру вы можете не проснуться. Вас, дорогой мой, посетит ангел смерти от Меркурия.
Астматик помолчал, с едкой улыбкой садомазохиста разглядывая меня, потом продолжил:
— И дабы вы, сударь, не сочли, что это чья-то злая шутка или розыгрыш, то напомню вам о кое-каких эпизодах из вашей несравненной жизни. Фишка в том, что эти историйки, как вы полагали, всеми давным-давно позабыты, о которых, как вы надеялись, никто на свете уже не вспомнит! Нет уж, извините и подвиньтесь — все досконально запротоколировано в нашем досье.
И астматик обмолвился о таких эпизодах из моей жизни, что меня мгновенно вогнало в краску. Затем он красноречиво замолчал и бросил на меня испытующий взгляд, очевидно, ожидая разъяснений.
Я их не дал.
— Значит, договорились, Макс? — спросил астматик.
Я вновь не произнес ни слова.
— Вот и молодца, — он фамильярно хлопнул меня по плечу и добавил дружелюбно: — Ладно. Правильно делаешь. Ничего не объясняй. Не будешь лезть, куда не надо, а мы забудем о нашем разговоре.
Но заруби у себя на носу — руки у нас длинные, до Кремля дотянутся, если что.
Астматик внезапно исчез, как и появился. Боль обожгла затылок, и меня затошнило.
— Не пойму, что все это значило, — выдавил я сам себе. — Какая-то чушь собачья!..
Если после встречи с жирующим серым вороньем мое сознание находилось в каком-то оцепенении, то теперь я знал, что мне делать. Я летел домой, как на крыльях, ничего не замечал на пути. Поднялся по лестнице в свой полуподвал и поймал себя на мысли, что вернулся домой не совсем по своей воле. Вошел в квартиру и, открыв холодильник, нашел там только банку прокисшей кильки в томате и заплесневевший батон — припасы остававшиеся еще со времени отъезда в Берлин. Я выбросил испорченные продукты и обругал себя за то, что по дороге домой не прихватил хоть какой-нибудь еды.
Тогда я заварил крепкого чаю, принес кружку в гостиную и включил телевизор.
Шла программа новостей. Жизнерадостный ведущий, подстраивая свою интонацию под содержание кадров, бойко выдавал в эфир информацию о работе правительства РФ. Он разглагольствовал о том, что со следующего года у бюджетников таких-то категорий резко возрастет зарплата, а Газпром газифицирует сельские районы страны и такими быстрыми темпами, что селяне по комфорту приблизятся к горожанам. И еще. Поскольку цены на Лондонской и Нью-Йоркской биржах за баррель нефти остаются запредельными, а инфляция в России не достигает порога в 3–4 процента, то все будет тип-топ.
Показали голодовку учителей в далеком Краснотуринске, они требовали повышения нищенской зарплаты. Пока тележурналист перемывал тему про обездоленных россиян, на экране появилась заставка из другого блока новостей: о вручении премии телеакадемикам; на экране замелькали узнаваемые фигуры в смокингах, длинных вечерних платьях. Все сытые, довольные и самовлюбленные до тошноты.
Вновь дали крупным планом телеведущего.
— А теперь спортивные новости, — пробубнил тот.
И я вспомнил, как недавно где-то вычитал, что программы новостей в России кроме освещения событий, передавали в прямой эфир только что происшедшие ДТП, заказные и прочие убийства, результаты землетрясений или техногенных катастроф; или взбудораженных женщин, а то отрепетированные марши студентов с плакатами. И бесконечные сериалы про тюрьмы, зоны, милицию, зэков, благодаря которым Россия уже представлялась сплошной тюрьмой, где все говорили только по фене (на уголовном жаргоне) — и полицейские, и бандиты, и добропорядочные граждане, и молодежь.
А голос за кадром истошно зазывал:
— Что желаете? Насилие? Страдания? Восторг? Смотрите канал эС-Тэ-эС!
Я выключил телевизор и принялся мерить шагами комнату.
Тут мне бросилось в глаза, в какое запустение пришла квартира за время моего отсутствия, каким густым слоем пыли покрылась мебель. Взглянул на диван. Как истрепалась обивка! А прежде я и не замечал этого.
Я уселся за стол, намереваясь разобраться с пачкой счетов, что накопилась за неделю. Но не сумел заставить себя заниматься домашней бухгалтерией.
Вместо этого совершенно бессознательно выдвинул ящик стола и достал сверток.
В эту ночь я опять мало спал, злоупотребляя крепким чаем. Кстати, сделал открытие: чай куда вкуснее, если добавить в него солидную толику бальзама «Старый Таллинн» и выжать чайную ложку лимона.
Утром я уже был на работе.
Днем на моем столе зазвонил телефон. Секретарша шефа спросила, не могу ли я зайти к нему. Я решил, что шеф хочет получить небольшую консультацию по Берлину. Когда я переступил порог его кабинета, шеф возвышался во весь рост возле своего стола. У него был не вполне миролюбивый вид, как будто я подложил ему свинью и он не знает, что с ней дальше делать. Может, у него разыгралась мигрень?..
— Присаживайся, Макс, — сказал шеф.
Я плюхнулся глубокое кресло.
— Как съездил в Берлин?
— Нормально, — ответил я.
— Ну и чудненько, — сказал шеф и добавил: — У нас с вами всегда были добрые отношения. Ведь я прав, Макс?
Я пожал плечами, не понимая, куда клонит шеф.
— Мы всегда высоко ценили вас, Макс, как отличного работника, профессионала в своем деле?
Он выдержал паузу, подошел к окну и стал что-то там дотошно разглядывать. Потом вспомнил про меня.
— Вы знаете, руководить нашим «центром автоматизированного хранения и перераспределения информации» — дело тонкое, — произнес шеф, перекладывая документы с одного угла стола на другой. — Я полагаю так: или ты ведешь дело, несмотря ни на что, или сходишь со сцены и отправляешься выращивать редиску и огурцы куда-нибудь в Рязанскую область.
Я продолжал молчать.
— Проблема в том, что приходится угождать всем. Как говорится, и вашим и нашим. Стараешься, чтобы коллектив отдела не был ущемлен в зарплате, кого-то не выкинули за борт в порядке приведения контингента в соответствие с объемами работы. А устойчивый консенсус с руководством — ведь они оплачивают все счета и дают нам возможность относительно спокойно спать по ночам.
— Понимаю вас, шеф, — кивнул я. — Не завидую вашему статусу начальника.
— Знаете, Макс, — сказал шеф, — иногда случается такое, что на одной чаше весов — интересы вверенного мне коллектива, а на другой — интересы руководства. Тогда приходится идти на компромиссы.
Я все никак не мог понять, к чему он клонит. Беседа ни о чем начинала раздражать. Мне уже становилось глубоко безразлично, какой оборот примет наша беседа.
— Да, конечно, — поддакнул я начальнику.
— Ну, так вот, — продолжал шеф, — позвольте мне сказать все, что я думаю. Дело в том, что вы там впутались во что-то, а я и знать не желаю. Мне глубоко начхать на ваши политические пристрастия.
Прошу об одном: не желаю выслушивать по телефону угрозы в свой адрес. А в том разговоре, Макс, упоминалось ваше имя. Угрозы! Они выводят меня из равновесия. Вы понимаете меня?
— Какие угрозы? — недоуменно спросил я, приготовившись выслушать шефа до конца.
— Самые разнузданные, Макс, — сказал шеф. — Звонили мне домой. А ведь лишь немногие знают мой домашний номер. Судя по акценту, говорил какой-то иностранец — европеец. Он пытался растягивать слова как коренной москвич. Но у меня идеальный слух. Макс. Я полагал, что с политикой вы давно в разводе. Повторяю, я же не лезу в вашу личную жизнь. Я рад, что у вас все в порядке, вы путешествуете за границу — у вас своя жизнь, уклад, менталитет. Ну, причем тут я? Мне не хочется, чтобы по вашей милости мое имя полоскали в разных желтых газетах или с экранов ЦТ.
Я не мог взять в толк, что он имел в виду, мне вдруг показалось, что шеф сошел с ума или, как говорится, спятил.
И тут до меня дошел смысл его речи: значит, кто-то решил угрожать мне, запугивая шефа.
— А почему бы вам не сделать передышку на пару недель, не стесняйтесь, берите остаток отпуска, вы его заслужили, — облагодетельствовал меня босс.
Вот так прошла эта странная беседа с шефом. Полная недомолвок, недосказанности — какая-то галиматья. Возле своего рабочего места я задержался ровно настолько времени, сколько требовалось, чтобы забрать папку с бумагами, погасить экран компьютера, выключить системный блок.
С тихой радостью я подумал: «Возьму пару недель — они мне во как нужны!»
Толкнув от души входную дверь, вышел на улицу и направился прямо домой.
Оказавшись в своей квартире, понял, что против собственной воли очутился в мире своих ночных кошмаров и полностью отдаю себе отчет в истинности этих слов.
Предвосхищение будущего
Скажи, откуда ты приходишь, Красота?
Твой взор — лазурь небес иль порожденье ада?
Ты, как вино, пьянишь, прильнувшие уста,
Равно ты радости и козни сеять рада,
Заря и гаснущий закат в твоих глазах,
Ты аромат струишь, как будто вечер бурный,
Героем отрок стал, великий пал во прах,
Упившись губ твоих чарующею урной.
Шарль Бодлер, «Цветы зла»День проходил за днем, а меня не оставляло то странное ощущение нереальности окружающего мира, которое я испытал ранним утром в аэропорту Шереметьево-2, когда вернулся из Берлина. Казалось, в моем мозгу все перемешалось или сместилось набекрень. Иллюзии, похожие на недавний сон, стали вытеснять действительность; наметился явный крен в соотношении реальности и воображаемого — все резко изменилось в сторону последнего. Я сбился в восприятии и ощущении времени. Намереваясь выпить чашку чая или приготовить себе яичницу, я открывал холодильник и вдруг вспоминал, что только что плотно отобедал. Головная боль, которую я привез в Москву из Берлина, и которая поначалу то пропадала, то вновь возникала, но ненадолго, теперь преследовала меня постоянно. Мигрень не оставляла в покое ни на день. Спровоцировать головную боль мог всякий пустяк — перепад давления на улице, лишняя чашка чая или какие-то строительные работы, которые затеял сосед сверху: он то сверлил, то стучал молотком, то скрежетал каким-то загадочным инструментом.
Поэтому я часто включал телевизор и смотрел исключительно новости или американские блок-бастеры. Отечественные боевики вызывали у меня аллергию. Это была откровенная халтура, грубо сработанная, по-любительски тошнотворная; нельзя было отличить уголовников от блюстителей порядка — все говорили на блатном жаргоне.
Я выключил телевизор. Мне срочно нужно было выпить. На этот раз я предпочел чашке чая стопку водки. Взял газету, но читать не хотелось — тут же отложил ее в сторону. Видимо, выпавший двухнедельный отпуск согревал мое сердце: нужно было его использовать на все сто процентов.
Мне не давала покоя моя встреча с шефом. Ну, накатил на меня мой любимый начальник — правда, мне было все равно, кто конкретно его шантажировал и зачем, а главное — причем тут я? Скорее всего, это связано с моим визитом в Германию, Верой Лурье и бандеролью с рукописями. Ну и что из этого, да и что, собственно, произошло? — убеждал я себя. Ничего. Пустое. Все было слишком умозрительно и непонятна, а закончилось великолепным тайм-аутом: я взял отпуск и только через полмесяца должен вернуться на работу.
Сделав променаж по комнате, я плеснул в стопку водки и, зажмурившись, выпил. Внутрь провалился дивный живительный огонь! Хотел, было, закусить, но, немного поразмыслив, махнул рукой: водка настолько классная вещь, что не стоит портить впечатление прозаической закуской. Лучше завалиться на кушетку и как следует выспаться. У меня были все основания полагать, что хорошая доза водки поможет быстро и крепко заснуть.
С тех пор как я вернулся в Москву, спать приходилось мало. Наверное, это и была та самая проклятая бессонница, которая появляется всякий раз, когда ее не ждешь. Вот и в эту ночь я отключился сразу, но через пару часов проснулся. Взглянул на часы: было ровно три ночи. Последнее время меня мучила постоянная слабость, периодически подташнивало. Но спать хотелось, и я налил себе еще солидную порцию шнапса, и, не раздевшись, улегся в разобранную еще со вчерашнего приезда постель. И — о чудо! — наверное, впервые за несколько последних дней мгновенно забылся глубоким сном.
Долго ли коротко я спал, не знаю. Пробудился от шума льющейся где-то рядом воды. Застекленные двери, ведущие в огромный глухой двор, оказались распахнуты. Снаружи бушевала первая летняя гроза, а грохот и всполохи молний врывались в спальню.
— Вот и лето началось! — обрадовался почему-то я.
Медленно поднялся с постели. Голова кружилась от выпитой водки, тело заносило в сторону. Закрыв двери на балкон, я побрел в ванную и принял контрастный душ — обливаясь то холодной водой, то почти кипятком. Процедура пошла мне на пользу. Контрастный душ слегка протрезвил, а вид парфюма — пузырьков с одеколонами, шампунями и кремами на фоне белого кафеля стен немного успокоили нервы. Я насухо вытерся полотенцем.
Мой взгляд случайно упал на зеркало, и я обнаружил, что, кажется, перепил: лицо, глядевшее на меня из зеркала, не имело ни малейшего сходства с тем, что я привык видеть ежедневно. Голова незнакомца была больше моей, пепельные волосы зачесаны назад.
На лице выделялся большой мясистый нос, кожа была изъедена оспой, щеки были впалыми, чувственные губы — плотно сжаты.
В больших печальных глазах прятались ироничная улыбка. И самое, пожалуй, поразительное: где-то я уже видел его!..
Я счел, что всему виной ставшая чуть ли не хронической бессонница и две чарки водки натощак. Желая избавиться от наваждения, я поднес руку к лицу. Но что это?! Рука в зеркале не двинулась с места. О, боже ты мой! Рука и не походила на мою: небольшая с натруженными пальцами, — они были короткие и вывернутые от постоянной работы и напряжения.
Хронометр отсчитывал время, а мираж не исчезал.
Я зажмурился, подставил голову под холодную воду. Но когда снова поглядел в зеркало, то лицо, до боли знакомое, красовалось в зеркальном овале, а чужие глаза с ироничной улыбкой внимательно смотрели на меня, подтрунивая:
«Ну, что, сударь, страшно или очень страшно?! Я уже здесь!»
Тогда я со всего маху стукнул кулаком по зеркалу. Стекло разлетелось вдребезги. Я порезался, хлынула кровь.
Пока я делал перевязку, пытаясь остановить кровотечение, то все кругом заляпал и залил кровью. Меня охватила противная дрожь, левый глаз поразил тик, который я никак не мог унять. Зато — незнакомец из зазеркалья исчез, как будто его и не было, а в каждом осколке подрагивало крошечное отражение моего, а не чужого лица.
Гений и злодейство
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердий, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!
А. Пушкин «Моцарт и Сальери»Одна мысль, одна навязчивая идея преследовала меня: добраться до моего раритетного письменного стола, где покоится сверток, и выяснить, что представляет собой дар Веры Лурье. И какова моя дальнейшая роль в судьбе этих неизвестных документов, каким-то образом связанных с жизнью и смертью Вольфганга Амадея Моцарта.
Первым делом я заварил крепкого чая, выпил кружку до дна и лишь тогда приступил к самому главному. Дрожащей рукой я открыл ключом замок письменного стола, выдвинул нижний ящик и осторожно извлек сверток с рукописями.
За окном уже начинало светать. Мои чувства напряглись до предела — слух, обоняние, память все было обострено.
Я взял кухонный нож, разрезал жгут, надорвал плотный пергамент. Под ним я обнаружил упакованные в целлофановую пленку, пожелтевшую от времени, своего рода альбом для фотографий, где вместо снимков были письма, а рядом был дан перевод на русский.
Текст писем, исполненный красивым готическим шрифтом, наводил на мысль, что автор депеш был гуманитарий до мозга костей. Таким же каллиграфическим почерком был исполнен перевод. Наверняка, эту кропотливую работу выполняла дотошная Вера Лурье.
Я устроился поудобнее в кресле, стал читать рукопись, посматривая в сноски фрау Лурье. Вековой возраст эпистолярия, за которым к тому же и охотились, завораживал и манил.
Сверху на титульной странице красовалось вензелем начертанное слово «Моцарт». Чуть ниже той же аристократической рукой, но мелкими буквами был выведен перевод немецкой фразы: «Композитору Борису Асафьеву от профессора по истории музыки Гвидо Адлера». Вот так. Строки немецкого текста, казалось, мерцали, становясь то ярче, то тусклее, когда я всматривался в страницу, и притягивали меня к себе, словно бездонная морская глубина, которая завораживает и манит тебя в свои чертоги.
Приступая к чтению рукописи, я и слыхом не слыхивал о франкмасонах, иллюминатах, ничего не знал о тайных обществах, масонских ложах, орденах, о таинственных обрядах посвящения в этих эзотерических организациях, руководители которых на протяжении сотен лет пытались соперничать на Земле с самим Всевышнем. Они, как я понял, убеждают нас в своей исключительности и высшем предназначении «посвященных» — братьев-масонов. Нынче я осведомлен об этом, скажем так, чересчур хорошо. Но тут свои правила игры, которые слишком серьезны, а порой жестоки, чтобы ими пренебрегать. Слишком уж часто смерть подстерегает тех, кто осмеливался жить по своей правде, игнорируя роковую черту, разделяющую два мира.
По всей видимости, это как раз случилось с моим добрым приятелем Виктором Толмачевым. Он переступил ту самую роковую черту, за которой его поджидала смерть. В контексте сказанного, вопрос можно поставить в другой плоскости: а стоит ли жить по-иному? Как говорили в стародавние времена, по кривде?..
Помнится, в Берлине Вера Лурье спросила меня: «Вы знаете Моцарта?» Разумеется, в то время я не осознавал истинного смысла этого вопроса. Теперь здесь, в Москве, возможно, мне суждено постигнуть его в полном объеме.
Я начал читать с первого листа, и у меня появилось ощущение, что я переступил некую невидимую зыбкую грань, отделявшую один мир от другого. И шагнул в параллельный мир, в неизвестность. До сих пор я жил, как мне казалось, в единственном и огромном мире, но теперь мои представления рухнули, будто карточный домик, и мне выдалась возможность из реалий повседневности шагнуть в тот странный перевернутый с ног на голову мир, который простирается тут же, рядом. В Зазеркалье.
Пути назад не было, мосты к отступлению сожжены.
Ленинград, Россия.
Композитору Борису Асафьеву от его друга, венского историка музыки профессора Гвидо Адлера.
Вена, 19 мая 1928 года[2].
Уважаемый герр композитор Борис Асафьев!
Неделю назад получил Ваше письмо. Оно растревожило мою душу.
Что ж, придется идти до конца. Письмо заставило меня усомниться в верности некоторых моих взглядов, вновь задуматься над вопросом о сущности человеческой природы. Что отделяет каждого из нас как особь от окружающего мира? Разве не плоть? Или на протяжении долгих лет я как homo sapiens просто-напросто тешил себя иллюзией, что это так?
Мы отлично знакомы с Вами, дорогой Борис Владимирович.
В ту пору, помню, я получил от Вас три письма, в которых Вы настойчиво запрашивали у меня информацию о некоторых темных пятнах в жизнеописании Вольфганга Моцарта. Должен принести Вам свои извинения за то, что не ответил ни на одно из Ваших посланий. В ту пору я не смог выполнить Вашей просьбы.
Помните, когда вы были в Вене, во время одной из дружеских наших встреч речь зашла о трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери», и вы спросили меня, действительно ли, по моему мнению, Сальери совершил злодейство, положенное в основу его пьесы? И я, ни минуты не колеблясь, ответил: «А кто же из старых венцев сомневается в этом?»
Хотя, на страже имени Сальери всегда стояли реакционные клерикальные круги. Разумеется, зная общепринятые правила получения нужной информации у церкви, я пошел традиционным путем. Сделал обстоятельный запрос о снятии копии с исповеди капельмейстера А. Сальери, находящейся в архиве храма НН. На это мне было заявлено, что исповедник Сальери не имеет права нарушить тайну исповеди, соблюдение которой является обязательным для каждого католического священника Что ж, действительно, такое церковное установление есть, но. Ординариат (управление делами) архиепископства Венского в ответ на мою просьбу сообщить что-либо о местонахождении записи, заявил, что запись эта является «вздорной выдумкой и связывается с пушкинскими путевыми заметками (именно так была названа маленькая трагедия «Моцарт и Сальери»!) для того, чтобы доказать духовный приоритет русских.».
Вряд ли, чиновник, составлявший эту сердитую депешу, читал трагедию Пушкина. Тогда я, используя предлог об изучении церковной музыки и свои связи, стал искать документ самостоятельно и нашел в одном венском архиве запись исповеди Сальери. Она принадлежала руке духовника итальянского маэстро, который в свою очередь ознакомил своего епископа в том, что Сальери отравил Моцарта. В этом документе содержались также детали того, где и при каких обстоятельствах под патронажем итальянского композитора давался Моцарту медленно действующий яд. Более того, я дотошно проверил все содержавшиеся в записи исповеди фактические данные и пришел к заключению, что исповедь Сальери совсем не „горячечный бред умирающего», как пытались представить дело его сторонники. Вероятно, преступник выдал здесь столь долго охраняемую тайну. Как выяснилось позже, имелся в виду документ под § 886 этих установлений.
Правда, «печать молчания» может быть снята в том случае, если кающийся оказывался психически ненормальным. Сальери в последний, краткий период своей жизни был психически тяжело больным и помещен в психиатрическую клинику, в Вене это было хорошо известно. Как свидетельствуют записи посетителей оглохшего Бетховена, о разговорных тетрадях начиная с осени 1823 года, Сальери признался в том, что отравил Моцарта и, мучимый невыносимыми угрызениями совести, перерезал бритвой горло, пытаясь покончить с собой. Как Вы сами понимаете, такая строго конфиденциальная информация, не вполне безопасна для того, у кого она находится. Учтите этот немаловажный факт.
Приезжайте, друг мой Борис, и я Вам покажу фотокопию найденного документа, и вы тогда окончательно перестанете сомневаться в подлинности слухов, гуляющих уже более ста лет и связанных с гибелью великого композитора.
Если католическая церковь была втянута в «заговор», что не так уж невероятно, то, естественно, у нее не было резона для разглашения содержания этого документа. Кстати, весьма интересно то обстоятельство, что — по этой исповеди — Сальери выдает себя за преступника, хотя, наверняка, был он только подстрекателем, но это было характерно для его тогдашнего психического состояния.
К сожалению, я не имею права делиться этой запретной информацией с кем бы то ни было, даже с Вами, уважаемый Борис Владимирович. Поэтому подробности при личной встрече в Вене.
Возможно, причины моей сдержанности будут Вам, дорогой мой русский композитор, более чем известны и я об этом умолчу.
Вы, конечно же, знаете, что я человек самый заурядный, умеренных и даже старомодных взглядов на жизнь. Как добропорядочный гражданин Австрии, я чту и уважаю законы и порядок и считаю, что меня можно отнести к людям с уравновешенным характером и устойчивыми нравственными принципами. Всегда старался быть в меру патриотом и гражданином своей страны, хорошим мужем для своей жены — чудесной женщины редкой доброты и благородного происхождения. Тешу себя надеждой, что соответствую званию профессора, историка музыки и внес достойный вклад в науку.
И, по правде говоря, мне вовсе не хотелось бы, чтобы математически четкий ход моей жизни, которого я неукоснительно придерживался, мог быть нарушен некой грубой иррациональной силой, силой вероломной и вседозволенной, природа которой мне не вполне ясна. Но остановлюсь на этом подробнее.
В последние месяцы со мной происходит нечто не вполне логичное, скорее — иррациональное. Без видимой причины у меня появились некоторые признаки физиологического и психического расстройства после того, как я ознакомился с вышеназванной «исповедью Сальери». Сей факт до основания поколебал мою уверенность в том, что мои представления о природе сущего мира, об окружающей нас действительности соответствуют истине. Еще более поразительным оказалось то, что мне нанес визит некто или человек в сером одеянии, как в случае с великим Моцартом. Сходство прямо-таки зеркальное.
Другое происшествие произошло три месяца назад, в понедельник вечером. Я задержался дольше обычного в университете: мне нужно было набросать тезисы статьи, которую я намеревался обязательно закончить, чтобы завтра передать ее в редакцию. В какой-то момент я отвлекся от работы и неожиданно увидел перед собой довольно высокого мужчину в серых одеждах. У него был цепкий неприятный взгляд, поджатые узкие губы на вытянутом худощавом лице.
Неизвестный произнес сумбурную речь:
— Мы рекомендуем вам уничтожить записи, которые вы сделали в церковном архиве, касательно маэстро Сальери. Это знание следует забыть. Напрочь! Молчание, как известно, золото. Или будет гораздо хуже, — вы представляете, о чем я говорю?
— Вы, наверное, ошиблись аудиторией? — прервал я гостя, сочтя, что он заблудился в университете, разыскивая кого-нибудь из моих коллег, и случайно оказался в моем кабинете.
— Какие еще ошибки? — усмехнулся гость. — Их просто нет в природе. Разумеется, за исключением тех, которые вольно или невольно делаете лично вы, герр профессор Гвидо Адлер.
Мне стало не по себе. Господин Асафьев, бывает, что я выхожу из себя, когда со мной играют в какие-то тайные игры. Не понравилось мне и то, что этот незнакомец с высокомерным взглядом обратился ко мне по имени-отчеству и при этом не потрудился назвать сторону, от лица которой он нанес визит, который и закончился престранным образом.
За окном послышался шум, я повернул голову, а когда взглянул туда, где стоял неизвестный, то обнаружил — гость в сером бесследно исчез. Фантастика какая-то!
Всякий раз, когда я вспоминаю этого зловещего посетителя, мне становится не по себе. Что это? Галлюцинации, плод моей больной психики?
Вскоре после этого визита мне стал являться в сновидениях сам Вольфганг Моцарт. У него был изможденный вид, лицо обострилось, нос и без того крупный вытянулся и стал, как у Сирано де Бержерака, а голова казалась неестественно большой на его тщедушном маленьком теле. Вместо чудесной пепельной шевелюры у него остались некие жалкие и жидкие пряди волос. Вольфганг походил на очень больного, замученного недугом человека. Выпученные глаза на исхудалом лице только усугубляли неприятное впечатление.
Этот двойник Моцарта из сновидений умолял меня сообщить громогласно какую-то правду. Что он имел в виду под этой правдой, которой он от меня требовал, мне неведомо. Эта напасть стала повторяться каждую ночь. Сразу же после двенадцати ночи, призрак, уверяющий, что он и есть настоящий Вольфганг Моцарт, то запугивал меня, то умолял мне предпринять срочные меры. Пытаясь осмыслить происходящее, я пришел к мнению: подальше спрятать фотокопию текста исповеди Сальери, а Вам сообщать регулярно о своих странностях и загадках.
Мне не по себе от мнимых угроз, которые могут стать ужасной реальностью.
А потому я не буду отсылать Вам письма, а стану собирать их у себя, чтобы передавать при надежной оказии или лучше во время нашей очередной встрече в Вене.
Дорогой друг, я стал сомневаться в нормальности своей психики. И чувствовал, что об этих сумасшедших ночах не следует говорить никому из коллег и даже своим родным и близким.
Минула еще одна неделя, и я всерьез занемог. Начались головные боли, ноги стали опухать — точь-в-точь как у Моцарта. Весь врачебный опыт моего домашнего доктора оказался бессильным, чтобы побороть мою странную болезнь.
Похоже, некая завладевшая мной сила пытается сломить мое сопротивление и заставить примириться с фактом существования призрака «Моцарт». Честное слово, мой организм сопротивляется этим наваждениям. Ну, если восстает плоть, то значит дух мой не сломлен. С нами Бог!
Всего Вам доброго!
Ваш Гвидо Адлер.
Рукопись лежит передо мной, на письменном столе, я читаю эти странные слова: «Некая завладевшая мной сила пытается сломить мое сопротивление». А ведь и я попал под каток этой «зловещей силы». Со мной происходило нечто похожее во время и после посещения в предместье Берлина Веры Лурье, в аэропорту Шереметьево-2, когда ко мне прицепился субъект в сером, требуя рукописи, или тот, астматик на Ваганьковском кладбище, осведомленный о моей частной жизни и реально угрожавший мне смертью. Эти навязчивые déjà vu в сновидениях наяву, центральным персонажем которых был сам Вольфганг Моцарт и какие-то неотступные «:нукеры» зловещего и таинственного «мандарина», добивавшихся сначала у Гвидо Адлера, Веры Лурье, а теперь и у меня прекратить дознания того, что, так или иначе, касалось тайны жизни и смерти великого композитора.
Странно до оторопи то, что во всех этих представлениях одни и те же действующие лица: субъекты, одетые во все серое с надменными цепкими взглядами, вещие сны с участием демонов композитора, загадочные смерти реальных лиц. Должно же быть осмысленное объяснение этим метаморфозам!
Ленинград, Россия, Композитору Борису Асафьеву.
От его друга, венского историка музыки профессора Гвидо Адлера, Вена, 16 июля 1928 года.
Уважаемый герр композитор Борис Асафьев!
Как я ни старался найти хоть долю смысла в цепи эпизодов, случившихся со мной, но ни на йоту не приблизился к решению. Напротив, мою персону стало все больше и больше затягивать в водоворот мистики и чертовщины. Все это демонстративно угрожало моей научной деятельности. Да что там карьера — над моей жизнью навис дамоклов меч. Скоро я сдался и подал прошение об отставке с кафедры университета.
Решил произвести революцию в своей судьбе. Ушел в самостоятельное плавание или, как говорится, «на вольные хлеба». Сейчас у меня масса времени, чтобы заняться собой: восстановить «психику», «физику» и «моторику».
И вот в душевном равновесии моем наступил здоровый баланс.
Худо-бедно, но моя новая жизнь продолжалось до тех пор, пока я не получил на прошлой неделе Ваше письмо. Это разумеется чистое совпадение. Оказалось, что все в моей жизни вернулось на круги своя и с той чертовщиной вроде бы покончено.
Хоть я и профессор, но не эскулап, а потому не могу взять в толк, что значит вся эта круговерть возле моей персоны? Дорогой герр, русский композитор, я продолжаю быть с Вами откровенным: если честно, то я и не желаю выяснять, что все это значит? Начинаешь искренне верить в тайные силы, масонские заговоры, в теософию, наконец, тибетскую страну Шамбалу и прочее, прочее.
Я не имею права рисковать Вашей безопасностью, судьбою моих и Ваших близких. А потому обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой: прочитав это мое послание, уничтожьте его. По меньшей мере, ликвидируйте все то, что могло бы указывать на происхождение письма, его автора и фамилии единомышленников. Надеюсь, вы не оставите мою просьбу без внимания.
А теперь перейду к общей интересующей нас теме: я сделаю попытку связать воедино несколько эпизодов из жизни Моцарта и Сальери.
Дорогой друг, если бы Пушкин не запечатлел преступление Сальери в своей трагедии „Моцарт и Сальери», над которой он работал много лет, то загадка смерти величайшего композитора христианской цивилизации так и не получила бы разрешения.
Посмотрите-ка, какие тут совпадения. Рано умерший Александр Пушкин, был чуть старше Моцарта. В 1830 году русский поэт пишет маленькую трагедию «Моцарт и Сальери», — ему тогда шел 31 год. Все «карпаниево» красноречие, употребленное итальянским журналистом Дж. Карпани, которое он выплеснул в миланском журнале «Biblioteca Italiana» (сентябрь 1824 год) в пользу своего земляка Сальери, кажется, не произвело на вашего Пушкина особого впечатления, впрочем, как и свидетельство Гуммеля, в чьих набросках к биографии Моцарта (1825) можно найти следующие слова:
«Будто он (В. Моцарт) предавался мотовству, я (за малыми исключениями.) считаю неправдой; точно так же отбрасываю басню, что Моцарт был отравлен Сальери; если даже последний и имел претензии к гениальности первого, нанесшей вред в те времена итальянскому вкусу, то Сальери был все же слишком честным, реально мыслящим и всеми почитаемым человеком, чтобы его можно было заподозрить даже в самой малой степени.»
Ваш Александр Пушкин в своем творчестве сенсаций не любил. Именно ему в связи с уже названной трагедией принадлежат слова:
«Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальною».
События конца 1823 и начала 1824 годов, связанные с А. Сальери, не давали, видимо, Пушкину покоя. Это, прежде всего, неожиданно всплывшие в феврале 1824 года сообщения французских газет о том, что Моцарт был подло отравлен Сальери, которые и побудили поэта Пушкина взяться за перо.
Я даже ни на йоту не сомневаюсь, что ваш Александр Пушкин знал обо всем этом. Он был вхож в салон австрийского посла в Петербурге графа Людвига Фиккельмона, с которым состоял в дружеских отношениях. Близость поэта к влиятельным кругам, давала возможность читать запрещенные царской цензурой книги и периодику, издававшиеся у нас в Европе. Через дипломатическую почту он имел доступ и к другим секретным документам, то есть он всегда был «en courant de tout» («быть в курсе» — фр.).
Сочинение русского Пушкина, погибшего на дуэли в 37 лет, нашло равноценного интерпретатора в лице вашего композитора Николая Римского-Корсакова, написавшего одноактную оперу по его трагедии. Она длится около 50 минут, монолог Сальери выдержан в Рембрандтовой светотени, звучат там и мелодии из опер Моцарта и отдельно фрагмент Реквиема. Воистину, редкий случай, когда знаменитый композитор устанавливает звучащий памятник своему духовному кумиру.
Всего Вам доброго!
Ваш Гвидо Адлер.
Вена, Австрия.
Профессору герру Гвидо Адлеру.
От композитора Бориса Асафьева.
Ленинград, Россия, 12 июня 1928 года.
Мой венский друг, герр Гвидо!
Пишу из райского места под Ленинградом. Как был бы рад, если бы ты приехал ко мне, на дачу. Ну, да ладно. К делу, к делу. И, конечно же, все про Пушкина, Моцарта и Сальери. Вы меня зажгли: в душе вспыхнули зарницы счастья, выкристаллизовалось чувство искренней благодарности.
Когда наш солнечный гений поэзии — Пушкин — коснулся неувядаемой темы «Гений и злодейство», то всяческие Сальери, эти «маленькие великие люди» давно уж толпились на улицах Вены, Берлина, Лондона, Петербурга, и Пушкин встречал их не только мысленно — под окнами Моцарта, но и рядом с собой, въяве, в широкой России, и они все плотней окружали его, подвигая его к написанию «маленькой трагедии».
Такие как Сальери, в кабаки не ходят. Разве, что «пировать с гостем ненавистным» в трактире «Золотого Льва» с фортепиано и то лишь по делу: где он отравит Моцарта, успевая насладиться аккордами его «Реквиема».
Так и хочется сказать: любовь — вот душа гения! Это чувство сближает и роднит Моцарта с толпой — кабацкой ли публикой, только она движет мастера к внезапному, нечаянному увлечению. Отсюда все: непосредственность — детскость, весело и легко противостоящая фальшивой искушенности в разных науках, и единство суверенитетов, и свобода равноправия.
«Тебе не до меня», — говорит Моцарт, потому что Сальери, не осененному божьей искрой гения не до этой многообразной, взаимосвязанной, естественной жизни, — тот мыслит другими категориями. Непомерное творческое тщеславие, нежелание уже творчески бесплодного Сальери терпеть возле себя мало-мальски талантливого композитора, а уж бога музыки — это уже подавно, толкало итальянца во все тяжкие. Только бы жесткая иерархическая его постройка венских подмостков осталась бы под его господством.
Всего Вам доброго, мой дорогой русский друг!
Ленинград, Россия.
Композитору Борису Асафьеву.
От профессора Гвидо Адлера.
Вена, 30 сентября 1928 года.
Уважаемый герр композитор Борис Асафьев!
Мой друг, в связи с именем Сальери, возникшем в ходе нашей переписки, я даю вам следующую сенсацию: мой пражский друг и коллега НН, отыскал в архивах документ, связанный с попыткой самоубийства и признаниями Сальери.
Помог мне моравский ученый, профессор, прислав фотокопию письма Сальери с приложением партитуры своего Реквиема, которые датируются мартом 1821 года графу Генриху Вильгельму Гаугвицу, в замке которого (Намешть, это под Брно или по старому Брюнном) он не раз бывал. Привожу первый абзац этого письма:
«Per Sua Eccelenza il Signor Conte H. de Haugwicz.
Eccelenza!
Vienna, marzo 1821
Quando l’E. (Eccelenza) V. (Vosra) riceverà questa lettera, Dio avra chiamato a se lo scrivente. Alia presente sara unito l’originale del mio Requiem, secondo la mia promessa, del quale le faccio un dono, pregandola in contracambio, che sia soltanto esequito nella de Lei privata capella in suffragio dell’anima mia. Aggiunto al mio Requiem mi fo un dovere di rispetto ordinando nel mio testamento che sia rimessa all’E. V. la scattola d’oro con di Lei assomigliantissimo ritratto, che si e degnato una regalarmi, e che con immo piacere vivente, ho sempre conservato sotto gli occhi. Volendo poi V. E. per atto della di Lei innata generosita contracambiare a cid con qualche piccola somma, sei degni farla avere al secretario della Societa delle vedove e pupilli delia musica in Vienna».
Перевод фрагментов письма (Вера Лурье):
«Когда В(аше) П(ревосходительство) получит это письмо, Господь уже призовет к себе пишущего эти строки. К настоящему письму прилагается, в соответствии с моим обещанием, подлинник моего Реквиема, который я приношу в дар, прося лишь взамен, чтобы он был исполнен в Вашей частной капелле ради спасения моей души».
Резюме Лурье: Если предположить, что Сальери чувствовал себя настолько плохо, что мог думать о приближении смерти, то и тогда первая фраза письма поражает своей категоричностью, ибо даже опытному врачу бывает трудно исчислить дни, отделяющие больного от последнего рубежа его жизни, а ведь речь шла о немногих днях, ибо от Вены до Намешти (под Брюнном или Брно) чуть более ста километров! О душевном помрачнении не может быть и речи. В те годы Сальери сам еще был плодовитым композитором и педагогом: в 1822 году у него учился Лист!
Случайно ли Сальери начал письмо фразой, типичной для писем многих самоубийц: «Когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых»? Но почему все же Сальери остался жив? Быть может, имевшаяся в его распоряжении доза яда была недостаточной и не привела к желаемому результату? Тогда понятно, почему в 1823 году понадобилась бритва. Во всяком случае, мы теперь знаем, что уже в 1821 году Сальери собирался расстаться с жизнью и просил отслужить по нему заупокойную мессу не в городе, где он провел полвека, а в частной капелле графа.
Разумеется, в письме этом нет прямого указания на то, какими грехами была отягощена совесть Сальери. Однако трудно сомневаться в том, что у него возникла мысль о самоубийстве. И, судя по изысканному стилю, ни о каком психическом заболевании Сальери и речи быть не может. А если же предположить, что и Реквием он писал «для себя» (приведенное начало его письма дает полное основание для такого предположения), то придется замысел самоубийства отодвинуть на еще более раннее время. А, как мы уже говорили, почти все документальные источники связывают попытку самоубийства Сальери с его признаниями в убийстве Моцарта. Не с мыслями ли о событиях 1791 года писал Сальери свой Реквием и прощался с жизнью тридцать лет спустя, в марте 1821 года?
Дорогой русский друг!
У меня есть еще чем похвалиться. Пусть анонимное и незаконченное — такое возражение нашлось в наследии сына Моцарта Карла Томаса, который до конца жизни прожил в Милане и статью Карпани, в которой тот защищал Сальери, он конечно, знал. Родившись в Вене в 1784 году, после смерти отца Карл Томас жил сначала в Праге у хорошего знакомого семьи профессора Немечка, но по настоянию матери вынужден был заняться торговым делом, не закончив учебы в гимназии. Не удовлетворившись этим занятием, в 1805 году он перебрался в Милан, учился вначале музыке, но через три года бросил ее и стал чиновником австрийского правительства. После отказа от музыкальной карьеры Карл Томас вел скромное существование и всеми силами служил славе своего отца. Был он невысоким, хрупким на вид человеком с черными глазами и волосами пепельного цвета, кроме того, прост и крайне скромен в обращении. Вместе с братом в сентябре 1842 года он стал свидетелем открытия памятника отцу в Зальцбурге, в 1850 году ушел в отставку, пережил всю семью и умер холостяком в Милане 31 октября (в день именин отца) 1858 года в возрасте 74 лет.
Но поначалу Вам приведу отрывок «Карпаниевой защиты», а это около 5 печатных листов. Датировано 10 августа 1824 года, Вена; появилась в сентябре 1824 года в миланском ежемесячнике «Biblioteca Italiana». Вот отрывок из 12 абзаца этого пустого и на редкость многословного объяснения:
«Человечный, прямодушный, порядочнейший и чистосердечный Сальери убийца! — более того, убийца Моцарта! — О tempora, о mores! Молчите, злодеи!.. Ответьте только, откуда вам стало известно о столь ужасном злодеянии. Наверное, от самого оклеветанного, от страждущего Сальери, в минуту отрешенности от мира сего открывшегося в своей вине?.. Скажите хотя бы, кому безумец мог нести сей бред! Как же, чего мы не знаем, да и не желаем знать. Сказано им — и баста. Что из того, что история лжива, зато складно выдумана. Возникнув однажды в узком кругу, она громоподобным эхом отзывается в более широком — и для черни преступление состряпано: Сальери отравил Моцарта. Среди немногих сих защитников-маэстро Зигмунд Нойком, близкий друг Моцарта, свидетель его смерти.»
Теперь мой друг, я предлагаю Вам ниже приведенный ниже документ, объемом в три с половиной рукописных страницы, написанный по-итальянски; он начинается без вступления и так же внезапно обрывается. Многочисленные зачеркивания и исправления дают основания полагать, что автор только набрасывал свои мысли. Незаконченная рукопись принадлежала сыну Моцарта Карлу Томасу. Вполне возможно, он предполагал дальнейшую обработку текста, которая сделана все же не была. Владелец оригинала неизвестен, а копией располагает венский Интернациональный архив писем музыкантов (IMBA). Текст гласил:
«Я прочитал письмо, переданное господином аббатом Карпани в «Biblioteca Italiana», дабы защитить Сальери от обвинений в отравлении. Я согласен со всем изложенным в первой части защиты оного, сие касается склонности людей к вере во все уязвляющие, удивительные и таинственные известия. Впрочем, мне кажется неуместным используемый господином Карпани искусственный прием; дабы склонить итальянцев на свою сторону, он говорит о том, что желает защитить честь нации, коей, разумеется, не может быть нанесен урон неблаговидным поступком одного-единственного человека. Но еще менее я склонен согласиться со второй частью его защиты, где он, собственно, касается непосредственно темы. Вспомнить только многоречивую и совершенно неподобающую случаю дискуссию, которая единственно и полностью завязана для того лишь, дабы найти случай использовать острые выражения, на кои он вообще весьма щедр, когда дело касается Моцарта, и кои — хотя прямо об этом не сказано — все же показывают, сколь отличен его вышеупомянутый приговор Моцарту от мнения подавляющего большинства. Нет смысла следовать его утверждениям, поскольку здесь они вовсе ни при чем. Первым делом следовало бы установить, была ли его болезнь нераспознанной желчной лихорадкой, которую доктор сразу признал безнадежной (опасность он разглядел лишь в последний момент).
Очень существенно, на мой взгляд, столь сильное опухание всего тела (una gonfezza generate), начавшееся за несколько дней перед смертью; отчего больной едва мог двигаться, еще — зловонный запах, свидетельствующий о внутреннем разложении организма, и резкое усиление оного сразу после наступления смерти, что сделало невозможным вскрытие тела. Второе характерное обстоятельство заключается в том, что труп не закоченел и не стал холодным, а, как это было в случае папы Ганганелли (Климент XIV, — прим. авт.) и тех, кто умер от растительного яда, остался во всех частях мягким и эластичным. Пусть маэстро Сальери невиновен в смерти Моцарта, чего я желаю и во что верю. Так насильственно ли была оборвана жизнь Моцарта и можно ли преступление сие приписать Сальери? Относительно этой второй части я хотел бы присоединиться к многочисленным свидетелям, сумевшим оценить личные качества маэстро Сальери, и потому считаю, что он невиновен, но хотел бы подчеркнуть, что подвигнут на это не благодаря статье Карпани. Не могу признать справедливым свидетельство господина Нойкома, поскольку в это время он пребывал в детском возрасте, а вкупе с этим оспариваю утверждение, будто он присутствовал при кончине Моцарта. В семью Моцартов он был введен лишь 9 лет спустя, когда его выбрали воспитывать младшего сына маэстро. Но ежели признать сообщение Зигмунда Нойкома достоверным, то, как тогда согласовать слова Карпани с помещенным З. Нойкомом во французских газетах объявлением? У него выходит, что больной Сальери — пусть помешанный — признает себя причастным к смерти Моцарта, тогда как Карпани изо всех сил тщится отрицать это обстоятельство, призывая в свидетели двух санитаров, ухаживающих за Сальери.
Совершенно лживы приведенные Карпани обстоятельства, которые будто бы сопровождали смерть Моцарта. Бездоказательно и ложно, что Моцарт умер оттого, что пришел конец отмеренного ему срока жизни. Или смерть его все-таки сопровождалась насилием? Вот тут-то и начинаются тяжкие сомнения. Впрочем, нельзя забывать о том, о чем в последние месяцы жизни догадывался сам Моцарт, — о подозрении, возникшем у него вследствие странного проявления внутреннего разлада, ощущаемого им, и связанного с таинственным заказом Реквиема, — впрочем, это все вещи настолько известные, что мне нет надобности продолжать дальше.»
Сразу бросается в глаза, что автор этих строк обладал самой точной информацией. Скрытая антипатия Карпани к Моцарту, читаемая между строк, тоже не ускользнула от его внимания. Автор в курсе и всех противоречий, в которых, с одной стороны, запутался как Карпани, так, с другой, и 3игмунд фон Нойком — музыкальный наставник брата Франца Ксавера Моцарта. Для врача же особенно ценными представляются сведения о клинической картине последней болезни Моцарта: вначале автор упоминает колики в животе, что позволяет сделать предположение о поражении желчного пузыря, далее он отмечает то ненормальное опухание тела, из-за которого стало невозможно его вскрытие. Воспалительные процессы в области рта и слизистой оболочки кишечника могли стать причиной транспирации тела, которые свидетельствуют о «внутреннем разложении».
Правда, описанные изменения трупа относятся к области фантазий: в поддержку еще в античности выдвинутого ошибочного положения, будто растительные яды не вызывают окоченения трупа, привлекается даже смерть папы Климента XIV, в миру Ганганелли, известного тем, что в 1773 году им был ликвидирован орден иезуитов. «Мягким и эластичным» тело Моцарта осталось из-за скопления воды в тканях, из-за отека, характерного для финального отказа почек. В известном смысле Карл Томас, кажется, верил в неестественную смерть отца. В целом этот так называемый «Анти-Карпани» много короче и содержательнее «Карпаниевой защиты Сальери». Но без чтения статьи Карпани многие возражения тут были бы непонятны. По природе несколько склонный к флегме, Карл Томас Моцарт свой ответ более четверти века держит в ящике стола, но и не расстается с ним. Как говорится, «Habent sua fata documenta!» («У рукописей своя судьба» — лат.). Может, публикацию остановила смерть Карпани и Сальери, и он решил, что долгий спор, всерьез захвативший даже газеты, на этом закончен. Но наступившее затишье было обманчивым.
Сомнительная во всех отношениях защита Карпани имела не только прелюдию. Вскоре последовало и продолжение: рано умерший Александр Пушкин, чуть старше Моцарта в свои 37 лет, в 1830 году пишет маленькую трагедию «Моцарт и Сальери», о которой я Вам писал ранее. Все карпаниево красноречие, употребленное им в пользу Сальери, кажется, не произвело на него особого впечатления.
Дорогой друг, мне попался еще один престранный документ, из которого следует: да подлинна ли и сама дата смерти? Имеется отзыв-аттестат, сделанный императорским и королевским придворным агентом Э. Донатом о музыканте Э. А. Форстере, домогавшемся у императора вакантного места «камер-композитора». Аттестат подписан: «Вена декабря 3 года 791», и в нем такие слова: «почивший великий маэстро Моцарт ему.» Так что же, судя по этому документу, Моцарт скончался совсем в другой день!
Да, мой друг! Хотелось бы посудачить о вопросах, которые вне политики. С младых ногтей я, господин композитор, впитал любовь и уважение к порядку. У нас же только отгремела война, наступило более-менее стабильное время. Ан нет! Похоже, времена смуты опять забрезжили на горизонте, а как тогда нелегко простому народу. Как только в стране наступает смутное время, брожение изнутри идет полным ходом: начинается бесконечная болтовня о революционных преобразованиях, о свободе, равенстве и братстве. Но скажите, о каком братстве может идти речь, когда на улицах то митингуют, то маршируют, а в итоге с лица земли стирается все, что имеет отношение к истинной культуре и подлинной красоте.
Уважаемый герр Борис Асафьев! Подтверждаю, как на духу, что, доверяя бумаге документы и письма, связанные с великим композитором В. Моцартом, я говорил правду и только правду. Повторюсь: я надеюсь, приведенные мною факты окажутся полезными для Вашей работы и для России — родине знаменитого А. Пушкина.
При этом позволю настоятельно попросить Вас вот о чем. Во-первых, по получении моих депеш, постарайтесь уничтожить мои письма сразу после того, как изучите их. И ради Бога, ни при каких обстоятельствах не передавайте их содержание третьему лицу. Поскольку, чем глубже я занимаюсь нашей с Вами обоюдной темой, тем более таинственные явления преследуют меня: тут и загадочные люди с угрозами и наставлениями, а также неожиданные физические явления — пожары, отравления едой, травматические случаи на ровном месте.
Правда, уже с месяц они меня не беспокоят. Да поможет мне Бог — я надеюсь на то, что, когда закончу это письмо, они окончательно оставят меня в покое. Вторая просьба. Полагаю, Вы понимаете, что я делаю и впредь намерен делать все, что в человеческих силах, дабы обеспечить безопасность Вам, мне и моим близким и родным людям. Поэтому прошу Вас, как глубоко порядочного человека, дать мне слово, что Вы никогда не предпримете попытки вновь связаться со мной. Сдержите слово, ради всего святого! И да будет так и только так, что бы ни случилось.
И еще об одном, герр композитор Асафьев. Поначалу, работая над депешей к Вам, я не собирался упоминать о некоторых моментах жизни, происшедших со мной. Есть вещи, о которых не хочется вспоминать. Однако, в интересах науки, а также испытывая определенное, если так можно выразиться, сострадание к Вам, взвалившему на свои плечи столь тяжелую ношу, опишу очень коротко один случай. Как раз в самый разгар хворей, вдруг поразившей мою плоть, мне довелось остановиться на ночь в загородном особняке родственников жены.
После череды совершенно невероятных событий, случившихся в ту ночь, я оказался у себя на втором этаже один-одинешенек. Еще вечером, помнится, на меня напала сильная мигрень, а в ушах случился беспричинный звон, сопровождавшийся той же самой симптоматикой, которая была и у вас, когда Вы приезжали в Вену. Испугавшись, что самым натуральным образом схожу с ума, я приготовил себе снотворное и выпил его перед тем, как отправиться в постель.
Мне удалось уснуть. Снились мне роскошно-музыкальные сны: незримый оркестр исполнял волшебную музыку Моцарта, а я силился открыть глаза, чтобы рассмотреть музыкантов. Но ничего не мог поделать.
Обессиленный, я проснулся задолго до рассвета, совершенно мокрый от пота, и, оставив всякую надежду снова задремать, встал и пошел к умывальнику, вознамерившись побриться. Уселся я напротив зеркала и зажженных свечей, стал срезать щетину бритвой. И о Боже! К своему ужасу, я обнаружил, что лицо в зеркале — не мое отражение и мне не принадлежит. Это был Вольфганг Амадей. Правда, такого Моцарта я никогда не видел по известным портретам.
В первое мгновение, когда я увидел образ Моцарта, сердце мое укатилось в пятки. Правда, я тут же вскочил со стула, махнул рукой и перевернул туалетный столик с умывальником. Зеркало разбилось на мелкие осколки.
И хотя наваждение улетучилось, я все следующие часы пролежал в постели.
До той поры, когда изумительный по красоте рассвет проник через окно и озарил мою комнату.
Вот и все, что я могу Вам поведать. Иного я не знаю. В заключение повторю, что меня взволновал и продолжает волновать Ваш рассказ о той странной атмосфере, в которой Вы, герр русский композитор Асафьев, оказались, и о тех событиях, что коснулись Вас. По воле рока нечто похожее случилось и со мной и происходит вот уже в течение нескольких месяцев. Молю Бога, чтобы он помог Вам найти объяснение странным явлениям, вторгшимся в Вашу и мою жизнь, но более всего желаю Вам обрести покой.
Желаю успехов в сочинении новой оперы. Надеюсь на то, что Вы, когда справитесь с этой задачей, избавитесь от всех треволнений, что Вас посещают.
Остаюсь Вашим покорным слугой.
Профессор Гвидо Адлер.
Прочитав это письмо, я откровенно рассмеялся: представил себе, как воспринял бы старина Гвидо Адлер нынешний нашпигованную бомбистами и наркодельцами Москву, где беременных женщин насилуют прямо на обочинах скоростных магистралей, у бедных старушек грабители отнимают пенсии или лишают жизни ради их квартир. Гвидо Адлеру и в голову не приходило, что в его время, по крайней мере еще 10 лет можно было жить припеваючи. До тех пор Германия являла собой Рим эпохи упадка: культура била ключом, наука и техника расцветала в преддверии открытий и изобретений. Действительно, в каком же уютном веке жил Гвидо Адлер, да и его русский друг, композитор Борис Асафьев!..
Cui bono[3]
«We are such stuff as dreams are made on, and our
little life is rounded with a sleep»
(Мы созданы из вещества того же, что наши сны.
И сном окружена вся наша маленькая жизнь.)
В. Шекспир «Буря»Я закончил чтение рукописи, отложил ее в сторону и ощутил какое-то удовлетворение. Целая подборка писем профессора музыки Гвидо Адлера, русского композитора Бориса Асафьева — это был существенный прорыв в тему о Моцарте! Впрочем, как бы я ни окрестил сей эпистолярий, доставшийся мне от Веры Лурье, — все это, надо признаться, задело меня за живое. Безусловно, информация в письмах, как и подстрочный смысл представленных, депеш заслуживает самого пристального внимания. Привлекли к себе совпадения событий у Гвидо Адлера, и теми, что пережил лично я после того, как баронесса Вера Лурье вручила мне в руки достопамятный пакет. Я с открытым ртом вчитывался в схожие с моими симптомами недуги, яркие эпизоды из снов, преследующих меня, навязчивые образы людей в сером; их традиционные угрозы. Какой-то неведомый смысл мне нужно было извлечь из текста писем, выработать свои правила игры, а главное правильно среагировать на выпады тайных сил. Но я не догадывался о скрытых пружинах всей интриги, а потому блуждал, как слепой котенок, не ведая, что извлекать и как реагировать.
Судьба уготовила мне не просто роль и место в необычной жизненной ситуации. Меня угораздило попасть в неведомый доселе зазеркальный мир, в существование которого до сей поры я не верил, и совершенно не ориентировался в этом мире, не знал его законов и правил. В иные времена, когда я попадал в ситуации под названием «экстрим», то мои друзья по журналистике или писательскому ремеслу давали мне массу всякой литературы, советовали, как поступить в ситуации «Х». Помнится, что только мы не вытворяли, обговаривая концепции поведения в тупиковых делах — в редакциях журналов, на улице, в кафешках или специальных клубах — типа ЦДЛ. Но все это происходило в реальной российской действительности с прогнозируемыми ситуациями.
Нынче же со мной случился полный обвал: к игре без правил да еще на стыке с параллельными мирами — к этому я оказался не готов.
Очень убедительно обозначил Фридрих Ницше такой феномен: если долго смотреть в пропасть, то наступает момент, когда бездна начинает внимательно приглядываться уже к тебе.
Григорий Климов — первый, кто обобщил для меня разрозненные факты оккультных учений, эзотерических знаний и замешал все это в дрожжевое тесто с историческими персонажами. Пицца получилась с пылу с жару! Для многих профанов и непосвященных открылась стройная картина мондиалистского мира с его грозным арсеналом «оружия» потусторонних сил, с его зинданами и нукерами — бойцами, число которых легион.
Имена Гвидо Адлера, Готфрида Ван Свитена, Игнациуса фон Борна, Иеронима Коллоредо, Алозии Ланге, Зофи Хайбль и других ничего не говорили мне.
Правда, о тайных знаниях мне было уже известна. Так же, как и о высокомерии посвященных и избранных с их тщательно охраняемыми тайнами. Я не имел членского билета в этот «клуб олимпийских богов», но был в достаточной близости с «королевскими» персоналиями. И знал достаточно, чтобы сориентироваться во времени и пространстве и не натворить несуразностей или ошибок «роста».
Что же касается Моцарта, то о нем прежде я не знал фактически ничего. Разве только то, что он создавал потрясающую музыку — помнится, я слушал ее, затаив дыхание. Ну и то, что композитор был отравлен завистником Сальери — в пушкинском «Моцарте и Сальери» об этом так сказано, что лучше и не придумать.
Во мне поднялась мертвая зыбь тихой ярости. Я пытался переубедить себя: довольно с меня тайн и всякой чертовщины. Слишком сильно разыгралось воображение, слишком далеко я зашел: по ночам, во снах и наяву, мне уже слышится божественная музыка Моцарта. Более того, какие-то голливудские монстры или их приспешники в серых одеждах учиняют мне допросы с пристрастием.
А весь этот сыр-бор разгорелся из-за того, что одна старая дама из Германии всучила мне пакет с рукописью и объявила: дескать, на меня ложится серьезная миссия.
Я встал из-за стола. Занималось утро, в комнату уже просачивался солнечный свет. Меня потянуло прочь из дома: на улицу, на работу — все равно куда, только бы подальше от всей этой чертовщины.
Однако идти было некуда. Да и рукопись завораживала, притягивала, как магнит. Насколько то, что излагал в своих депешах Гвидо Адлер, соответствует действительности? И можно ли быть уверенным в подлинности его писем? Что, если весь эпистолярий является фальшивкой, мистификацией?..
И тут я сообразил, что мне выпадает отличный шанс недурно заработать на переписке венского профессора музыки Гвидо Адлера и русского композитора Бориса Асафьева. Из такого материала, несомненно, можно кое-что выжать и опубликовать не только в мюнхенском «Фокусе», гамбургском «Шпигеле» или московском «Вокруг Света», а взять и отослать в зальцбургский «Моцартеум».
Но тут же подумалось: черт возьми, ведь я естествоиспытатель, ученый — почти Шерлок Холмс! Моя специальность в том и состоит, чтобы, сопоставляя давно известное — классику и новую фактуру — с цифрами и фактами, сделать выводы. А затем строго, по научному точно спрогнозировать события и явления будущего. Мне представилась чудесная возможность проявить на практике свои знания, навыки, профессионализм исследователя.
По мою душу выпало две, а то и три недели отпуска. Мне ли их не использовать для дела! Я решил, что потрачу не три, а шесть недель или месяцев — столько, сколько потребуется. За такое время можно будет досконально изучить биографию Моцарта, а там как знать: выпустить сенсационную книгу.
Вообще-то я никогда не стремился к одиночеству, а был душой компаний, вечеринок, застолий. Но что-то произошло — со мной ли, окружающим миром, и я превратился в отшельника, ведя жизнь классического затворника. На протяжении десяти суток кряду я день и ночь занимался тем, что читал, делал выписки из книг, принесенные из библиотек, и слушал неземную музыку Моцарта. Каждую клетку мозга да и всего организма я старался насытить информацией, имя которой было Моцарт: зрительной, звуковой, ассоциативной. Спал урывками, когда сон сваливал с ног; просыпался рано утром, выпивал большую чашку крепкого индийского чая и усаживался за работу: читал о Моцарте все, что удалось взять в библиотеке легально, черпал информацию горстями и ведрами из Интернета.
Первые время я отлучался из своей квартиры лишь тогда, когда требовалось купить что-нибудь из еды, взять новую книгу из «Ленинки», или навестить моего лечащего врача на Большой Грузинской улице, чтобы тот еще раз продлил больничный лист. Недуг, которым я прикрывался, был немудрен: гипертония, или высокое артериальное давление.
Эти изыскания забрали меня в свой пленительный рай без остатка. Слава Богу, я имел опыт научной работы в сибирском Академгородке, моя исследовательская работа включала в себя все вместе: потуги изобретателя-конструктора, когда из подручного «хлама» я собирал действующую установку, а также — ученого экспериментатора, ставящего опыты и специалиста-аналитика, подводящего теоретическую базу с формулами, графиками и «картинками». Опыт младшего научного сотрудника, приобретенный в далеком научном центре, пригодилась как нельзя кстати. Надо было только окружить себя тишиной и тайной.
Для себя я открыл, что на момент смерти Моцарта о нем накопилась масса документального материала и беллетристики: рукописные партитуры как опубликованных, так и не опубликованных при жизни композитора произведений. Были обнаружены также бумаги, которые Вольфганг тщательно схоронил от чьих-либо взглядов. Тогда композитор был уверен, что человек должен изо всех сил противостоять внутренним побуждениям, и что для него, Моцарта, искусство есть единственное средство борьбы с отчаянием, печалью и пошлостью.
В ходе работы с источниками, я установил, что действительно в Вене жил и работал известный венский историк музыки профессор Гвидо Адлер, которого знали все тамошние столичные подмостки. Баронесса Вера Лурье перевела с немецкого именно его послания к русскому композитору Борису Асафьеву, с которым он много раз встречался в Вене, а тема Моцарт и Сальери была у них лейтмотивной. Гвидо Адлер жил и умер в Вене в 1941 году. Ничего об его архиве нам неизвестно, причем, все самое ценное — документы, дневники и прочие бумаги — все кануло в небытие.
Я поспешил познакомиться с книгой, написанной профессором Гвидо Адлером. Факты, почерпнутые из нее, ни в коей мере не противоречили тому, что были изложены в тексте его депеш, полученных от Веры Лурье. Однако личностное начало Гвидо Адлера в книге было выражено не столь ярко, как в его письмах к Борису Асафьеву. Но это и вполне естественно: письма они и есть письма, — им много доверяется.
Я просеял через себя целый Монблан научной и другой литературы о Моцарте: его многочисленные биографии, а также документы и художественные произведения о композиторе. Казалось бы, я должен был приблизиться к постижению сути — кем был настоящий Вольфганг Амадей Моцарт? Но вместо этого я уходил от истины куда-то в сторону, все глубже погружаясь в иллюзорный мир версий, миражей или откровенной лжи. У меня возникло чувство, будто я оказался на подмостках театра абсурда, где вершится колдовское действо искусства, но с обратным знаком: труппа и технический персонал делает все, чтобы пьесу автора показать в кривом зеркале.
В своем изыскательском марафоне я вдруг смутно осознал, что со мной что-то творится: изменился мой внутренний мир; я похудел, спал урывками, как дикий зверь, занятый постоянными поисками пропитания. Голову то и дело мучили мигрени, меня утомила тахикардия — сердце стучало так, будто хотело вырваться из грудной клетки и улететь; зрение ухудшилось. Врач дал мне препараты — всего две таблетки, которые надо было пить раз в сутки. И тут я совсем сдал: слабость стала донимать меня: не помогали ни кофе, ни чай, ни тем более — спиртное. Было такое чувство, словно мне дали яду. Однажды, я чуть было не завалился в магазине: у кассы закружилась голова, и меня повело в сторону; я с трудом удержался.
Но я решил презреть эти жизненные «рифы» и довести дело до конца. На исходе месяца я приступил к систематизации и упорядочению данных, коих накопилось в достатке, и засел за компьютер.
Мое первоначальное исследование, переросло в своего рода болезнь, в навязчивую идею. Чем больше я читал, тем меньше что-либо иное, кроме моих изысканий, значило для меня. Я постепенно утрачивал интерес к еде, совсем перестал смотреть телевизор, слушать радио, читать газеты. Почтальон регулярно забрасывал мне в почтовый ящик письма, квитанции, газеты. Я просматривал их наскоро — по диагонали; меня волновало толь-ко одно: нет ли депеши с почтовым штемпелем Берлина? Если нет, то письма летели нераспечатанными в ящик стола, где и валялись до лучших времен. На телефонные звонки я не отвечал, и они прекратились.
Единственный, с кем я поддерживал отношения, был Анатолий Мышев. Периодически я поднимался по лестнице, звонил к нему и осведомлялся, как продвигается перевод моих бумаг. Поначалу Анатолий Мышев советовал не беспокоиться, заверяя меня, что все идет своим чередом. Но скоро он начал проявлять признаки раздражения, и я счел за благо оставить человека в покое и просто дождаться итогов.
Я без конца перечитывал послания профессора по истории музыки Гвидо Адлера к композитору Борису Асафьеву и письма последнего. Что-то в эпистолярном жанре этих знаменательных фигур было такое, что пленяло и завораживало меня без остатка.
Мало помалу, я стал улавливать некую суть, скрытую в тексте рукописного багажа, но осмыслить значимость документов, увы, было для меня сложноватой задачей. Я, как технарь, погружался в иное измерение, в сферы искусства со своими правилами, акцентами, подтекстом. Наверное, поэтому все открывающееся передо мной и отнюдь не иллюзорное, подчиняло меня себе и вело в те пространства — более реальные, а самое главное обворожительные, нежели сегодняшний мир.
Иногда я просыпался среди ночи от слов баронессы Веры Лурье, которые эхом звучали в моей голове:
«Это не презент, мой дорогой, а если и презент, то не в обычном смысле слова. Отныне на вас ложится серьезная, возможно, даже опасная для жизни миссия».
Как-то исподволь я занялся и творчеством баронессы Веры Лурье. В «Ленинке» я нашел ее стихи. Поэтесса Вера Лурье мне понравилась, в тонюсенькой книжице было все: от шестистопного ямба, верлибра и имажинистов до традиционной русской поэзии. Особенно мне запомнился ее перевод «Реквиема» Карла Иммермана, 1818 год:
Амадей в каморке одиноко, Погрузившись в глубь себя, сидит. Лунный луч заглядывает в окна, Ветер холодно листвою шелестит. Немо все кругом. В горле сладкий ком — Грудь стеснила вдруг тупая боль. Мягко кто-то сзади прикоснулся, То ему явился поздний гость. «Кто ты? — тихо Моцарт содрогнулся, Как тебе войти в дом удалось?» «Если ангел в дверь Постучит, поверь — Перед ним любая распахнется. Я на службе высочайшей силы, И тебе известно все о ней. Твое имя также всем там мило, Но послушай, слушай же скорей: Погребальный гимн — Вот что нужно им, Реквием ты должен сочинить.В книге Вера Сергеевна не только напечатала перевод стихов, но и рассказывала о своей всепоглощающей страсти к Моцарту. Эта страсть вспыхнула с новой силой, когда девушка покинула непривычный для нее мир постреволюционной России и отправилась навсегда в Европу. Это было и паломничество духа. Она окунулась в море политических и социальных бурь, бушевавших в Германии.
Русская дворянка, представительница высшего света, дочь крупного российского чиновника, Вера Сергеевна Лурье, родившись в 1902 году, была и оставалась ровесницей века. И какого бурного, противоречивого, насыщенного историческими событиями века! В таком веке, пожалуй, легко затеряться хрупкой девушке Вере Лурье, даже если она незаурядный человек, а еще проще — отстать от духа времени. И то и другое случалось неисчислимое количество раз. Но к Вере Лурье это не относится. Увлекшись до самозабвения музыкой Моцарта и заинтересовавшись его биографией, она решила создать композицию. И пришла на «Фабрику эксцентричного актера» или ФЭКС, чтобы дать исполнение произведений Моцарта для широкой публики в оригинальной форме. Там как раз начинали свою творческую карьеру киты советской кинематографии — Григорий Козинцев и Сергей Юткевич. Они и помогли юной Лурье создать нечто — своеобразную «Моцартиану».
В девятнадцатилетнем возрасте Вера Лурье окунулась в вавилонскую атмосферу Берлина, нырнула с головой в русско-эмигрантскую среду. Побывав в Зальцбурге, Вене, заболела неизлечимым недугом под названием «Моцарт» и более не расставалась с ним на всю оставшуюся жизнь. Накануне войны Вера Лурье сошлась накоротко с известным генетиком из СССР Николаем Тимофеевым-Ресовским и его семьей. Потом был германский нацизм, с которым она вела посильную борьбу. Перед крахом Германии, Лурье встретилась с казачьим офицером Александром Ивойловым, чья стать и удаль заворожили ее настолько, что буквально через сутки они чуть было не обвенчались, но обстоятельства оказались сильнее их желания.
Она перемогла войну, невзгоды, разделение Германии и дожила до развала СССР, когда русские потоками нагрянули в европейские страны.
Вернувшись после крушения нацизма в предместье Вильмерсдорф под Берлином, Вера
Лурье решилась приступить к своей многолетней мечте — создать биографию Вольфганга Моцарта. Позже я узнал, что она написала два варианта биографии: один развернутый, другой — его краткое изложение. Ни одна из этих двух работ не была опубликована. К своему удивлению, в автобиографической книге Лурье я не обнаружил ни ссылок на тексты рукописей, теперь находившихся в моем распоряжении, ни даже намека на их существование. Поэтому я задался вопросом: как эти рукописи попали в руки Лурье. Я не знал, что и думать. Судя по пергаменту, в который была завернута рукопись, можно было предположить, что она в течение многих лет хранились где-то в подвалах Европы. Мне пришла в голову мысль: возможно, русская эмиграция первой волны несла в страны Запада не только культуру Российской империи, но и поднимала «культурные» волны в Германии, Австрии, Франции. Русское офицерство заработало в новом качестве: носителей или курьеров истории, философских знаний, искусства и культуры.
Как тут было остаться в стороне и не последовать совету австрийского драматурга позапрошлого века Франца Грильпарцера, который утверждал, что нельзя понять великих, не изучив темных личностей с ними рядом. Эти размышления навели меня на то, чтобы собрать как можно больше сведений не только о самом композиторе, но и в его окружении, над которым неотвязно реял образ Моцарта. Разгадка тайны — в тех, кто был рядом с маэстро — любил его, дружил или ненавидел композитора. Тут ценно все, а не только те, кто был болен музыкой Моцарта или им самим. Тогда главная задача — по научному въедливо разобраться с фактами жизни и смерти великого композитора — будет успешно выполнена.
Итак, приступим к нашему расследованию.
В поисках информации пришлось предпринимать частые вылазки из своего прибежища-квартиры. Я активно стал сновать по городу, рискуя «засветиться», то есть нарваться на знакомых или коллег. Том за томом «прочесывая» покрытые пылью полки «Ленинки» — библиотеки имени Ленина, часами просиживая в душных читальных залах Иностранной библиотеки, в Центральном архиве культуры и искусства РФ, по крупицам выбирая сведения о Моцарте. И пришел к выводу, что машина мифотворчества и лжи была запущена и успешно работала еще при жизни Моцарта, искажая правду о композиторе до неузнаваемости.
Двести лет, прошедших со дня гибели Моцарта, принесли немало искажений его облика как человека, мыслителя и «бога музыки». Но наряду с умышленными или невежественными высказываниями появились, бесспорно, ценные работы как русских исследователей — начиная от русского первопроходца А. Д. Улыбышева, приступившего к созданию своего труда о Моцарте той же благословенной болдинской осенью 1830 года, которая подарила человечеству пушкинскую трагедию, до наших современников Г. В. Чичерина, проф. Т. Н. Ливановой, убедительно показавшей в своей книге «Моцарт и русская музыкальная культура» глубокие и давние связи нашей музыки с творчеством величайшего композитора Запада, — так и классиков европейского моцартоведения — Отто Яна, Германа Аберта, Теодора де Визева и его ученика и соавтора графа Жоржа де Сен-Фуа.
Интересные выводы о Моцарте были сделаны представителями культуры и науки в наши дни.
В мае 1983 года Фрэнсис Карр в курортном городе Брайтоне инсценировал судебное разбирательство по делу об убийстве Моцарта. В нем участвовали шесть актеров, в костюмах той эпохи исполнявших роли членов суда, а также основных действующих лиц драмы, разыгравшейся 220 лет назад. Нескольким сотням зрителей — присяжным заседателям — предстояло решить, кто мог убить Моцарта. Большинство признало виновными Сальери и Зюсмайра.
Был создан прекрасный фильм Милоша Формана «Амадеус», изображающий Моцарта аутентичней, чем все предыдущие опыты моцартоведов.
Профессор д-р М. Фогель в 1987 году выпустил неподражаемую книгу о Моцарте, целиком построенную на материалах, снабженных только краткими комментариями: «Mozarts Aufstieg und Fall» («Взлет и падение Моцарта»). В ней, например, есть такие слова:
«В самом деле, при таком количестве подозрительных обстоятельств, говорящих в пользу насильственной смерти, любой суд в наше время просто обязан был бы возбудить дело об убийстве».
Выводы Фогеля достойны того, чтобы быть процитированными:
«Тот, кто желает понять логику событий, связанных со смертью Моцарта и его погребением, должен проникнуться ситуацией. В то время, как Моцарт чувствовал приближение своего конца, с каждой неделей слабел, пока, наконец, не слег совсем, активность его врагов все возрастала, и с его смертью, точнее сразу же после нее, достигла своего печального апогея. Физическое уничтожение сопровождалось кампанией, направленной и на уничтожение Моцарта как личности. Отказ в христианском погребении достаточно прозрачно показывает, что враги добились своего: он был устранен и вытравлен из памяти не только физически, но и морально».
Отравление Моцарта для широкой общественности и для света преподносилось как закономерный конец неисправимого кутилы, загнавшего себя в могилу в результате необузданного распутства с директором театра «Ауф дер Виден» Эммануэлем Шиканедером.
Воистину этот свет не осознавал, что он имел в лице Моцарта и что он потерял с его смертью!..
И я вспомнил, что Адольф Шикльгрубер (Гитлер) очень часто использовал музыку великого композитора в пропагандистских целях. Фюрер всеми фибрами души презирал Австрию (кстати, свою родину) и не скрывал этого. Он отвергал претензии Вены на Моцарта, постоянно и энергично подчеркивая, что Моцарт — сын Германии.
В Советском Союзе музыка Моцарта была всегда востребована. Как сказал Г. Чичерин: «В реальной жизни сегодняшнего дня Моцарт делает уверенным, здоровым, на все готовым. Моцарт дает связь с всеобщей жизнью сегодняшнему дню и сегодняшней детали работы и жизни. Моцарт — есть лекарство. В песенке Керубино, влюбленного в графиню, древний хаос шевелится… Бесподобны фортепьянный концерт с-moll и фортепьянный квартет g-moll, полные ликующих деталей реальной жизни. Ни один художник не дает такого слияния космоса и жизни».
Noblesse oblige[4]
«Самым непримиримым образом люди ненавидят освободителей духа, самым несправедливым — любят…»
Ф. НицшеНаконец, с последним presto победа достигнута. Да, дитя родилось на свет; но муки родов были ужасны. То была не триумфальная песнь, но вздох усталости, вздох облегчения, вздох сомнения в ценности победы — любой ценой.
Едва коснувшись моего слуха, музыка захватила меня целиком, проникла в каждую клеточку тела: океан звуков хлынул сквозь меня, смывая на своем пути все преграды, разъедая мою плоть, мою кровь, мои кости, все мои мысли, все чувства. Тело мое — в привычном виде — больше не существовало. Его подхватила энергия, имя которой — Вольфганг, закрутила в бешеном вихре, смяла, разорвала на части и принялась лепить сызнова, придавая ему все новые формы. Так превращается в бабочку гусеница, заточенная в коконе, так море бьется о песчаный берег, меняя его облик. Но те перемены, что творились со мной, были во сто крат сильней. Ибо я и был морем звуков. Волны — нет, огромные валы! — радости, страха, отчаяния подхватывали и швыряли меня. Меня? Но что есть я? Меня не было!
Тем временем моя собственная жизнь шла своим странным чередом.
Раз в неделю, по понедельникам, в восемь двадцать утра я выбирался из своей квартиры, что находилась в Лиховом переулке, садился в метро и отправлялся до станции «Белорусская». Пешком преодолевал расстояние в километр — полтора — шел к своему лечащему врачу. Поликлиника была в старом здании, там шел какой-то вечный ремонт. Смотрелся у врача, который продлевал мне больничный лист и возвращался домой. Мне нельзя было надолго покидать Моцарта.
С каждым новым выходом в мир я тяготился им все больше и больше и всякий раз чувствовал огромное облегчение, когда возвращался к себе в Лихов переулок. Бросал выписанный эскулапом рецепт в ящик стола, а больничный лист водружал на видное место.
Удивительно, но мне хватало на сон всего четырех-пяти часов. И в одежде я не делал особых изысков: носил одно и то же — потертые синие джинсы и такую же куртку. Спал я, часто не раздеваясь, — в кресле у стола или заваливался под плед на диване. Подремав и восстановив силы, я вставал и, загрузившись очередной порцией кофе, принимался за работу.
Постепенно стало теряться ощущение времени. Меня вообще ничто не волновало, кроме моего расследования и какой-нибудь весточки от Веры Лурье.
И вот случилось: я обнаружил в почтовом ящике конверт из Германии, подписанный каллиграфическим почерком, мне уже хорошо известным. Именно этой рукой был выведен перевод писем от профессора Гвидо Адлера композитору Борису Асафьеву.
Разорвав конверт, я стал читать:
«Мне нанесли визит двое отвратительных мужчин в сером. Они знают про Вас и пакет с рукописями, которые я передала. Существуют и другие документы, но они хранятся не у меня. Думаю, что Вас найдут и передадут все до листочка. Настройтесь еще на одну поездку в Вену. Место встречи у храма св. Стефана.
Вам ничего не говорит имя графа Дейм-Мюллера?
Берегите себя, Макс. По моим предчувствиям ваша жизнь в опасности. Постарайтесь не выходить на контакт со мной. Я у них под надзором. Не хочу впутывать вас в новые неприятности. Молю Бога о том, чтобы когда-нибудь вы простили меня за то, что я втянула Вас во все эти смутные дела.
Дорогой Макс, да хранит вас Господь. В. Лурье».
Открытка, присланная Верой Лурье, показалась мне тяжелее куска кирпича. Как раз тогда, когда мои мысли стали выкристаллизовываться и оформляться в нечто законченное, и забрезжила реальная надежда расшифровать «моцартову» головоломку, возникли новые препятствия, барьеры, а вязкая, липкая трясина неопределенности снова стала засасывать меня в свою воронку.
Изучая жизнь графа Дейма, я узнал, что он тоже помешался на Моцарте. Я решил как-нибудь при случае расспросить Веру Лурье об этом скульпторе, художнике и неординарном человеке.
Время текло незаметно, как вода в реке. На изучение Моцарта было потрачено полтора месяца, и все только начиналось. Погружаясь в сферы, связанные с жизнью и смертью великого композитора, я с покорным равнодушием замечал, как угасает мой интерес к моей вчерашней жизни. Меня волновало лишь то, что было связано с Моцартом.
Меня уже перестала занимать проблема: почему именно мне, а не кому-нибудь еще, Вера Лурье отдала эту рукопись?
Мысленно я возвращался то к беседе по душам у шефа, то к тому человеку в сером, который прицепился ко мне в Шереметьево-2, или к астматику с его прямыми угрозами в мой адрес на Ваганьковском кладбище. Вопрос — кто эти люди и чего им от меня нужно?
Мне приходилось встречать тайных агентов всех мастей, рядившихся то под спортсменов, то под коллекционеров книг, картин, икон и прочего антиквариата — да под кого угодно! Но эти люди в сером не подходили ни под один из стереотипов, включая даже киношного персонажа американского триллера с комедийным уклоном.
Что там, в депеше от Веры Лурье? Ах, да! Ей нанесли визит «двое в сером», причем не для светской беседы, а судя по письму — по более серьезному делу. С точки зрения дилетантов, все это походило на дурацкий телевизионный «Розыгрыш». Ну, кому понадобилось гоняться за рукописью из прошлого века, касающегося давно умершего композитора? Мне этого было не понять, даже если остроту вопроса разбавить рюмкой водки. Кстати, у протокольной службы есть такая форма официального решения: ответа не будет. Так и в моем случае с Вольфгангом Амадеем Моцартом.
Во мне боролись два начала: наряду с пламенной страстью к изучению Моцартовой проблемы, я был недоволен баронессой Лурье за то, что она втянула меня в эту историю.
На память пришли воспоминания об особняке графини под Берлином, где я почувствовал и осознал себя настоящим человеком, и где я растаял от счастья.
А что сейчас?
Я, будто сыскарь из частного бюро, ушел с головой в работу, в это детективное расследование, и с одержимостью диссертанта строю подлинную биографию Моцарта. Прошло несколько недель, а квартира моя стало более походить на прибежище бомжей, нежели интеллигентного человека, занимающегося научными исследованиями. Завалы из исписанных бумаг, журналов, книг, неубранного бытового мусора. Куда ни посмотришь — пустые бутылки вперемежку с грязными тарелками, чашками и остатками еды.
Не найдя нужной статьи из медицинского журнала, в которой говорилось о болезни Вольфганга, я пришел в неописуемую ярость. Опрокинул полки с книгами, которые как домино рассыпались на полу. Я еще долго кричал, топал ногами, проклиная всех сразу: Веру Лурье, незнакомцев в серых одеждах и, разумеется, свою персону. Еще такой срыв — и можно записываться к психиатру на прием.
Я почувствовал, что сторонюсь дневного света, и оживаю в сумерках, особенно ночью. Поэтому в яркий солнечный день я старательно драпировал окна, чтобы ни лучика света не проникало с улицы. То ли это была мания преследования, то ли светобоязни. Зато когда на небе царила полная луна, я раздвигал шторы и через щелку тщательно всматривался в свой двор-колодец с коллектором для мусора, стараясь заметить подозрительных субъектов.
Я перешел на иное поведение — строгую конспирацию. Вечерами, ночью или, когда был день, особенно сумрачный, я использовал настольную лампу или ночник над кроватью. Они давали света столько, чтобы разобрать слова на странице листа или книги.
Так я жил-существовал во тьме-забытьи, в которое проваливаешься под тяжестью страшной усталости. И вообще внешний мир потерял для меня свой смысл. Как бы перестал существовать. Я хотел одного: оставаться одному, чтобы ничто и никто не отвлекал меня от моей работы над документами, книгами и рукописью.
Я внушал себе, что терять мне нечего, кроме своих цепей. Тем более, что до России им, голубчикам, не дотянуться — руки коротки. Хотя, что это я? Они наверняка уже обложили меня, как сибирского медведя в берлоге: за мной ведется «наружка» — наружное наблюдение, телефонные переговоры прослушиваются, передвижения контролируются. Так что за моим самовнушением скрывался подленький страх, страх перед неизвестностью, какого я никогда прежде не ведал. Я, возможно, тронулся бы, если бы не работа, за которую я крепко ухватился: некогда было продохнуть. Много усилий требовалось по сбору всей возможной информации, касающейся великого маэстро.
Мне до нестерпимости хотелось досконально познать тот мир и то время, в котором Моцарт родился, вырос и стал великим. Гением. Чем больше я читал о нем и о том времени, тем быстрее он оживал, превращаясь в реального человека.
На мои глаза попалась имя 33-летнего Игнаца фон Борна ученого-минералога. За полгода до смерти Моцарта, 25 июля 1791 года, в жестоких конвульсиях погиб этот борец с престолами и католическими князьями. Мне нужно было разузнать все о тайных обществах, масонских ложах, движущей силой которых в Вене, да и в Австрии, был неподражаемый Игнац фон Борн.
Итак, Моцарт, обосновавшись в Вене, считался с духом своего времени и вступил в столичную масонскую ложу. Вряд ли его сущность претерпела изменения после этого.
5 декабря 1784 года ложа «К благотворительности» известила венские сестринские ложи о приеме в свои ряды «капельмейстера Моцарта», последовавшем 14 декабря (ученик). Стремительно пройдя низшие градусы, знаменитый адепт уже 7 января 1785 года стал подмастерьем, а 22 апреля того же года Вольфганг получил доступ в ложу мастеров. Это позволяет заключить о присуждении ему тогда 3-го градуса посвящения, — поистине головокружительная карьера всего за несколько месяцев, тогда как простому смертному для этого понадобилось бы неизмеримо большее время! Магистром ложи, куда вошел Моцарт, был писатель Отто Франц фон Гемминген-Хорнберг, мангеймский покровитель Моцарта в 1778 году.
Чисто по масонской тематике Моцарт коснулся эзотерических сфер в шести сочинениях — всего лишь сотой части его музыкального наследия. На время первого масонского взлета приходят и соответствующие сочинения. В основном это песни и кантаты, например, «Gesellenreise» («Путешествие ученика» (масона)), «Die Maurerfreude» («Радость масона»). В ноябре 1785 года, по случаю смерти одного из братьев масонов, было исполнено оркестровое сочинение «Maurerische Trauermusik» («Масонская траурная музыка»).
Впрочем, еще исследователь-биограф Отто Ян указывал, что принадлежность к масонству не принесла великому мастеру никакой ощутимой пользы.
Более того, смерть Моцарта попадает в настораживающее соседство с двумя особыми событиями: премьерой «Волшебной флейты» 30 сентября и освящением второго храма венской ложи «Вновь венчанная надежда» 18 ноября 1791 года.
Вернемся ко времени правления императора Иосифа II, который, по инициативе Игнаца фон Борна, отдал распоряжение о слиянии восьми лож в две. Каждая из этих двух тайных организаций насчитывала по 180 членов! Ложа Моцарта «Благотворительность» растворилась во «Вновь венчанной надежде». Это произошло в середине января 1786 года. Магистром здесь был барон Филипп фон Геблер. Во главе другой сохранившейся ложи стоял виднейший минералог Игнациус Эдлер фон Борн, который помимо естественнонаучной деятельности в «Journal fur Freymaurer» («Журнал для масонов»), им же и основанном, отдавал дань своему нешуточному увлечению Древним Египтом и таинствами. Надо сказать, большинство значительных фигур из окружения Моцарта — как друзья, так и враги — входили в какую-нибудь ложу. Доказано, что Готтфрид ван Свитен был иллюминатом. Антонио Сальери, соперник Моцарта, как и все высокопоставленные государственные чиновники, мог входить в одну из лож, тот факт, что его имя отсутствует в их списках, ни в коей мере не противоречит такой возможности.
Присутственные протоколы других лож также характеризуют Моцарта рьяным адептом, по крайней мере — вначале. Но этот энтузиазм, по-видимому, уже в 1785–1786 годах пошел на убыль. За это время написаны пять масонских сочинений из шести, затем подобных опусов в списке Моцарта не значится, за одним, правда, исключением. Незадолго до смерти по случаю освящения храма прозвучала кантата «Laut verkunde unsre Freude» («Громко возвестим нашу радость», К. 623), — что с вероятностью, граничащей с истиной, произошло не без внешнего давления (менее всего Моцарт должен был скончаться как Христос, но обязательно «правоверным братом».
Когда в 1786 году на подмостках прошел «Фигаро» и аристократия увидала, как этот молодой человек самым унизительным образом позволил себе проявить к ней пренебрежение, то от великосветского бойкота его уже не могло спасти никакое идеологическое пальтецо.
Стал ли впоследствии Моцарт противником ложи? На этот вопрос вряд ли можно ответить утвердительно. Скорее всего, он просто стал безучастным к ее делам. 20 февраля 1790 года умер император Иосиф II — по достоверным источникам, «братом» он не был, но ложи-то терпел! — на трон вступил Леопольд II, и вскоре подул ледяной ветер перемен. Масонов стали называть. врагами порядка, религии и императорского дома. Большинство членов ордена просто покинули ложи. Весьма возможно, что под давлением именно этих обстоятельств форма «Волшебной флейты» претерпела свой решающий поворот.
5 декабря 1791 года исполнялось ровно 7 лет, как Моцарту было предложено вступить в «Благотворительность». Семь лет созидательной работы над так называемым «Соломоновым храмом» (См. Третью книгу Царств (6, 38)), завершились, день в день. Справившись в срок, архитектор храма Адонирам — именно под таким именем, наделенный отличиями высшего градуса шотландского обряда, неожиданно является Моцарт в циркулярном письме ложи от 20 апреля 1792 года — закончил свой жизненный путь.
На могиле Моцарта не было ни одного из его братьев по ложе, и никто не сказал ему слов благодарности за «Волшебную флейту».
На следующий день после смерти Моцарта покончил жизнь самоубийством его друг и «собрат» Франц Хофдемель; и конечно, не потому, что, как утверждали злые языки, «госпожа Хофдемель ждала ребенка от покойного Амадея».
Устав проекта моцартовского «Грота» утерян безвозвратно.
Музыковед Бошо говорит о маленькой «Sonate facile» («Легкая соната») C-dur следующее:
«Это чудо простоты и волшебной выразительности. Можно ли с меньшим количеством нот быть более трогательным и разнообразным?»
В сонате все время слышатся только два голоса. Внешне — прозаическое ничего, а вот внутри, в глубинах! Под простейшей оболочкой заключен целый Ниагарский водопад формы и содержания.
Я понял только, что изучение Моцарта требует очень серьезной музыкальной культуры и прежде всего подготовки. Чем больше я читал о музыке Вольфганга, тем больше хотел ее слушать. Как иначе можно понять суть личности композитора — того, кто жил работой, музыкой?
День и ночь я слушал его произведения, слушал и боялся, что теперь не смогу без нее и минуты прожить. Музыка же Моцарта почти в полном объеме остается абсолютно доступной для каждого, слушающего ее сердцем — независимо от его культурного уровня и музыкальной образованности. Легкий и приятный стиль, который сохраняется даже в самых трагических и таинственных фрагментах музыки, приводит к тому, что она остается открытой и народной, то есть понятной всем без исключения.
Сознавал ли Моцарт, кто он вообще есть? Знал ли, что писал? Можно ли, требовать от него отчета за содеянное в жизни? Некий ранний почитатель связал с ребенком Моцартом слова гомеровского гимна Гермесу: пораженный Аполлон внимает чуду игры на арфе младого Гермеса и вопрошает, кто дал ему этот благородный дар божественного пения, смертный или Бог: никогда доселе не звучали столь чудные звуки. Так и мы поражаемся сначала ребенку, затем взрослому Моцарту: он был и остается посланцем из другого мира.
Право же, было от чего свихнуться. Втыкаешь в уши наушники — и твое тело, разламывающееся на части, и голова, страдающая от диких головных болей, — все это вдруг приходило в некую гармонию и согласие. И я продолжал слушать Моцарта, время от времени задаваясь вопросом: что за дивная энергия поддерживает меня? Ведь требовалась масса сил, чтобы продолжать заниматься тем, чем я занимался. Без устали и практически без сна!
Доходило до курьезов. В период напряженной работы, чтобы передохнуть, я закрывал глаза и воочию видел его великолепную голову с большими голубыми глазами и мясистым носом, — маэстро что-то колдовал над моим кухонным столом.
Иногда я видел его маленьким изящным вундеркиндом Вольферлем, одетого в костюм из тончайшего драпа лилового цвета, с таким же муаровым жилетом; и весь комплект был отделан широким золотым галуном. Он играл в четыре руки в Шенбрунне с сестрой Нанерль под одобрительные взгляды жены императора Марии Терезии. Как хотелось маленькому вундеркинду выглядеть аристократом, но он был всего лишь диковинной забавой или игрушкой для высокопоставленных особ. В великосветских гостиных вундеркинда Моцарта, наверное, держали за ряженую обезьянку. Встань, зверушка, на задние лапки, сыграй нам на клавесине втемную, без нот и клавиатуры. Ну-ка, ну-ка. Ай да, молодец!
Представляя себе эту картину, я вспоминал великого Гете, который в молодые годы бывал на представлениях маленького волшебника из Зальцбурга. Удивительно, что юный Вольфганг прекрасно понимал: его просто-напросто использовали! Вот почему он с такой страстностью разорвал отношения с деспотом и самодуром архиепископом Зальцбурга Иеронимом фон Коллоредо.
Читая книгу за книгой, я перелистывал страницы жизни Вольфганга, изучал его письма и не мог избавиться от мысли о том, что он всегда стремился пройти все тернии в своей судьбе, поскольку знал, что он велик и недосягаем. Мечтал найти для своих шедевров подмостки и поклонников. Но творческая атмосфера, царившая на столичной сцене с ее интригами, заговорами и подковерной борьбой приводили к тому, что Вольфганг постоянно оказывался у разбитого корыта.
Мы стали так близки с Моцартом, что я иногда спрашивал себя:
«Господи, может, Вольфганг — это я, а написанные книги, статьи, эпосы — все это обо мне?»
Как-то раз мне на глаза попалась репродукция Зюсмайра. Она, естественно, была сделана в девятнадцатом веке, в конце столетия. Зюсмайр выглядел напыщенным и самовлюбленным человеком, на лице которого было написано, что он тщеславный карьерист и доносчик. Франц Ксавер к тому же был молчун или был тем тихим болотом, где черти водятся. А поза, в которой он был запечатлен художником, заложив одну руку за борт сюртука, — ни дать, ни взять его учитель А. Сальери! В другой руке он сжимал дирижерскую палочку. У Зюсмайра были оловянные рыбьи глаза, которые оживлялись, наверное, только в присутствии вельможных особ. Такими глазами на мир смотрят люди хитренькие, себе на уме. Когда я разглядывал фото с редкой репродукции Зюсмайра, мурашки пробежали у меня по телу. Неудивительно, что Моцарт называл своего секретаря Свинмайром и рекомендовал домашним подвергнуть его экзекуции: отвесить ему пару-тройку затрещин и побольнее — с оттяжкой. Чем так прогневил ученик своего учителя, откуда такой черный юмор?
Чем больше я читал о Вене того периода, когда в ней жил Моцарт, тем больше убеждался, что Моцарт любил этот город. Скоро и я уже грезил по той австрийской столице, которая безвозвратно канула в Лету.
Думаю, Вольфганг жил там по одной-единственной причине: Вена в то время была музыкальной столицей мира. Понятно, что Моцарт при всяком удобном случае выбирался из Вены в Прагу, в города-княжества Германии, в Италию, Англию и даже собирался к нам, в Россию. Естественно, это не была страсть к путешествиям, а реальная возможность найти место капельмейстера у какой-нибудь высокопоставленной особы. Но все было тщетно.
Я лишь мог гадать, где прогуливался композитор. Конечно же, в Пратере — об этом написано везде. Тогда по каким местам совершала променад баронесса Вера Лурье?..
Чем больше я узнавал о Зюсмайре, о его адюльтере с Констанцией, тем яснее становилась картина. Сразу же после смерти маэстро он и вдова композитора стали разбирать архив Моцарта, принявшись немедленно уничтожать письма, документы, бумаги, хоть как-нибудь компрометирующие Констанцию. Поскольку они тогда еще действовали сообща, то тем очевиднее становилось: Франц Ксавер действовал преднамеренно, стараясь утаить правду о Вольфганге Амадее. Все, что касалось отношений Вольфганга с коллегами по сцене, женщинами, с секретарем Зюсмайром. И то, где было видно, что композитор состоял в тайном обществе. И все это делалось, наверняка, по указке сверху.
Моя миссия была однозначной: узнать хоть мизер этой правды, пусть даже необходимые документы оказались уничтоженными.
О Магдалене Хофдемель мне удалось выяснить в основном то, что Вольфганг ее боготворил и любил ее. Я настолько сильно привязался к этой загадочной фигуре, что она тоже стала являться в моих сновидениях. Поначалу это был лишь смутный образ. Она «приходила» в мою квартиру в Лиховом переулке, как мимолетное видение — обворожительная фея, черты лица которой я не успевал толком разглядеть.
Но со временем визиты Марии Магдалены стали продолжительнее. Иногда я просыпался, отчетливо помня: да, я только что виделся с ней. Это отнюдь не доставляло мне радости. Напротив, я испытывал страх — помимо моей воли какая-то сила увлекала меня в пропасть, в бездну. И хотя эта бездна сулила обернуться половодьем наслаждений, я сопротивлялся, ибо боялся, что все это меня поглотит.
И вот однажды ночью мне удалось довольно хорошо рассмотреть Магдалену Хофдемель. Мне снилось, как будто я иду по улицам Вены, той Вены, в которой жил Моцарт, и прохожу мимо высокого здания — скорее всего, то была городская ратуша. Город отмечал роскошный праздник. Скорее всего, это было Рождество, так как ратуша была украшена золотыми, зелеными и красными тканями; изо рта шел пар и воздух казался студеным. Я одиноко брел по улице, повсюду высматривая Вольфганга. Неожиданно из-под высокой железной арки со стороны фасада навстречу мне вышла женщина и взяла меня за руку. Я узнал Марию Магдалену. Ее наряд поразил меня: длинное, мягко облегающее фигуру платье тех же цветов, что и украшения на ратуше. Плечи почти полностью обнажены. Бежевый лиф контрастировал с нижней частью платья — по цвету и по текстуре. Он был выполнен из необычного материала и сверкал на солнце, словно сусальное золото куполов. Я почувствовал, что меня тянет к ней, и нет мочи противиться. Магдалена Хофдемель влекла меня к себе подобно тому, как влекут джунгли, изумрудно-таинственные, непроходимые, полные животных и птиц. Я подался вперед, чтобы коснуться сверкающего кофейного лифа Марии Магдалены, но моя рука прошла сквозь ткань, как, впрочем, и сквозь тело женщины, не встретив препятствия, как будто передо мной находилась поверхность волшебного зеркала, открывающего путь в параллельный мир.
Внезапно я проснулся. Неужели Магдалена Хофдемель, есть частица иной субстанции, или, проще говоря, недосягаемый идеал женщины вообще? А может, само провидение было заинтересовано в том, чтобы представить Марию Хофдемель чуть ли не пенорожденной Афродитой. Я решил расспросить об этом баронессу Веру Лурье, когда мы вновь встретимся.
Чем дольше я вчитывался в текст писем самого Вольфганга, в написанные о нем книги, чем дольше наслаждался его музыкальными сочинениями, тем сильнее задумывался: практически все, что создал Моцарт — это громадная, неслыханная по размерам галактика. И чем дольше его изучаешь, тем более обнаруживаешь сложность и божественность его музыки, которая только начинает открываться.
Легкое и беспечное на поверку оказывается пессимизмом, скорбью — проблемой, тайной за семью печатями. «Прозрачность» и «легкость» Моцарта — это «прозрачность» и «легкость» внешняя, как у Пушкина — только обманчиво-кажущаяся, а в ней заключена величайшая значительность и полнота. Моцарт — самый малодоступный, самый скрытый, самый эзотерический композитор. Загадочность его личности, скрывавшей под оболочкой грубого балагурства и смешных шуток свои неизведанные глубины, соответствуют загадочности его музыки. И чем больше я вникал в его вселенную, тем более убеждался: как мало еще осмыслил ее, как мимолетно ощутил душой.
Кстати сказать, я день ото дня погружался все глубже и глубже в состояние отрешенности от мира, в некий психологический анабиоз.
Нетрудно было догадаться, что я оказался и физически и нравственно порабощен. В первую очередь, конечно, Моцартом, его музыкой, душой маэстро, но не только этим одним. Пожалуй, в не меньшей степени — проекцией его гигантской тени от его могущественного образа, сотканного за двести прошедших лет моцартоведами всех мастей.
Мне стало страшно. Причем, этот был другой страх, — не тот, конкретный, что я испытывал в критические минуты жизни. Там страх был управляем, его можно было преодолеть — нужны были только психофизические тренинги. Преодолеешь страх — и ты благополучно достигнешь цели. Но этот, теперешний, страх был иным. Он не имел вектора и более того, был бесформенным, всепроникающим — достигал каждой клетки души и тела. По мере того как я выстраивал свою собственную версию биографии Моцарта, мой страх превращался в беспощадный молох или гнет.
Я спасался работой и рассчитывал, что при таком подходе не останется сил для «размышлений на лестнице», особенно по поводу: что произойдет со мной, когда в жизнеописании Вольфганга Амадея Моцарта будет поставлена точка?
Наконец, этот момент настал. Для этого пришлось проглотить и переварить дюжину фундаментальных трудов, перелопатить гору первоисточников: документы, письма, свидетельства современников, записи музыкальных произведений Моцарта. Сведения зачастую были противоречивыми, но все-таки удалось собрать кучу фактов. Вот какую работу понадобилось проделать в поисках ответов на вопросы: кто такой Вольфганг Амадей, кем он был и что за тайна скрывается под именем «Моцарт и его жизнь». Вероятно, это очень большая тайна, иначе, зачем было Зюсмайру и Констанции уничтожать письма композитора, перетасовывать его музыкальное наследие, прятать «неудобные» документы или свидетельства современников композитора? Надо признать, что не вся интересующая меня информация была уничтожена или засекречена.
Когда я заканчивал излагать тезисы по теме «Жизнь и смерть Вольфганга Моцарта», у меня вдруг отлегло от души. Непонятная болезнь отступила, или же дала мне передышку. Перестали мучить мигрени, ушел звон в ушах, перестали мельтешить мушки перед глазами.
Мне пришлось честно признаться: методика, которой я владел, и весь мой опыт технаря и гуманитария ни на шаг не приблизили меня к цели: я не сумел избавиться от своей навязчивой идеи, от преследовавшего меня образа Вольфганга Амадея — образа человека, которого я никогда не знал.
Но какие-то могучие силы принуждали меня копаться во всем: в деталях, нюансах той далекой жизни Вены эпохи великого Моцарта. Но взамен потраченным усилиям я получал не эстетическое наслаждение, а наоборот — ощущал себя выбитым из привычной колеи, зависшим между небом и землей. Но стоило мне сделать перерыв в моем марафоне, как вернулись мучительные проявления болезни. Пришлось продолжить свои изыскания по Моцартовой теме.
Два месяца я не листал газет, не смотрел новостные программы по телевидению, а общался лишь со своим беспрерывно курящим врачом, которого продолжал посещать раз в неделю. Пару раз встретился с Анатолием Мышевым, интересуясь, когда он закончит перевод рукописи. А он не торопился и тянул резину с моим заказом.
Раз или два в неделю я выбирался из своей мрачной обители в Лиховом переулке на свет Божий и направлялся либо в «Иностранку», либо в «Ленинку», либо в Центральный архив литературы и искусства. Все эти объекты были надежно защищены от моих преступных посягательств — оттуда украсть мне ничего не удавалось. Вороша документы, извлекая на свет божий письма, написанные сто лет назад, я диву давался святой наивности тех людей, которые жили, смеялись, любили в начале прошлого века.
Занимаясь масонской темой в центральном архиве литературы и искусства, я наткнулся на предсмертное письмо Виктора Петровича Обнинского, да-тированное 20 мартом 1916 годом. Член Государственной Думы В. П. Обнинский состоял в масонской ложе, написал пророческую книгу «Последний самодержец». Его «лебединая» депеша было обращена к Рашель Мироновне Хин-Гольдовской, писательнице и близкому другу Обнинского.
«Еще и эту беду приходиться Вам пережить, — сообщал он Р. М. Хин-Гольдовской, пометив на конверте, чтобы сию депешу вручили адресату после того, как гроб опустят в могилу. — Но отнеситесь к моему уходу с мудростью. Вы все знаете. Вы видели, как долго я боролся с судьбой, и Вы знаете, что утрата большой привязанности может разбить и более крепкое сердце, чем моя жизнь. Благодарю Вас за все, за дружбу, за мягкость, за постоянное снисхождение к своему эгоистическому другу. В моей жизни Вы занимали очень большое место. Мне очень тяжело оставлять немногих людей и Вас, конечно же, в том числе. И Вас тяжелее оставлять, потому, что оставшимся, я твердо верю в это, своей смертью я приношу счастье. Я умираю без злобы на кого бы то ни было. Виновных, поистине нет, и Вы, милый друг, никого не вините за меня. Обнимаю Вас всех. Устал, не могу жить, простите. Ваш всей душой Викториша».
Как человек интеллигентный, по-своему болеющий за Отечество, часто совершавший ошибки, а потому и сомневающийся, В. П. Обнинский видел недостатки самодержавия и оппозиции. Волею провидения он встал в ряды того славного ордена русской интеллигенции, которая, по словам Н. А. Бердяева, прозорливо сказавшего в эмиграции: «Вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм».
С точностью до наоборот случилось в 90-х годах прошлого века, когда, перефразируя Бердяева: вся история советского диссидентства подготовляла приход и становление нынешней олигархии, а Россия в который раз вновь оказалась на краю физической гибели.
Мне было тяжело переживать все это вновь — ворошить в памяти то, что я когда-то постарался забыть раз и навсегда. Увлекаясь в молодости тайными правительствами и изотерическими обществами, сплошь состоящими из высокомерных господ, взявших на вооружение мораль: цель оправдывает средства, к тридцати годам я был по горло сыт масонскими заговорами, потугами современного мондиализма. По сути своей коммунизм вышел из всего этого варева. Но когда он стал трансформироваться в нечто иное, вновь вступил в игру тот же Орден Русской интеллигенции. Все это я видел изнутри, поскольку значительную часть жизни я провел среди таких же членов «ордена». И они нарасхват использовали меня в своих целях, да я и сам во многом был таким же. Самое страшное в них было их кредо: презрение к жизни простого отдельно взятого человека, животного, растения и мира в целом.
Я радостно бежал следом за своими идеологическими командирами, дыша им в спины и считая, что все вот-вот изменится, а кругом будет настоящая свобода и демократия. Но потом был август 1991 года, защитники Белого дома, трое молодых ребят, нелепо погибших под гусеницами блокированных толпой танков. Дальше — больше. Бессмысленный расстрел из танковых орудий парламента; жуткий рассказ чудом выжившего знакомого журналиста из «Российской газеты», оказавшегося в эпицентре этой бойни.
Вскоре у меня возникло стойкое ощущение того, что я болен, болен нравственно, загнав недуг вовнутрь. Болезнь точила меня, охватывая все мое существо, будто там, в глубинах моего организма, таился некий воспалительный процесс, который вот-вот должен был прорваться как созревший аппендикс — и окончательно погубить весь организм. Но я между тем пыжился и убеждал себя в том, что у меня все о’кей, а отрицательные эмоции можно просто позабыть или напрочь вычеркнуть из памяти.
Самообман продолжался до тех пор, пока в моей жизни не появились великий Моцарт, графиня и поэтесса Вера Лурье со своим загадочным досье. Все это и спровоцировало последующие события. Я заново обрел способность ненавидеть, приходить в ярость, искренне радоваться честности, правде, достоинству и чести. Во мне закипала злость на людей без души и сердца, на алчных мерзавцев, что калечат судьбы своих собратьев, губят все и вся живущее на нашей планете.
Я злился и на собственное бессилие и трусость. В голове эхом звучали слова профессора Гвидо Адлера:
«Я очень сожалею о том, что струсил. Должен вам признаться, я никогда не отличался особой храбростью».
Но я не стал зацикливаться на этих вопросах, а переключил внимание на книгу, которую держал в руках. Какая связь между ней и датами и событиями, указанными в рукописных страницах? Почему и для чего их автор поместил данную хронику в том же издании, повествующем о Моцарте и созданной им «Волшебной флейте»? Меня поразила фраза о том, что ни одно из оперных либретто во всей музыкальной литературе не толковалось многими поколениями так превратно, как либретто «Волшебной флейты».
Либреттиста упрекали в отсутствии вкуса и просто бестолковости, даже великий русский композитор Петр Чайковский 1 сентября 1880 года по этому поводу писал госпоже фон Мекк:
«Начну с „Волшебной флейты». Никогда более бессмысленно глупый сюжет не сопровождался столь пленительной музыкой».
Отто Ян, один из первопроходцев в классической биографике Моцарта, констатировал:
«Нет необходимости упражняться в критике этого либретто. Безынтересное действие, противоречия и нелепости в характерах и ситуациях ясны как день, диалог тривиален, а версификационная часть — убогое стихоплетство, которое уже не поправишь отдельными исправлениями.»
Иначе отзывается историк музыки А. Шуриг в своей книге о Моцарте (1913):
«Текст, прочитанный под сотней различных углов зрения, поднимается пирамидой благородных, таинственных и поразительных идей, корни которых уводят к мировоззрению давно минувших культур. В тексте „Волшебной флейты» заключены и прозрения и Моцарта».
Тот же Георгий Чичерин, влюбленный в музыку Вольфганга Амадея, писал в своем исследовании «Моцарт»:
«Если опера «Cosi fan tutte» («Так поступают все») — самая утонченная из моцартовских опер, то, наоборот, «Волшебная флейта» — самая народная: Моцарт откликнулся на французскую революцию хождением в народ, попыткой создания простонародного немецкого искусства. Моцарт был рьяным масоном; а в масонских ложах, конечно, много говорили о революции. Это всецело относится к «Волшебной флейте». Моцарт написал ее для шиканедерского народного театра «Ауф дер Виден», театра городского предместья, и он действительно проник ею в массы (в «Германе и Доротее» отрывки из «Волшебной флейты» исполняются у маленьких мещан) и больше всего через глубоко немецко-народную фигуру Папагено. «Волшебная флейта» — соединение двух стихий: немецкого народного представления, вроде балагана и масонства с его передовыми идеями».
И Рихард Вагнер отметил это соединение:
«Какие божественные чары веют в этом произведении, от его народнейших песен до возвышенных гимнов! Какая многосторонность, какое разнообразие! Кажется, что самое лучшее от всех благороднейших цветов искусства объединилось и слилось здесь в один единственный цветок. Какая непринужденная и вместе с тем благородная народность в каждой мелодии, от самой простой до самой величественной».
Как же найти ключ к царству Зоростро в «Волшебной флейте»?
Тот же Шуриг пишет об этом очень хорошо: «Собранный из сотен мест текст „Волшебной флейты» представляет собой пирамиду благородных, таинственных и чудесных идей, корни которых ведут в мировоззрение далеких и чуждых культур. Пестро раскрашенная оболочка многообразно-символического ядра — творение Шиканедера, человека, за напыщенностью которого крылась истинно немецкая манера в работе. И не только в музыке Моцарта, но и в многократно оклеветанном тексте, заключен глубокий характер: нрав и юмор двух фантастов. Поэтому не должно казаться странным, что при ежедневном взаимном общении Моцарта и Шиканедера, в тексте „Волшебной флейты» сохранились также внезапные находки Моцарта».
Удивительно точно высказался про музыку Рихарда Вагнера и Вольфганга Моцарта наш оперный бас Федор Шаляпин:
«Входишь в большой мрачный, торжественный дом; кругом — самая тяжелая и мрачная обстановка; тебя встречает нахмуренный хозяин, даже не приглашает сесть, и спешишь скорей уйти прочь — это Вагнер. Идешь в другой дом, простой, без лишних украшений, уютный, большие окна, море света, кругом зелень, все приветливо, и тебя встречает радушный хозяин, усаживает тебя, и так хорошо себя чувствуешь, что не хочешь уходить. Это Моцарт».
Красиво сказано, но это не весь Моцарт. И он вообще не так прост, он требует работы, а для этого надо вдумываться и вслушиваться, долго вникать в него.
«Ленинка» закрывалась. Я захлопнул книгу и двинулся домой, планируя завтра же вернуться в библиотеку и дочитать рукопись.
Все это время, пока я сидел взаперти, штудировал литературу и делал выписки, в моем уединенном логовище беспрестанно звучала музыка Моцарта.
Как тронула мое сердце «Маленькая ночная серенада»! Впервые я услышал ее в Питере, в Концертном зале, когда мне было восемнадцать лет. Это был блестящий образец той категории произведений Моцарта, где стиль эпохи был продиктован целью, назначением самой вещи, как в танцах опер и парадных пьесах для определенного случая. Тут был налицо заказ для какого-то праздника, в Вене было распространенной привычкой устраивать концерты, особенно ночью, перед окнами лица, которое хотели почтить. «Ночная серенада» — подобный заказ. Писал ее, конечно, зрелый Моцарт, это тонко, изящно, прелестно, полно жизни. Дирижировал оркестром кто-то из тамошних знаменитостей. Никогда прежде я не сталкивался с таким ясным, мощным и глубоким произведением. Впечатление от «:Серенады» было ошеломляющим. Именно в тот день я решил, пусть жизнь окажется насквозь бесцветной, бессмысленной, пустой, но, если на свете существуют вещи столь насыщенные и осязаемые, как эта музыка, жизнь, вероятно, стоит того, чтобы за нее держаться. Но потом я почти не вспоминал о Моцарте и его таланте лет до тридцати пяти, когда мне вдруг приснился сон — тот самый, который мне недавно пересказала.
С той поры я стал покупать пластинки, а позже — лазерные диски и кассеты с записью произведений Моцарта, но делал это бессистемно, наугад. Купив очередную пластинку, а потом — лазерный диск или пленку, я прослушивал ее разок-другой — и отправлял в ящик письменного стола. Не скажу, что мне не нравилась эта музыка. Мне нравилось многое. Поэтому я всегда заявлял, что предпочитаю Моцарта с его необыкновенной гармонией и блестящей, неземной прозрачностью мелодии. Но с той поры, как манускрипт Веры Лурье попал ко мне в руки, мое отношение к сочинениям Вольфганга изменилось. Я достал из ящика плеер, диски и пленки — все до единой, что когда-то накупил, и принялся с жадностью слушать музыку. Я не снимал наушники ни тогда, когда читал или писал, ни тогда, когда меня смаривал сон. Я гонял лазерные диски на плеере, который мог работать в автоматическом режиме: когда диск прокручивался до конца, он автоматически переставлялся в начало.
Я слушал все подряд, без разбора. День сменялся ночью, ночь — днем; звуки, аккорды — половодье музыки вытесняли посторонние мысли, образы знакомых и незнакомых людей, уголки природы, воспоминания о вещах и событиях. Музыкальный эфир пронизывал меня насквозь, порой заставляя трепетать, плакать или кричать от счастья. Царство музыки изолировало меня от мира, все глубже и глубже погружая в одиночество, будто в глубочайшую Марианскую впадину. Музыка была чрезвычайно разнообразной. Каждое произведение являло собой мост, переброшенный от меня к чему-то неповторимому, единственному в своем роде, а часто — к целому космосу, в котором творил и жил Моцарт. Я не уставал изумляться: какую музыкальную империю он придумал, сколько миров открыл! Он никогда не повторялся.
Только, нырнув с головой в омут, где господствовала музыка великого маэстро, я понял: Моцарт самый малодоступный, самый скрытый, самый эзотерический из композиторов. Кто не сидел специально и долго над Моцартом, кто в него упорно не вдумывался, с тем разговаривать о Моцарте — как со слепым о красках солнечного заката. Загадочности всей его личности, скрывавшейся под личиной грубого балагурства и смешных шуток и таившего свои неизведанные глубины — вот откуда загадочность его музыки: чем больше в нее вникаешь, тем больше видишь, как мало еще понял ее.
Моцарт настолько универсален, что романтики восторженно доказывали: Вольфганг Амадей — наш и только наш, поскольку у самого Моцарта очень много мест, совершенно романтических по характеру. Яркий пример тому симфония Es-dur, которую часто называют «Романтической симфонией» или «Лебединой песнью», понимая, что в ней скрыто много безутешной скорби, «regrets inconsolables» («Безутешные сожаления»).
Песня Моцарта «Abendempfindung») («Вечернее настроение») — чистейшая романтика! Зато перед симфонией g-moll романтики останавливались с полнейшим непониманием. Много романтического в «Дон Жуане» — таинственные предчувствия, ночные сцены, кладбище. Глубоко проникнута романтикой и «Волшебная флейта». В инструментальных произведениях Моцарта встречается масса мест или даже целые части, звучащие как музыка Вебера, Шуберта, Шумана.
Любопытна оценка произведений великого маэстро Рихардом Вагнером, который прославлял Моцарта до небес: «невероятная гениальность возвысила его над всеми мастерами всех искусств и всех столетий». И тут же подчеркивал: у Моцарта инстинкт ничего-де сам не понимал. Картина парадоксальная. Рихард Вагнер, с одной стороны, безгранично восторгался Моцартом, а с другой — представлял его музыкантом инстинкта, лишенным самостоятельности мысли, образования, хватающим без разбора какое угодно либретто. На самом деле это не так, именно к либретто Моцарт всегда подходил щепетильно и профессионально.
Я чувствовал каждое музыкальное произведение Моцарта всем своим существом, каждой клеточкой организма, будто его волшебные аккорды записались на генном уровне, всплывая сами собой в подсознании.
По мере того как мое знакомство с музыкой Моцарта углублялось, чудесные звуки становились моими друзьями. Совсем как люди: казалось бы, знаешь человека со всеми его привычками и странностями, и все же он не перестает удивлять тебя своими, открытиями, находками.
Как назло, под утро я провалился в необыкновенно крепкий сон, а когда проснулся, был уже полдень. Кроме того, как раз в этот день я должен был показаться врачу. Короче говоря, до Ленинки удалось добраться ближе к вечеру. Я намеревался проштудировать там от первой до последней строчки рукопись журнала, «О таинствах египтян» Игнациуса Эдлера фон Борна в его «Journal fuег Freimaurer» («Журнал для масонов»), надеясь, что это прольет свет на тайну Моцарта и на чертовщину, творящуюся со мной.
Я снова затребовал нужные мне книги, на поиски которой библиотекарь потратил битых два часа. Я с нетерпением раскрыл книгу. Выяснилось, что в тот раз я недооценил уникальность рукописи. Кроме дат и событий, я обнаружил на полях вопросы-пометки, сделанные почерком, отличным от почерка автора. Я хотел скопировать интересующие меня страницы, но сканнер, как нарочно, не работал, — заболела сотрудница.
В тот вечер, когда я вернулся домой из Ленинской библиотеки, мои мысли были заняты рукописью, обнаруженной под обложкой книги. Я забрался на диван и обложился ксерокопиями кое-каких материалов, сделанными днем раньше. Эти материалы я еще не успел просмотреть. Принялся за чтение. Большинство из них не представляло интереса. Я выбрал наугад несколько абзацев и переписал их. Затем я обратился к ксерокопиям, сделанным еще раньше в «Ленинке». Открыл папку с пометкой «О таинствах египтян», вынул из нее несколько листов и начал читать В. Ф. Иванова из его трактата «Тайны масонства»:
«Понятие «иллюминаты» означает носители света. Свет, о котором идет речь, не является божественным. Скорее это слепящий свет Люцифера. В 1775 году группа международных финансистов поручила Адаму Вейсхаупту создать на базе кодекса Люцифера план преобразования мира («Новый мировой порядок»).
Этот план был мастерски разработан специальной группой под руководством А. Вейсхаупта — втайне и в срок. И Вейсхаупт основал Орден иллюминатов 1 мая 1776 г., будучи деканом юридического факультета Ингольштадтского университета. Воспитанник иезуитов, он возненавидел своих учителей, но усвоил тайны их организации, извратив их и направив на достижение совершенно противоположной цели. По словам его соучастника, будущего французского революционера графа Мирабо, его метод заключался в том, что «под единым руководством множество людей, разбросанных по всему миру, стремятся к единой цели». Предполагалось осуществление длительной программы: разрушение основ религии, государства как института, дискредитация общепринятой философии и раскол человечества на два непримиримых, враждебных лагеря (каждому — своя идеология). Разделенный при помощи методов экономического воздействия мир низвергнется в пучину беспрестанных войн и революций, в результате чего человеческая жизнь утратит смысл, а личность — самоценность. Человечество потрясут катаклизмы, существующий социальный порядок будет уничтожен. На руинах установится новый режим. — Избраннику не составит труда управлять новым миром».
В Дрезденском государственном архиве находятся документы прусского посольства с 1780 по 1789 гг. (том 9) и между ними под № 2975 собственноручное письмо короля Фридриха-Вильгельма II курфюрсту Саксонскому Фридриху-Августу III, написанное по-французски. Вот его русский перевод:
«Я сейчас узнал из достоверного источника, что одна из масонских сект, называющая себя Иллюминатами или Минервалами, после того, как ее изгнали из Баварии, с неимоверной быстротой распространилась по всей Германии и по соседним с нею государствам. Основные правила этой секты крайне опасны, так как они желают ни более, ни менее, как:
1) Уничтожить не только христианство, но и всякую религию.
2) Освободить подданных от принесенной ими присяги на верность монарху.
3) Внушить под названием «прав человека» своим последователям сумасбродные учения, идущие наперекор тому законному порядку, который существует в каждом государстве для охранения общественного спокойствия и благополучия; этим воспалить их воображение, рисуя им соблазнительную картину повсеместной анархии для того, чтобы они под предлогом свержения ига тирана, отказывались исполнить законные требования власти.
4) Позволяют себе для достижения своей цели употреблять самые возмутительные средства, причем они особенно рекомендуют «акву тофану», самый сильный яд, который умеют отлично приготовлять и учат этому приготовлению и других.
Поэтому я считаю своей обязанностью тайно оповестить об этом Саксонский Двор, чтобы уговорить его учредить строгий надзор над масонскими ложами. Тем более, что это «отродье» не преминет раздуть повсюду пламя восстания, опустошающего ныне Францию, т. к. масонские ложи, в которые вкрались иллюминаты, чтобы заразить и их, несмотря на бдительность хороших лож, которые всегда ненавидели этих чудовищ».
Я, быть может, колебался бы дать такой совет, если бы не почерпнул свои сведения из очень хорошего источника и, если бы сделанные мною открытия не были так ужасны, что, положительно, ни одно правительство не может относиться равнодушно к иллюминатам.
N. В. На Лейпцигской ярмарке предполагается съезд всех главарей иллюминатов для их тайных переговоров. Быть может, тут могли бы их переловить.
Берлин, 3 окт. 1789 года.
Фридрих — Вильгельм».
Затем мне попались на глаза безумные строчки, которые явно были взяты из кодекса Люцифера, или Ахримана: «.Мы спустим с привязи боевиков-террористов, нигилистов и атеистов, спровоцируем в разных точках мира ряд очагов социальной катастрофы с полным набором средневековых ужасов, чтобы наглядно показать народам сущность тоталитаризма, природу его жестокой, кровавой тирании. Граждане поневоле, будут браться за оружие, чтобы защищаться от террористических революционных групп. В конце концов, народные массы, разочарованные в христианстве, магометанстве, иудаизме и не ведающие, куда направить свои стопы, какому божеству поклоняться, примут без всяких поправок доктрину Люцифера-Ахримана, своевременно предложенную нами человечеству; наберет силу оппозиция — движение, противодействующее как апологетам прежних главных конфессий, так и атеистам. Они будут повержены, и это произойдет в один и тот же исторический период».
Эти последние прочитанные мной слова показались абсолютно точным предсказанием ситуации в сегодняшнем взрывоопасном мире, в котором мы очутились после крушения устойчивого двухполюсного паритета двух систем. Удивительно, что эти строчки написаны были сто, а может много больше лет назад. Рассуждения на этом не заканчивалось, но читать дальше этот бред было слишком уж омерзительно.
Решив, что пока с меня хватит, я отставил книги в сторону. Измотанный, я уснул, опустив листы на грудь, Через пару часов проснулся от жуткого холода. Было такое ощущение, будто стою голым на айсберге, дрейфующем от Южного полюса. В висках невыносимо ломило, голова раскалывалась, словно ее зажали в пыточный обруч и закручивают гайки. По комнате распространился странный запах сероводорода — так пахнут тухлые яйца. Я закрыл глаза. Крошечные голубые огоньки замельтешили в мозгу, они мигали, как сигнальные фонари на крышах далеких полицейских машин. Голова кружилась, боль в ней усилилась — никогда еще мне не доводилось испытывать такую зверскую боль. Казалось, веки разбухли до невероятности. Я вновь открыл глаза и с ужасом обнаружил, что парю над диваном на высоте полутора метров. Ужас перешел в кошмар, когда я понял, что сверху разглядываю собственное тело.
Я ощутил легкое покалывание в позвоночнике, на глаза навернулись слезы. Затем раздался голос. Он звучал тихо-тихо. Я затаил дыхание, пытаясь уловить смысл речи. Голос зазвучал вновь — невнятные звуки, возникающие во тьме как бы сами по себе. Я внимал им, боясь пошевелиться, и, в конце концов, сумел различить слова:
— Твое любопытство зашло слишком далеко. Пора перестать совать нос в явления и вещи, которые не выразить на человеческом языке. Учти: не подчинишься — предстанем перед тобой, но тогда будет поздно.
Я ответил осмысленной фразой, хотя мой рот оставался закрытым, губы даже не дрогнули:
— Чего вы хотите? Кто вы?
И, словно в ответ на мой вопрос, комната, и без того темная, погрузилась в непроглядный мрак, какой я, пожалуй, встречал только в подземелье каменноугольной шахты в Кузбассе, когда внезапно потух фонарь на каске. К моему крайнему изумлению, в этой кромешной тьме я даже неплохо видел! Я различил очертания некого существа, находившегося в центре комнаты и облаченного в черное одеяние — похожее носят священники. Капюшон, накинутый по самые брови, не позволял разглядеть его лицо. Странное существо зависло в воздухе, не касаясь ногами пола. Мне казалось, что я как будто опутан по рукам и ногам, чувствуя, как меня парализовала чья-то воля.
Незваный гость произнес хрипловатым голосом:
— Ты собрался на себе испытать, как взаимосвязаны свет и тьма.
Идея заслуживает внимания, но опыт, который ты намереваешься произвести, слишком опасен. Он гораздо опаснее, чем это может представить твое жалкое воображение. Так пусть же ларцы остаются запертыми, а тайны умрут с теми, кто дал им жизнь!
Вот и все, что я запомнил. Несколько часов спустя я пробудился и мог бы счесть виденное и слышанное сном, если бы не странная вещь: палас оказался прожженным в том самом месте, над которым висел в воздухе мой ночной гость. Выгоревшее пятно имело узнаваемую форму пентаграммы.
Именно это обстоятельство заставило меня спланировать свои действия следующим образом: срочно достать материалы, переданные мне Верой Лурье и взяться за них вплотную.
«Волшебная флейта»
«Для публики, не знающей определенных таинств и не способной заглянуть сквозь плотный покров аллегории, «Волшебная флейта» какого-либо интереса представлять не может…»
Проф. Й. Й. Энгель королю Фридриху Вильгельму II Прусскому, Берлин, 8 марта 1792 годаЛетом 1790 года Моцарт взялся за сочинение музыки к опере «Волшебная флейта», произведению, над которым пришлось поломать голову не одному десятку просвещенных умов. Об этом известно из его письма Констанции от 3 июля 1790 года: «Прошу тебя, скажи Зюсмайру, этому простофиле, пусть он вышлет мне мою часть с первого акта, с интродукции до финала, чтобы мне начать инструментовку».
Пожалуй, самое проникновенное и проницательное суждение о либретто «Волшебной флейты» принадлежит великому Иоганну Вольфгангу фон Гете. Сей посвященный олимпиец, в своей беседе с секретарем Эккерманом 25 января 1827 года сказал:
«Лишь бы основной массе зрителей доставило удовольствие очевидное, а от посвященных не укроется высший смысл, как это происходит, например, с „Волшебной флейтой» и множеством других вещей».
Раскрывать завуалированные фразы Гете не стал, но чтобы пробудить элементарное любопытство, и этого достаточно.
Артур Шопенгауэр тоже ограничился словами с подтекстом, назвав «Волшебную флейту» «гротескным, но знаменательным и многозначительным иероглифом».
Исследователи древнего мира должны были прийти в восторг и зааплодировать от содержания оперы, далеко обогнавшим свое время, поскольку реалии либретто пьесы стали известны только в 1822 году после походов Наполеона в Египет. Да куда там! Ученый Эдуард Мейер в «Истории Древнего Египта» (1887), ничтоже сумняшеся, заявил:
«Мудрость «Волшебной флейты» так далека от мудрости Египта, как поведение Зороастро и его окружения от образа действий разумных людей».
И когда патриоты утверждали, что до сих пор немецкой оперы как таковой просто не существовало, она была создана «Волшебной флейтой». И, дескать, даже немец в полной мере не способен оценить появление этого немецкой оперы. Хотя вернее сказать: оперы на немецком языке!
Уже то, что действие «Волшебной флейты» происходит в Египте, для всех поборников немецкого типа мышления должно было бы стать доказательством ее космополитической основы. Действительно, либретто не имеет ничего общего с германским менталитетом. Скорее, оно основано на уходящих в египетски-эллинические воззрения архаических, языческих таинствах посвящения и приема своих адептов в сан посвященных, которые чужды по духу германским народам. И даже, появляющийся в самом конце оперы «Тысячелетний дуб», едва ли может что-нибудь изменить в «немецкости» оперы.
Зато недоступный мир ордена в этой опере-мистерии самым невообразимым образом лишается своей таинственности на глазах у всех, на подмостках сцены. И перед зрителем разворачиваются эзотерические скрижали, масонский словарь, причем само масонство иной раз трактуется с грубоватым подтекстом, а то и вообще высмеивается его таинственность. К тому же в либретто скрыты идеи, относящиеся к до — и послебиблейской духовной эре. Более того, премьера оперы состоялась 30 сентября, то есть в непосредственное соседство с новым иудейским 1791 годом (29/30 сентября), — простое ли это совпадение?
Можно только догадываться, какой шок получили правоверные масоны и иллюминаты, когда попали в эпицентр событий, в которых демонстрировалась профанация ритуалов, вещей и нюансов, о которых говорилось только в храме, да и то намеками, а неразглашения деталей требовал обет молчания! А тут еще флер «сказочной оперы», который позволил широкой публике из предместья взглянуть незамутненными глазами на то, что так тщательно оберегалось от непосвященных.
А либретто «Волшебной флейты» — это настоящий словарь масонов, их ритуалов, символов и каббалистики. Для полного реестра всех таинств в опере руку приложили многие исследователи, а в особенности Герман Аберт:
1. «И когда же падет покров?» (1/15).
2. Оратор — это равносильно: Докладчик лжи.
3. Мистическое число 18 (см. 18 жрецов) у розенкрейцеров.
4. «Звездно-пламенеющая царица» (1/2) — это: Потолок храма, усыпанный звездами.
5. «Пламенеющая звезда» G — это: Символ 2-го градуса. На титульной гравюре первого либретто (вместе с другими масонскими символами).
6. «Будь стоек, терпим и скрытен» (1/15) — это равносильно: 3 заповеди, которыми и по сей день напутствуется соискатель в его символическое путешествие при посвящении в ученики.
7. «Ум, труд и мастерство» (1/15) — это: Намек на «три малых светильника» в австрийских ложах, равносильны мудрости, силе и красоте.
8. «О ночь, когда исчезнешь ты? Когда луч света.» (1/15) — это: Символическое путешествие испытуемого в ложе, когда его с завязанными глазами ведут на ложные пути.
9. Тамино и Памину с закутанными глазами ведут в храм испытаний (1/19).
10. Вопросы и ответы в сцене перед началом II действия (Зарастро, Оратор, жрецы) почти дословно заимствованы из масонского ритуала.
11. Северные ворота храма — это: По северную сторону ставились ученики.
12. Троекратный аккорд — это: В ложах в том же ритме приветствуется адепт, заявленный на испытание.
13. Добродетельность, скрытность, благотворительность — это: Все эти вопросы задаются испытуемому в приготовительной комнате. Весь диалог между Тамино и старым жрецом в 1/15 «Волшебной флейты» — почти дословное повторение вопросов магистра ложи и ответов «соискателя» на градус ученика при приеме в ложу («допрос»)!
14. Оратор выходит со жрецом вперед и влево аналогично ритуальному выходу мастера, готовившего соискателя, с одним из двух надзирателей (II/1).
15. «Еще есть время отступиться» — это: Предостережение, имеющее эквивалент в ритуале приема; здесь мастер призывает соискателя возвратиться к мирской жизни, если тот не достаточно уверен в своем выборе.
16. «Опасайтесь женского коварства» (II/3) — это: Запрет женщинам вступать (тогда!) в мужской союз.
17. Двое латников (П/28) — это: Первый и второй смотрители в ложе.
18. Испытание огнем и водой.
Опера Моцарта „Волшебная флейта» может быть истолкована как остросатирическое произведение. Уже биограф Моцарта Георг фон Ниссен назвал ее «пародией. на масонский орден». В самом деле, местами этот пародийный элемент в действии просто преобладает. Например, то, что женщина, Памина, допускается к наивысшему посвящению. Не кощунство ли это, поскольку женщины вообще не допускались в масонские ложи! Или же такой эпизод. В центре мизансцены стоит горе-адепт Папагено, которому совсем не до высшей мудрости, открывающейся в таинствах. Это дитя природы, если только не лишается чувств от страха, то блестяще проваливается на всех испытаниях. Папагено выигрывает спор только благодаря своему острому языку, и поэтому в «Волшебной флейте» от великого до смешного всего один шаг. Папагено — человек простой, от земли; он и без испытаний добивается всего вместе: вина, женщин и песен, — гласит его мораль. Тайны и посвящение — это не для него, а для благополучно устроенных царских отпрысков типа Тамино. Это им, баловням судьбы, уже на роду написано одолеть всемогущего повелителя света Зороастро, правда, не без вмешательства анонимного протекционизма (волшебная флейта — собственность Царицы Ночи).
В либретто полно замаскированного подтекста, подковырок, шпилек и несуразностей, а в итоге — скрытой социальной критики. Есть здесь и кое-что из прошлого самого Моцарта: так, вопросом «Благотворителен ли?» он намекает на свою многострадальную ложу. Или кивок в сторону закрытой ложи «Истина» в словах Памины и Папагено непосредственно перед началом 18-й сцены (после первых представлений этот текст из либретто пропал!):
«А Истина не всюду впрок, И сильным мира не урок. И хочет ненависть сгубить ее навек — Лишен свободы в оковах человек».У Гете во второй части «Фауста» прямо-таки зеркально передается нагнетаемая душная атмосфера, зеркальная с тем, что мы видим в «Волшебной флейте». Прямые связи с культом и ритуалом, с Тамино и Паминой, а также с квинтетом («Wie? Wie? Wie?») из II действия оперы очевидны:
«А вот искатель счастия упрямый В венке и одеянии жреца. Он доведет, что начал, до конца. Земля разверзлась, жертвенник из ямы Поднялся кверху в дыме фимиама, Пора священнодействие качать. По-видимому, можно счастья ждать. Ключом треножник тронул он, и гарь Клубами мглы окутала алтарь. Но это только видимая мгла, На деле это — духи без числа. У них способность есть за пядью пядь В земле шагами музыку рождать. Их поступь — песнь, симфония, псалом, — Не описать ни словом, ни пером, Следы их приближенья ощутив, Поют колонны, стены, свод, триглиф. Вдруг юноша неписанной красы Выходит из туманной полосы».Намеки на испытание огнем и водой здесь так же прозрачны, как и указания на музыкальные соло и дуэты, пассажи ленто и фугато.
Все это было бы не так страшно, но случилось самое кощунственное с точки зрения эзотерических догм: бесцеремонной обкаткой священного числа 18 на знание тайн которого наложено громадное табу. Этот знак был и есть строго охраняемая святыня высокоразвитых античных культур и избранных тайных союзов, оберегаемая как зеница ока!
Что же подвигло Моцарта на столь радикальный шаг?
Однозначных ответов нет. Учитывая нонкомформизм, присущий великому композитору, можно утверждать, что одна только мысль преподнести на сцене нечто совсем новое, из ряда вон должна была показаться Моцарту пленительной. И все то социально критическое, что было заложено в «Свадьбе Фигаро» нашло здесь свое яркое и язвительное продолжение. К поиску подходящего либретто Моцарт шел мучительно и долго, — это хорошо известно всем. Ну а в случае с «Волшебной флейтой» текст оперы в буквальном смысле упал с небес.
С точки зрения тайных обществ постановка «Волшебной флейты» была равносильна осквернению эзотерических «святынь»! Зато императору Леопольду II, любившему двойную игру, такой разворот событий оказался весьма кстати: масонство, с таким размахом выведенное на народной сцене, лишилось своего истинного «tremeridum» — своей таинственности.
Всего одно такое место в тексте оперы:
«Памина, может, ее уже принесли в жертву?» — говорит больше, нежели распространяемые адептами масонства ритуалом их организации: ежегодно жертвовать одним из своих знатных членов.
Дальше — больше.
В тексте либретто начинает доминировать рискованное заигрывание со смертью:
«Но, увидав ее, я должен буду умереть?» — Второй жрец делает двусмысленный жест, (II/3).
И это касается не только испытания огнем и водой. Самая сильная насмешка в II/5:
«Говорят, кто клянется в союзе с ними, тут же проваливается в ад со всеми потрохами».
Намеки Папагено подчас становятся грубыми и язвительными:
«Мы явимся вполне вовремя, чтобы успеть быть поджаренными» (II/19).
Но особенно во втором действии(П/23):
Оратор:
«Но тогда тебе никогда не вкусить небесных радостей посвященных».
Папагено:
«Что уж тут, ведь большинство людей подобны мне. А сейчас для меня величайшая радость — добрый бокал вина».
И вообще большая часть шпилек, подковырок и острот находится во втором действии.
Зритель покидает театр со смешанными чувствами: сказка, чуждая символика, сакральное и развлекательное соединены тут в некий конгломерат или противоречивое целое.
Рихард Вагнер был прав, утверждая, что «это сочинение стоит особняком и поистине не может быть соотнесено ни с каким временем», прав был и исследователь Коморжиньский, говоря, «что в этой сказке, на вид непритязательной, скрыто особое значение того, что волшебная игра имеет какое-то отношение к серьезности реальной жизни, что это символ».
Здесь важны не подобные детали, взятые сами по себе, а тот мощный выброс, то соборное единство, засиявшее подобно бронзе под патиной сквозь банальности венской народной пьесы!
Теперь мало, кто сомневается в том, что соавтором Моцарта в тексте либретто был также и Игнациус Эдлер фон Борн, «прообраз Зороастро», знаток эзотерических и минералогических наук, издававший журнал для масонов «Journal fur Freimaurer». За два месяца до премьеры «Волшебная флейта», в конце июля 1791 года, он, всего 49 лет от роду, навсегда сомкнул глаза в жестоких конвульсиях. Несомненно, знал он много, пожалуй, слишком много. Другие исследователи считают, что основная часть текста „Волшебной флейты» принадлежит Карлу Людвигу Гизеке, поскольку текст оперы мог создать только ученый, человек науки, а третьи полагают участие здесь неких «анонимов»: и патер и курат. Кстати, создатель титульной гравюры к первому либретто «Волшебной флейты» масон Игнац Альберти неожиданно скончался в 1794 году в возрасте 33 года.
«Волшебная флейта», кроме того, — своеобразный сфинкс, устремивший взгляд в Царство мертвых! «Умереть» и «посвятиться», — и то и другое в греческом языке имеет один корень. Бог мертвых Тот — Гермес — проводник мертвецов. Когда в финале первого действия Тамино избирает храм мудрости, то это ничто иное, как Путь к матерям или дорога в Царство мертвых.
Число 8 — символ вечного возрождения, а знаком его является двойной квадрат или восьмиугольник. Оно составлено арабами из двух, стоящих один на другом квадратов.
Поставленные рядом друг с другом, эти квадраты дадут прямоугольник, классическую форму гроба.
В то же время в алхимии число 8 соотносится с ртутью-Меркурием!
Комната мертвых, хранящая мумию фараона, представляет собой чистый двойной квадрат. А так как масонство в первую очередь занимается таинствами смерти и возрождения, знаком ложи оно выбрало эту эмблему (двойной квадрат, или прямоугольник).
Не зря в церемониях такого рода музыка играет главную роль: в октаве 8 звуков. И в опере «Волшебная флейта» это число 8 последовательно и неуклонно «набирает в цене». Гермес-Меркурий изобрел арфу и флейту, и золотая волшебная флейта вручается принцу в восьмой сцене.
Испытание огнем и водой — это уже последняя стадия земной жизни, происходит в 28-й сцене II-го действия. Здесь выбрана что ни на есть превосходная степень драматизма, богатства содержания: испытание огнем и водой, по регламенту 18-го градуса посвящения — «Igna Natura Renovatur Integra» (INRI), или по-русски: «Природа обновляется возрождающим пламенем». Испытание огнем и водой поразительно вторглось и в жизнь самого Моцарта: перед его кончиной он перенес терминальную горячку и сильное опухание тела.
Вот и конец — круг замкнулся! Посвящение «Волшебной флейты» чисто египетского толка: обожествление мертвого!
Пророчески смотрится изображение на гравюре к первому либретто «Волшебной флейты»: под высокой стелой Гермеса, — с 8-ю символами Меркурия! — лежит мертвец. Это Адонирам (в степень Адонирама был посвящен Вольфганг Моцарт), архитектор храма Соломона. Процитируем известного английского музыковеда Э. Дента: «Умереть и стать посвященным — равно и в значении и в слове. На пороге смерти и посвящения все являет свой ужасный лик, все — уныние, трепет и страх. Но если это преодолено, то неофита приветствует удивительный, божественный свет. Его принимает нива чистоты, где на цветущих лугах гуляют и танцуют под сладостные песни и божественные видения. Здесь посвященный совершенно свободен; увенчанный, он беззаботно пребывает в кругу избранных и блаженных». Вот куда пришлось зайти!
Вот куда необходимо было зайти!
Моцарт зашел туда и достиг всего этого. Моцарт — помазанник Божий, пророк на этой земле, и он должен быть вознагражден «.увенчанный, он беззаботно пребывает в кругу избранных и блаженных!»
Мы не сомневаемся, что эти выводы попали в самую точку, и в качестве дополнения к действию «Волшебной флейты» нам хотелось бы процитировать стихи Гете, на которые опять-таки указал Ф. А. Лурье, и опять же из 2-й части «Фауста»:
«Слышите, грохочут Оры! Только духам слышать впору, Как гремят ворот затворы Пред новорожденным днем. Феба четверня рванула, Свет приносит столько гула! Уши оглушает гром, Слепнет глаз, дрожат ресницы. Шумно катит колесница, Смертный шум тот незнаком. Бойтесь этих звуков. Бойтесь, Не застали б вас врасплох. Чтобы не оглохнуть, скройтесь Внутрь цветов, под камни, мох».Вне сомнений, «Волшебная флейта» в окружении этих событий предстает теперь в совсем ином свете, так что уже тогдашние слухи, будто Моцарт был отправлен на тот свет из-за разглашения тайн «королевского искусства», теперь вовсе не кажутся безосновательными.
Только вот кем — вопрос вопросов?!
Если обратить взор на титульную гравюру к первому либретто, а, надо сказать, такая графическая вкладка для либретто в те времена была большой редкостью, то на этом рисунке мы увидим: 8 символов Меркурия (среди них — голова барана с лирой, жезл-змея, ибис), украшающих высокую колонну Гермеса-Меркурия, изображенную слева. Под ней лежит мертвец — архитектор храма Соломона Адонирам. Жуткие сцены жертвоприношений вверху на фризе можно рассмотреть только через лупу. А на заднем плане перед комнатой — пожалуй, определенно можно сказать, комнатой мертвых — в двойном квадрате появляется классический знак яда В. Моцарта, сулемы — символ S. Неслыханно! Если числам 1 и 2 в алхимии нет соответствия (оно начинается с 3!), то число 8 было посвящено ртути, то есть яду, данному Моцарту, и на этой гравюре мы находим даже его изображение! Собакоголовые обезьяны справа вверху представляют другие классические символы Меркурия, так же как и змеи. Кроме того, на гравюре изображены знаки и низших масонских градусов.
Получается, что вся жизнь Моцарта — от рождения до могилы — находится под властью этого необычайного числа 8: рождение в 8 часов пополудни в ночь на день Меркурия, среду, и на 28-й день года, гомеровский «Hymn on Mercury» под его детским портретом, доминирующая роль числа 18 в «Волшебной флейте» и событиях, сопутствующих смерти, 8 аллегорий Меркурия на титульной гравюре к первому изданию либретто оперы, «серый посланец как олицетворение ртути, как символ числа 8! Наконец, сумма цифр его полных лет жизни — 35 — опять-таки чистая восьмерка.
И все это «его величество» случай? С трудом верится, для простого случая что-то многовато. Скорее всего, особенно в конце его жизни, перед нами произошел суперслучай!
Теперь можно с уверенностью сказать: жизнь Моцарта с самого начала находилась во власти рокового числа, ведь даже высота Солнца в день его рождения составляла 8° в созвездии Водолей. Да и смерть его — ловко обыгранная и сманипулированная судьба и все с помощью этого числа!
Остается открытым вопрос: оттого умер Моцарт, что создал «Волшебную флейту», или создавал ее, был уверен, что умрет?
Здесь сможет внести ясность всезнающий великий Гете, который 11 марта 1828 года сказал своему секретарю Иоганну Эккерману:
«Вообще вдумайтесь, и вы заметите, что у человека в середине жизни нередко наступает поворот, и если смолоду все ему благоприятствовало и удавалось, то теперь все изменяется, злосчастье и беды так и сыплются на него. А знаете, что я об этом думаю? Человеку надлежит быть снова руинированным! Всякий незаурядный человек выполняет известную миссию, ему назначенную. Когда он ее выполнил, то в этом обличье на земле ему уже делать нечего, и провидение уготовляет для него иную участь. Но так как в подлунном мире все происходит естественным путем, то демоны раз за разом подставляют ему ножку, покуда он не смирится. Так было с Наполеоном и многими другими. Моцарт умер 35 лет. Почти в том же возрасте скончался Рафаэль, Байрон был чуть постарше. Все они в совершенстве выполнили свою миссию, а значит, им пришла пора уйти, дабы в этом мире, рассчитанном на долгое-долгое существование, осталось бы что-нибудь и на долю других людей».
Никто, пожалуй, не смог так близко подойти к пониманию предназначения и конца В. Моцарта, нежели «великий посвященный» Гете.
«Музыкальный талант, — сказал Гете секретарю Эккерману 14 февраля 1831 года, — проявляется так рано потому, что музыка — это нечто врожденное, внутреннее, ей не надо ни питания извне, ни опыта, почерпнутого из жизни. Но все равно явление, подобное Моцарту, навеки пребудет чудом, и ничего тут объяснить нельзя. Да и как, спрашивается, мог бы Всевышний повсеместно творить свои чудеса, не будь у него для этой цели необыкновенных индивидуумов, которым мы только дивимся, не понимая: и откуда же такое взялось. Но, покорный демонической власти своего гения, он все делал согласно его велениям».
Меркурий ближайшая к Солнцу планета, и она видна, как никакая другая. Умерев, Моцарт, казалось, и в смерти следует своему исконнейшему, роковому предопределению: он был и остается посланцем из другого мира.
Храм мудрости и света — они рядом друг с другом, да не одно ли это и то же? А потому как двуединая пара Тамино и Памина, он искал свет. и растворился в нем. Или как в «Волшебной флейте»:
«В таком великолепье ты Явишься скоро всему миру; сила В том царстве Солнца — и твои мечты»Но не так все просто на самом деле. Об этом гласят слова, сказанные за несколько дней до своей смерти великим олимпийцем, который написал Вильгельму фон Гумбольдту:
«Неверное учение в неверном деле довлеет над миром» (письмо от 17 марта 1832 года).
И этот пассаж великого поэта Германии заставит призадуматься каждого, кто еще раз окинет мысленным взором события, сопровождавшие смерть Моцарта. Лучше, если об этом будет знать как можно меньше «посвященных»! Факты не должны всплыть на поверхность. Именно поэтому кончину Моцарта нужно было повернуть так, чтобы слушатель в партере «прозрел» сам и определил: Моцарт работал буквально себе на погибель. Этот человек был загублен при помощи тайных языческих обычаев. Верный католик сошел в могилу по дохристианскому ритуалу! Речь тут идет, скорее всего, о крупнейшем скандале на религиозной почве, какой только случался в ХVIII столетии в области изящных искусств!
Любыми средствами, при любых обстоятельствах все это просто необходимо было как-то «замять». Вот тут-то и выплыл на свет Божий Реквием, вернее — Реквием-миф, Реквием легенда!
Но об этом попозже.
Часть вторая Любовь! — Вот душа гения…
«Истинный гений без сердца — вещь невозможная, ибо не высокий ум, ни воображение, ни оба вместе не создают гения. Любовь! Любовь! — вот душа гения»
Фраза в альбоме В. Моцарта, написанная Готфридом Жакеном, — сыном профессора ботаники в Вене Николауса Иосифа фон ЖакенаДосье на VIP-персоны
Внешность Моцарта не так-то легко реконструировать на основе имеющихся портретов, однако Людвиг. Встретившийся с Моцартом в 1789 году в Берлине, писал о нем: «Маленький, суетливый, с туповатым выражением глаз, в общем — непривлекательная фигура». Несколько располневший, ростом чуть более 150 сантиметров, этот вечно находившийся в движении человек с большой головой, мясистым носом и испещренной оспинками кожей лица внешне, конечно, был малопривлекателен (какая противоположность сыну Францу Ксавьеру!). Глаза Моцарта были светло-голубыми, волосы белокурыми. Его блуждающий и рассеянный взгляд определялся близорукостью, которая и на детских портретах проявляется легким экзофтальмом. Вследствие утомительных путешествий и сопровождающего их плохого питания он перенес рахит. Изменение черепа (лобные бугры), малый рост и искривление костей (кисти рук) — тому доказательство.
Моцарт не был красив в общепринятом смысле слова, а его аутотентичные портреты не дают повода к выводу «о трансцендирующем флюиде» (Хильдесхаймер). Но кому захочется разглядеть в портретах предчувствие «духа» и «гениальности», как, скажем, Карру, тому аутосуггестивным образом, пожалуй, удастся и это. Моцарт, должно быть, был «нордически-средиземноморским типом» (Раушенбергер).
Анализировать портреты Моцарта и его родных и близких на первый взгляд нелегко. Однако можно реконструировать в реальных красках те портреты, которые подверглись «шопингу» и были отлакированы. Особенно это касается персоны великого Моцарта, что, конечно же, естественно. Согласно экспертным оценкам, в значительной мере аутентичны портреты Грасси и Майера (его малоизвестная гравюра на стали), а также Крафта. В качестве классического может быть принят семейный портрет Моцартов работы делла Кроче и портреты (неизвестного мастера) Леопольда и Анны Марии, а также детей композитора — Карла Томаса и Франца Ксавера. Портреты работы Иосифа Ланге, включая портрет Констанции, относящийся к 1782 году, — выглядят лубочно, так же как и детские портреты Карла Томаса и Франца Ксавера кисти Ханзена. Тот же рисунок серебряным карандашом Штока, изображающий Моцарта в 1789 году, несколько приукрашен, но нехарактерен изображению маэстро. Детские и юношеские портреты Моцарта настолько отличаются друг от друга, что выбрать из них самый достоверный не представляется возможным.
Гравюра на стали Карла Майера, по-видимому, самый аутентичный портрет Моцарта хотя бы потому, что возможно сравнение двух портретов Карла Марии фон Вебера, выполненные Майером и Эккертом. Достоинство гравюры Майера в том, что ему лучше других удалось передать физиогномику лица композитора. Кому и зачем нужны подкрашенные картинки, столь отдаленно напоминающие великого композитора, неизвестно!..
Первый памятник Моцарту поставил в Граце в 1792 году владелец магазина нот и художественных изделий Франц Дейеркауф (Deyerkauf) в своем саду (он не сохранился). Друг Моцарта Бриди также посвятил ему в своем саду в Роверето памятник с надписью «Властитель душ силой мелодизма» (он тоже исчез, как и выполненный Клауэром памятник из обожженной глины, поставленный в 1799 году в парке Тифурт (Tiefurt) по указанию веймарской герцогини Анны Амалии.
Идею воздвигнуть в родном городе Моцарта Зальцбурге монументальный памятник подал в 1835 году Юлиус Шиллинг. В сентябре 1836 года было выпущено обращение, а 22 мая 1841 года была завершена отливка статуи. 4 сентября 1842 года на Михаэль-плац состоялось открытие 28, торжества по этому случаю продолжались несколько дней. К сожалению, создатель памятника Шванталер (Schwanthaler) не воздал должное ни личности, ни артистической сущности Моцарта. Мастер стоит спокойно, окутанный обычным плащом, голова смотрит немного в сторону и вверх; поза, очевидно, подсказана надписью «Tuba mirum» на листе в его руке. На цоколе рельефно изображены аллегории церковной, концертной и театральной музыки, а также поднимающийся к небу орел с лирой; надпись проста: Моцарт. По повелению короля Людвига I в Валгалле близ Регенсбурга был поставлен бюст Моцарта.
В 1856 году было решено соорудить в Вене на кладбище Санкт-Маркс надгробие Моцарту; выполненное Хансом Гассером, оно было торжественно открыто 5 декабря 1859 года, а в 1891 перенесено на центральное кладбище Вэринг (Wahring). На гранитном цоколе помещена бронзовая фигура скорбящей музы, справа — партитура Реквиема, слева — лавровый венок, опирающийся на сложенные произведения Моцарта. На цоколе укреплены рельефные изображения: портрет Моцарта, герб города Вены и короткая надпись.
3 июня 1876 года в Праге, в саду Бертрамки был открыт бюст Моцарта работы Томаша Сейдана (Seidan) 30. 8 апреля 1881 года Зальцбург получил колоссальный бронзовый бюст композитора работы Эдмунда Хеллера; он поставлен перед домиком Моцарта на Капуцинерберг. Вена получила еще три памятника Моцарту: бронзовый бюст работы Иоганна Бернгарда Фесслера (Fessler) в доме № 8 по Рауэнштайнгассе, мраморную статую на цоколе, окруженном амурчиками и гениями, работы Виктора Тилъгнера (памятник открыт на Альбрехтсплатц 24 апреля 1896 года) и воздвигнутый на Маркплатц 18 октября 1905 года фонтан в честь Моцарта работы скульптора Карла Воллека (Wolleck) и архитектора Отто Шенталя (Schothal). Он изображает Тамино с флейтой и Памину, готовящихся к испытанию водой и огнем. С 1907 года Дрезден также стал обладателем памятника-фонтана на Бюргервизе (Buergerwiese), созданного Германом Хозеусом (Hosaeus). Его центральная группа представляет колонну с надписью Моцарт, окруженную тремя аллегориями — прелести, безоблачного веселья и мечты.
Поток в меру достоверных и не в меру приукрашенных, значительно идеализированных портретов не только искажает внешний облик Моцарта, но и вовсе его извращает. Детальную оценку портретов Моцарта можно найти у А. Эйнштейна (1983).
* * *
Последуем совету австрийского драматурга позапрошлого века Ф. Грильпарцера, который утверждал, что нельзя понять великих, не изучив темных личностей с ними рядом.
Моцарт
Вольфганг Амадей Моцарт, легко и стремительно ворвавшийся на музыкальный небосвод ХVIII столетия, родился в австрийском городке Зальцбурге 27 января 1756 года. Это был воскресный день, и если верить народным приметам, все говорило о том, что ребенка ожидает судьба необычная, фантастически удачная. Его назвали Иоганнесом Хризостомусом Вольфгангом Теофилом Готлибом. Позднее имя Готлиб заменили на латинский аналог Амадей.
А в доме все стали называть младенца уменьшительным именем Вольферль. Он оказался седьмым и последним ребенком придворного композитора Леопольда Моцарта и его жены Анны Марии. История рода Моцартов прослеживается до конца XV столетия и приводит нас к зажиточному крестьянину Давиду Э. Моцарту, выходцу из деревни Пферзее под Аугсбургом. Среди предков Вольфганга каменщики, цеховые мастера, переплетчики и даже священник.
Разумеется, отец по наследству передал свой музыкальный талант сыну и во многом дочери, однако не стоит умалять здесь и вклада матери, поскольку она была тоже из музыкальной семьи. Справедливо указать и на то, что юмор, жизнерадостность и общительность Вольфганг унаследовал, скорее, от горячо любимой матушки, нежели от автократически патриархального Леопольда Моцарта. Анна Мария Моцарт важное лицо уважаемого музыкального рода Пертль в противоположность характеру своего мужа предстает душевной, доброй, неунывающей, искренней и участливой милой женщиной. Как говорит один из биографов В. Моцарта, Шенк, «ей было нелегко между самоуверенным, по-барски упрямым супругом-швабом, фрондирующим на имперский манер в отношении его службы у князя Иеронима фон Коллоредо, и гениальным, далеким от действительности, но не менее упрямым сыном».
Леопольд Моцарт, рано распознавший талант ребенка, всю свою энергию стал вкладывать в его развитие. А немногим позже буквально идентифицировал себя с ним. Заниматься музыкой Вольфганг начал в два с половиной года, а через пару лет отец взялся за его систематическое образование, сын оказался необычайно восприимчив к обучению. В 3 года Моцарт уже играл на клавесине различные мелодии, в 5 показал себя выдающимся исполнителем на этом инструменте, а в 6 принялся сочинять музыку. В 8 лет сочинил три симфонии. Из его первых композиций известны несколько пьес, собранных Леопольдом Моцартом в альбом, озаглавленный, как принято тогда было, по-французски: «Для клавесина. Эта книга принадлежит
Марии-Анне Моцарт, 1759». В 14 Вольфганг становится академиком самой авторитетной в Европе Болонской музыкальной академии.
Когда Леопольд Моцарт разглядел нечеловеческий талант сына, точно неизвестно, но, видимо, достаточно рано, причем следует отметить, что именно к этому времени у сына начала проявляться необычайная самоинициатива. Заниматься музыкой Моцарт начал в возрасте двух с половиной лет, через два года отец принялся за его систематическое образование, — благо сын оказался необычайно восприимчив к учению. В три года Моцарт уже играл на клавире мелодии, в пять он показал себя выдающимся клавиристом, а в шесть лет начал сочинять: Моцарт обладал тончайшим, абсолютным слухом, так что шум причинял ему страдание, эйдетической памятью и животворной спонтанностью. Этим воспользовался отец, а сам Моцарт превратился в объект престижа вице-капельмейстера Леопольда Моцарта. Жизнь сына стала жизненным планом отца, благодаря чему возникли симбиозные отношения, где на правах сильного отец, образно говоря, насиловал сына: «Очевидно, что Леопольд рассматривал Вольфганга как часть себя. Буквально как за собственными он наблюдал за мыслями, чувствами, интересами и творческими стремлениями сына и без зазрения совести требовал признания за это». (Эренвальд).
Подобный подход может показаться бесчеловечным (а это, пожалуй, именно так), но ничего необычного в этом все-таки нет. Трагичность ситуации заключается, скорее, в том, что отец-созидатель изначально видел в Вольфганге Амадее не сына, а ценный «материал», которому следовало придать форму: «Отравленной и угрожающей самой жизни была атмосфера, в которой он (Моцарт) жил. Тщеславный и жадный до денег отец как теленка о двух головах возил его напоказ по Европе. Но вскоре стало ясно, что это не потешная обезьянка, а состоявшийся музыкант» (Баумгартнер). Моцарт мог отражаться только в своем отце, и зеркало это было — мало сказать — кривое. Индивидуальное развитие, в котором вызревает здоровая доля нарциссизма и честолюбивого самопредставления, таким образом было остановлено. Такого сорта самодовольство и всепоглощающее честолюбие Леопольд Моцарт проявил с избытком. Этим он помешал и развитию в сыне здорового чувства самопредставления и личного честолюбия.
Впоследствии Моцарту пришлось отказаться от того (и сделал он это, скорее, бессознательно), что, отличало Брамса, Листа или Вагнера (у последнего в другой крайности), а именно — от умения сосредоточивать внимание на себе: «Моцарт никогда не проецировал себя на свое окружение» (Хильдесхаймер). Бернер справедливо говорил о насилии и давлении, определяя при этом отношения между отцом и сыном «чрезвычайно зашоренными». Исходя только из этого нельзя ставить вопрос о вине (скорее, об интенсивном наложении собственных импульсов), но и уходить от него не следует. Как подчеркнул Хильдесхаймер: «Не станем вменять Леопольду в вину больше, чем он того заслуживает. Ведь только ему Вольфганг был обязан хорошим воспитанием, отличным образованием и самыми яркими впечатлениями своего детства».
Кончилось все, тем, что Моцарт стал, в сущности, ярко выраженным флегматиком. Все, чем он обладал и что приобрел, в сущности, привело его к страшному одиночеству и нужде, ибо он даже не научился вести хозяйство, обязанность, о которой никогда не забывал отец. У него был «недостаток в смысле ведения домашнего хозяйства и экономии денег» (Гаги). Раньше все это на себя брал отец, лишь бы сын занимался одной только музыкой.
Хильдесхаймер считает, что к Моцарту особых требований не предъявлялось. Точно неизвестно, тем более что дети способны вынести многое, однако эти тяготы и лишения, и прежде всего психические перегрузки косвенно всегда выходят наружу. С одной стороны, нелегко было заниматься с отцом, реакция которого иной раз была крутой и непредсказуемой, с другой Моцарт, часто оторванный от матери, до 21 года без малого чистых девять лет провел в путешествиях (за всю оставшуюся жизнь — всего одиннадцать месяцев).
Кирш справедливо говорит о молодом человеке, муштрой, трудностями и изоляцией лишенном детства. Леопольд Моцарт, глубоко уверовавший, что в эту развращенную эпоху Господь Бог в знак своей особой милости послал ему двух вундеркиндов, считал, что путь к творческим достижениям лежит через неустанную работу и нравственное самосовершенствование. Единственно такой, обусловленный системой взгляд, подкрепляющий его непререкаемый отцовский авторитет и наделяющий его непоколебимым мессианским сознанием, мог бы уменьшить его вину; но, скорее, следовало бы говорить о прегрешении, понятие вины, пожалуй, здесь употреблять не стоит. Но впоследствии отцовские принципы обратились своей противоположностью.
Многие биографы подчеркивают, что Моцарт продолжал образование и самостоятельно, изучая при этом как старые, так и современные ему произведения. Не умаляя отцовских заслуг, нужно отметить, что он и «без систематических наставлений отца в любом случае вырос бы в музыкального гения» (Риттер), а не в вундеркинда Моцарта, этого прототипа абсолютно всех гениев. Многих современников уже поражало нечто необъяснимое в его не по возрасту зрелом мастерстве, которое могло бы непрерывно развиваться и принести материальные плоды, если б не архиепископ граф Иероним фон Коллоредо (1732–1812). В 1772 году, этот деспотичный, расчетливый, тщеславный, капризный, черствый и поднаторевший в интригах прелат, к ужасу жителей Зальцбурга, назначенный архиепископом, бесцеремонно вмешивался во все, что касалось музыки. Любая самостоятельная музыкальная новация тут же пресекалась им как бунтарское проявление против его автократического ореола: «К этому добавилась антипатия, которую граф Коллоредо, не скрывая (!), выказывал ему» (Баумгартнер). Как ни старался Леопольд Моцарт сохранять лояльность, но и он через некоторое время убедился в скупости и черствости своего правителя, особенно когда дело коснулось многообещающих поездок. Отсюда началось роковое непонимание между Леопольдом Моцартом и его подрастающим сыном, который, постоянно ощущая ограничения в своей работе — включая и многочисленные сочинения на заказ, — всегда мог отвлечься хотя бы в творческом плане. Иное дело отец, крайне озабоченный будущим сына, очень страдавший от условий, в которые он был поставлен. К этому добавилось непреодолимое расхождение в понимании целеполагания, ибо сын «недостаточно помышлял о будущей славе, как того хотелось бы отцу» (Зульцбергер). Напротив, он старался не заискивать в высших кругах. Моцарт, «плохой знаток людей» (Хильдесхаймер), за всю свою жизнь так и не научившийся разбираться в людях, начал ненавидеть своего правителя, которому продолжал служить — Леопольд Моцарт.
Эту ненависть, направленную прежде всего на надменные авторитеты, он бессознательно перенес и на отца, правда, не с такой интенсивностью. Следствием явилось возрастающее отчуждение между отцом и сыном. Хотя Моцарт задумывался над общественным устройством, каким он застал его со дня рождения, «но двигался он в нем как свободный человек и ожидал, что ему, как художнику, должны идти навстречу» (Шмид). Иероним не разглядел его гения, а запуганный отец был озабочен этой любовью своего сына к свободе.
Когда в 1777 году Моцарт бросил свое зальцбуржское место концертмейстера, так как этот деспот в который раз отказал ему в отпуске, отец этот шаг еще принял. Все казалось Леопольду поправимым, как до, так и после! И действительно, в 1779 году Моцарт вновь поступает на нелюбимую службу к архиепископу в качестве придворного и соборного органиста (временно исполняющий обязанности капельмейстер). Но наступили события, решительно повлиявшие на дальнейший путь Моцарта.
11 октября 1777 года чувственно-эротичный Моцарт познакомился в Аугсбурге с «кузиночкой», Марией Анной Теклой, дочерью его дяди Франца Алоиса Моцарта. В бойкой переписке он дал волю своим эротическим фантазиям в крепких, временами скабрезных выражениях: «Можно определенно сказать: что „непристойные» обороты и выражения, которые Моцарт употреблял как в письмах к кузиночке, так и к членам семьи и друзьям, относятся, как бы вновь и вновь ни пытались утверждать (от непонимания или по злому умыслу?), не к области порнографии, а к так называемому фекальному юмору» (Айбль/Зенн). Строгое воспитание отца (именно в нравственно-эротическом смысле), длительное подавление либидозных стремлений, ханжество его времени, двойственный сам по себе католицизм и не в последнюю очередь его литературная одаренность, в которой можно не сомневаться, толкали Моцарта прежде всего на внутреннее освобождение от такого подавления, а не на «похвальбу своей сексуальной силой». Моцарт, которому уже исполнилось двадцать лет, был достаточно интеллигентен, чтобы не понимать, чего он хотел тем самым добиться: наверстать инфантильные мысли, которые прежде ему приходилось постоянно подавлять, но на юмористическом, доходящем до пародийности уровне:
«Бурный стиль писем к кузиночке, аккумуляция образов и неуемная сосредоточенность на анальной сфере, пожалуй, представляют тип замещенного удовлетворения, переключение на плоскость вербального; при этом следует согласиться, что эти выражения не являются показателем хорошего сексуального воспитания» (Хильдесхаймер). Эта эротомания просто неотделима от Моцарта, всю свою жизнь он оставался эротоманом (конкретно по отношению к Констанце), наконец, имеются многочисленные разновидности сексуального поведения, и в случае с кузиночкой оно представляло собой хорошо испытанную уже прелюдию (Шпигель). Впрочем, его эротико-сексуальное поведение всегда находилось в полной гармонии с партнером, так что сексуальная девиация у самого Моцарта исключается, тем более что по отношению к Алоизии Вебер он вел бы себя иначе. Но Алоизия — его идеал женщины, который так и остался для него недостижимым.
В 1778 году в чужом и далеком Париже умерла мать Моцарта. Париж ознаменовал поворот в его жизни, хотя самим городом он был разочарован. Внезапная кончина матери явилась для него шоком, но удивительно, «что этот удар судьбы он перенес слишком легко. Несмотря на то что сам он свое положение желал представить как можно менее драматичным, в этом видится извечная гибкость молодости и известная бесчувственность влюбленного (в Алоизию)» (Блом). Все эти аргументы не тянут, а Хильдесхаймер также уходит от проблемы, ссылаясь на самообладание и тому подобное, а одна простая мысль, мысль о свободе, в данном случае может показаться парадоксальной.
Мать, которой было 58 лет, две недели боролась со смертью, и все это время Моцарт не отходил от нее. Поскольку консультирующий врач помощи предложить не мог, сын, конечно же, догадывался о ее скорой кончине. Такое ожидание ухода — мучение не только для самого умирающего, но и для близкого человека, находящегося рядом, жаждущего помочь и все делающего для этого, но — тщетно. Мать была еще жива, а смерть уже коснулась Моцарта и он в свою очередь соприкоснулся с ней. Моцарт — как, наверное, большинство на его месте — должно быть, вздохнул с облегчением, когда страданиям матери пришел конец. То, что происходило в душе Моцарта после ее смерти, можно назвать смесью протеста, внезапного озарения, ярости и освобождения (в положительном смысле). Реакции Моцарта, порой меланхоличного, порой необузданного, бывали парадоксальны. Однако говорить о депрессиях, кочующих из одной биографии в другую, будет неверно. Моцарт временами впадал в меланхолию, но тут следует помнить, что в XVIII столетии под меланхолией понимали, скорее, состояние печально-томительной отрешенности (яркий тому пример поэзия Дросте-Хюльсхоф), а не отчаяния и безнадежности. Если бы у Моцарта, нередко производившего впечатление одержимого манией, часто наблюдались депрессии, то вполне определенно можно было бы говорить о циклотимии (в прежние времена — маниакально-депрессивное помешательство). Но в данном случае для констатации такого заболевания нет ни оснований, ни соответствующих признаков, так же как и нельзя сказать о гипертимной личности. Признать же Моцарта депрессивным психопатом решился только Ланге-Айхбаум. Однако этот гений не вмещается ни в один из психиатрических схем!
Париж не только уготовил Моцарту смерть матери, но и пробудил в нем свободолюбивые мысли — не политические, скорее космополитические (отсюда и полное его равнодушие к французской революции): «Он вдруг почувствовал, что значит свобода; что было бы, если б не было отца» (Хильдесхаймер). Этот внутренний бунт, зревший в нем уже несколько лет, отчетливо оформился в Париже, тем более что, сам не ожидая того, он увидел себя по другую сторону от той свободы, с которой прежде, вечно сопровождаемый отцом, и знаком не был: «В Париже Моцарта впервые и посетило предчувствие, что в существующем обществе не все в порядке» (Хильдесхаймер). Это подозрение, конечно же, овладело критичным и вполне уже способным на собственное мнение гением после вступления в должность архиепископа Иеронима фон Коллоредо, ибо обстоятельства, связанные с его избранием, и уж тем более последствия этого избрания явно не могли пройти мимо Моцарта.
Моцарт был прям и действительно отличался «порядочным поведением» (Рех), а поэтому — был способен отличить хорошее от плохого, для него не было ничего отвратительнее авторитарного типа поведения. Ключевыми фигурами для него оставались отец и Коллоредо, причем представление, составленное им о последнем, затрагивало и фигуру отца. Жизнь Моцарта с самого начала была предопределена атмосферой зальцбургского архиепископства, вкушавшего последние десятилетия своей политической независимости», а вместе с ней и тревоги Леопольда Моцарта, ибо «каждый отец беспокоится о будущем своего сына, особенно когда речь идет о явном гении» (Карр). И эта самозабота имплицитно содержит авторитарные черты, тогда как Коллоредо, имея в виду абсолютистско-авторитарные манеры и образ действий, можно упрекнуть в абсолютной беззаботности (при всех реформах, им осуществленных). Моцарт так и не научился правильно разграничивать такой тип авторитетов, с тем чтобы по нужному адресу направлять свой протест против авторитарного поведения.
Когда Моцарт в 1779 году вновь вернулся на службу к Коллоредо, тот начал ему скрытно мстить. Однако с этой ненавистью в первую очередь столкнулся отец, поддерживавший связи с обществом, а не неутомимый музыкальный дух Моцарт, чью отрешенность во время сочинения «можно было наблюдать неоднократно» (Шенк). В нем все бурлило, а заботы отца росли: самое главное было «уберечь сына, о гениальности которого он знал, от иллюзий и заблуждений» (Кирш). В этих заботах пролетел порядочный отрезок жизни. Но окончательное отчуждение (скорее, пожалуй, внутреннее разобщение) между отцом и сыном не наступило даже в 1781 году, когда Моцарт решился разорвать кабалу (чему содействовала и успешная постановка в Мюнхене оперы «Идоменей») и отказался от службы у архиепископа. Все кончилось так, как и должно было кончиться: «Когда Моцарт в 1781 году подал Иерониму фон Коллоредо прошение об отставке, он был награжден оскорблениями, достойными разве что последнего извозчика, и выброшен за ворота, будто нищенствующий музыкант-попрошайка» (Баумгартнер). Если отец при этом лишился скудного содержания при зальцбуржском дворе и вынужден был залезть в долги, то это могло вызвать у него пока только досаду, разрыв еще не наступил. Леопольд Моцарт надеялся, что его непокорный сын найдет себе другое место. Однако освобождение от Коллоредо было первой ступенью на пути разобщения, ибо отец никак не поддержал Моцарта в его протесте. Что тут нашло на старика, почему он так и не вступился за сына и не принял в нем участия, как при стычке с Коллоредо четырехлетней давности? Его явно остановил страх перед неспособностью Моцарта добиваться симпатии и доверия к своим свободолюбивым мыслям, «Один пинок ноги превратил Моцарта в „свободного» венского художника» (Шлейнинг).
С одной стороны, Леопольд Моцарт сознавал стремление сына, определенно нацеленное на самостоятельность, отчего отцовские чувства, сопровождаемые опасливым недоверием, все более и более охлаждали и с другой стороны его охватил самый настоящий ужас, когда его негениальный гений в духе низкопробного водевиля, что соответствовало сутенерскому стилю ситуации, был сосватан с Констанцией Вебер (Риттер). Если Моцарт постоянно помышлял о примирении, то 63-летний старик был упрям и неприступен, предугадывая будущее своего сына. Должно быть, перед и после 4 августа 1782 года, дня женитьбы Моцарта и Констанции Вебер, поверхностной и «неравной спутницы жизни» (Гонолка), Леопольда Моцарта одолевали самые кошмарные сны, тем более что Моцарт не проявлял склонности стать «здравым, старательным, нацеленным на деньги бюргером, каким хотел бы видеть его отец» (Шенберг). Безоблачный гений был «отставлен» из Зальцбурга, будучи в свои 25 лет уже «автором 25 симфоний и почти 200 других произведений» (Стевенсон)? В письме графу Арко, гофмейстеру Иеронима, от 9 июня 1781 года среди прочего читаем: «.и ежели ты в самом деле так думаешь обо мне, то умей убедить спокойно или дай делу идти так, как оно идет, вместо того чтобы браниться хамом да негодяем и пинком в задницу спускать с лестницы». Архиепископ Иероним Коллоредо никогда не простит ему этого бунта. Еще сильнее, должно быть, был задет Леопольд Моцарт, когда за несколько дней (31 июля 1782 года) до свадьбы сын послал последнее (по поводу женитьбы) отчаянное письмо уже отцу:
«Mon tres cher Рeгe!
Вы видите, что воля хороша, но если уж нельзя, так нельзя! Я ничего не сумел нацарапать. Только следующей почтой я смогу выслать Вам всю симфонию. Я мог бы послать Вам последнюю вещь, но решил взять все вместе, поскольку сие стоит денег. Пересылка уже и так обошлась мне в 3 гульдена. Сегодня я получил Ваше письмо от 26-го, но такое равнодушное, такое холодное письмо, которого я никогда не смог бы предположить после пересылки Вам известия о хорошем приеме моей оперы. Я думаю, едва ли Вы удержались, чтобы в нетерпении не вскрыть пакет и хотя бы бегло не проглядеть сочинение своего сына, которое в Вене не просто-напросто понравилось, а наделало столько шума, что ничего иного не желают и слушать, а театр буквально кишит людьми. Вчера она шла 4-й раз и в пятницу будет дана снова. Только — у Вас не так много времени — весь мир утверждает, что я своим бахвальством, критиканством превратил в своих врагов Professori музыки, а также других людей!
Что за мир? — Вероятно, зальцбургский мир; ибо кто находится здесь, видит и слышит достаточно тому противоположного; — пусть это будет моим ответом. — Между тем Вы получили мое письмо, и я вовсе не сомневаюсь в том, что со следующим письмом получу Ваше соизволение на мою женитьбу. Вы не можете вовсе ничего возразить против оной, — и действительно, не сделали сего, это покажет Ваше письмо; ибо она честная, славная девушка, (дочь) хороших родителей, и я в состоянии заработать ей на хлеб насущный, мы любим друг друга и желаем друг друга; все, что Вы мне пока написали и, не сомневаюсь, могли б еще написать, не что иное, как открытый, благожелательный совет, как всегда прекрасный и добрый, однако не подходящий уже для мужчины, зашедшего со своей девушкой достаточно далеко. Следовательно, тут нечего откладывать. Лучше привести свои дела в порядок — и сделать порядочного парня! — Господь всегда воздаст за это; — я хочу, чтобы меня не в чем было упрекать. Будьте же здоровы, 1000 раз целую Ваши руки и остаюсь вечно Вашим внимательнейшим сыном В. А. Моцарт».
В этом письме уже вырисовывается тот обыватель и мятежный гений одновременно, которым он в действительности был и оставался до своей печальной кончины. Противоречие едва ли могло быть отчетливее и глубже: «Он — полнейшая противоположность формалистическому, рассудочному, манерному, внешне грациозному и элегантному ХVIII веку. однако он высосал из него лучшее, чтобы затем убить его» (Чичерин); насколько же все по-иному у отца!
Однако, прежде чем обратиться к гению и его личности, стоит рассмотреть «комедию его женитьбы» и характер Констанцы.
Если отрешиться от музыкальной гениальности Моцарта, то изобразить его личность будет делом несложным. Но поскольку эта гениальность является составной частью его личности, то одно от другого просто неотделимо. Медики и психологи, если речь в первую очередь заходила о его личности, не очень-то принимали к сведению творческие достижения, хотя бы ту же «Волшебную флейту», делая упор почти исключительно на физические и психодуховные качества этого человека. Но все дело в сущностях, которые слишком часто выявляются только при многоплановом рассмотрении как художника, так и его искусства. Позволительно будет сказать, что такое убедительное взаимосопоставление до сих пор проделал только Хильдесхаймер.
Болезни Моцарта, оставляя в стороне смертельную и сомнительные приступы ревматизма, самые распространенные, и их легко перечислить: ангина, оспа и некоторые более или менее незначительные инфекционные заболевания.
Ребенком Моцарт был бледен и предрасположен к одутловатости (Грайтер). Примерно за три месяца до смерти здоровье его было вполне нормальным, если не считать «депрессивных кризисов», которые, правда, не прогрессировали. И здесь еще раз нужно сказать несколько слов о том, что касается депрессии и меланхолии, тем более что меланхолию непременно надо учитывать как психодинамическую компоненту творческого становления, именно которая способствует творческому процессу или стимулирует его. Вполне лирически направленный композитор обладал абсолютным слухом, колоссальной памятью (эйдетик!), даром все схватывать на лету и ярко выраженным творческим самосознанием; он был «необычайно восприимчивым мальчиком» (Праузе) при незаурядном общем интеллекте, дифференцированном от так называемого поведенческого интеллекта, который был у него выражен менее ярко.
Это, собственные его задатки, были «инструменты, при помощи которых он достиг высших музыкальных вершин (для Ревеша это увертюры к «Дон-Жуану» и «Волшебной флейте», с которыми он «связан неразрывно»). Моцарту, который «органически не мог бездействовать (Шенк), ничто (кроме шума) не мешало при композиции, и он очень рано проявил невероятную творческую продуктивность: «Несмотря на все тяготы, непривычные условия, постоянную смену обстановки, вероятно, чрезвычайно возбужденный мелькающими, как в калейдоскопе, картинами жизни, плодотворно сочинял музыку» (Хильдесхаймер). Моцарт, как и Бетховен, при сочинении часто «отключался», однако если драматический художник Бетховен, казалось, погружался в чисто демоническое, то художник-лирик, как говорили, «нередко распространял сбивающее с толку, какое-то демоническое — не грандиозно-демоническое, а клоунадо-демоническое излучение» (Хильдесхаймер). Свою радость от музыки Моцарт мог выражать непосредственно своей мимикой и жестикуляцией, что значит, что он — прежде всего в юные годы — не подчинялся той самодисциплине, какую мы можем видеть сегодня у многих исполнителей его сочинений. «Сочинения могли рождаться в его голове, когда он был занят совсем посторонними вещами, например бильярдом, беседой или туалетом у парикмахера» (Баумгартнер). Импульс музыки управлял и его моторикой, что сегодня часто можно наблюдать у рок-певцов и музыкантов. Моцарт был не способен что-то утаивать в себе (какая противоположность отцу, со всей его дисциплиной), раскрываясь в своей музыке и физико-психически, а так как он был просто начинен шутками и остротами, то это неизбежно должно было вызвать то самое сбивающее с толку «клоунадо-демоническое», или — говоря иначе — задорно-остроумное излучение, которое именно потому так очаровывает молодежь, что исходит столь непосредственно. При этом, само собой разумеется, страдает его платье — так же как и покрытое потом лицо или помятый парик. С этой точки зрения Моцарт в Вене сначала был «в ударе», тем более что и музыка его была революционна. В Вене, за которой ревностно присматривал камер-композитор-патриот, а затем придворный капельмейстер Антонио Сальери (1788–1824), свободный художник Моцарт в первое время, должно быть, чувствовал себя совсем неплохо. Моцарт был полон надежд, чрезвычайной уверенности в своих силах, оптимизм был у него в крови, о чем говорят и его письма тех дней, но «от политических и революционных идей он был далек. Он мыслил в тех общественных рамках, внутри которых жил. Но двигался он в них как свободный человек» (Шмидт).
Моцарт, часто неосмотрительный и слишком беспечный (пожалуй, здесь уместнее было бы сказать благодушный), производил впечатление щедрого человека — какой контраст с Иеронимом, которого, впрочем, регулярно информировали о поведении его прежнего «подданного». Моцарту это, кажется, не мешало, ибо однажды он так выразился о Зальцбурге и его архиепископе: «Начхать мне на них обоих» (письмо).
Гений нередко обманывался и относительно своего ближайшего окружения, позволяя даже злоупотреблять своим доверием, так что его финансовое положение было постоянно стесненным. Доходы от заказов тут же уплывали назад к его друзьям и кредиторам Пухбергу и Хофдемелю (и не только им), ссужавшим его деньгами. Он всегда был порядочен и честен, хотя и попадал к ростовщикам, которые быстро загоняли его в безвыходное положение. Если б Моцарт смог приспособиться, остаться модным композитором, а не неудобным новатором, то жилось бы ему просто и безбедно. С 1788 года интерес к его сочинениям начал падать и сам он, как личность, не возбуждал уже прежнего любопытства: «Но падкой до сенсаций публике маленький, невзрачный художник давал слишком мало поводов для разговоров, слишком мало сумасбродства и чудачеств проявлял он теперь, чтобы его имя могло оставаться у нее на устах. Так современники забыли своего великого маэстро с такой бесстрастной безболезненностью, что в конце своих дней он, наверное, и сам не подозревал, насколько стал незнаменит». С одной стороны, Моцарт держался недипломатично и своих завистников не воспринимал всерьез, с другой — не умел пользоваться своим «острым языком». Ему недоставало мессианства Вагнера, патриотизма Верди или честолюбия Брамса, который, вступив в сознательное соперничество с Вагнером, безмерно увеличил свою популярность. К тому же добавились односторонние выпады Сальери, которые Моцарт опять-таки не сумел обратить себе на пользу. Если честолюбивое поведение упомянутых художников выступало на передний план, то у Моцарта оно было направлено исключительно на область музыкальных притязаний. Отсутствие у него честолюбия, направленного на практическое действие, могло напугать любого. Он даже не сумел использовать уверенную победу над виртуозом Муцио Клементи. В самом деле, у Моцарта не было суетности того же Брамса или грандиозного нарциссизма того же Вагнера, преследовавшего безусловное самоутверждение как творчества, так и самой личности. Подобно скромному и неловкому Брукнеру, Моцарт не умел даже подать товар лицом. Путь его к гениальности проходил иначе, чем у Вагнера. Байрейтеру успех пришлось завоевывать, зальцбуржец же, благодаря честолюбию отца, был просто обречен на успех (юного Моцарта практически нужно было только «подгонять» к нему).
Моцарт был флегматиком, работавшим хоть и быстро, но, как правило, под давлением бремени заказа или внутренней потребности. Этот гений должен казаться нам странным: он писал гениальные творения и в то же время мало интересовался политикой, он был беспомощен в практических делах, он был поверхностным христианином и избегал любого человеческого культа, которого, если б захотел, мог бы достичь. Моцарта постоянно тянуло в родной дом, об отсутствии которого он, так много путешествуя, должно быть, жалел с детства. Что такое играть какую-то роль или что такое тщеславие, он познал и так слишком рано. В этом смысле он уже перегорел, тем более что огонь к успеху он разжигал не сам. Честолюбию надо учиться, но этому процессу — вольно или невольно — помешал отец Леопольд, хотя Моцарт писал «свои сочинения с поразительной скоростью» (Стивенсон). Если оценивать психологическое воспитание, то ничего нет удивительного в том, что он топтался на месте и не смог заинтересовать собой мало-мальски значительного мецената: «Конечно, он никогда не утруждал себя постижением людей, столь далеко его потребность в контактах не шла» (Хильдесхаймер). Наконец, «началом его гибели» (Хильдесхаймер) в 1787 году стала опера «Фигаро», что опять же неудивительно, ибо император поощрял развитие национального зингшпиля, тем самым и по крайней мере, вначале и, надо сказать, успешно загрузил работой Сальери. 12 октября 1785 года опера Сальери «Grotto di Trotonio» достигла (в соревновании) блестящей победы над моцартовским «Фигаро», премьера которого состоялась 1 мая 1786 года. На этой борьбе гигантов стоит еще остановиться особо.
Моцарт, в течение девяти лет сменивший восемь квартир, за что был обвинен в непоседливости, а отсюда недалеко уже и до «психопатического поведения» (Ланге — Айхенбаум), жил тогда в бедности. Однако, как бы ни плачевно складывались обстоятельства, он умел находить успокоение в своей семье. Хотя Констанция музыкально и не только музыкально была образована слабо и не понимала его музыкального призвания, он принимал ее такой, какой она ему представлялась: незаинтересованной, но весьма одаренной в интимной драматургии. Таких сцен Моцарт, вечно сконцентрированный на своей музыке, насмотрелся предостаточно, особенно во время возросшего отчуждения. Здесь прорывается двойная натура гения: то обуреваемый внезапными внутренними впечатлениями, то безрассудный и легкомысленный и в то же время добросовестный, настроенный этически и идеалистически, выплескивающий все это «светящейся радугой» музыки: «Он пытался стать независимым. Некоторое время это ему удавалось. С 1781 по 1784 год он был прославленной звездой. Затем ему пришлось увидеть и пережить, как другие, более слабые композиторы обходят его» (Бернер). Тут он являет собой баловня судьбы, там ему открывается человеческое ничтожество, тут он проявляет свой высокий талант, там — не может справиться с простыми практическими вещами: в самом деле — какой негениальный гений! И еще одно слово о человеческом!
В апреле 1787 года отец, который по настоянию и стремлению сына тоже стал масоном (в той же ложе «Благотворительность»), был уже смертельно болен. В последнем письме Моцарта, адресованном отцу, вновь зазвучала та, направленная на компромисс жизненная установка гения, та примирительная позиция, цель которой не только устранить «все диссонансы» (Шенк) в амбивалентных отношениях между отцом и сыном, но и примириться с коварной и ненавистной тещей. Что касается социально-человеческого аспекта, то Моцарт предстает перед нами сердечным и великодушным (хотя это понятие сегодня несколько подустарело). Так что не стоило бы в такой степени говорить об амбивалентности, в которой так часто упрекают Моцарта.
Амбивалентность все же психологическое понятие, с которым обращаться следует осторожно; более того, помимо осознанного чувства собственного достоинства Моцарт обладал инстинктивным сознанием на так называемой нижней плоскости своей формы бытия, в котором он нуждался как в вентиле хоть для какого-то укрощения своего чудовищного первобытного (совсем не социального) потенциала.
Констанция не подозревала о его категорическом чувстве собственного достоинства и только регистрировала его — обузданные им и уже не болезненные — «примитивные реакции», какими они и казались — что само по себе уже трагично — его окружению: «И, видимо, уже тогда в привилегированных слоях знати и венского бюргерства начали сторониться страстного молодого художника, который с таким удовольствием и определенностью высказывал свои суждения» (Паумгартнер), это же и в «Фигаро» и «Дон-Жуане», сочинениях, где с аристократией он обошелся довольно бесцеремонно. В этом отношении было недопустимо, чтобы его синтонная черта характера обнаруживалась отчетливее или проявлялась вообще. Непонимание его личности, в сущности, и привело к трагическому концу. «Моцарт нес несчастье и страдание спокойно и невозмутимо. Смерть и бренность он ощущал как что-то естественное, присущее жизни» (Шмид).
Психограмма.
Черты характера и поведения: быстрая сообразительность, чувство творческой самодостаточности, погруженность в себя, веселость, остроумие, юмор, резвость, уверенность в себе, беспомощность в деловых отношениях, склонность к фарсу, верность в дружбе, идеализм, великодушие, чувство собственного достоинства, готовность помочь, нонконформизм, беспокойный, неосмотрительный, добродушный, беззаботный, эротичный, страстный, темпераментный, недипломатичный, флегматичный, малорелигиозный, космополитичный, одинокий, меланхоличный, добросовестный, участливый, расточительный, честный, добрый, легкомысленный, радостный, остроумный, язвительный, рефлекторный, нежный, грубый, свободолюбивый, щедрый, оптимистичный и т. д. Психодинамически доминированный: меланхолия, (внутреннее) одиночество и чувство собственного достоинства. Маленький, лептосомный до дисплативного. Тип характера: циклотимный. Тип поведения: интровертированный, чувственный до инстинктивного тип. Доминантные факторы темперамента: беззаботность, самоуверенность и толерантность. Интеллект: незаурядный.
К патогенезу семьи Моцартов: Леопольд Моцарт дожил почти до 70 лет и умер в 1787 году, вероятно, от коронарного тромбоза (Юн). Его жена, Анна Мария, скончалась в Париже в 1778 году от сердечной недостаточности (Грайтер/Ян). «Наннерль», Анна Мария, единственная сестра Моцарта, дожила до 80 лет (Юн). Ее единственный сын умер в 55 лет, музыкальных способностей не имел (Шуриг). Пять братьев и сестер Моцарта — и четверо его собственных детей — умерли в младенческом возрасте (Хуммель). Сын Моцарта, Карл Томас, государственный чиновник, умер в Милане в 74 года, его второй сын, Франц Ксавер, умер от желудочного заболевания в Карлсбаде в возрасте 53 лет (Хуммель).
Моцарт был здоровым гением, обладавшим многочисленными амбивалентными чертами характера (жизнь и музыка), причем, конечно, доминировали его толерантность и чувство собственного достоинства. Положительные качества преобладали, хотя деловым его назвать нельзя, да и жил он весьма беззаботно. Моцарт явился прототипом всех музыкальных гениев, но «понес изрядные жертвы в детские и юношеские годы» (Риттер) и тем не менее в последний год жизни «оставался еще чрезвычайно продуктивным» (Дуда). Моцарт держался слишком «негениально», чтобы его гений «в те годы был замечен» (Шмид). Кто видит в Моцарте борца против клерикалов и аристократии, понимает его неверно. Всю жизнь он был «индифферентным» католиком, имел именитых друзей в аристократических кругах Вены и перед смертью успел побывать на освящении нового храма «Вновь увенчанной надежды». Бесспорно, изменником он не был. Конечно, он опередил свое время и предугадывал общественные формы завтрашнего дня. Моцарт был разгневанным молодым человеком, обладавшим пока что малым жизненным опытом для преодоления тяжелых ударов судьбы. Как вундеркинд для мира он был уже ничто, а как зрелый художник еще не стал для мира чем-то. Личная его трагедия заключалась в том, что он умер в тот самый момент, когда на пороге его уже ждала мировая слава.
Моцарт и масонство
Уже в 1784 году Моцарт стал братом ложи «Благотворительность». Какие размышления привели католика к решению стать масоном? Вряд ли будет правильно мотивировать этот шаг «чувством глубокой изоляции как художника» (для этого тогда просто не было оснований), но вот «потребностью в безграничной дружбе» (Эйнштейн), которую он сумел-таки использовать и в финансовом отношении, — это, пожалуй, да. Не стоит, конечно, недооценивать и агрессивную позицию масонов в отношении к католическому мракобесию и оглуплению народа, что так ревностно тогда поощрял в Вене главный архиепископ Мигацци.
Тот факт, что Моцарт был франкмасоном, никогда не мешал ему быть весьма набожным и пылким католиком. Он не манкировал праздниками, посвященным дорогим его сердцу святым. Еще до женитьбы он ходил с Констанцей к обедне и причащался вместе с нею. Он добавляет в своем письме к отцу от 17 августа 1782 года: «Я понял, что никогда раньше не молился с таким пылом, не исповедовался и не причащался с таким благоговением, как рядом с нею». Христианская вера и масонский идеал отлично уживались в столь глубоко религиозной душе, способной видеть священное даже в других религиях. Во время пребывания в Париже Моцарт также посещал службу. Но даже если бы нам не были известны эти внешние признаки набожности Моцарта, достаточно было бы послушать его музыку, чтобы убедиться в том, сколь глубоко и искренне религиозной была его натура. До такой степени, что невозможно отличить религиозность в собственно церковной музыке — в мессах, мотетах, вечернях и тому подобное, — это с одной стороны, и в кантатах, масонских похоронных маршах или в «Волшебной флейте» — с другой. Именно в этом смысле Альфред Эйнштейн сказал, что у Моцарта католицизм и франкмасонство представляли собой две концентричные сферы. Опера «Волшебная флейта» — это не дань масонской веры, но в гораздо большей степени яркое выражение философии Моцарта, а главное то, как он понимал судьбу и обязанности человека. Более того, это роднит Моцарта с Гете, с его концепцией, сформулированной в поэме «Божественное».
Но вошел ли Моцарт впоследствии в конфликт с ложами, над обрядами которых он тут же начал посмеиваться, кажется более чем сомнительным, даже если привлечь сюда «Волшебную флейту», где он, как известно, прибегнул к символике и аллегории лож. Его слишком стремительный взлет на масонском поприще может ошеломить, но это следует отнести исключительно на счет протекции. Космополитически мыслящи, Моцарт и в самом деле прежде всего был масоном и только потом католиком, а с 1782 года началась плодотворная и не омраченная завистью дружба с Гайдном (тоже масоном), «которая длилась до самой смерти Моцарта» (Стевенсон).
Итак, Гений вступил в ложу «Благотворительность», основанную в 1783 году, вероятно, по настоянию своего друга Отто фон Геммингена в 1784 году. Эта ложа позже пристроилась под крышу «Вновь увенчанной надежды». Моцарт часто появлялся и в ложе «К истинному согласию», гроссмейстером которой был Игнац фон Борн. 7 января Моцарт был произведен в ней в подмастерья, четыре недели спустя ее членом стал и Иосиф Гайдн, которому юный гений посвятил шесть квартетов, навсегда оставшись связанным с ним дружескими узами. Масонство оказало глубокое влияние на мышление и чувствование Моцарта, а его «искусство» символизировалось верой, надеждой, любовью и тремя символами — крестом, сердцем и якорем. Символ в масонстве служил для того (учитывая прежде всего духовную работу ложи), чтобы способствовать большей наглядности, облегчить духовную работу и открыть для небольшого числа просвещенных людей новые миры, которые иначе остались бы для них навсегда закрытыми. Моцарт воспользовался этим средством и постепенно созревал как личность. Наконец его воодушевление зашло столь далеко, что он не только положил на музыку либретто Шиканедера, ставшего масоном 14 июля 1788 года, но и расширил и отредактировал это либретто. И нельзя выразиться более определенно: «Возникновение этого произведения, текста и музыки, тесно связано с масонством. В венской ложе „Вновь увенчанная надежда» Моцарт познакомился с Эмануэлем Шиканедером, либреттистом. К ним примкнул и Карл Людвиг Гизеке, внесший в либретто, видимо, и свои творческие импульсы» (Леннхоф/Познер). Как уже говорилось, Моцарт был воодушевлен масонством, а потому неудивительно, что масонское влияние распространилось и на его творчество. Он написал ряд сочинений, задуманных для непосредственного оформления ритуала, но он написал и «Волшебную флейту», «вышнюю песнь» масонства, направленную, по замыслу, на прославление масонской идеи гуманизма, человеческой любви, и в ней в образе Зарастро воздвиг памятник глубоко почитаемому им Борну, доклад которого в ложе о египетских мистериях стал толчком к созданию «Волшебной флейты».
Антон Кристоф Бартоломеус Мигацци, граф Вальский и Зоннентурмский, 1714 года рождения, с 1761 года — венский архиепископ, умер в 1803 году (в год смерти Зюсмайра). Он постоянно находился в непримиримой борьбе с масонами, а также с либерально настроенным императором Йозефом II. Его приводило в ярость не только то, что многие духовные лица вступили в ложи, но и любая попытка прославления масонства, апогеем которого стала моцартовская «Волшебная флейта». Леопольд Алоис Хофман (1759–1801), масон с 1783 по 1788 год, ставший затем доносчиком и предавшим ложи, имел тесную связь с Мигацци, а значит, и с Коллоредо и Сальери.
Роль графа Вальзегга цу Штуппах остается здесь неясной (масоном, видимо, он не был). Хофман, как Мигацци и Сальери, придерживался той точки зрения, что Вена — «верная сестра революционному Парижу, по причине чего и в Австрии возможно свержение государственного порядка и цареубийство» (Леннхоф / Познер). Имелась в виду прежде всего ложа «К истинному согласию», гроссмейстером которой был Борн и где часто бывал Моцарт.
Борн был самой значительной фигурой австрийского масонства ХVIII столетия, из-за чего в июле 1791 года, как можно подозревать, он был насильственно устранен с политической арены (aqua toffana?). Борну не нашлось преемника подобного ему масштаба, но Моцарт совместно с Шиканедером, несмотря ни на что, решился восславить масонство, сделать его открытым для общества, и прежде всего его символику: «Она усиливает впечатление и приковывает внимание. Растет чувство солидарности. Перебрасываются мосты между эпохами и людьми» (Леннхоф / Познер).
Поскольку содержание и значение «Волшебной флейты» были поняты весьма рано (Зюсмайром и Сальери тоже), то и оценена она, вероятно, была очень высоко, в меньшей степени Хофманом, чем Сальери, которому масонские ритмы наверняка были уже известны по музыке Иоганна Готтлиба Наумана (1782: «Сорок масонских песнопений»). От Зюсмайра Сальери знал, что увертюра к «Волшебной флейте» начинается тремя ударами до-мажорных аккордов: «В опере повторяются масонские ударные ритмы. и, наконец, во вступлении ко второму действию после испытания в лабиринте (испытание на мастера?) появляется ритм мастера» (Леннхоф / Познер). Хофман, уведомленный Сальери (через Зюсмайра), передает это Мигацци, Сальери и кардинал обмениваются впечатлениями об этой опере. И как наперед чувствовал Сальери, а Шиканедер и Моцарт знали точно, «Волшебную флейту» ждет большой успех. Поскольку об этом было известно придворному капельмейстеру, все это знали — и Хофман и Мигацци. Должны были последовать выводы, но кто же стал их инициатором? Ибо уже в преддверии работы над «Волшебной флейтой» интерес к опере был неимоверен. Наконец, речь шла о судьбе итальянской оперы (Сальери), угрозу которой он видел в немецкой (Моцарт). Борьба направлений, можно сказать, была уже предопределена. К этому вело личное соперничество ортодоксально верующего католика Сальери и на вид беззаботного масона Моцарта.
Сальери
Теперь о главном сопернике Вольфганга Амадея Антонио Сальери.
Антонио Сальери родился 19 августа 1750 года в Леньяго близ Вероны в семье состоятельного купца. Родители быстро разглядели музыкальный талант своего сына (не вундеркинд!), и Антонио получил тщательное образование и воспитание. Конечно, талантливому Антонио, как и его старшему брату Францу, тоже музыкально одаренному (но не настолько), пришлось слишком часто испытывать на себе строгость своего отца. С 11 лет под руководством брата, учившегося у Тартини, он прошел систематический курс пения и игры на скрипке и клавире. Антонио рано взбунтовался против чрезмерной суровости отца, но, несмотря на его авторитарные замашки, достиг значительного продвижения в области музыки, особенно после обучения у органиста Симони, ученика падре Мартини. Но неожиданно семью Сальери постигли два тяжких удара судьбы.
Сначала умерла любимая мать, а отец, вскоре тоже умерший, потерял все состояние в результате торговых махинаций. Антонио, в шестнадцать лет осиротевший, нашел состоятельного мецената в лице Джованни Мочениго, друга своего отца. Но вторым отцом ему стал немецкий камер-композитор Флориан Гассман, закончивший его образование — прежде всего в искусстве композиции — 15 июня отправивший его в Вену. В том же, 1770 году страстный, капризный и честолюбивый Сальери стал известен благодаря своей опере-буффа «Le donne letterate», удостоившейся даже похвалы Глюка. Все теперь говорило о стремительной карьере венецианца, он ориентировался на «восходящую звезду Глюка» и стал «его протеже в Париже» (Стевенсон).
Опера «Армида» (1771) обозначила решающий прорыв для любезного и остроумного композитора. Впоследствии он создал ряд опер-буффа, в 1774 году был назначен императорским и королевским камер-композитором и капельмейстером итальянской оперы, сравнительно поздно женился на Терезе фон Хельферсдорфер.
Австрийский император Иосиф II, будучи в Италии в 1778 году, пригласил к венскому двору 28-летнего маэстро Антонио Сальери, королевского камер — композитора и капельмейстера итальянской оперы. Император, убежденный католик и приверженец национальной идеи, убедил холеричного и легкого на подъем Сальери создать национальный зингшпиль. Опера «Трубочист», написанная по заказу императора, была поставлена с большим успехом, так же как и опера «Ифигения в Тавриде» (1785), которой он затмил самого Моцарта.
Сальери пребывал в фаворе у императора Иосифа II и у венской публики. Его оперы «Тарар» и «Аксур» стали кульминацией успеха итальянского маэстро. Но далее он уже ничего не мог противопоставить шедеврам Моцарта. Придворный капельмейстер вовремя заметил гений зальцбуржца и предпринял упреждающие удары. Будучи с 1788 года личным советником императора, он приобрел исключительное могущество на музыкальном поприще в Вене.
В июне 1790 года Моцарт начинает работать над «Волшебной флейтой». О создаваемом шедевре знает и Сальери: ему об этом рассказывает ученик Вольфганга Зюсмайр, который не без поддержки Сальери готовился к собственной карьере и на его пути фактически стоял только учитель Вольфганг Амадей. Положительные отклики Сальери о «Волшебной флейте», на премьере которой он присутствовал, оказались просто данью светскому воспитанию. На душе у итальянского маэстро было совсем иное: он еще раз убедился в том, что в лице Моцарта приобрел решительного соперника в полном смысле этого слова. Более того, Сальери понимал, что великий маэстро не только пребывает на новом витке творческого взлета, но и представляет серьезную угрозу итальянской опере, поскольку «Волшебная флейта» стала предтечей немецкой оперы. Моцарт однозначно встал на его пути. Изначальная ошибка Сальери состояла в том, что он персонифицировал Моцарта с немецкой оперой, хотя как профессионал он не мог не чувствовать, что гений композитора вне каких бы то ни было систем и классификаций, что музыкальную эволюцию, начатую им, остановить уже невозможно.
Музыкальное соревнование; в оранжерее Шенбрунна с Моцартом закончилось поражением для очень чувствительного и педантичного венецианца, который всегда искал убежище в религии (безверие было для него отвратительно, вызывало подлинный ужас). Только постановкой «Тарар» он мог реабилитировать себя, а полюбившейся императору оперой «Аксур», премьера которой состоялась в 1788 году, он достиг вершины своего успеха, но и последней, поскольку талант его начал давать сбои. Но так как «Дон-Жуан» Моцарта вначале был принят прохладно, его положение, оставалось пока непоколебленным. Диц в своем исследовании подчеркивает: «Он (Сальери) бдительно следил за тем, чтобы не отдать добровольно в чужие руки господство в музыкальных делах, пожалованное ему милостью императора, и не позволить затмить свой, с таким упорством завоеванный успех победами молодого зальцбуржца». В своей знаменитой трагедии «Моцарт и Сальери» Пушкин значительно изменяет облик антагониста Моцарта по сравнению с тем же Сальери, каким он мог представлять его по сохранившейся дневниковой записи. Сразу же необходимо сказать, что «факты», которые подвигли Пушкина на написание трагедии, не являются достоверными. Сальери не освистывал «Дон Жуана»[5] среди благоговейного молчания публики, «безмолвно упивавшейся» моцартовской гармонией. В 1787 году, когда премьера «Дон Жуана» состоялась в Праге и прошла с блистательным успехом, Сальери в Праге не было. Был он, возможно, на венской премьере год спустя, но она прошла неудачно, без всякого успеха.
Знай Пушкин истину в связи с постановкой моцартовской оперы, он, скорее всего, лишился бы побудительного мотива к написанию «Моцарта и Сальери». Исчез бы тот неопровержимый аргумент, который заставил его поверить в факт отравления Моцарта «завистником Сальери».
Вот что об этом представлении вспоминает либреттист Моцарта Лоренцо да Понте:
«Опера вышла на сцену и. должен ли я говорить? Дон Жуан не понравился! Все, кроме Моцарта, считали, что чего-то там не хватает. Попробовали сделать добавления, изменили арию, поставили снова; и Дон Жуан опять не понравился.
Что же об этом сказал император?
«Опера божественна; возможно, даже более прекрасна, чем «Свадьба Фигаро», но этот кусок не по зубам моим венцам». На что Моцарт ответил, нисколько не смущаясь: «Дадим им время, чтобы разжевали»[6]. Можно не сомневаться, что если бы демарш Сальери имел место, да Понте не преминул бы об этом упомянуть.
Сальери, получивший хорошее образование и по натуре нарциссичный, вовремя заметил гений Моцарта, но вместе с тем и свою все усугубляющуюся музыкальную стерильность. Впрочем, невысокого роста придворный капельмейстер, который самым плохим качеством считал неблагодарность, о своих коллегах всегда выражался осторожно, но двусмысленно: «я думаю», «по моему мнению» или «если позволено будет сказать». Именно такими словами он обрамлял обычно свои взгляды, становясь затем откровенней (без обиняков) и определенней. Причина этого крылась в том, что у него было много завистников и сам он, должно быть, был очень завистлив. При зависти, как известно, дело доходит до диффузного эмоционального состояния, в основе которого лежат агрессивные черты и даже сверхчеловеческие требования к собственной персоне. Но кому мог завидовать этот процветающий императорский и королевский придворный капельмейстер, сочинявший патриотические гимны и при удобном случае подчеркивающий свою лояльность императорскому дому? Разве только животворной спонтанности и прежде всего творческому успеху какого-то там Вольфганга Амадея Моцарта, этого масона, этого безбожника и антиаристократически настроенного выскочки. Сам же он в 1788 году, как преемник Бонно, вступил в должность придворного капельмейстера и «тем самым приобрел исключительное могущество, которое благодаря его роли личного советника императора только упрочилось» (Шенк).
Любимой темой разговоров Сальери была музыка, но, как правило, его собственная. Осмотрительный и вспыльчивый одновременно, придворный капельмейстер (в ярости он как-то разбил чембало) охотно пускался в дискуссии, и если был неправ, признавал это. Он мог быть весел и оживлен, однако его часто посещали и мысли о смерти. С одной стороны, жизнерадостному, с другой — меланхолически погруженному в себя, ему пришлось пережить успешные премьеры моцартовских «Тита» 6 сентября и «Волшебной флейты» 30 сентября 1791 года: «То, что Моцарт, этот воплощенный гений музыки, встал на пути у него и любого другого тогдашнего оперного композитора, — однозначно. Особенно это касалось Сальери, так как Моцарт выступил опасным соперником маэстро в городе Вене, где тот пользовался большой известностью, и открыто вступил с ним в борьбу. Легко понять, что перед лицом опасности быстро воспламеняющийся итальянец из инстинкта самосохранения предпринял, видимо, все возможное, чтобы не потерпеть поражения» (Диц).
С музыкальной стороны Сальери начиная с 1788 года ничего не мог противопоставить зальцбуржцу, а тут еще в 1791 году грянул никем не ожидаемый успех Моцарта. 41-летний Сальери, впоследствии все же отдавший должное музыке Моцарта, был уже творчески бесплоден. Может, он завидовал именно музыкальной потенции по-человечески ему скорее ненавистного, чем любимого Моцарта? Открыто он этого не показывал, но реагировал с завистью (в Вене это было известно каждому). Но есть и другие соображения, которые напрочь лишают основы саму гипотезу о зависти. Ведь кто такой Сальери у Пушкина? Композитор, лишенный победительного творческого дара, достигший «степени высокой» «усильным напряженным постоянством», композитор, по его собственному признанию, «с глухою славой». И кто такой Моцарт? «Безумец, гуляка праздный».
И то, и другое полностью лишено исторических оснований.
Если говорить о Моцарте, то само количество созданного им за тридцать лет творческой жизни (первые сочинения относятся к 1761 году, когда ему было всего пять лет; всего в моцартовском наследии около тысячи сочинений!) говорит о том, что это требовало от него неустанного труда за письменным столом: даже при самой невероятной одаренности столько музыки нужно было написать пером по бумаге. А если к этому добавить его исполнительскую деятельность как инструменталиста и дирижера, также начавшуюся очень рано, необходимость участвовать в постановках опер, уроки, которыми он зарабатывал на жизнь, то возникает образ, никак не ассоциирующийся с бездельником, сумасбродом и прочее.
Слава же Сальери не только не была «глухой», но вполне сопоставимой со славой Моцарта, а в чем-то и превосходила ее. Уже не говоря об официальном положении (придворный композитор, капельмейстер итальянской оперы, директор придворной капеллы и т. п.), которого Моцарт, в отличие от Сальери, безуспешно добивался на протяжении почти всей жизни.
Оперы Сальери шли с огромным успехом по всей Европе. Начиная с 1770 года, почти ежегодно в Вене проходят от одной до трех оперных премьер Сальери. В 1778 году в Венеции состоялась премьера его оперы «Школа ревнивых», которая впоследствии обошла «множество европейских сцен, включая театры Санкт-Петербурга»[7]. Даже в самые плодотворные для Моцарта годы число поставленных на подмостках его опер и опер Сальери несопоставимо. В Вене это, конечно, обусловлено высоким положением Сальери в театральной иерархии. Но и за пределами Австрии Моцарта играют преимущественно немецкие театры (Лейпциг, Дрезден, Берлин, Мангейм), хотя с момента написания «Свадьбы Фигаро» (1786) эта опера с триумфом ставится в Праге, Лондоне, Санкт-Петербурге. Правда, постановки опер Сальери уже с 1778 года осуществляются почти повсеместно — в Париже, Неаполе, Мадриде, Лондоне, Санкт-Петербурге и даже Триесте.
Таким образом, не только не было демонстрации зависти, но не было и не могло быть повода для зависти. Разумеется, это не значит, что полностью отсутствовали какие-то интриги, какое-то потаенное соперничество, возможно, далекие от требований строгой морали поступки: театральные нравы никогда не были особенно беззубыми. Вспомним, хотя бы, резонансные случаи в Большом театре в наши дни (с кислотой в лицо худруку, толченое стекло в пуантах и т. д.)
Вспомним кошмарный случай с либреттистом Да Понта, когда ему стакан с сельтерской подменили на стакан с «гремучей смесью» и он едва не лишился своих зубов. От закулисных хитросплетений труппы на театральных подмостках можно было ожидать всего.
Этой гипотезе не противоречит и тот факт, что как раз в последние годы между Моцартом и Сальери установились довольно добрые, если и не дружеские отношения (Конечно же, это была дань воспитанию последнего). Так, известно, что Моцарт брал с собой Сальери на одно из представлений «Волшебной флейты» и был доволен его одобрительным отзывом: «В 6 часов я заехал в экипаже за Сальери и Кавальери и отвез их в ложу <…> Ты не поверишь <…> как понравилась им не только моя музыка, но и либретто и все вместе. Они оба сказали, что эта опера <…> достойна быть представленной в присутствии величайшего из монархов <…> и что они охотно слушали бы ее еще и еще, ибо никогда не видали более прекрасного и приятного зрелища. Он (видимо, Сальери. — прим. авт.) смотрел и слушал с полным вниманием — от симфонии и до последнего хора. Не было номера, который бы не вызвал у него восклицаний bravo или bello»[8].
Моцарта не стало, а Сальери долго еще оставался императорским и королевским придворным капельмейстером, и его, особенно в Париже, даже еще посещал успех, правда, со старыми сочинениями. В возрасте 70 лет его здоровье пошатнулось, что «предположительно связано с обусловленным артериосклерозом и старческим слабоумием» (Д. Кернер). В октябре 1824 года проявлялись симптомы паралича, и его мысли стали путанней, но конкретных указаний на отчетливое слабоумие или душевное заболевание не было.
Когда осенью 1791 года Моцарт слег, его соперника Антонио Сальери открыто обвиняли в том, что он отравил Моцарта, тем более что они, несмотря на взаимные уверения в дружбе, были тайными соперниками, причем враждебность однозначно исходила от Сальери. Леопольд Моцарт еще 18 марта 1786 года писал дочери Наннерль: «Сальери со своими приспешниками опять готов перевернуть небо и ад, лишь бы провалить постановку» («Свадьбы Фигаро»).
В своей биографии Шуберта (1856) д-р Крайсле фон Хельборн заметил: «По отношению к Моцарту, превосходство которого он инстинктивно чувствовал, Сальери был достаточно хитер и осмотрителен, чтобы не выставлять напоказ свое выдвижение». Исследователь А. Даме в биографии Шуберта, свидетельствовал:
«Сальери обладал непомерным творческим тщеславием, не желая терпеть рядом с собой никого. Ансельм Хюттенбреннер, ученик Сальери, рассказывал, что тот, заметив, на его взгляд, слабую сторону Моцарта, тут же тыкал своих учеников в нее носом». Это особенно касалось его ученика Зюсмайра, одновременно обучавшегося у Моцарта. Об отравлении Моцарта говорилось затем и в биографиях Аберта (1923) и Яна (1859), а также в одном из писем Констанции Моцарт и оперном путеводителе Reclam (1889).
Даже если совершенно отставить в сторону возможность отравления Моцарта, то «козни» Сальери заслуживают внимания хотя бы по той причине, на которую указывал Паумгартнер: «Имя Антонио Сальери тесно связано в истории музыки с именем Вольфганга Амадея Моцарта. Именно на него взваливается большая часть вины за финансовые неудачи Моцарта. С полным правом можно сказать, что он понимал значимость конкурента и боялся его, и потому плел интриги». И теперь уж совсем непонятно, почему этому единственному в своем роде и явно одностороннему соперничеству в новом моцартоведении почти не находится места.
7 мая 1825 года Антонио Сальери умер. На траурном богослужении был исполнен «Реквием» его собственного сочинения, до того хранившийся в тайне. Затем при весьма таинственных обстоятельствах исчезла его автобиография, находившаяся в его наследстве и опубликованная лишь в 1865 году его внуком Эдуардом Румплером. Не исключено, что перед публикацией она прошла хорошую «цензуру».
Сальери был скорее малого, нежели среднего роста, сухощав. Тип характера: шизотимический. Черты его характера и поведения укладывались в такой ряд: религиозный, патриотичный, склонный к интригам, холерический, живой, очень раздражительный, любезный, остроумный, верный, воображение богатое, вспыльчивый, горячий, владеющий собой, осмотрительный, располагающий к себе, педантичный, благодарный, скромный, обидчивый, завистливый, бдительный, сентиментальный, страстный, честолюбивый, эгоистичный, дипломатичный, властный, решительный, обстоятельный, предусмотрительный, целеустремленный, упрямый, гордый, консервативный и тому подобное.
Сальери был психодинамически определяющей личностью; в нем преобладали такие качества, как меланхолия, зависть и нарциссизм. Тип поведения — интровертированный. Преобладающие факторы темперамента: бдительность, депрессивность и самодостаточность. Интеллектскорее незаурядный.
Сальери был здоровым музыкальным талантом со способностью к самовыражению и дипломатическим даром, однако легко уязвимым вследствие своего нарциссизма. Из-за строгого воспитания он не смог развить в себе здорового чувства собственного достоинства; наконец, у него отсутствовала адекватная «Я — концепция». Сальери, как ему казалось, развивал впоследствии великие идеи и предохранительные тенденции. Музыка и религия стали для него компенсатором идеала его недостигнутой самоидентичности. Поэтому он крайне чувствительно реагировал на все, что затрагивало сферу его интересов.
Суть интриганства Сальери в 1951 году определил Коморжиньски:
«Основанный императором Иосифом немецкий национальный зингшпиль, для которого Моцарт в 1782 году создал „Похищение», пал жертвой интриг итальянской группировки во главе с придворным капельмейстером Сальери».
Английский исследователь А В. Новелло, опросивший близких Моцарта, записал: «Большой успех Моцарта, должно быть, возбудил его (Сальери) зависть и ненависть и явился началом его вражды и злонамеренности по отношению к Моцарту».
Игнац фон Борн
В номере отеля я достал письмо-завещание от барона Эдуарда фон Фальц-Фейна и внимательно прочитал его:
BARON EDWARD VON FALZ-FEIN VILLA “ASKANIA-NOWA” SCHLOSS-STRASSE 02.08.199. VADUZ PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN (VIA SWITZERLAND) PHONE 2 83 83, 22832
Уважаемые друзья!
Говорят, что я и мои единомышленники выкупили для России 50 или больше принадлежавших ей когда-то живописных полотен, мы передали на Родину разные предметы искусства, рукописи… Меня и моих сподвижников не останавливало в своей
благотворительно-патриотической деятельности делать добрые дела, которые далеко не всегда оценивались по достоинству. Действительно, были обиды — абсолютно незаслуженные. Но я ведь не для каких-то руководящих личностей делал все это. Я же старался что-то доброе делать для государства, для России, для моих соотечественников. Потому что в России, у меня много друзей, знакомых. Тем более дорога была искренность в общении и доверие. Я, например, очень благодарен Сергею Михалкову, который приложил немало усилий для сохранения на кладбище в Петербурге могил и надгробий нашего рода Епанчиных. Тогда это сделать было непросто.
Например, Георг Штайн собрал еще и уникальнейший архив, касающийся перемещения художественных ценностей во время войны. Кто и что у кого взял. Этот архив бесценен. Георг потратил на него все свои сбережения. И когда он умер, дети решили продать архив иллюстрированным изданиям Германии, — за него давали большие деньги. Но я выкупил его и передал в Россию, где он и хранится сейчас. Вообще, коллекционирование связано с различными драматическими ситуациями. Я постарался сделать все, чтобы бесценный архив Штайна оказался у вас на нашей с вами Родине.
Хочется поблагодарить вас за постоянный интерес к той работе, которую провожу я, мой коллега из ФРГ доктор Гунтер Дуда и мои молодые друзья из России.
Выявление и сохранение русских культурных ценностей, содействие их возвращению на Родину — в этом я вижу цель и смысл жизни.
Накануне Нового года, в дни Рождества, в моей резиденции гостили доктор Гунтер Дуда, Сильвия Кернер (жена исследователя Дитера Кернера) и подвижники-изыскатели творчества великого Моцарта из Москвы. Проект «Русский Моцартеум» — придуман замечательными людьми из России, моими друзьями.
Хочу добавить, что в ближайшие недели и месяцы мне предстоят переговоры с целым рядом людей и организаций, которые, в случае их успешного завершения, позволят мне передать в дар Родине — как всегда безвозмездно — новые шедевры русской культуры. И не только. У меня есть кое-какие сюрпризы, связанные с А. С. Пушкиным и его произведениями.
Поздравляя со всеми праздниками — православными и государственными — всех российских читателей, телезрителей и радиослушателей, интересующихся нашей работой, хочу пожелать всем вам здоровья, успехов, счастья и мира.
Искренне Ваш барон Эдуард фон Фальц-Фейн, Лихтенштейн, Вадуц, родовое поместье «Аскания Нова».
* * *
Я достал памятный сверток с письмами от барона Фальц-Фейна.
Солнце за окном номера стояло высоко, на бледно-голубом небе не было ни облачка. Я не знал, конечно, о чем говорится в письмах, но у меня не было ни малейших сомнений в том, что они приведут меня к Игнацу Эдлеру фон Борну. Он — последнее связующее звено, ключ к решению головоломки.
Я доподлинно не знал, кто такие иллюминаты. Может быть, они, как и их современные двойники, которые ведут себя словно прыщавые подростки, мастурбирующие в укромных местечках, просто корыстные ублюдки с манией величия, запутавшиеся в паутине собственных интриг и махинаций. Но вдруг, как говорит Фрейкседо, они, сами того не зная, продали душу неким зловещим силам, которые питаются их кровью, а взамен наделяют их властью, позволяющей эксплуатировать человеческую жизнь и разворовывать ресурсы планеты. Может, письма расскажут мне правду? Или я так и не узнаю, чему верить? После встречи с бароном Фальц-Фейном я понял: не важно, во что ты веришь. Всякая вера есть лишь попытка объяснить жизнь. А объяснить ее — все равно, что объяснить, почему, слушая Моцарта, смеешься и плачешь одновременно.
Вера Моцарта вошла в мою жизнь в день знакомства с бароном Фальц-Фейном, все его существо, его присутствие, та божественная сила, которой он обладал. Эта же сила, но в иных формах, есть в каждом из нас.
Распаковав эту своеобразную бандероль — послание, которому 200 лет, я с трудом прочитал на титульном листе вензелястый древненемецкий текст:
Не публиковавшиеся дневниковые записи театрального доктора Николаса Франца Клоссета, Вена.
(Фрау В. Лурье, Вильмерсдорф, Берлин Германия, 1984 год.)
«За сим Николаус Франц Клоссет — театральный (домашний) врач В. А. Моцарта. Имею честь представить мои мысли в форме рукописного дневника»:
Вена, июль 1791 года.
Д-р Клоссет.
Итак, прошел год, как я стал домашним доктором у семьи Моцарта. Этот месяц дал старт самому грустному: ухудшению здоровья Моцарта под аккомпанемент всплывшей в слухах и сплетнях темы отравления маэстро, а затем и неожиданная смерть брата по ложе, единомышленника Игнациуса фон Борна. Но по порядку.
Еще с прошлого года Моцарт и Борн трудились над текстом будущей оперы «Волшебная флейта». И когда сценарий был закончен и поставлена логическая точка, произошла трагедия.
Для Моцарта это был невосполнимый удар. Он был у гроба своего друга фон Борна, отдав полагающиеся почести. Но сам не находил себе места, страстно переживал происшедшее и так же переживал, как потерю четыре года назад друга и лечащего врача д-ра Зигмунда Баризани. Итак, по порядку.
С Моцартом произошло несчастие — он отравился, да так крепко, что ко мне прибежала его служанка Леонора (или Лорль, как маэстро величал ее) и срочно позвала меня к Моцартам. На Рауэнштайнгассе № 8. Я жил недалеко и скоро был у постели композитора.
Он впал в беспамятство; лицо было бледное, изможденное. Когда он пришел в себя и увидел у постели меня, то с трудом проговорил:
— Я был на ужине у Сальери. И дома почувствовал себя скверно.
Неужели меня отравили плохой пищей, доктор?
Я, конечно же, смутился и попытался успокоить маэстро:
— Чепуха! Это невозможно. Просто совпадение; все болезни от нервов. А вы, по всей видимости, расстроены.
— Но у меня невыносимые боли в желудке, тошнит от любого куска, даже от питья — чуть что, открывается рвота, — признался он со слезами на глазах и высказал свои подозрения: — Доктор Клоссет, кто-то, должно быть, покушается и на мою жизнь, намереваясь отправить меня на тот свет раньше отмеренного срока?
— Все болезни поселяются, прежде всего, в голове, а потом уже в желудке, — дипломатично ответил я и поинтересовался: — Какие у вас симптомы?
— После еды у меня во рту остается металлический привкус. Потом это чувство нездоровья, которое охватило целиком организм. И эта проклятая депрессия.
— Друг мой, это нервы, — отозвался я и, немного поразмыслив, добавил: — Выпишу-ка я вам рецепты на лекарства. Передадите фрау Констанции, она распорядится заказать в аптеке.
С этого времени маэстро часто посещало предчувствие смерти, но кто этот отравитель, он совершенно не подозревал.
Не только заказ Реквиема, с которым «серый посланец» упорно торопил композитора, ошеломил Моцарта и дал повод для раздумий, его напугал и устрашающий вид самого Антона Лайтгеба (управляющий графа Вальзегга цу Штуппах).
Было ли это все случайно? И почему Моцарт мог даже вычислить день своей смерти? Он подумал о масонской символике, и, тем не менее, ему и в голову не могла прийти мысль о братьях-масонах по ложе, им не было никакого смысла устранять его, ведь, в конце концов, они его поддерживали!
Мне становилось все яснее, что Моцарту — в соответствии с символикой «Волшебной флейты» и легализацией на сцене масонских ритуалов — кто-то хотел отомстить. И, «круг заинтересованных лиц» уже сформировался, а значит, была выдана своеобразная «черная метка» в виде визитов настойчивого человека в серых одеждах.
Вена, 21 июля 1791 года.
Д-р Клоссет.
Меня, опытного врача с богатой практикой, трудно обмануть в том, что касается медицины. Наслушавшись от Моцарта, что после обеда у Сальери, он чувствовал себя плохо, а ему могли дать яду, я уже был настроен на эту зловещую волну средневековой аптеки. Случай скоро представился. 21 июля 1791 года во время дружеского обеда Игнац фон Борн упал, будто сраженный пулей на пол и громко закричал от непереносимой боли в желудке и кишечнике, стал корчиться в жестоких конвульсиях. Случилось это в гостях у Моцарта.
Герр Борна отвезли домой.
Меня точно молнией поразила мысль: бесспорно, тут сработала средневековая аптека! «Загадочных обстоятельств» было в достатке. Симптоматика ясно указывала на «aqua toffana» (мышьяк — лат.)
Для Моцарта это был невосполнимый удар. В лице Игнаца фон Борна Моцарт потерял ценнейшего друга, доверенного единомышленника, а заменить его на равноценного из своего окружения было некем. Моцарт чувствовал его, как неразлучного брата-близнеца с детства. Он был виднейшим ученым минерологом, литератором, философом, заглавной масонской фигурой в Вене и на континенте. А самое главное — они работали вместе над либретто масонской оперы «Волшебная флейта». 3 июля либретто было написано, а 21 июля, то есть через 18 дней Игнац фон Борн получил ударную дозу мышьяка, а через 3 дня скончался.
Констанция прислала служанку Лорль, чтобы та привела меня к Борну.
Я внимательно осмотрел герра Игнаца: налицо было страшное переутомление; нервная система крайне истощена. Очень подавленное состояние; пульс слабый и нерегулярный, частота его колебалась от 70 до 80 ударов в минуту. Температура тела — 35 градусов по Цельсию. Больной обильно потел, испытывал жажду и еле слышно говорил, что у него нет никакого аппетита, а от пищи его воротит.
На другой день я пригласил коллегу и главного врача городской больницы Маттиаса фон Саллабу, он тщательно осмотрел фон Борна и довольно громко сказал, что не разделяет моих опасений и предсказывает улучшение состояния. Как я понял, доктор Саллаба не считал, что герр ученый страдает серьезным заболеванием; его недомогание — скорее всего психического происхождения. Я хотел бы думать так же.
Вена, 22 июля 1791 года.
Д-р Клоссет.
Лихорадка продолжалась всю ночь, жар перемежался с ознобом, особенно в нижних конечностях. Больной испытывал болезненное потягивание внизу живота, сильную жажду, тягостные приступы удушья, крайнее беспокойство. Он повсюду ощущал боль. Сон был наполнен кошмарами, ужасающими картинами. Тошнота. Рвота слизью. Обильный липкий пот.
Ночью произошла анальная эвакуация зловонной желчной массы и рвота слизью, смешанной с остатками пищи. Приступы рвоты становились опасными; я пытался их остановить и предложил безвредную антирвотную микстуру, содержащую опий.
Я подал ему настойку, он внезапно поднес ее ко рту и выпил залпом. К несчастью, она мало помогла, и рвота продолжалась.
Утро. Больного почти не лихорадило, он был спокоен, пульс слабый, угнетенный — от 84 до 94 ударов в минуту. Оттягивающие пластыри, поставленные на ягодицы, не дали эффекта; тот, что поставили на область желудка, не вызывал болевых ощущений, больной его не чувствует. Полдень. Он испытывал жжение в гортани. Три часа дня: лихорадка усилилась.
Сегодня у Игнаца фон Борна одна из самых тяжелых ночей. Он испытывал боли и невыносимое жжение в брюшной полости. Его ледяное тело покрылось липким потом. Его постоянно мучила тошнота, рвота продолжалась до половины пятого утра. Он был печален, подавлен, говорил с трудом. Фон Борн объяснил свое состояние приемом тонизирующей микстуры, которую выпил накануне.
Игнац фон Борн подолгу лежал с закрытыми глазами, с вытянутыми вдоль постели руками; я коснулся руки — она холодна как лед. Я оставался один у постели Борна, сдерживая эмоции, но слезы текли сами.
Пришел доктор Маттиас фон Саллаба. Я описал симптомы болезни; коллега пожелал самостоятельно ознакомиться с состоянием пациента. И предложил дать слабительное — хлористую ртуть или каломель. Я протестовал: больной обессилен, слабительное может привести к его гибели. Но вмешался барон Готфрид Ван Свитен; пришлось идти на попятную.
Справка. Каломель — это в своем роде палочка-выручалочка медиков того времени, как в наше — антибиотики. Особенность каломели в том, что она не причиняет вреда лишь в том случае, если быстро выводится из организма через кишечник. Если же препарат задерживается в желудке, то начинает действовать, как сильнейший ртутный яд — сулема. Кроме того, в те времена доктора прописывали каломель часто, как укрепляющее, в таких случаях, когда все иные средства исчерпаны. Хлористая ртуть или каломель, будучи сама по себе безвредной, становится смертельно опасной в сочетании с горьким миндалем оршада, который Борну давали в качестве питья и, скорее всего — ежедневно. Напиток оршад готовился вначале на ячменном отваре, а позднее, начиная с XVIII века, его стали производить на базе экстракта из сладкого миндаля. Кстати, для придания приятного вкуса часто добавляли горький миндаль и освежали его цветами апельсинового дерева (флердоранж). В своей основе миндаль содержит цианистую (синильную) кислоту, которая катализирует хлористые соединения ртути, обычно инертные в каломели. То есть палочка-выручалочка становилось смертельно опасным средством. Ядом.
Разумеется, я был шокирован таким поворотом. Больной может потерять сознание и еще хуже: ослепнет и оглохнет, а мышцы его парализуются. Нервная система еще будет функционировать, но в силу вступит разъедающее действие хлористой ртути на слизистую пациента. Правда, желудок больного может вытолкнуть в виде рвоты токсическое содержимое каломели. Но защитная реакция желудка подавлена введенным ранее в организм Моцарта рвотным. Дилемма налицо: если желудок тотчас же не выбросит ядовитую смесь, смерть пациента неизбежно наступит через день-два. Разумеется, это только мои соображения, которые к делу не пришьешь…
После проведенного между нами врачами консилиума, на меня вновь оказали давление и потребовали в жесткой форме: дать каломель Борну.
Вена, 23 июля 1791 года.
Д-р Клоссет.
Возобновление лихорадки и озноба, головная боль, вздутие живота.
Больной испытывает сильное давление под ложечкой, удушье. Резкое обострение лихорадки, ощущение ледяного холода в нижних конечностях, вздутие живота, зевота, боли в брюшной полости, угнетение желудка, продолжительные запоры.
Ощущение сильного озноба — один из симптомов мышьячного, отравления. Отравители обычно используют рвотный камень для подготовки летального исхода: его прием приканчивает и без того уже ослабленную жертву, одновременно уничтожая все следы мышьяка в организме. Помнится, Маркиза Бренвийе так и прикончила отца, заставив его выпить стакан рвотного вина. прописанного врачом.
Для отравителя заставить врача прописать рвотное представляет двойную выгоду. Во-первых, рвотное, в отличие от мышьяка, имеет ярко выраженный вкус, больной поэтому знает, что ему дают что-то непривычное. Во-вторых, лекарство, прописанное лечащим врачом, наилучшим образом отводит от убийцы могущие возникнуть подозрения.
В эпоху Борна и Моцарта, как и при жизни маркизы Бренвийе, рвотное было широко распространенным лечебным средством. Вызывая рвоту, врач надеялся вывести из организма больного вредные токсины. Убийца может рассчитывать, что больному с такими признаками заболевания, как у Игнаца фон Борна, рано или поздно будет прописано рвотное его собственным врачом. Я действительно рекомендовал классическое средство своего времени.
Справка. Рвотный камень — соль сурьмы, — попадая в ослабленный организм, разъедает слизистую оболочку желудка (что, разумеется, на руку убийце). Возникающая коррозия тормозит в конечном счете естественный рвотный рефлекс — естественную самозащиту желудка, который таким образом теряет возможность выбрасывать токсины. Эта подготовительная фаза, необходима, чтобы доконать жертву.
Вена, 24 июля 1791 года.
Д-р Клоссет.
00.50 вечера.
Я не спускал глаз с часов, считая интервалы между вздохами: 15 секунд, потом 30, потом проходила минута, мы все еще ждали, но все уже кончено.
Глаза его внезапно открылись, а я, стоящий у изголовья и следящий за последними ударами пульса по шейной артерии, тотчас же их закрываю.
Веки остались неподвижными, глаза двигались, закатываясь под верхнее веко, пульс исчез. Без одиннадцати минут двенадцать ночи Борн перестал жить.
Моцарт негромко сказал, что в тот момент, когда наступила середина ночи Игнациус фон Борн вернул Богу «самую мощную в Австрии душу ученого и человека, когда-либо вдохнувшую жизнь в глину, из которой был вылеплен этот великий гражданин».
Все, кто был в комнате, становятся вокруг ложа умершего. Неожиданно появился известный граф Дейм-Мюллер, и без лишних слов, быстро и со знанием дела снял посмертную маску с Борна и выстриг локон его волос. Появился барон Ван Свитен; он был мрачен и неразговорчив. Отозвав меня в другую комнату, герр Ван Свитен негромко спросил:
— Каков будет ваш эпикриз, доктор Клоссет?
— Мы с коллегой доктором фон Саллабой расходимся в деталях, но не в диагнозе: налицо острое токсико-инфекционное заболевание.
— На сей счет имеется мнение — не терпящее возражения, — категоричным тоном заявил барон и, многозначительно указав глазами наверх, стал медленно говорить, будто диктуя: — У покойного Борна — острое инфекционное заболевание; осмотр тела говорит об этом: характерное изменение кожи налицо. И потому никаких вскрытий тела не производить, никаких эпикризов не писать.
— Вы правы, барон, подобная инфекция — чрезвычайно заразное заболевание, — подтверждаю я. — Поэтому тело нужно как можно скорее вынести из дома.
Готфрид ван Свиттен добавил:
— А санитарный военный лекарь должен присматривать за тем, чтобы в пути соблюдались противоэпидемические гигиенические меры, как-то: сжигание одежды, запрет на прощание с телом — и дома, и в церкви; похороны произвести без выдержки срока. Указ самого императора Леопольда II.
— Полностью согласен.
— И соблаговолите разъяснить сей вердикт вашему коллеге, герру фон Саллабе, — Ван Свиттен во всем был неумолим.
Погода не сочеталась с грустным моментом случившегося: стояло легкомысленное лето с разлитой кругом жарой; и только к вечеру зной немного спал.
По сути, болезнь, приведшая Фон Борна к гибели, длилась 4 дня. За час-полтора до кончины он пребывал в полном сознании.
Вена, 25 июля 1791 года.
Д-р Клоссет.
И вот самое печальное — похороны знаменательного ученого, масона с заглавной буквы. В три часа пополудни 24 июля 1791 года совершилось отпевание тела. Экипаж с телом Борна прибыл к собору св. Стефана. Так как Игнац фон Борн был масоном эта грустная процедура происходила в Крестовой капелле, примыкающей к северной стороне собора св. Стефана. В том месте, где находится соединительная решетка, которая идет параллельно стене собора, отгорожено довольно большое пространство перед Круцификс-Капеллой; здесь на время отпевания ставился гроб.
Сегодня отправляли по рабу Божьему Игнациусу фон Борну под крышей павильона капеллы. Пришло много провожающих; здесь собрался цвет ученого мира Вены почитатели его как видного масона, друга великого композитора Моцарта. Вопросов много, ответов нет.
Кто же пришел на панихиду? Был Моцарт, его ученик Зюсмайр. Разумеется, не обошлось без барона Готфрида Ван Свитена и ряда братьев по ложе, а также из других лож Вены.
До собора св. Стефана всего ничего — несколько минут ходьбы.
Ходили слухи, что многие побоялись пойти на похороны Игнаца фон Борна: дескать, он впал в немилость у Габсбургов. Говорили разное. Одни считали, что кайзеровский двор и католические князья были рассержены активной позицией ученого и писателя, другие, что виной активное участие в масонской жизни Вены. Несмотря на негативное отношение к масонству кайзера Священной Римской империи Леопольда II, были здесь и братья-масоны из разных венских лож. Все знали, что он до самой своей смерти работал над трудом «Fasti Leopoldini», возможно относящимся к разумному отношению преемника Иосифа II к венграм. А это открытая критика Габсбургов. И, разумеется, участие в создании либретто масонской оперы «Волшебной флейтой» не прошла даром. Царский двор и высшее духовенство было в курсе. Нашлись люди, которые увидели в Царице Ночи императрицу Марию Терезию. Если так, то это — нелестный портрет. В Метастазио кто-то узнал Сальери. Правда, собака лает — ветер носит (причем, ни со мной, ни с кем другим после грустной церемонии ничего не было — ни гонений, ни репрессий).
Гроб с телом фон Борна не внесли в храм св. Стефана, хотя бы для краткого отпевания, как того требует погребальный церемониал католической религии, а напутствовали в так называемой часовне св. Креста. Здесь состоялась заупокойная служба над телом Борна. Это был своеобразный ритуал памяти по великому ученому, философу, сочинителю и масону.
В глаза бросалось неестественно темно-восковое лицо Борна, точно лик с византийской иконы.
От собора св. Стефана до кладбища св. Марка можно добраться за полчаса.
Мне нужно было явиться в больницу к главному врачу. Управившись с делами в городе, я вернулся назад и проехал на экипаже до кладбища св. Марка. Это было недалеко.
Летом смеркалось поздно, ночь короткая, и я не торопил возницу.
За городскими воротами на Ландштрассе начинались пригороды, дышалось намного легче. И дорога была вполне сносной, мощеная брусчаткой. Вскоре я подъехал к кладбищу св. Марка; вышел из кареты у маленькой невзрачной церковки. Отыскал смотрителя.
Тот переспросил:
— Герр Игнац фон Борн? Даже не знаю, где он был предан земле.
Вы говорите, его похоронили на этом кладбище, по высшему разряду?
Это, наверное, вон там — справа, за крестом.
Смотритель привел меня к свежевскопанной полосе земли, которая тянулась на большое расстояние.
— Вот тут похоронен ваш друг, господин, — обрадовано указал он место.
Я подошел к холмику, усыпанному цветами. Мне стало отчаянно грустно…
На высоком небе светились яркие выпуклые звезды, столько звезд — не сосчитать; было новолуние и все кругом, кроме небосвода, было в темноте.
И тут все колыхнулось перед глазами, я заплакал. Я горько рыдал, стоя над могилой Игнациуса Эдлера фон Борна, рыдал по себе, рыдал по Моцарту. Моя интуиция мне подсказывала, что смерть 48-летнего ученого и писателя — это грозное предупреждение Моцарту. Это расправа, ордер на которую был выдан. Кто следующий, приговоренный на смерть ядами средневековой аптеки? Моцарт, гениальный Моцарт!..
Смотритель ушел. Я остался один.
— Надо запомнить место погребения, — вслух подумал я. — Возле этого креста.
Экипаж ждал меня, только возница проворчал, что нужно доплатить вдвое за потраченное время, я согласно кивнул. И мы покатились по звон кой брусчатке Ландштрассе обратно в Вену».
Отложив рукопись доктора Николауса Франца Клоссета, я стал размышлять над его выводами. По справедливому замечанию такого выдающегося историка, как доктор Поль Ганьер, «соответствующие тексты не всегда были составлены с желательной точностью. Кроме того, врачи, по причине либо некомпетентности, либо недобросовестности, либо из желания обелить себя, слишком часто расплывались в лишенных интереса соображениях, намеренно неточных и даже противоречивых. Наконец, весьма трудна и деликатна задача перевести прошлое в настоящее, учитывая неизбежные изменения в способах интерпретации и приемах логических рассуждений». И такой феномен. Только произнесешь слово «отравлен», как спор о смерти Моцарта приобретает эмоциональный характер, прекращающий всякие дискуссии, потому что вокруг фатального слова — яд — сгущался страх, порождаемый бессилием.
Пройдет 200 с лишним лет, прежде чем версия об отравлении будет очищена от налета страстей, порождавшихся поклонением Моцарту, и, может быть, представлена строго научно, отводя, кстати, обвинения от масонов, у кого действительно не было никакого политического интереса в одночасье устранять видного масона империи и брата по ложе Игнаца Эдлера фон Борна, а затем медленно (в течение полугода) уничтожать своего же брата по ложе, бога музыки Вольфганга Амадея Моцарта.
И случилось так, что первые солидные исследования на эту тему были опубликованы в 50-х годах прошлого столетия Йоханнесом Дальховым, Гунтером Дудой, Дитером Кернером, Вольфгангом Риттером и другими специалистами. К 200-летию гибели маэстро они вновь вернулись к этой проблеме, прямо поставив вопрос, «был ли Моцарт отравлен?», и, отвечая утвердительно, указывали даже на возможных преступников. Тоже самое они сказали в адрес Игнаца Эдлера фон Борна.
Эта первая публикация «триумвирата врачей» была встречена, по крайней мере, в Австрии, скептическими улыбками, острой критикой и даже бранью. Историки музыки, ничтоже сумняшеся, посчитали в своем кругу, что это всего лишь полицейский роман жаждущих славы людей, а в худшем случае — плод излишне разыгравшегося воображения. Ах, Вена, Вена! Если вы будете искать на узких средневековых улицах Вены следы храмовников, то не проходите мимо погребенной под землей маленькой часовенки с сохранившимися крестами на ее романских стенах. Ноги сами понесут вас по переулку, где стены помнили слова проклятий, вырывавшихся из уст приговоренных к казни тамплиеров, падающих в лужи собственной крови, которая широкой рекой лилась прямо под порог церкви тевтонского ордена, где и сейчас происходят встречи рыцарей одного из старейшего ордена Европы.
Почему матушка всей Европы Мария-Терезия так не любила рыцарей венских лож, которые в XIX веке расположились почтительной толпой у подножия ее памятника?
Моцарт, Гайдн, Игнац фон Борн, император Франц-Штефан, тайный канцлер князь Антон Кауниц, придворный врач Герхард ван Свитен. Что объединяет этих столь разных людей? Масоны, тамплиеры, иллюминаты, прелатура Опус Деи. Что это? Некогда величественные имена тайной истории прошлого или загадки настоящего времени?
Зюсмайр
В мае 1983 года кинорежиссер Карр в курортном английском городе Брайтоне инсценировал судебное разбирательство по делу об убийстве Моцарта. В нем участвовали шесть актеров, в костюмах той эпохи исполнявших роли членов суда, а также основных действующих лиц драмы, разыгравшейся 200 с лишним лет назад. Нескольким сотням зрителей — присяжным заседателям — предстояло решить, кто мог убить Моцарта. Большинство признало виновными Сальери и Зюсмайра. До этого об истинной роли экс-секретаря Франца Зюсмайра в судьбе великого композитора никому в голову не приходило.
Параллельно с этими играми в судебное разбирательство в Брайтоне, в результате собственных поисков немецкие исследователи Г. Дуда, Й. Дальхов, Д. Кернер и В. Риттер сами напали на след Зюсмайра как потенциального преступника. То, что Франц Ксавер Моцарт был сыном Зюсмайра, а не самого Моцарта, сейчас почти никем не оспаривается (и здесь, пожалуй, кроется последнее доказательство зловещей роли экс-ученика маэстро). Странно, отчего прежде никто не нашел нужным уделить ученику Моцарта достаточного внимания. Правда, имя его засветилось в истории гения музыки в связи с легендой о Реквиеме, где он, якобы, дописывал незаконченные аккорды произведения, следуя указаниям умирающего композитора. Немаловажные факты, обвиняющие экс-ученика в соучастии преступникам, состоят еще и в том, что Констанция вытравила (с помощью второго супруга Ниссена) имя Зюсмайра из многих писем.
Итак, Франц Ксавер Зюсмайр родился в 1766 году в австрийском городке Штейер (Диц, Гати), а не в Шваненштадте, как иногда ошибочно указывали ранее моцартоведы. О его родителях и детстве никаких свидетельств до нас не дошло. Поскольку у Франца Ксавера обнаружился звонкий голос и неподдельный интерес к музыке, он получил музыкальное певческое образование в бенедиктинском монастыре Кремсмюнстера. Франц Ксавер посещал гуманитарные классы и класс грамматики, а от Георга Пасторвица получил теоретические практические знания по композиции. Однако любознательного молодого Зюсмайра не могли удовлетворить ни провинциальный городок Кремсмюнстер, ни разностороннее, но скромное образование. Нетерпеливый, живой и честолюбивый молодой художник подался в Вену, уже имея несколько своих сочинений. В Сальери он нашел благосклонного учителя, который продолжил с ним занятия по композиции. Но неожиданно Зюсмайр средне одаренный и ведущий беспорядочную жизнь покинул придворного капельмейстера, чтобы стать на этот раз учеником Моцарта, к которому он чувствовал «притяжение».
Бесспорно, он, может быть, и любил музыку Моцарта, но его отношения с учителем, шутливо называвшим его то «балбесом», то «свинмайром», были довольно странными. Зюсмайр, сначала подружившись с Констанцией, а затем вступивший с ней в любовную связь, совсем вжился в стиль своего (мнимого) друга. «И это проявлялось в самых крайних формах. Его „почерк» был так разительно похож на почерк обожаемого им кудесника звуков, что на первый взгляд различить их было совершенно невозможно» (Диц). Беззаботный и необязательный Зюсмайр (какое разительное совпадение с Констанцей!) даже сумел стать соавтором коронационной оперы «Тит», и Моцарт, кажется, был вполне доволен его работой. Гений проглядел, что неудивительно, подлинный характер своего «друга», которого следует классифицировать как «тщеславного психопата» (Д. Кернер / В. Риттер). В подражание моцартовской «Волшебной флейте» Зюсмайр написал оперу «Зеркало из Аркадии», которая отчетливо напоминала почерк самого мастера и, несмотря на ее слабости, была поставлена с большим успехом. Этот благосклонный прием, который его опера снискала у венской публики, привел к тому, что уже в 1792 году он был назначен придворным капельмейстером.
Отношение Зюсмайра к себе Моцарт воспринимал как преданность и искренность, к тому же он видел, что тот нашел общий язык и с Констанцией — какая ирония судьбы! Зюсмайр, разумеется, был хорошо осведомлен о характере своего учителя и даже посвящен в процесс его музыкального восприятия. Когда Моцарт умер, Зюсмайр закончил Реквием: «Эта, впрочем, не слишком высоко оцененная услуга составляет единственное светлое пятно в его творческой биографии, лишь сопричастность к моцартовскому Реквиему спасла его имя от забвения» (Диц). Однако Зюсмайр, похоже, извлек, пользу и из ранней смерти Моцарта: некоторые вещи гения сначала приписывались ему, что вполне совпадало с его намерениями. Были у него и собственные «популярные вещи, например турецкая опера «Сулейман II» (Линдлар).
Но поверхностная и преследовавшая целью одни наслаждения жизнь, видимо, сказалась на его здоровье печальным образом: «Последние годы жизни полюбившийся публике композитор, здоровье которого из-за беспорядочной жизни было подорвано, провел полубольным и фактически заточенным в четырех стенах своего дома, где он пытался скоротать время беглым сочинительством, и его легкая и непритязательная музыка выполняла свою задачу, пользуясь успехом у тогдашней публики» (Диц). Франц Ксавер Зюсмайр — точно так же, как и Моцарт — умер молодым и при загадочных обстоятельствах — 17 сентября 1803 года в Вене. Он был похоронен в общей могиле, местоположение которой утрачено. Диапазон диагнозов смертельной болезни Зюсмайра необычайно широк — от чахотки до холеры и тифа.
Зюсмайр — гипертимная личность; музыкально одаренный, из-за своей эмоциональной незрелости и скорее заурядного интеллекта он не был способен создать что-то великое. Но умел извлекать выгоду от других.
Зюсмайр был очень работоспособен, не обладая глубиной и основательностью. В отличие от Констанции, которая умела подстроиться к обстоятельствам (со вторым мужем Ниссеном), он, гипертимик, на такие перемены способен не был. В заключение важен такой штрих: «Зюсмайр был не только учеником и помощником Моцарта, одновременно он был учеником и другом придворного капельмейстера Антонио Сальери» (Гертнер). В сущности, он был учеником Сальери, у Моцарта же «по возможности брал на себя музыкальную рутинную работу, будучи чем-то вроде секретаря и переписчика. Когда Моцарт умер, то экс-секретарь помогал привести в порядок его наследие и закончил его «Реквием». Но основные свои убеждения, ярко выраженный патриотизм он, безусловно, разделял с Сальери: «Его патриотическая кантата «Спаситель в опасности» была встречена бурными аплодисментами» (Паумгартнер). Думается, что Зюсмайр, не обладая музыкальной глубиной и оригинальностью, вообще изменил свое отношение к Моцарту, ибо только процветающий Сальери мог способствовать его карьере, особенно после смерти Моцарта. Об этом забывать не следует!
Констанция
Жена великого маэстро, как утверждают современники, была весьма поверхностной, легко поддающейся влиянию особой. По всей видимости, в тот период Констанция была особенно недовольна своим супругом. Но самое главное она не видела в нем гения, напротив считала неудачником. Кроме того, как свидетельствуют современники, до нее доходили всевозможные слухи о «распутной» жизни мужа. Не исключено, что Моцарт иногда поддразнивал Констанцию перспективой любовной интрижки с красавицей и умницей Магдаленой, которая была супругой некоего Франца Хофдемеля, брата Моцарта по масонской ложе. Скорее всего, знаки внимания Магдалене Моцарт оказывал в ответ на очевидную связь Констанции с Зюсмайром. В действительности Вольфганг нежно любил Констанцию и защищал ее от нападок со стороны, чего не скажешь о последней. Как отмечают биографы композитора, Констанция была, по всей видимости, неспособна на ответную любовь к мужу. Главными и непосредственными ощущениями Констанции являлась ее чувственная жизнь, и она безмятежно отдавалась своим увлечениям и удовольствиям. Так что «секретарь-ученик» Зюсмайр обратился к верному адресату: молодой мужчина в расцвете сил (он был младше Констанции) не мог ей не понравиться. Она увидела в нем возможную замену мужу-неудачнику и быстро сошлась с учеником композитора, подающим большие надежды.
Леопольд Моцарт каким-то образом раскусил сомнительный характер Констанцы, сын же его, прожив с ней в браке девять лет, или не понял его, или не захотел увидеть Констанцию в том виде, какой соответствовал ее подлинной натуре.
Данную ситуацию Хильдесхаймер привел к простому, но точному знаменателю: Констанция «активно, однако ровно настолько, насколько ей это было выгодно, раскрывается только после его смерти, но лишь для того, чтобы обнаружить свою ошеломляющую банальность». К сожалению, не только это!
Несмотря на все разительно отрицательные черты характера женщины, вышедшей замуж за образец гениальной личности, вновь и вновь (может быть, именно из-за этого) следуют попытки защитить ее честь или смазать и размыть представление о ее личности. Однако уже Паумгартнер определил ее характер, который традиционная психиатрия классифицирует как психопатический: «Как истинная Вебер, она находилась в полном подчинении у своей инстинктивной бездуховности и зависела от впечатления момента. Она не умела оценивать, что хорошо и что плохо. Ее направленность определялась влиянием ее окружения». Если мы пользуемся здесь более старым понятием психопатия, а не понятием дефект личности, то только для того, чтобы избежать путаницы, так как в окружении Моцарта было много лиц совсем незаурядных (сюда — со всеми слабостями — входит и Леопольд Моцарт). Несмотря на все отчетливые признаки психопатии Констанции, еще Грубер пытался выгородить это беззаботное существо: «Констанции приходилось нелегко: не все родные и знакомые хорошо относились к ней». Тот же Шенк, указывая только на «временами проступающие черты мелочности, зависти, жесткой практичности в покупках и способности к саморекламе». Для психолога же весьма интересным представляется поведение Констанции-вдовы: «Она пережила Моцарта на пять десятилетий и за это время не только уничтожила письма, но и много сделала для сокрытия всего, что было невыгодно для нее самой и ее семьи, а также событий, так или иначе связанных с масонством; тем самым она всячески способствовала возникновению искаженного образа Моцарта, в то же время выставляя себя в выгодном свете» (Грайтер).
Вообще тот же Гертнер подметил, что «множатся сомнения по поводу образа опечаленной вдовы». Кто ведет себя так, что дает повод говорить о своей инстинктивности, неустойчивости поведения, отсутствии совести, духовной ущербности или легкомысленности? Не стоит опрометчиво доверять каким-либо оценкам, тем более что психиатрическое мышление с однозначными классификационными категориями кажется более чем сомнительным. Но ясно одно то, что Констанция страдала психопатией первично генетического происхождения. Вот только этот дефект личности, особенно сильно выраженный у нее в юности, определить не так-то легко. Была ли Констанция бесчувственной, тщеславной психопаткой пассивно-агрессивной природы? Переходы здесь настолько плавны и неопределенны, что мы не будем вдаваться в столь тонкий, крайне запутанный анализ, так как в Констанции умещались оба эти потока, как мы еще увидим впоследствии. Сам Моцарт, видимо, этого не замечал, хотя и догадывался. Он «заботился о ее репутации, и иногда на него нападал внезапный страх, как бы она нечаянно не стала предметом дурной сплетни» (Блом). Если б Моцарт не мыслил постоянно в музыкальных измерениях, что свойственно большинству композиторов, пусть и не с той интенсивностью, образ его все равно был бы замутнен Констанцией. Эту проблему точно подметил Хильдесхаймер: «Его сдержанность в высказываниях о характерах настолько бросается в глаза, что мы склонны подозревать, что в окружающих он хотел видеть только то, что касалось непосредственно его».
Помимо этого, — по крайней мере, в последние два года — Моцарт замкнулся до такой степени, что игнорировал и связь жены со своим учеником Францем Ксавером Зюсмайром (впрочем, в это время у него было свое увлечение) или просто не придавал ей большого значения, хотя результатом этой связи явилось рождение Франца Ксавера Моцарта: «Его явно не удручала мысль, что Констанция может любить Зюсмайра». Карр, которому принадлежит эта фраза, видимо не знал, что Констанция не была способна на любовь в общепринятом смысле, и самого Моцарта эта связь действительно в какой-то степени не беспокоила. Тем не менее Карр, в пух и прах раскритикованный, первым вскрыл факты и наметил пути, по которым предстояло пойти тем же немецким моцартоведам и врачам. Впрочем, Констанция не любила и второго мужа Ниссена. Получив теперь нормальные житейские условия, что удовлетворило ее любовь к комфорту, она просто использовала его в качестве инструмента.
Как подчеркнул Хильдесхаймер: «Чувственная жизнь Констанции разыгрывалась на уровне непосредственных ощущений, на которые она так же непосредственно реагировала. Она отдавалась своим влечениям, любила удовольствия, была крайне подвержена чужим влияниям, а потому легко приспосабливалась». Даже в браке с Ниссеном Констанция прежде всего оставалась вдовой гения, а не женой этого датского дипломата, который, кстати, был в восторге от музыки Моцарта и стал его первым биографом. И здесь особый вес приобретает одно обстоятельство — отношение Констанции к своему первому мужу. Для моцартоведа Реха оказалось непостижимым, что «Констанция только спустя 17 лет (!) после смерти Моцарта, вероятно по настоянию Георга Николауса Ниссена, впервые отправилась на могилу своего первого мужа и пришла в негодование (Констанция в своей роли), что никто ей не смог показать ей могилу Моцарта с крестом на холмике». И дело здесь не в ее холодности к Моцарту, скорее — в чувстве вины (никогда открыто не проявляемой), которое она всю жизнь пыталась вытеснить из сознания. За этим чувством еще стоит проследить детально!
Десятилетия шли, а Констанция продолжала оставаться здоровой женщиной, если не считать запоров; болезнь, которую она постоянно ездила лечить в Баден, была скорее «фикцией», но на фоне сексуальной напряженности. Определенно, Моцарт «эту разобщенность ощущал в большей степени, нежели Констанция, которой, пожалуй, было проще найти эротическую замену» (Хильдесхаймер). Замена не заставила себя ждать в лице Франца Ксавера Зюсмайра, который был на десять лет моложе Констанцы; был ли у нее еще кто-нибудь, можно только гадать. Но связь с Зюсмайром, которую Хильдесхаймер рассматривал, как «любовную связь» на эротической основе, несомненно была. И кто удивится тому, что Франц Ксавер Моцарт, родившийся 26 июля 1791 года, был ее естественным последствием, или усомнится в этом? Бесспорно также, что такие отношения могут повлечь за собой удовлетворение и других потребностей, не только эротических.
Характерные черты Констанции (правда, поверхностно) описал Моцарт. (См. цитату из письма Моцарта к отцу от 15.12.1781 г., - прим. авт.)
Дополнительные аспекты, отчетливо указывающие на психопатические черты Констанции Моцарт, что, к сожалению некоторыми не разделяется:
«Тогда Констанции было всего восемнадцать лет. Быть к ней беспристрастным нелегко. Большинство биографов разобрало ее по косточкам. Она была ветрена, поверхностна и привязчива. Она полностью влилась в беззаботный стиль жизни Моцарта и даже не пыталась внести хоть какой-нибудь порядок в его быт. Она была его семейным товарищем по играм, примитивным, но вполне естественным созданием, пошлым, но не лишенным прелести, бездуховным, но живым и жизнерадостным. Его музой она никогда не была; о его пророческом величии она, похоже, и не подозревала, — как полагал изыскатель Александер Витешник».
Еще отчетливей Шуриг, детально схвативший ее дефект личности:
«Констанция была примитивным созданием, необразованным, но и неиспорченным. Будучи супругой Моцарта, Констанция предавалась жизненным наслаждениям и легкомыслию. Очень скоро центр своего убогого домашнего быта она увидела не в муже, а в самой себе. Она стала капризной, всем недовольной, кокетливой и ревнивой. Временами она устраивала ему немыслимые сцены. Он, беспредельно миролюбивый, неисчерпаемо добрый, вечно забывающий о себе, способный приспособиться к любой женщине, умел принимать ее такой, какова она есть, обуздать и преодолеть в ней злые, скверные, ординарные элементы. (Артур Шуриг)».
Конечно, заключение Шурига слишком богато контрастами, нельзя не заметить, что он ненавидел Констанцу. И тем не менее черты ее поведения он приводит в общему знаменателю. Можно было бы обратиться к другим примерам, но это завело бы нас слишком далеко. Собрав теперь все эти факты воедино, спросим, откуда же все-таки проистекают новейшие попытки защитить ее честь и кому это на руку.
Без сомнения, Констанца «страдала» дефектом личности (психопатия), обусловленным эмоциональным убожеством и тщеславием. При этом речь идет не о «длящейся по сегодняшний день антипатии» (Браунберенс), а о дошедших до нас данных о чертах характера жены Моцарта, которые-то и не позволяют увидеть в ней безупречную и достойную уважения личность. Тем не менее, Моцарт любил ее и «был прикован к ней чувственным очарованием» (А. Эйнштейн).
Без сомнения, стремления Констанции кажутся диссоциированными, отчего жизнь ее как личности протекала, скорее, инстинктивно. И как следствие, дело дошло до «ревности», зависти и даже до неистовства, а неистовство в конечном счете всегда направлено на разрушение «таящих угрозу вещей» или субъектов. Наконец, зависть и агрессивность находятся в тесной взаимосвязи. Очень показательно ее поведение сразу после смерти мужа: «Констанца, никчемная помощница при жизни мужа, оказалась совершенно беспомощной перед неожиданно сложившимся положением. Никто не позаботился о могиле, Констанция тоже» (Шпор). И еще определеннее у Карра: «В поведении Констанции сквозило не столько безразличие, сколько видимая антипатия и даже злонамеренность». Констанца была легкомысленна, да и в хладнокровии ей отказать нельзя. Все это улеглось только с легитимацией отношений с Ниссеном — иными словами: теперь она подписывалась, — по крайней мере, в текущей переписке: как «Констанция, статская советница фон Ниссен, в прошлом вдова Моцарт».
Вначале Констанция не могла представить себе жизнь с гением, ведь «если у Моцарта не было концерта, то он, как правило, сочинял музыку от пяти до девяти часов в день» (Карр). Но решающую роль сыграли ее надежды на успех, деньги и беззаботную жизнь, и она согласилась на брак с Моцартом, тем более что их сексуальные потребности пребывали в идеальном чувственно-эротическом согласии (как уже сделал Хильдесхаймер, не избегающий этой темы). Они были близки по духу, вероятно, и в их беспечности и известном легкомыслии, но с одной оговоркой: «Если Вольфганг все еще (но не всегда!) следовал внушенным ему правилам хорошего тона, благопристойности и приличий, то Констанция больше чувствовала тягу к богемной, менее скованной условностями жизни» (Карр). Моцарту, от природы флегматичному и беззаботному, расточительному, но скромному, это было не в тягость, хотя в бытность в Мангейме Констанца «убаюкивала его семейной идиллией домашнего очага» (Грайтер).
Все это подходило Моцарту, так как контрастировало с постылой зальцбургской зашоренной жизнью. При всех денежных заботах об этом явствует из письма к брату по ордену Пухбергу:
«Досточтимейший Бр. Любимейший и наилучший друг!
Я, всегда верный Вам, на днях должен был сам прибыть в город, дабы иметь возможность устно выразить Вам свою признательность за Вашу дружбу. — Однако я никоим образом не смог бы предстать перед Вами, поскольку вынужден откровенно признаться, что не могу вернуть Вам свой долг, а Вы постарайтесь отнестись ко мне со всем терпением! — То, что обстоятельства таковы и Вы не можете поддержать меня, как мне бы хотелось, доставляет мне столько хлопот! — Мое положение таково, что я неминуемо вынужден обратиться за кредитом. — Но, Боже, кому мне довериться? Никому, кроме Вас, дорогой мой. — Если бы Вы каким-то образом удружили мне, чтобы я смог достать денег другим путем! — Я ведь с удовольствием оплачиваю интересы, и тот, кто одалживает мне, благодаря моему характеру и моему жалованью, я думаю, достаточно гарантирован. — Я сам вижу, чем являюсь в данном случае, именно поэтому я желал бы иметь некоторую значительную сумму на довольно длительный срок, чтобы быть в состоянии предотвратить такой случай. Если Вы, дражайший брат, мне в этом моем положении не поможете, то я лишусь чести и кредита, который есть единственное, что я желал бы сохранить. — Я полностью полагаюсь на Вашу истинную дружбу и бр. любовь и с надеждой ожидаю, что Вы поможете мне и словом и делом. Если мое желание сбудется, то я смогу наконец спокойно вздохнуть, ибо буду тогда в состоянии привести себя в порядок и не оставаться под открытым небом; — Вы все-таки приезжайте и навестите меня; я всегда дома; — те 10 дней, что живу здесь, я работал больше, нежели на другой квартире все два месяца, и ежели б меня не так часто тревожили черные мысли (от которых я отделываюсь с трудом), и дела мои пошли б еще лучше, поскольку мне живется приятно, — удобно, — и — дешево! — Не стану более утруждать Вас своей болтовней, а буду надеяться и ждать.
Навечно преданный Вам слуга истинный друг и Бр. В. А. Моцарт.
27 июня 1788 года».
Денежные заботы постоянно присутствовали в доме Моцартов, и трудно разобраться сразу, кто из партнеров больше виновен в этой нужде. Во всяком случае, состояние венского дома Моцарта в 1789 году можно сравнить разве что с бытом бедного подмастерья. Моцарт, не столь беззаботный, как Констанция, по природе, видимо, был игроком и деньги зарабатывал нерегулярно. Финансовые издержки на его рабочий гардероб были не слишком высоки, хотя многие исследователи упрекают его в тратах на одежду, а его пристрастие к бильярду нельзя объяснить только «страстью игрока», ибо в этой игре он видел возможность увеличить свой — временами скудный — капитал. Никто не оспаривает, что «Моцарт был страстным игроком, и поэтому тут-то его финансовые дела шли неплохо», но несмотря на это «молодая пара. постоянно нуждалась» (Стевенсон). Правда, по-прежнему остается один упрек: «Если он уступал издателям свои сочинения за ничтожную цену, то это было только следствием его неэкономного образа жизни» (Праузе). Правда, можно добавить, что к тому времени венская сцена была оккупирована, скажем, Глюком или Сальери, а Моцарт был реформатором, которому удержаться на плаву — в финансовом смысле — было не так-то просто, да он и не мыслил денежными категориями. Раньше эти обязанности целиком и полностью лежали на его отце! Этому идеалисту было глубоко чуждо «утилитарное мышление». Моцарт сочинял — хотя бы фуги, которые ничем не обремененная супруга слушала с таким удовольствием: «Может быть, домовитая женщина предотвратила бы крах, но Констанца никогда не знала благодати нормальных жизненных условий» (Рех). Это звучит как извинение и как таковое было бы, пожалуй, не совсем необоснованно, если б после смерти Моцарта она сама не подвергла сомнению свой неэкономический образ мышления, который мог быть унаследован еще от матери. Были ведь и вполне урожайные годы, и в полную нищету семья никогда не скатывалась. Мадам Моцарт, презревшая все обязанности, могла делать только самое необходимое, и ее супруг, сказочный принц en miniature, видимо, не был недоволен ничем. А потому можно хорошо представить себе, какой хаос временами царил в семье Моцартов. Что мог предложить этот гениальный выскочка в то время, когда число его противников и кредиторов неуклонно возрастало? Совсем не то, что рисовалось в Мангейме Констанце, полной самых фантастических картин. Но она умела хорошо приспосабливаться: «Юная жена, не достигшая еще и двадцатилетнего возраста, как нельзя лучше вписывалась в беззаботный образ жизни мужа.
Когда появлялись деньги, они тут же уплывали на хорошую еду, вино и одежду» (Праузе). Обвинять ее тут нелегко, если даже не все прощает психопатия, но «та любовь и забота, которые, по ее словам в позже уничтоженных письмах, она ощущала к своему мужу, явно не убеждают все фиксирующих потомков» (Хильдесхаймер). Кажется весьма странным, что Моцарт, жалуясь при случае на ее поведение, ни словом не обмолвился о ее роли как хозяйки дома, хотя она в домашнем хозяйстве не понимала ничего.
Теперь можно сказать, что сексуальная жизнь супругов, по крайней мере до 1789 года, протекала удовлетворительно, ибо, исключая 1785 год (видимо, выкидыш), Констанца почти постоянно была беременна, родив пятерых детей. Правда, особенно-то семья и не увеличилась — трое младенцев умерли сразу после рождения, в живых остались только Карл Томас (1784–1858) и Франц Ксавер (1791–1844).
Терезия Констанция, родившаяся в 1787 году, прожила всего год. Были ли у партнеров побочные связи в период с 1782 по 1789 год, сказать трудно, тем не менее для Моцарта, имевшего множество учениц, это более вероятно, чем для его постоянно беременной супруги: «Моцарт нежно любил свою жену, хотя иногда и изменял ей» (Сюар). Вполне уверенно можно говорить о связи этого «беспутного» гения со своей ученицей Магдаленой Хофдемель, женой его брата по ложе Франца Хофдемеля, трагическая смерть которого будет подробно рассмотрена ниже. Магдалена ждала ребенка, и Эйнштейн считает: «Был ли мальчик ребенком Моцарта или Хофдемеля — это еще вопрос». Что супружеская жизнь дала трещину самое позднее в 1789 году, вытекает из недатированного письма Моцарта Констанце, которая в это время опять находилась на лечении в Бадене:
«Любимейшая женушка!
С радостью получил я Твое милое письмецо. Надеюсь, что и Ты вчера получила от меня 2-ю порцию отвара, мази и муравьиной кислоты. — Завтра поутру в 5 часов я отправляюсь — если бы не радость вновь увидеть Тебя и снова обнять, так я бы еще не выехал, ибо сейчас скоро пойдет „Фигаро», к коему мне надобно сделать несколько изменений и, следовательно, быть на репетициях, — видимо, к 19-му я должен буду вернуться назад, — но до 19-го оставаться без Тебя, это для меня просто невозможно; — дорогая женушка! — хочу сказать совсем откровенно, — Тебе нет нужды печалиться — у Тебя есть муж, который любит Тебя, который сделает для Тебя все, что только можно, — чего Твоя нога пожелает, наберись только терпения, все будет совершенно определенно хорошо; — меня радует, конечно, ежели Ты весела, только я хотел бы, чтобы Ты не поступала порой столь подло — с N. N. Ты слишком свободна… также с N. N., когда он еще был в Бадене, — подумай только, что N. N. ни с одной бабой, которых они, вероятно, знают лучше, нежели Тебя, не столь грубы, как с Тобой, даже N. N., обычно воспитанный человек и особенно внимательный к женщинам, даже он, должно быть, был сбит с толку, позволив себе в письме отвратительнейшие и грубейшие дерзости, — любая баба всегда должна держаться с достоинством, — иначе ей достанется от злых языков, — моя любовь! — прости, что я столь резок, лишь мой покой и наше обоюдное счастье требует этого — вспомни, как Ты сама согласилась со мной, что Тебе надобно уступать мне, — Тебе известны последствия, — вспомни также обещание, что Ты мне дала. — О Боже! — ну попробуй только, моя любовь! — будь весела и довольна и ласкова со мной — не мучь ни себя, ни меня ненужной ревностию — верь в мою любовь, ведь сколько доказательств оной у Тебя! — и Ты увидишь, какими довольными мы станем, поверь, лишь умное поведение женщины может возложить узы на мужчину. Прощай — завтра я расцелую Тебя от всего сердца.
Моцарт».
(письмо появилось не позже середины августа 1789 года.)
Моцарт искусно прячет свой упрек по поводу необузданного поведения своей жены («любая баба всегда должна держаться с достоинством»), а ее ревность, относительно которой Хильдесхаймер спрашивает, «была ли ревность Констанции тоже обоснованной», принимает за подлинную, хотя — о чем Моцарт, правда, не мог догадываться из-за своей убогости чувств на таковую она просто была не способна. Слишком легко в данном случае смешивают зависть с ревностью. Слова Паумгартнера, что «достаточно серьезные связи ее мужа с женщинами, духовное и творческое превосходство которых над собой она чувствовала, приводили ее в неописуемое бешенство», превосходно передают суть вопроса. В Констанции, бездуховной и неотзывчивой на прекрасное женщине, на этой почве могла вырасти только зависть, но не ревность. Открытым здесь остается вопрос, хотела ли сама Констанция, «овладевшая»
Моцартом, оттолкнуть его от себя или склонить к дальнейшей преданности (любя). В любом случае перед нами очередной акт спектакля! Но позже, с «выходом на сцену» Зюсмайра и наступившим «страшным отчуждением» (Кернер) Моцарта, все супружеские отношения сошли на нет.
Несмотря на многочисленные предостережения, несмотря на амбивалентное отношение (ненависть-любовь) к своему отцу, несмотря на разрыв с сестрой Марией Анной («Наннерль») и все сплетни по поводу поведения и характера Констанцы, не стоит удивляться тому, что Моцарт всегда ее любил и защищал от нападок со стороны. Он сквозь пальцы смотрел на ее деланную меланхолию (письмо от 5 июля 1791 года), на ее связь с Зюсмайром — ведь еще в письме от 6 июля он подтрунивал над этим «застольным дураком», он простил ей ложь, которой она согрешила (письмо от 9 июля), залез в долги ради ее лечения, в конце концов смирившись с ее связью с Зюсмайром, что явствует из его последнего (сохранившегося) письма («делай с N. N. что хочешь»). Это последнее письмо (или были еще?) написано 14 октября 1791 года, через два месяца Моцарта не стало, но здесь нет и намека на болезнь. И эта загадка стоит того, чтобы ею серьезно заняться! Но совершенно ошибочно было бы «пытаться представить этот брак несчастливым» (Паумгартнер); такой взгляд, пожалуй, разделил бы и сам Моцарт, но не Констанца, которая совершенно не любила своего мужа: «Моцарт ее любил, действительно любил, своеобразно и несмотря на все увлечения на стороне» (Гаргнер). Сам Моцарт состоял как бы из двух лиц: «очень рано в искусстве — муж, во всех других отношениях — ребенок» (Грубер), верно и то, что «брак с Констанцией держался на крайне аффектированных отношениях» (Браунберенс), причем Моцарт был несущей опорой, находясь, скажем, это спокойно и откровенно — в сексуальной зависимости от Констанции.
Под вопросом остается еще отцовство сына Франца Ксавера, которое может проясниться путем физиогномических и аналитических сравнений.
Сравнивая различные портреты (Моцарта, Анны Марии, Леопольда, Констанция, Карла Томаса и Франца Ксавера), можно заметить, что Франц Ксавер чрезвычайно похож на мать. У Карла Томаса, как и у Леопольда, голова круглая, у Франца Ксавера — овальная. Нос Карла Томаса такой же мясистый, как и у самого Моцарта (полная противоположность Францу Ксаверу), и брови, которые у Франца Ксавера очень густые, соответствуют бровям отца и бабушки. Франц Ксавер, скорее лептосомный биотип, не похож ни на своего брата (биотипически: пикнический), ни на других членов семьи. Это могло бы, пожалуй, помочь в доказательстве того, что Моцарт не был отцом Франца Ксавера (при всех оговорках посредством физиогномических сравнений — более или менее идеализированных живописных портретов). Впрочем, уже несколько десятилетий назад Шпор писал: «Нужно суметь отказаться от того, что Вольфганг Ксавер (Франц Ксавер) был сыном знаменитого отца».
Часть третья Документация убийства
«Убийство, хоть и немо, говорит чудесным языком»
В. Шекспир, «Гамлет»Моцарт как пациент
В ту ночь я работал до трех часов утра, затем меня потянуло в сон. Я будто провалился в бездонную пропасть, но спал урывками, неожиданно просыпаясь, пока меня не разбудил звонок в дверь. Я с трудом поднялся с постели, осторожно пробрался через завалы книг и журналов и, не посмотрев в глазок, распахнул дверь. За ней стоял Анатолий Мышев. Выглядел он возбужденным, как будто ему неожиданно объявили, что он обладатель большого наследства, о котором не подозревал. Он ткнул мне в лицо переведенную с немецкого языка рукопись.
Я выжидающе посмотрел ему в глаза, поинтересовался:
Сколько я должен?
Взгляд у Анатолия Мышева был рассеянный.
— Немного, всего две штуки.
— Рублей?
Он кивнул.
— Что вы думаете по поводу рукописи, Анатолий?
— Ничего экстраординарного, — меланхолично отозвался он.
Я убрал со лба прядь волос. Они здорово отросли, я стал похож на художника-авангардиста или рок-музыканта. Подумал, что как только буду чуть посвободнее — обязательно подстригусь.
Он продолжал что-то говорить, но я не улавливал смысла его фантазий на привычную для него тему о компьютерном мире. Я думал о том, как бы скорей получить переводы, — эти свернутые в трубочку листы, которые Анатолий Мышев держал в руке.
Я не сомневался, что мой сосед, как и множество других чудаков, помешанных на компьютерах и всемогуществе информатики, твердо верил: что все эти высокие технологии в один прекрасный день вытащат нас из того гнусного бытия, в котором мы погрязли по уши.
— Ради Бога, Анатолий Мышев, о чем вы толкуете?
Он пожал плечами.
— Не берите в голову.
Он кивнул, забрал свои деньги и поплелся по лестнице к себе наверх. Работа сделана, и о ней можно забыть. Сердце глухо ухало у меня в груди. Больше всего на свете я желал тотчас засесть за чтение свертка бумаг, представлявших феерическую смесь из дневниковых записей, вырезок из немецких, австрийских, французских газет, статей и писем, — часть из которых после перевода на русский принес Анатолий Мышев.
Николаус Франц Клоссет.
Вена, 1824 год.
Не могу молчать! Я доктор Клоссет, театральный врач и давал клятву Гиппократа — хранить врачебную тайну. Да, я клялся в этом. Но все же больше не могу молчать. Ложь опасна, она ест душу неприметно, но постоянно. Но недаром говорят, что правда неистребима, и все тайное в конце концов, становится явным.
Мне осталось жить всего ничего. И я решил все то, что у меня осталось, собрать и передать потомкам.
В ту страшную ночь я был рядом с Вольфгангом, когда вернулся из театра. Он умирал.
Перед смертью Моцарт пытался тихо напевать:
«Известный всем я птицелов», — он, правда, с трудом шевелил языком.
Присутствовавший тогда композитор Франц де Паула Розер (он два года назад приехал по совету маэстро из Линца в Вену и взял у него 32 урока) сыграл эту песню на фортепиано и пропел ее. На лице умирающего Моцарта появилась слабая улыбка, — он даже просиял.
Моцарт умирал с Папагено на устах. Потому что душой он был из немецкой народной стихии, корнями уходящей в Зальцбург и далее в германские земли — Аугсбург. Так солдат на поле сражения умирал, повторяя «мама», а душой переносился в отчий дом, где протекало его детство.
У Моцарта, и его детища — Папагено — свои пути развития.
Первая песня Папагено:
«Известный всем я птицелов, я вечно весел, гоп-са-са!» — примитивная веселая элементарная жизнь, Naturleben.
Во втором действии он поет:
«Найти подругу сердца я страстно бы желал».
Какая здесь глубокая тоска, Папагено весь проникнут болью и томлением. Перед попыткой неудавшегося суицида — уже вовсе гамлетова сцена, которая захватывает психологической правдой.
И, наконец, в дуэте:
«Па-па-па-па-па-па», — такое сокрушающее, потрясающее крещендо на слове Kinderlein (детишки), а затем восторженный апогей:
«Они будут усладой родителей», — во всей глубине и красоте идиллия старого, простого, немецкого дома.
Для Вольфганга этим «домом», этой почвой были и Зальцбург его юности, и его незабвенная кузинушка — Basle, и родственники переплетчики, и крестьянские разговоры матери, и его родословная: длинный ряд подмастерьев — каменщиков из родного города Аугсбурга. Их голоса звучали в умирающем Моцарте.
Ну а потом. потом начался грустный период, который я бы назвал: жизнь без Моцарта.
Я был немым свидетелем, как Зюсмайр и Констанция после смерти Вольфганга занимались его бумагами — тем, что осталось от великого маэстро. Они были вдвоем, никто им не мешал, а на меня они не обращали никакого внимания, считая, вероятно, «своим» или посвященным. Эти двое в своем поиске или изучении бумаг доходили до самозабвения, до экстаза и даже, как мне показалось, испытывали физическое наслаждение. Да-да, именно! В уничтожении писем, которые рвали, даже сжигали. Поначалу это вызывало только недоумение, а потом мне просто стало не по себе. Было в этом что-то нечистое, гадкое и даже грязное. Появился аббат Максимилиан Штадлер, бросил сердитую реплику, кивнув в мою сторону, и они умерили свой пыл. Вскоре я ушел, но осадок от этого остался надолго.
И ведь что удивительно, знаковые фигуры тех печальных жизненных коллизий — смерти великого Моцарта — ушли в мир иной одновременно. В 1803 году не стало сразу трех участников: секретаря Зюсмайра, Готфрида Ван Свитена, архиепископа Мигацци. Казалось бы, эти люди никак внешне не были связаны, но это только на первый взгляд.
Я не сомневался в том, что они унесли тайны Вольфганга Амадея с собой в могилы.
А тут у нас в Вене случилась сенсация: в прошлом году Антонио Сальери признался в убийстве Моцарта и даже пытался покончить с собой.
Да я и сам почувствовал, как смерть подошла вплотную к моему порогу и дышит в затылок. А потому не следует ли мне самому подумать о вечном?..
Нет, я не собирался и не хочу срывать маски, докапываться до истины — это не мое предназначение. Я поклялся сделать все возможное, чтобы изложить на бумаге то, что мне известно о великом маэстро. Я просто обязан это сделать. В настоящее время мы переживаем время Сатаны, время, когда всем заправляли продажные шкуры, творящие зло под маской благочестия и набожности. Меня к этим мыслям подвиг сам Вольфганг, и он, вернее — его душа не оставляли меня в покое до тех пор, пока я не исполню свой долг.
Да, совершенно забыл сообщить: со мной тут случилось престранное происшествие.
Моцарт явился мне в одну из ночей. Я сразу узнал его, он пришел ко мне в образе Папагено — эдакого народного шута горохового — Гансвурста.
Был в этом какой глубокий символ: обыкновенный паренек из народа — Папагено со своим музыкальным инструментом — волшебными колокольчиками, помогающие славному парню, несмотря на все опасности, достичь цели своих желаний. И вот, в освящении его любви, было отказано свыше, а она целиком основана на его наивном, сердечном чувстве.
Моцарт шел прыгающей походкой, напевая песенку Папагено:
Ты внемлешь звук громов, И также внемлешь ты Жужжание пчел над розой алой.Великий маэстро в моих снах оказался точь-в-точь таким, каким был при жизни. Моцарт смеялся. А я купался в каком-то странном серебристом свете и мог до мельчайших деталей разглядеть помещение, которое и без того знал прекрасно: это был кабинет маэстро — на клавире сгрудились горы листов бумаги с начатыми произведениями, им так и не суждено было быть написанными. Штора по-прежнему закрывала окно только наполовину. Да, подумал я, когда в дом приходит смерть, тут уж не до уборки комнат и ремонта квартиры.
Внезапно смех маэстро оборвался. Большие глаза Моцарта налились голубым светом. Он заговорил неестественно-дребезжащим, точно расстроенная струна, голосом:
— Доктор Клоссет, вы один, кто не предал меня, кто знает правду.
Я вздрогнул и зажмурился — уж больно все было реальным. Он не сводил с меня немигающих глаз. Потом глаза его увлажнились, он шагнул по направлению к инструменту. Моцарт заиграл, музыка была до того волшебная и прекрасная, что я онемел от изумления, а тело словно растаяло в роскошных аккордах и стало бесчувственным.
Потом все исчезло, как появилось. Но я лежал с открытыми глазами и не понимал, что это было: видение или явь.
Эти сновидения стали преследовать меня через 40 дней после кончины Вольфганга. Свыкнуться с подобным феноменом я не мог — это было просто невыносимо. Начались какие-то нелады на работе и дома. Даже моя драгоценная супруга, не выдержав мой несносный характер, перебралась в родовое имение под Инсбрук. Более всего я расстроился, что пропал мой архив и дневниковые записи, которые я вел, наблюдая Моцарта в последний год его жизни. Причем, история их пропажи загадочна: те записи, что я тщательно оберегал целых тридцать три года, в конце концов, исчезли. Дома, в моем кабинете случился пожар, и от письменного стола, где лежал мой манускрипт, остались одни головешки. По крайней мере, не сохранилось ни одной тетради или журнала. Может, до этих манускриптов дотянулись руки аббата Максимилиана Штадлера, действующего по воле и тайному заданию эзотерических и могущественных сил?
Чудом сохранились три листочка, исписанных моим почерком. И еще два засохших и потемневших от времени цветка. Эти реликвии — с панихиды Моцарта: цветы принесла Мария Магадлена Хофдемель; и они упали с гроба маэстро, когда поминальная служба закончилась.
Помню совершенно отчетливо, как 6 декабря в 3 часа пополудни шло отпевание тела великого Моцарта. Притч свершался прямо у входа в Крестовую капеллу (Kreuz-Kapelle), примыкающей к северной стороне собора св. Стефана, там, где находится соединительная решетка (Capistrans-Kanzel). На панихиде собрались немногие, чтобы проводить Моцарта в последний путь. Среди них были Готфрид Ван Свитен, Антонио Сальери, композитор Альбрехтсбергер, Франц Зюсмайер и другие крайне немногочисленные лица. И никого из Веберовых — ни тещи, ни вдовы, ни ее сестер.
Из прекрасной половины была только красивейшая из женщин Магдалена Хофдемель, единственная из пришедших на панихиду дам; она была беременной, — это было хорошо заметно.
Я подошел к ней, поздоровался и хотел, было, предупредить, что ей следовало бы воздержаться от этого печального мероприятия. Мало ли, что может случиться в таком ее положении. И гроб с телом, и болезнетворная инфекция, да и знак дурной. Но не вымолвилось ни слова.
Потом барон Готфрид Ван Свитен сообщил, что, согласно декрету кайзера Леопольда II, изданного 17 июля 1790 года, и, стремясь воспрепятствовать возможному распространению или возобновлению эпидемии, нужно изолировать тело умершего, а захоронение проводить сообразно с ритуалом, описанным в «Konduktsordnung». Поэтому до наступления темноты тело Моцарта оставляется в церкви в специально отведенном для этого месте. После чего особый возница погрузит гроб на похоронные дроги и отвезет на кладбище. Сопровождать тело на кладбище св. Марка строго запрещено. Погребение совершилось в отсутствие близких или каких-либо других людей, кроме могильщиков.
Никто не стал оспаривать указа императора — ни жестом, ни словом.
Гроб с телом Моцарта служители внесли внутрь капеллы, чтобы поставить у Распятия, и когда два цветка упали, я украдкой подобрал их и спрятал под одежды.
Теперь это — драгоценные знаки, мои реликвии, напрямую связанные с маэстро.
Ах, да! Я оказался невольным свидетелем разговора барона и императорского капельмейстера, ошеломившего меня до глубины души.
По завершению церемонии они уселись в карету; но у возницы что-то случилось с передним колесом, — и тот занялся починкой. А я, услышав негромкую беседу двух значительных особ, не смог отказать себе в любезности дослушать разговор до конца. Это были императорский капельмейстер А. Сальери и барон Герхард Ван Свитен.
— Я и представить себе не мог, что все так быстро завершится, — отчетливо произнес Сальери. — Вы герр Свитен изумительный политик.
— Такова моя обязанность: служить Двору и Империи, — добродушно отозвался барон. — Но случай здесь более, чем неординарный. Знаменательный. Ушел великий композитор и как? Попросту исчез в могиле для бродяг. Ни памятника, ни знака.
— Да, как быстро угасла его жизнь. А ведь все начиналось изумительно и блестяще. Как в сказке.
— Сальери, вы более композитор, чем политик. Его музыка божественна, она берет душу и сердце без остатка. Чего, простите, нет в ваших опусах. У вас все математически верно и гармонично. Но нет искры Божьей. Пройдет время, и все только и будут твердить: «Ах, Моцарт! Гениальный композитор!»
— Тут я категорически не соглашусь с Вами, барон.
— Господи, какое самомнение! Нас с вами и вспомнят, именно как современников Моцарта. Слава Богу, что мы не доживем до этого дня.
— Господин барон, если кто услышит вас, то подумает, Бог знает что.
— Не беспокойтесь, у меня все в порядке! — сухо отозвался Ван Свитен. — Мой мундир ослепительно чист. Но за вас я не ручаюсь.
— Барон, я не понимаю ваших намеков.
— Какие намеки? Тут ясно, как Божий день. Вы думаете, людям можно долго морочить голову о том, что молодой гений умер от какой-то безобидной «просянки»? Признайтесь себе, что мы все убили Моцарта в расцвете его божественного таланта.
Упала громкая пауза.
Барон Ван Свитен продолжил говорить, а в голосе его слышалось неприкрытое злорадство:
— Друг мой, вспомните, как много было участников убийства великого Цезаря. Но у нас иной случай: люди не захотят признаться в том, что мы все — погубили его. Нет-нет, обязательно отыщут одного виновного, которого заклеймят, словами, вложенными в уста того же Цезаря: «И ты Брут?». Как вы думаете, друг мой, кого же люди изберут этим заклятым преступником, этим библейским Каином?
— Думаю, что не нас с вами.
— Вот вы и ошиблись, господин Бонбоньери[9]! Всякому трактирному музыканту в Вене известно, что именно вы его отравили. Земля слухами полнится.
— Но позвольте!.. Мало ли слухов, которыми земля полнится.
— Ладно, маэстро. Так и порешим: пусть говорят. Поскольку мертвым жить, а живым умирать.
Установилось гнетущее молчание. Я лишь на миг представил лица пассажиров экипажа: самодовольно ухмыляющегося барона и сжатые губы побледневшего Сальери.
Но тут щелкнул кнут, послышался окрик возницы «Давай!». И я, будто очнувшийся от волшебных чар, метнулся за угол капеллы. И тут в лоб столкнулся с аббатом Максимилианом Штадлером, который окинул меня надменным взглядом и шагнул внутрь капеллы.
Память — это святое.
Я протягиваю руку, касаюсь бумаги, цветов, и они волшебным образом возвращают меня в прошлое, до которого, казалось, не достать и не дотянуться.
Позвольте мне начать повествование с последних дней и часов жизни Вольфганга и медицинского заключения, сделанного без обычного вскрытия трупа. Ибо, с одной стороны, этим все закончилось, а с другой — с этого все началось.
Я, как домашний врач семьи Моцартов, свидетельствую: история болезни Моцарта вплоть до лета 1791 года в буквальном смысле была «пуста», если не считать его собственных признаний в письмах о заразных болезнях и неврологических головных болях, что вполне естественно для нормального человека, но недостаточно, чтобы превратить его в «больного», тем более, что и личная, и интимная его жизнь свидетельствуют о цветущем здоровье!
Более того, те, кто, наконец, предполагали у Моцарта почечную недостаточность, намного ближе к истинной клинической картине заболевания. Но «чистая, спокойная уремия», как считали некоторые мои коллеги, исключается уже потому, что маэстро, как нам известно, до самого конца сохранял работоспособность и, главное, находился в полном сознании. Сколько я помню, уремики на несколько недель и даже месяцев перед смертью теряют работоспособность и последние дни проводят в бессознательном состоянии.
Мне, как практикующему врачу и завзятому театралу, кажется совершенно невероятным, чтобы такой больной за три последних месяца жизни написал две оперы, две кантаты, Концерт для кларнета и свободно передвигался из одного города в другой город! Как показывает практика, опухание появляется не в конце хронического заболевания почек, а в начале острого нефрита — острого воспаления почек, которое только после многолетнего хронического периода переходит в конечную стадию — уремию.
Однако в истории болезни Моцарта нигде не упоминается о перенесенном им воспалительном поражении почек. Если бы маэстро длительное время страдал заболеванием почек, то в любом случае в том или ином виде до меня и моего коллеги дошли бы упоминания о жажде, которая является обязательным симптомом при подобного рода заболевании, но этого нет! Да присмотритесь, наконец, к известному рисунку Доротеи Шток (исполненного за два года до смерти маэстро), который не выдает «отекших черт» лица маэстро. При этом часто забывается, что Моцарт принадлежал к пастозному типу людей, и портрет семилетнего вундеркинда уже отображало некоторую вялость кожи лица мальчика.
А сколько было услышано мною, о неоднократных высказываниях самого Моцарта, что «его враг» композитор Антонио Сальери «покушался на его жизнь», а также известные намеки Констанции про жалобы Вольфганга на то, что ему дали яду. Все это привело к тому, что подозрение в криминале только усилилось, а потому снова и снова становилось поводом для жарких дискуссий.
Мнения сходились в одном: Моцарту через большие промежутки времени в еду и питье подмешивали медленно действующий яд. И начало этому было положено в конце лета 1791 года. Но тут много противоречивого. Если повнимательней присмотреться к моему бывшему пациенту, то симптоматология отравления, к примеру, мышьяком совсем не соответствует клинической картине последней болезни маэстро.
Головные боли, головокружение, рвота, потеря веса, неврозы, депрессии, легкая возбудимость и беспокойное состояние — это признаки остро очерченного каломельного заболевания или «erethismus mercurialis». К картине хорошо изученного на сегодняшний день (1823 год) этого недуга относятся такие симптомы: лихорадка, экзантема и раздражение мозговой оболочки, то есть признаки, в конце концов, проявившиеся у Моцарта. А упомянутое выше ощущение озноба у маэстро — типичное при длительном действии препарата данного типа.
Я вновь и вновь мысленно возвращаюсь к последним дням великого маэстро. Хроника коротка и известна. Уже 28 ноября 1790 года мы с д-ром Матиасом фон Саллабой проводили консилиум, но так и не пришли к общему заключению. 3 декабря Моцарту пустили кровь, и состояние больного несколько улучшилось.
Вечером 4 декабря у маэстро поднялся сильный жар, начались невыносимые головные боли. Я был тогда в театре и не думал, что у маэстро будет такая сокрушительная динамика, После спектакля, я застал Моцарта совершенно плохим и назначил холодные компрессы на лоб. За два часа до смерти Моцарт потерял сознание; а что-то около 00 часов 50 минут, то есть на исходе первого часа нового, наступающего дня, 5 декабря великого композитора не стало.
В этот момент у кровати больного находились я, как домашний доктор, и свояченица — фрау Зофи Хайбль. Мадам Констанция, кажется, в тот момент отсутствовала: она то появлялась, то исчезала где-то в глубинах квартиры. Мне даже показалось, что она сторонилась покойника, избегая находиться рядом с мужем. Или так мне все казалось, — трудно сказать.
Тогда вопросов у меня возникло много. Так, мне было сообщено, что Моцарт хотя и был соборован, но причащен не был. Однако такое возможно только у лиц, находящихся в бессознательном состоянии, или тяжелобольных in hora mortis (при смерти). Следовательно,
Зофи Хайбль застала Моцарта уже в состоянии, исключавшем какую-либо сознательную деятельность или общение, что, надо сказать, вполне соответствовало тяжести заболевания маэстро.
У Вольфганга были приступы головокружения и слабости и другие симптомы.
Сохранявшаяся до последнего момента работоспособность, отсутствие длительных провалов сознания ante finem (перед кончиной), отсутствие жажды и начавшееся в самом конце эминентное опухание тела (острый, токсичный нефроз); далее были головная боль и рвота, галлюцинации и бред, катастрофическая потеря веса и финальная кахексия с терминальными судорогами. А поскольку не обошлось и без диффузной сыпи, то мой диагноз был таков: «острая просовидная лихорадка», — болезнь, всегда сопровождавшаяся характерными изменениями кожи.
Причем, я и тут не собираюсь грешить против истины. Когда мы с коллегой обдумывали, что включить нам в эпикриз о смерти В. А. Моцарта, меня на минутку попросил уединиться герр Готфрид Ван Свитен.
— Каков ваш вердикт, доктор Клоссет? — жестко спросил он.
Я замялся, памятуя наши с ним прошлые беседы.
— Да как вам сказать, герр барон. Мы с доктором Саллабой расходимся в диагнозе. Мой коллега склоняется к тому, что смертельная болезнь Моцарта наступила в результате токсико-инфекционного заболевания, поскольку, с его точки зрения, налицо обычные симптомы воспаления мозга или deposito alia testa (буквально: «отложение болезнетворной материи в голове» — лат.).
— Есть мнение, что это острая просовидная лихорадка, — болезнь, всегда сопровождающаяся характерными изменениями кожи, — вдруг резко заявил Ван Свитен и добавил: — У вас все эти симптомы налицо. И потому никаких вскрытий тела не производить, никаких эпикризов не писать. Иначе. иначе вам удачи не видать!
— Итак, значит «просянка», — озадаченно произнес я и заговорил как по писаному: — «Просянка» считалась чрезвычайно заразной, потому-то тело нужно было как можно поспешно вынести из дома, а санитарный военный лекарь должен присматривать за тем, чтобы в пути соблюдались противоэпидемические гигиенические меры, как-то: сжигание одежды, запрет на прощание с телом и дома и в церкви, похороны без выдержки срока в 48 часов.
— Вот так и должно быть, — уже помягче сказал Ван Свитен. — Так что соблаговолите разъяснить это вашему коллеге, герру Саллабе.
Что произошло той ночью, должно казаться непостижимым. Зофи, как я убедился, была единственной, кто ухаживал за умирающим (он умер якобы у нее на руках), тогда как Констанция, не заходила в комнату, где умирал ее муж. И то, что она по ее словам, сказанным много позже, «с криком, пронзившим ночь, бросилась на постель мертвеца, чтобы заразиться лихорадкой» было совершеннейшим бредом.
Итак, официальной причиной смерти мной, д-р Клоссетом и моим коллегой доктором Саллабой была названа «острая просовидная лихорадка». Нами был составлен эпикриз (предварительное медицинское заключение) и свидетельство о смерти, скрепленное нашими подписями. Окончательный диагноз подтвердили и представители властей, осматривавших труп, которые заполнили «карточку» с указанием заболевания и персоналиями усопшего, запись в книгу регистрации мертвых производил другой государственный чиновник на основании ранее составленных документов. Потом эпикриз таинственным образом куда-то исчез. Я, конечно же, догадывался о многом на сей счет.
Добавлю, что по тем временам наша венская медицинская школа знала «лихорадку с сыпью» или «лихорадку, острую», а также «просовидную сыпь», но не «острую просовидную лихорадку». Хотя, мы с коллегой Саллабой очень сомневались, что этот «номер» пройдет гладко: подобный диагноз не встречался ни до, ни после смерти Моцарта. Но нам дали понять, что речь должна идти о заразном заболевании — все указывало на быстрое разложение тела. Поэтому распоряжением, предписывавшим погребение усопшего «не ранее 48 часов», просто пренебрегли.
Незаметно прошло свыше тридцати лет, наступил 1824 год. Я практически не изменился, не считая моего физического состояния, которое было под стать возрасту. И тут произошло невероятное с точки зрения медицины событие. То есть спустя треть века после кончины Моцарта, мой коллега, протомедикус д-р Э. Ф. Гульденер фон Лобес, опубликовал письменное свидетельство о его смертельной болезни. Чудеса были в том, что он составил эпикриз, даже не осматривая тело покойного и не прочитав протоколов о смерти, а некоторым заочным образом. Его диагноз «ревматическая лихорадка», под которой медики подразумевали патологическое раздражение нервной системы с многозначной симптоматикой («ревматизм фиброзных органов, отек серьезных органов, катар слизистых оболочек, паралич нервной системы и так далее).
Кроме того, диагноз «ревматическая лихорадка» в метриках за ноябрь-декабрь 1791 года встречается всего лишь семь раз, и об эпидемии намеков не было!..
Правда, повод для этого был экстраординарным: в Вене вновь ожили подозрения, что великий маэстро умер неестественной смертью, которая связывалась с именем почтенного композитора Сальери, старого соперника Моцарта. Престарелый композитор и придворный капельмейстер Антонио Сальери проживал на ту пору в Вене в доме № 1088 — это угол Шпигельгассе и Зайлергассе. Хуже того, эти слухи широко обсуждались в Вене, и даже утверждалось, что придворный капельмейстер даже хотел покаяться в своем преступлении. Друзья Сальери предприняли все усилия для его реабилитации. Итальянский журналист и агент охранного отделения Дж. Карпани в миланском журнале «Biblioteca Italiana» (1824 год) опубликовал большую апологию Сальери, в которой и представил «аттестат» Гульденера. Автор заочного эпикриза, правда, признался, что Моцарта он не посещал и никогда его не видел; все им было будто бы записано со слов лечащих врачей Моцарта, то есть меня, д-ра Николауса Франца Клоссета и моего коллеги д-ра Саллабы.
Знаменательно уже то, что я, д-р Клоссет, находился в здравом уме и твердой памяти! И проблема была только в том, чтобы прийти ко мне и поговорить со мной тет-а-тет, как врач с врачом. Если бы не моя постоянная хворь и недомогание — я добрался бы до коллеги фон Лобеса самостоятельно.
Таким образом, если подвести итог всей этой группе смертельных диагнозов Моцарта, то все тут неясно, расплывчато и бездоказательно.
Я привык к анекдотам, которые рождались полчищами, как летом мухи, когда речь шла о великих людях. Если верить сплетникам, тогда получается, как по господину Ф. Б. Сюару из Франции, который утверждал, что великий маэстро страдал неизлечимой болезнью, которой его одарила некая дама из театральных кругов. А сифилис в те времена лечился приемом внутрь ртути (пилюли сулемы).
Вот рецепт для примера:
Mercurii sublimati corrosivi grana quindecim solve in
Aquae destillatae drachmis sex.
Decantato liquori adde
Micae panis albi, drachmas duas cum dimidia.
Misce fiat Massa, ex qua formentur pilulae Nr. 120.
Утром и вечером по 2 пилюли.
(15 гран = 1,05 г; 1 драхма = 4/4 г).
Именно у нас, в Вене, лейбмедик Марии Терезии Герхард Ван Свитен (отец нашего барона Готфрида Ван Свитена) с 1754 года начал практиковать лечение сифилиса своим Liquor mercurii Swietenii, содержавшим от 0,25 до 0,5 грана сулемы, растворенной в водке; алкоголь при этом служил не только растворителем, но и придавал стимулирующие и приятные вкусовые качества.
Доказательств, что Моцарт страдал этим венерическим заболеванием, просто нет в природе. Да и его «беспутная жизнь» могла быть выдумана только для того, чтобы «обосновать» его противоестественную смерть».
Приложение
С этими дневниковыми записями лежала объемистая стопка из вырезок газет, еженедельников, журналов и книг, а также речи и письма и иные записи, прямо или косвенно связанные с сообщениями о жизни и смерти Вольфганга Амадея Моцарта.
«Запись о смерти в канцелярии собора св. Стефана»:
Xbris
5-го
(Город) Вена, Раухенштайнгассе в малом доме Кайзера № 970
Звание: господин Вольфганг Амадеус Моцарт императорский и королевский капельмейстер и камер-композитор
(Католик) — I
(Мужской пол) — I
(Возраст) — 36
(Болезнь и вид смерти) — острая просовидная лихорадка
(Место, куда и день погребения) 6-го так же (Xbris) то же (кладбище у св. Марка).
«Книга регистрации усопших прихода св. Стефана»:
«6-го Xbris
Моцарт (Звание)
господин Вольфганг Амадеус 3-й класс
Моцарт, императорский и королевский Капельмейстер и камер-композитор,
на Раухенштайнгассе в малом доме Кайзера № 970,
от острой просовидной лихорадки осмотрен
Приход св. Стефана
На кладбище св. Марка
Возраст 36 лет.
Оплачено 8 флоринов 56 крейцеров 4. 36 Дроги флоринов 3.00 4 флорина 36 крейцеров — приходу,
4 флорина 20 крейцеров — церкви.
«Wiener Arbeiterzeitung»
(«Венская рабочая газета»),
14 апреля 1957 года:
(по д-ру Э. Вайцману)
Данные о смертности города Вены с октябрь по декабрь 1791 года: октябрь 1791 года — 840 человек, ноябрь 1791 года — 858 человек, декабрь 1791 года — 874 человека.
Постфактум (Вера Лурье). Ничто не свидетельствует об эпидемии, которая разразилась «поздней осенью. и поразила многих»; незначительное увеличение смертности в декабре связано с сезонными колебаниями. По Вайцману, в списке мертвых не значилось ни одного случая «ревматической лихорадки».
«Musikalisches Wochenblatt»
(«Музыкальный еженедельник»)
Берлин (конец декабря 1791 года):
«Моцарт скончался. Он вернулся домой из Праги больным и с той поры слабел, чахнул с каждым днем: полагали, что у него водянка, он умер в Вене в конце прошлой недели. Так как тело после смерти сильно распухло, предполагают даже, что он был отравлен.»
«Wiener Zeitung»
(«Венская газета») от 7 декабря 1791 года:
«В ночь с 4 на 5 с. м. здесь скончался императорско-королевский придворный композитор Вольфганг Моцарт. С детства известный всей Европе редкостным своим музыкальным талантом, он удачливейшим развитием от природы унаследованной одаренности и упорнейшим ее применением достиг высочайшего мастерства; свидетельство тому — его очаровательные и всем полюбившиеся произведения, заставляющие думать о невосполнимой утрате, постигшей благородное искусство с его смертью».
Письмо из Праги от 12 декабря 1791 года извещало:
«Моцарт — мертв. Он вернулся домой из Праги больным и с тех пор беспрестанно хворал; сочли, что он болен водянкой, и в конце прошлой недели он умер в Вене. Так как после смерти его тело вздулось, думали даже, что он был отравлен. Говорят, будто одной из его последних работ была заупокойная месса, которую исполнили во время его погребальной литургии. Только теперь, когда он мертв, венцы узнают, что они потеряли вместе с ним».
«Der heimliche Botschafter»
(«Тайный посланник»)
Из рукописной венской газеты от 9 декабря 1791 года:
«Смерть Моцарта событие крайне прискорбное для музыки и всех ее почитателей. Просянка, унесшая его в могилу, и у господина Шиканедера отняла вторую часть «Волшебной флейты», первое действие коей уже было готово».
Сводки погоды 6 декабря 1791 года
Запись графа Карла фон Цинцендорфа (дневник) и данные Венской обсерватории о погоде в день похорон Моцарта 6 декабря 1791 года.
«Temps doux et brouillard frequent (Погода теплая и густой туман, — фр.).
8 часов утра:
Барометр 277' 6"
Теромеметр + 2,6°
Ветер 0
3 часа пополудни:
Барометр 277' 0”
Термометр +3,0°
Ветер 0
Постскриптум (Вера Лурье).
Эти первоисточники опровергают утверждения, будто в день похорон Моцарта была непогода с дождем, переходящим в мокрый снег. И добросовестные записи в дневнике графа Карла фон Цинцендорфа, и метеорологические наблюдения Венской обсерватории свидетельствуют: колебания барометра минимальны, весь день был безветрен и, в соответствии со временем года, прохладен, но не холоден. Получается, что друзья Моцарта заблуждались, сообщая биографам впоследствии об ужасной, сырой с бурей непогоде, не позволившей им сопровождать гроб с телом Моцарта до кладбища.
Сам факт погребения Моцарта с известной долей вероятности можно принять, основываясь только на записи в Книге регистрации усопших, сделанной пастором церкви св. Стефана 6 декабря 1791 года, где указаны расходы на похороны Моцарта, а также имеются замечания типа «на кладбище св. Марка» и «дроги». А свидетельств очевидцев захоронения так и нет. Отпевание в часовне св. Креста — пристройке к собору св. Стефана, последний путь покойника через Штубентор по проселку предместья Ландштрассе до кладбища св. Марка. Сколько об этом говорено, сколько написано, а сколько просто приписано и ничего не доказано! Совершенно определенно известно только, что на погребении не было ни вдовы, ни друзей, ни братьев-масонов, что никто не отдал покойному элементарнейшего долга, что на его гроб не пало ни горстки земли из рук знакомых, что после этих похорон по самому низкому разряду могила так и осталась непомеченной. Таковы сухие подробности самого погребения, достойные разве что бездомной собаки; все остальное — благочестивые легенды, включая и злополучную «непогоду».
Напомню, что общие могилы рылись глубиной примерно в 2,5 метра и заполнялись в три слоя, но не сразу, а по мере поступления покойников. То, что такие могилы никогда не имели ни надгробий, ни указателей имен усопших, и стало причиной потери места захоронения Моцарта, если он был вообще там похоронен!
Помнится, в 1820 году при вскрытии могилы Йозефа Гайдна обнаружилось, что там отсутствует его череп, который, как оказалось, был «реквизирован» секретарем Эстергази Розенбаумом в качестве магического атрибута. Если учесть, что Гайдн был великим музыкантом, а В. А. Моцарт все-таки — «a God in Music», становится ясно, что любые поиски «предполагаемой могилы Моцарта» дело бесполезное!
«Hadi es Mas Nevezetes Tortenetek».
«Военные и другие замечательные события».
(Вена, 9 декабря 1791 года):
«Числа 5 сего месяца ранним утром знаменитый во всей Европе Вольфганг Моцарт, императорский и королевский придворный композитор, закончил свою короткую, длившуюся всего 35 лет жизнь. Даже величайших мастеров поражал воистину редкий талант этого великого музыканта. Но что оставил после себя сей высокоодаренный муж? Вечное имя, но и беспомощную вдову с двумя малютками и неоплаченными долгами. Заботу о детях уже взял на себя великодушный барон Свитен. Один из них, будучи совсем еще мал, уже так играет на клавикордах, что все внимают ему с удивлением».
Некролог ложи «Увенчанная надежда».
Из речи в ложе на смерть Моцарта. Зачитана во время приема мастеров в почт. св. Иоанна «Вновь увенчанная надежда» Востока Вены братом Х-ром:
«Достославный магистр, достославные делегированные мастера многоуважаемые братья!
Вечный зодчий мира нашел необходимым вырвать из нашей братской цепи одного из наших любимейших, наших достойнейших членов. Кто не знал его? кто не ценил его? кто не любил его, нашего почтенного брата Моцарта? Минуло всего лишь несколько недель с тех пор, как он стоял здесь среди нас, прославляя волшебными звуками освящение нашего масонского храма.
Кто из нас, мои братья, мог бы тогда отмерить ему столь короткую нить жизни? Кто из нас подумал бы, что спустя три недели мы будем носить траур по нему?»
Траурное заседание ложи состоялось только в конце апреля 1792 года. Речь была издана бриттом Игнацом Альберти. Автором речи (и следующего за ней стихотворения) был драматург Карл Фридрих Хенслер. Из приведенных выше строк однозначно следует, что в течение длительного времени, вплоть до самой смерти, Моцарт не производил впечатления тяжело больного человека; наоборот, смерть его была явной неожиданностью для членов ложи «Вновь увенчанная надежда», которая, по другим источникам, тогда снова называлась «Увенчанная надежда».
Заключение о смерти Франца Хофдемеля.
«Хофдемель, Франц, канцелярист высшего судебного присутствия, покончил жизнь самоубийством в своей квартире по Грюнангергассе, дом № 1360, владелец Роллетер, и был осмотрен судебным экспертом в госпитале, возраст 36 лет».
Франц Хофдемель, друг Моцарта, тоже масон, покончил жизнь самоубийством в день похорон Моцарта.
Постфактум (В. Лурье):
«6 декабря неподалеку разыгралась семейная драма, которая долгое время также была окутана тайной. Франц Хофдемель, брат Моцарта по ложе, в болезненном приступе ревности с ножом набросился на свою жену Магдалену, любовницу Моцарта, нанес ей множество ран, но так и не убил ее. Затем он перерезал себе вены».
«Neuer teutscher Merkur» Виланда.
«Новейший Меркурий Тойчер» Виланда.
г. Веймар, сентябрь 1799 года:
Вот буквальный перевод фрагмента из письма одного английского путешественника, побывавшего в Вене:
«Британец показывает гробницу немца Генделя в Вестминстерском аббатстве с радостным сознанием, что он умеет ценить любые заслуги. Здесь же не в состоянии показать место, где находятся на кладбище забытые останки Моцарта (быть может, насильственно погибшего)».
В феврале 1799 года здесь же к стихотворению на смерть Моцарта (Й. Исаак барон Гернинг) появилась следующая сноска:
«К чести человечества и музыки, хочется надеяться, что сей Орфей умер все-таки своей смертью!»
Й. И. фон Гернинг.
«Путешествие по Австрии и Италии», 1802 г.
«Ах! неужели Моцарта, этого нового Орфея, уже нет на свете, неужели ему никогда боле не одаривать мир новыми шедеврами! К чести всякого искусства и человечества, вряд ли можно поверить, что он принял противоестественную смерть от завистливой руки чужеземца, Он, столь справедливый, бескорыстный и всегда открытый перед чужими достоинствами!
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве на могиле Генделя красуется надгробный памятник. Здесь же никому неведомо, под какой былинкой, под каким кладбищенским цветком покоятся останки Моцарта. Сколько же можно упрекать немцев в равнодушии к своим великим душам? В свое время, в саду подле дома маленький Моцарт похоронил щегла и подписал его могилу. Где и когда же, наконец, будет установлен надгробный камень, несущий и его гордое имя?..»
«Wiener Morgenpost».
(«Утрення венская почта»)
28 января 1856 года.
(Свидетельство владельца таверны «Золотая змея» Иосифа Дайнера)
«Моцарт, ступив в каморку, обессилено упал в кресло, уронив голову на ладонь правой руки, локтем опертой о спинку. Просидев так изрядно долго, он приказал слуге принести вина, хотя обычно пил пиво. Когда слуга поставил перед ним вино, Моцарт продолжал сидеть без движения, забыв даже, что следует расплатиться. В это время в дверях появился хозяин таверны Иосиф Дайнер. Моцарт хорошо знал его и относился к нему с большим доверием. Дайнер, завидя Моцарта, остановился и долго и пристально разглядывал его. Моцарт был бледен, напудренный парик сбился на бок, косичка расплелась. Вдруг он поднял глаза и заметил хозяина. «А, Иосиф. Ну, как дела?», — спросил он. «Об этом, пожалуй, следовало бы спросить вас, — отвечал Дайнер, — вы так скверно выглядите. Похоже, в Чехии вы чересчур налегали на пиво и испортили желудок. — «Желудок мой лучше, чем ты думаешь, — проговорил Моцарт, — он научен теперь переваривать любую дрянь! Нет, — продолжил он, тяжело вздохнув, — чувствую, что музыке скоро конец. Какой-то холод напал на меня, и не знаю, отчего это».
«Анекдоты о Моцарте»
Париж, 1804 год.
«Слыхал я, будто «Волшебную флейту» он написал для некой примадонны, в которую был влюблен, и которая назначила за любовь такую цену. Говорят еще, что триумф его имел весьма плачевные последствия: он подхватил неизлечимую болезнь, от которой вскоре и скончался. Во время сочинения оперы здоровье его и так было очень подорвано.
«Его здоровье, от природы нежное, ухудшалось с каждым днем. Раздражительность его нервов усиливалась от непомерного усердия в работе и развлечениях; ни в том, ни в другом меры он не знал. Периодически его одолевали приступы меланхолии. Он предчувствовал свой конец и с ужасом видел его приближение, замечал, как день ото дня тают его силы. Однажды он даже впал в беспамятство. Бедный Моцарт вбил себе в голову, будто неизвестный посланец был направлен к нему для того, чтобы возвестить его близкий конец.»
Биография Ф. Немечка.
Прага, 1798 год.
«Когда она (его супруга) однажды поехала с ним в Пратер, дабы развеять его и отвлечь от дурных мыслей и они остались наедине, Моцарт начал говорить о смерти и утверждал, что сочиняет Реквием для самого себя. Слезы выступили на глазах этого чувствительного человека.
«Я слишком хорошо чувствую, — проговорил он, — жить мне осталось недолго: конечно, мне дали яду! Я не могу отделаться от этой мысли». Тяжким грузом легли эти речи на сердце его супруги, у нее едва хватило сил успокоить его.»
Из дневника С. Буассерэ, Гейдельберг, ноябрь 1815 года.
«Детуш, капельмейстер князя Валлерштайна, посетил нас. Семь лет он бывал у Моцарта. По конституции Моцарт был совсем мал, очень нервозен. Все его оперы, кроме «Волшебной флейты», в Вене провалились.
Детуш был у него, когда тот писал (Реквием); он пребывал в сильной меланхолии, болел и уединялся от всего мира, хотя прежде был таким весельчаком: говорят, он получил aqua toffana».
Публикации д-ра Матильды Людендорф.
Д-р мед. М. Людендорф. «Неотомщенное злодеяние над Лютером, Лессингом, Моцартом, Шиллером». Мюнхен, 1928.
«Жизнь Моцарта и его насильственная смерть.
По свидетельствам ближайших родственников и его собственным письмам. Выбрано из биографии Ниссена и Констанцы Моцарт, а также других источников». Мюнхен, 1936 г.
Деятельность госпожи д-ра мед. М. Людендорф заслуживает особой признательности, это она в первые десятилетия нашего века открыто и убедительно — несмотря на внешнее давление, оказываемое на нее, довела до самого широкого круга читателей факты, связанные с насильственной смертью Моцарта. Хотя в ее книгах историческая канва отравления преобладает над токсикологическими проблемами, ее изыскания заложили основу для последующих чисто медицинских детальных исследований. Подобно Г. Ф. Даумеру и X. Альвардту, д-р мед. М. Людендорф причину внезапной кончины Моцарта видит в мировоззренческих расхождениях между композитором и орденом. Особого накала они достигли в 1791 году, когда Моцарт вынашивал план создания собственной ложи «Грот».
Постскриптум (Вера Лурье):
Особого внимания заслуживает следующий источник: «Allgemeine Instruktionen, Lehrbuch fur die Mitglieder der grossen Landesloge der Freimaurer von Deutscland, 1 Teil. Die Johannisgra e. Neue Bearbeitung von Br. H. Gloede. Als Handschrift mit grossmeisterlicher Genehmigung fur Brr. Freimaurer gedruckt», S. Mittler und Sohn, Berlin, 1901.
(Перевод: «Общие указания, руководство для членов большой земельной масонской ложи Германии, 1 часть. Градусы иоаннитов. Исправленное издание бр. X. Гледе. Отпечатано на правах рукописи для бр. масонов с гроссмейстерского одобрения». С. Миттлер и сын, Берлин, 1901).
Здесь в «Изданном для братьев учеников ложи иоаннитов употребительстве…», I тетрадь на стр. 97 и далее читаем: «Потому и звучит песнь союза в этой части нашего ритуала. Надобно сказать, бр. Моцарт одарил его несравненно прекрасной мелодией, своей лебединой песнью, кою ему уже не услышать из уст братьев, поскольку перед празднеством ложи (имеется ввиду освящение храма 18 ноября 1791 года) он был призван сложить земные инструменты».
Книги доктора медицины Матильда Людендорф: «Неисследованные преступления о Лютере, Лессинге, Моцарте, Шиллере». Мюнхен, 1928 год; «Жизнь Моцарта и его насильственная смерть. По свидетельству его родственников и его собственным письмам. Выдержки из биографии Г. Ниссена и Констанции Моцарт и других источников…» Мюнхен, 1936 год.
Разговорные тетради Бетховена.
(Запись венского редактора «Wiener Zeitung» Й. Шикха от 1823 года):
«Сальери перерезал себе горло, но пока жив».
Чуть дальше: «Сто против одного, что в Сальери проснулась совесть! То, как умер Моцарт, подтверждение тому!»
В начале 1824 года пишет секретарь Л. Бетховена капельмейстер А. Шиндлер:
«Сальери опять очень плох. Он в полном расстройстве. Он беспрерывно твердит, что виновен в смерти Моцарта и дал ему яду. Это — правда, ибо он хочет поведать ее на исповеди, — поэтому правда также, что за всем приходит возмездие».
В 1824 году пишет племянник Бетховена Карл:
«Сальери твердит, что он отравил Моцарта».
А. Шиндлер добавляет:
«Он постоянно говорит. что хочет. поведать об этом на исповеди».
И уже в 1825 году, после смерти Сальери, последовавшей 7 мая, племянник записывает:
«И сейчас упорно говорят, что Сальери был убийцей Моцарта».
«Allgemeine musikalische Zeitung»
(«Всеобщая музыкальная газета», Лейпциг от 25 мая 1825 года)
Вена. Музыкальный дневник за апрель.
«Наш почтеннейший Сальери — как говорят у нас в народе — не может умереть, и все тут.
Тело отягощено всяческими старческими недугами, вот уж и разум покинул его. В бредовом расстройстве он признается даже, будто приложил руку к смерти Моцарта: бред, коему поистине никто и не верит, — что взять с почтенного рехнувшегося старца. А современникам Моцарта, увы, хорошо известно, что изнурительная работа и легкая жизнь в неразборчивом обществе сократили драгоценные дни его жизни».
Биография Моцарта Г. Н. фон Ниссена (Лейпциг, 1828 год).
«По возвращении Моцарта из Праги в Вену. супруга его с глубоким огорчением замечала, что силы его таяли с каждым днем. В один из прекрасных осенних дней, когда она, дабы развлечь его, поехала с ним в Пратер и они остались наедине, Моцарт начал говорить о своей смерти и утверждал, что сочиняет Реквием для самого себя. При этом в глазах у него стояли слезы, а когда она попыталась отвлечь его от черных мыслей, он возразил ей:
— Нет, нет, я слишком хорошо чувствую — жить мне осталось недолго: конечно, мне дали яду! Я не могу отделаться от этой мысли.
Тяжкой ношей пали эти слова на сердце его супруги, у нее едва хватило сил утешить его.
Да, о странном появлении и заказе неизвестного Моцарт выражал даже иные, весьма диковинные мысли, а когда его пытались отвлечь от них, он замолкал, так и оставаясь при своем».
«Паломничество к Моцарту»
Путевые дневники Винцента и Мэри Новелло за 1829 год.
(Впервые опубликованы: Лондон, Англия 1955 год; ФРГ, Бонн, 1959)
«Вражда Сальери началась с оперы Моцарта «Cosi fan tutte». Сын отрицает, что он (Сальери) отравил Моцарта, хотя отец считал так, и Сальери сам признался в этом на одре смерти.»
Приблизительно за шесть месяцев до смерти Моцарта посетила ужасная мысль, что кто-то хочет отравить его aqua toffana. Однажды он пришел к ней (Констанце) с жалобами на сильные боли в пояснице и общую слабость; один из его врагов будто бы дал ему пагубную микстуру, которая убьет его, и они могут точно и неотвратимо вычислить момент его смерти.
Примерно за шесть месяцев до смерти он был одержим мыслью, что его отравили. «Я знаю, что умру, — воскликнул он, — кто-то дал мне aqua toffana и заранее точно вычислил день моей смерти.»
Г. Ф. Даумер. «Из мансарды» (Майнц, 1861 год).
«Волшебная флейта» имеет тайный смысл, в разговоре с Эккерманом и Гете выразился в том же духе. Связи оперы с орденом достаточно очевидны.
Эта смерть великого Моцарта погружена в особенную, загадочную тьму. Сам он в последние свои дни жизни не раз высказывал предположение, что отравлен. Один итальянец сказал о Моцарте: «La sua vita era, cosi dire, una fortuna publica, una publica calamita la sua morte» («Его жизнь была, так сказать, народным счастьем, его смерть — народным горем» — итал.).
Изменнику предназначалось наказание кинжалом и «aqua toffana» (мышьяк — лат.). Рискованное предприятие бедного Моцарта кончилось плачевно; он стал мучеником своей идеи, и преступление, совершенное против разрушительной силы (ордена), ему пришлось искупить трагической гибелью».
Причиной происшедшего Г. Ф. Даумер считает разрыв Моцарта с орденом масонов и склоняется к мнению, что отравление последовало уже в сентябре 1791 года, когда Моцарт заболел в Праге.
«Vossische Zeitung»
(«Воссишская газета», №» 622 от 5 декабря 1916 года)
«Убийство Моцарта». Д-р Леопольд Хиршберг.
В связи со 125-летней годовщиной со дня смерти Моцарта известный коллекционер всяческих редкостей и странных случаев вновь вспоминает о необычном обвинении, касающемся смерти маэстро.
В 1861 году он (Г. Ф. Даумер) издавал журнал «Zeitschrift in zwanglosen Heften» под общим названием «Из мансарды», в шести номерах которого были опубликованы полемические и критические статьи, а также поэзия. Неудивительно, что много места в них было отдано его «мистериологическим штудиям» о тайных союзах, обрядах и культах — ведь он возделывал хорошо знакомую и полюбившуюся ему область знаний. Изыскания, проделанные им прежде, дали ему возможность стать докой в знаниях о тайных союзах, существовавших у евреев и ранних христиан. Прототипом такого оккультного братства новейших времен ему видятся теперь иллюминаты и масоны, и он выступает против них с завидной страстью и горячностью, особенно проявляющихся в описаниях человеческих жертвоприношений, характерных для старых религий. Искренность и прямота, присущие Даумеру в особой мере, пусть иной раз и сбивающие его из-за понятных преувеличений в сторону, на каждого честно и идеально мыслящего человека действуют безотказно. Сегодняшнее масонство нельзя сравнивать с исконным; то, что в первое время оно сыграло не последнюю роль в области религии и на политической арене, не подлежит сомнению, и это подтверждают крайние меры, предпринятые в свое время австрийским правительством. Поэтому необычные и страшные обвинения Даумера, которые нас сейчас занимают, можно понять только исходя из сущности исконного масонства.
Но насколько резче сформулирован обвинительный приговор в следующей статье «Ложа и гений», где он касается взаимоотношений между тайными обществами и фигурами великими и гениальными, избрав для примера двух членов ордена — Моцарта и Лессинга.
По тысяче причин орден был особо обязан и благодарен Моцарту, своему брату. Однако о материальной поддержке композитора, в которой он столь нуждался, не было и речи. Семья его влачила жалкое существование; не оказалось средств даже на подобающие похороны.
Погребение тела, покрытого «одеянием братства мертвых», состоялось по «кондукту третьего класса», за что было уплачено 8 гульденов и 36 крейцеров; останки маэстро были брошены в общую могилу. Такие могилы вмещали от 15 до 20 гробов и по прошествии десяти лет перекапывались и заново заполнялись такими же несчастными. Подле могилы не оказалось ни одного из братьев по ложе, не было даже отмечено место последнего пристанища маэстро. Что, вопрошает Даумер, подвигло братьев масонов сначала лишить Моцарта всякой материальной поддержки при жизни, а затем, после смерти, позволить зарыть его как собаку?
Достаточно примеров того, как ложа ревностно поддерживала «своих достойных членов», возносила их при жизни и торжественно провожала в мир иной, и Даумер в качестве яркого примера ссылается на некоего брата, не достойного даже расстегнуть пряжку на туфле Моцарта. Ложа «Увенчанная надежда», куда входил Моцарт, пользовалась особым почетом, устраивала блестящие званые обеды, так что, как выразилась в своих мемуарах Каролина Пихлер, «принадлежность к этому братству, имевшему своих представителей во всех коллегиях, была совсем не бесполезной».
Особое значение Даумер придает загадочным обстоятельствам, сопровождавшим смерть Моцарта. Маэстро неожиданно умирает в самом расцвете творческих сил. В последние дни жизни он заявляет, что отравлен; его жена, передавая слова сына: «Столь великим, как отец, мне, конечно же, не стать, а посему нечего опасаться и завистников, которые могли бы посягнуть на мою жизнь», разделяет это подозрение, которое, как известно, несправедливо направлено против Сальери. Уже за три месяца до болезни, сведшей его в могилу, Моцарт чувствует слабость и недомогание. После возвращения с пражской премьеры «Тита» во время окончания работы над «Волшебной флейтой» у него начинаются обморочные состояния; физические силы его убывают, наконец, «опухают руки и ноги, затем следует неожиданная рвота». Четверо врачей ставят четыре разных диагноза: ревматическая лихорадка, менингит, просянка и гидроторакс. Письмо от 12 декабря 1791 года заканчивается словами: «Поскольку тело его после смерти опухло, решили, что он был отравлен».
Почему могла возникнуть необходимость устранения подобным образом «безобидного» музыканта? Многое говорит за то, что он вовсе не «безобидно» восстал против порядков ордена. Ведь Моцарт был мыслителем, он верил в возможность синтеза просвещенности ордена и ортодоксии религии, орденом же и порочащейся, вынашивал мысль об основании нового, более отвечающего его духу союза. Он был религиозен до мозга костей и всегда оставался верным католиком: ко дню своего бракосочетания он обещает невесте новую мессу; отцу из Парижа пишет, что новая симфония создана им «по воле Божьей и ради восхваления имени Господа»; с патером-иезуитом Буллингером его связывает искренняя дружба. В «антихристскую» оперу «Волшебная флейта» Шиканедера он «протаскивает» старинный хорал; до последнего вздоха он упрямо работает над Реквиемом. Нигде, ни в письмах, ни в его высказываниях нет и намека на антиклерикальный образ мыслей. Достаточно глубоко вглядевшись в антикатолические тенденции ордена, он вступил с ним в противоречие; известен его план создания «тайного общества» «Грот», сообщенный им аббату Максимилиану Штадлеру, «дурному человеку, которому он слишком доверял».
Эти тайны тьмы и бездны, видимо, так и не появятся на свет божий в полном своем обличье. Предположение Даумера, что вышеназванный аббат М. Штадлер стал орудием ордена для незаметного устранения слишком много знавшего Моцарта, совсем игнорировать нельзя. В своих началах масонство из-за своих связей с иллюминатами и авантюристами типа Калиостро истинное свое предназначение явно скрывает.»
Энциклопедический словарь Брокгауза 1902 год.
ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ (т. е. Гермес трижды великий, величайший), греческое имя египетского бога Тота. На исходе древнего времени под Г. Т. понимают египетского бога письменности и учености. Позже различают первого Тота, персонификацию божественного интеллекта, и более позднего, его же земного воплощения, создателя всего просвещения и культуры, которому человечество обязано письменностью, культами, науками и искусствами. Все таинства магии приписывают также Г. Т.
Влияние герметических писаний распространялось вплоть до средневековья, и принято считать, что эта мистическая мудрость по герметической цепочке восходит к древним временам.
Тот, правильнее Тоут (егип. Доуте), египетский бог Луны, которого греки соотносили со своим Гермесом. Чаще всего ему соответствует иероглиф «дважды великий»; только в очень поздних надписях появляется название «трижды величайший» (trismegistos), под которым он часто фигурировал у греческих мистиков первого века н. э. и почитался как открыватель всей премудрости.
МЕРКУРИЙ, лат. имя греч. Гермеса.
Э. Леннхоф / О. Познер
«Интернациональная масонская энциклопедия»
1932/1965 годы.
Гермес Трисмегист, греческое имя древнеегипетского бога Луны, изображается в облике ибиса или с головой ибиса. Олицетворяет соразмерность и порядок мироздания, а потому является богом-хранителем всех земных законов. Считается также изобретателем алхимии и магии, отсюда название герметического искусства алхимии, которая в качестве тайного учения передавалась по герметической цепочке. Ко времени сближения масонства с алхимическими и мистическими элементами (18 столетие) Г. Т. вновь начинает играть заметную роль. Герметическое масонство, особенно во Франции, состояло тогда в многочисленных системах.
Герметическое масонство, метод, возникший в 18 веке во Франции, практикуемый и сегодня в узких кругах тайных обществ. Примыкает к так называемой герметической философии, согласно которой алхимические процессы превращения металлов (трансмутация) рассматриваются как символ преобразования грубого, невежественного, духовно еще не созревшего индивидуума в облагороженного, нравственно возрожденного человека. В 18 столетии число алхимических, герметически значимых символов в некоторых масонских обрядах высоких градусов было весьма значительным. Освальд Вирт в процессах трансмутации, рассматриваемых символически, видит аналогию символического строительства. И то и другое у него олицетворяет «Великое деяние» в человеке. Современное масонство для него всего лишь следующий шаг в развитии древней герметической философии. Приготовительную комнату, например, он отождествляет с философским яйцом алхимиков, запись которого «витриол» якобы чисто герметическая, то же самое и с четырьмя элементарными испытаниями (например, испытание огнем — это алхимической кальцинации). Выдержав испытания, адепт сможет коагулировать в философский камень, в полностью очищенную соль, ртуть-меркурий (ртуть — это внешние воздействия), чтобы зафиксировать ее в высокоактивной сере (сера — это внутренняя сила). На ступенях, следующих за ученическим градусом, процесс превращения продолжается до тех пор, пока не закончится «Великим деянием» в средней комнате мастерского градуса. Среди масоно-герметических систем 18 столетия особую роль играла система Иллюминэ д’Авиньона, девять градусов которой, особенно шесть высших, посвящены герметическим учениям (тело Хирама символизирует prima materia Великого деяния), а десятый, завершающий градус, градус «Рыцарей Солнца», содержит полный курс герметических и гностических наук. Герметическая философия распространена и у гольдени розенкрейцеров.
Антуан де Сент-Экзюпери Из книги «Земля людей»
(1900–1944).
В конце произведения:
«Моцарт приговорен к смерти. Меня гнетет мысль, что в каждом из этих людей есть что-то от убитого Моцарта».
Игорь Бэлза. «Моцарт и Сальери» Москва, 1953 год.
Австрийский музыковед Гвидо Адлер, скончавшийся в 1941 году, в венском церковном архиве нашел исповедь Сальери, записанную задним числом и хранимую церковью в тайне. Он показал ее музыковеду Б. Асафьеву, ныне покойному; тот, следовательно, видел у Адлера копию текста признания. Церковь пока что отклоняет предложения о публикации — якобы в целях сохранения тайны исповеди. «Адлер сообщил, что речь шла о медленно действующем яде, который давался Моцарту с большими промежутками».
Сравните теперь данные Ниссена и Новелло!
На заседании Центрального института моцартоведения 28 августа 1964 года существование такого признания однозначно не отрицалось; оно, видимо, было записано кем-то из священников. О намерении Сальери признаться на исповеди — ср. бетховенские разговорные тетради!
Письмо финского композитора Я. Сибелиуса (1865–1957).
Ярвенпяя, 31 октября 1956 года.
Господину д-ру мед. Дитеру Кернеру, Хайдесхаймерштр. 10,
Майнц-Гонзенгейм.
Многоуважаемый господин д-р Кернер!
Премного благодарен за Ваше любезное письмо от 27 августа с «верной» маркой Шумана и книгой «Моцарт как пациент», прочитанной мной с величайшим интересом. Да, так, пожалуй, и должно было случиться, что один из величайших гениев в области музыкального искусства был убит. Какое счастье, что он успел написать так много.
С истинным уважением Ваш Сибелиус
«Osterreichische Musikzeitschrift»
(«Австрийский музыкальный журнал», Вена, ноябрь 1964 год)
Писатель Рудольф Кляйн: «К легенде о смерти Моцарта».
Легенды о смерти Моцарта, имевшие хождение столько лет, по мере их возникновения опровергались теми или иными исследованиями, в ходе которых представлялись неопровержимые доказательства. Легенды эти давным-давно были бы и забыты, если б не старания двух немецких врачей, после второй мировой войны вновь извлекших их на свет Божий. Их сенсационные книги и статьи, проповедующие теорию отравления ядом, достигли значительных тиражей. И нынешним летом в рамках научной конференции Моцартеум вынужден был опять проверить и взвесить все аргументы, играющие ту или иную роль в этом деле. Основной доклад представил крупнейший авторитет нашего времени в области источниковедения по Моцарту проф. Отто Эрих Дейч, медицинская сторона вопроса была освещена швейцарским врачом д-ром Карлом Бэром. Результат: никаких серьезных оснований предполагать, что Моцарт умер противоестественной смертью.
Доклад проф. Дейча базировался на здравой оценке дошедших до нас документов. Проф. Дейч показал, что, как это обычно и бывает, чем меньше исходных данных для развития конструктивных гипотез, тем больше простора для различного толка фантазий, не говоря уж об умышленной недобросовестности.
Впервые гипотеза об отравлении прозвучала из-за рубежа, в берлинской «Musikalisches Wochenblatt», сразу же после смерти Моцарта: «Моцарт скончался. Он вернулся домой из Праги больным и с той поры слабел, чахнул с каждым днем: полагали, что у него водянка, он умер в Вене в конце прошлой недели. Так как тело его после смерти сильно распухло, предполагают даже, что он был отравлен.»
В Вене подобные слухи распространились чуть позже. Самое важное и авторитетное письменное свидетельство для сторонников этой теории приходится на 1798 год — это биография Франца Ксавера Немечка. Источник, разумеется, — Констанца Моцарт, пожелавшая во время прогулки по Пратеру услыхать из уст супруга следующее: «Я слишком хорошо чувствую — жить мне осталось недолго: конечно, мне дали яду! Я не могу отделаться от этой мысли».
И только в 1823 году, то есть через 32 года после смерти Моцарта, появляется слух, будто Моцарта отравил Сальери. В защиту Сальери, тогда уже впавшего в душевное помрачение, выступил биограф композитора И. Гайдна итальянский журналист Дж. Карпани.
С 1861 года слух этот стал крепнуть на благодатной почве кампании ненависти к тайным обществам и национальным меньшинствам. Масонов со смертью Моцарта впервые связал Георг Фридрих Даумер (Брамсом, как известно, на его стихи написано 33 песни). «Убийство ложи», оказывается, уже было учинено над Лессингом. Незнание исторических фактов — отличительная черта как его сочинения, так и писанины следующего обвинителя венских масонов, Германна Альвардта, продолжившего линию Даумера и умудрившегося на сей раз в одну кучу с масонами свалить и иезуитов и евреев. Насколько силен в истории этот берлинский ректор школы, видно хотя бы по тому, что в качестве источника он цитирует энциклопедический словарь. К списку убиенных он добавляет и Шиллера, фактически говоря о «чахотке Шиллера — Лессинга — Моцарта».
Третья в этой компании — ныне здравствующая, преклонного возраста Матильда Людендорф, которая, дабы не утруждать себя, просто продолжила список убийств, назвав свою книгу «Der ungefuhgte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller im Dienste des allmachtigen Baumeisters aller Welten» («Неотомщенное злодеяние над Лютером, Лессингом, Моцартом и Шиллером на службе всемогущего архитектора всех миров», 1928), и не забыв в последнее ее издание включить имена Лейбница, Дюрера, Фихте, Шуберта и Ницше.
В 1936 году вышла еще одна ее книга «Mozarts Leben und gewaltsamer Tod» («Жизнь и насильственная смерть Моцарта»).
Необходимо отметить, что Матильда Людендорф, бывший невропатолог, посягнула здесь на чуждую ей область медицины. После второй мировой войны по ее стопам последовали два немецких врача, в адрес которых и было направлено обстоятельное опровержение проф. Дейча (книга одного из них даже вышла в издательстве Матильды Людендорф). Доверившись, мягко говоря, ошибочным и сомнительным слухам, доставшимся нам в наследство от XIX века, они вновь вытащили их на поверхность, не смущаясь тем, что они давным-давно уже опровергнуты. На ту же мельницу льют события и совсем недавних лет.
Так, в 1953 году в Москве вышла книга о Пушкине, автор которой (Игорь Бэлза) в подтверждение старой истории, послужившей толчком к сочинению поэтом трагедии «Моцарт и Сальери», а в 1897 году — оперы Римским-Корсаковым, ссылается на сообщение, якобы сделанное ему венским музыковедом Гвидо Адлером. А ведь даже в самой Вене никогда и никому не было известно о том, что, оказывается, существует письменная исповедь Сальери, где он признается в преступлении!
О беспардонности дилетантов от музыкознания говорит хотя бы то, что на титульном рисунке к первому либретто «Волшебной флейты» среди масонских символов, награвированных на нем, они разглядели и символ mercurius sublimatus, из чего заключили, что Моцарт был отравлен ртутью. Этому же знаку S, помещенному на австрийской марке, выпущенной к 100-летию со дня рождения Моцарта, они почему-то в том же значении отказывают: надо полагать, их смутило число 2,40, стоящее впереди. Но, тем не менее, один из медиков утверждает, что и на марке вензеля суть восемь типичных аллегорий Меркурия-ртути. Сам же гравер вспоминает, что на рисунок его вдохновил образец часов в стиле ампир.
Остается сказать, что зальцбургское заседание Моцартеума проделало работу чрезвычайной важности: оно опровергло сомнительность всех утверждений о якобы насильственной смерти Моцарта. И самое главное: участникам заседания, наконец, представилась возможность воочию убедиться в сомнительной ценности всех медицинских теорий об отравлении как первых их приверженцев, так и нынешних, не идущих дальше дилетантских исторических штудий».
Картина болезни Моцарта с точки зрения современной медицины.
(Исследования врачей из ФРГ д-ра Д. Кернера, д-ра Г. Дуды и д-ра Й. Дальхова).
До 1956 года, года Моцарта, не было никакого единства в понимании его последнего заболевания; как правило, все предположения основывались на несхожих, отчасти противоречивых посылках, которые до сих пор не получали удовлетворительного клинического анализа.
Примечание (Вера Лурье). Когда Г. Дуда обратился в ординариат архиепископа Венского с просьбой сообщить что-либо о местонахождении этой записи исповеди Сальери, то получил столь поразительный ответ, что следует привести хотя бы его фрагмент: «Кроме того, архиепископский архив не содержит никакой переписки об этом деле, которое представляет чистую выдумку штурмовика и черной сотни, а теперь запутано «Национальной газетой» и связывается с пушкинскими путевыми заметками (?), для того чтобы доказать духовный приоритет русских и замаскировать происхождение его из нацистских архивов и тенденциозных сказок».
Только благодаря публикациям Кернера, обладающим точным фармакологическим обоснованием («Schweiz. med. Wochenschrift» Nr. 47/1956*»; «Wiener med. Wochenschrift» Nr. 51–52/1956 и другие), вырисовалась картина отравления ртутью, в результате которого 35-летний композитор в 1791 году и скончался. Исследования Кернера увидели свет в 22 статьях — все в специальных медицинских журналах различных стран — и его бестселлере «Krankheiten grosser Musiker», Stuttgart, 1963 («Болезни великих музыкантов», Штутгарт, 1963). В 1961 году Интернациональный архив писем музыкантов в Берлине (IMBA) выпустил брошюру под заглавием «Mozarts Todeskrankheit» («Смертельная болезнь Моцарта») того же автора.
Кельнский врач Иоганн Дальхов в письме в «Neue Zeitschrift fur Musik» («Новый музыкальный журнал», 4, 1957) отмечал по этому поводу: «Именно поэтому следует только приветствовать такие выступления, как статьи Кернера; вероятность поставленного им диагноза граничит с определенностью». Мюнхенский врач Г. Дуда выполнил первую патографию Моцарта, равным образом основанную на отравлении ртутью, — см. его книгу «Gewiss, man hat mir Gift gegeben» («Конечно, мне дали яду», (Pahl, 1958 г).
Моцарт как пациент
«De mortuis nil nisi vere!»
(О мертвых правду или ничего — лат.).
Николаус Франц Клоссет. Вена, 1804 годС того страшного декабрьского дня, когда меня, доктора Николауса Франца Клоссета, пригласили из театра к постели умирающего Вольфганга Моцарта, прошло уже тринадцать лет. Мы с маэстро были хорошо знакомы. Домашним врачом Вольфганга Моцарта, если мне не изменяет память, я стал в июле 1789 года. В Вене музыкой Моцарта бредил каждый, особенно молодежь, поскольку нонкомформизм его опер, волшебной музыки маэстро подкупал всех без остатка, — разумеется, тех, у кого слева билось жаркое сердце. Что уж говорить обо мне, знавшего мастера не только по театральным подмосткам, а наяву, как доктор своего пациента.
Будучи домашним врачом Моцарта, мне довелось провести с великим композитором Вольфгангом Амадеем Моцартом последние, самые долгие и мучительные для него дни и месяцы. Именно маэстро сделал все возможное, чтобы поведать мне правду, которую все потом упорно и злонамеренно скрывали. Но по порядку.
В 1777 году, приняв решение посвятить себя медицине, я переселился из немецкого Кельна в столицу империи Вену, где стал учеником Максимилиана Штоля, прославленного основателя австрийской медицинской школы. После получения диплома я — его ассистент. В 1782 году успешно защитил диссертацию и получил звание доктора медицины. На самостоятельную практику я решился, однако, только после смерти своего учителя в 1787 году. И вскоре попал в обойму наиболее популярных врачей Вены. В 1788 году князь Кауниц назначил меня своим лейб-врачом; я также обслуживал, как эскулап, семьи фельдмаршалов Хадика и Лаудона, консультировал императорскую семью.
С моим коллегой Матиасом фон Саллабой мы работали в чудесном согласии. Как и я, он был учеником Максимилиана Штоля, представителем наиболее прогрессивной медицинской школы Европы конца XVIII века. Право на практику герр Саллаба получил в 1786 году, а через год стал популярным врачом Вены. С 1797 года он уже главный врач Главной венской больницы; в то же время я стал экстраординарным членом медицинского факультета Венского университета. Фон Саллоба был моим младшим коллегой и другом, часто со мной консультировался и в свою очередь консультировал меня.
Кстати, замечу и такой важный момент в моей жизни. Порог в доме № 10 по Грюнангергассе, первый этаж которого занимала состоятельная чета Хофдемель, где Моцарт был частым гостем, я переступил впервые летом 1789 году. Я был очарован, как герр Францем, так и его молодой и красивой женой Марией Магдаленой. Мы эпизодически виделись с Хофдемелями, я частенько бывал у них в гостях. И как врач, и как просто друг семьи.
И вот спустя много лет после смерти Вольфганга Амадея пожар в моем кабинете уничтожил все документы и бумаги, связанные с Моцартом.
Все эти напасти возникли внезапно, как будто на пустом месте с появлением аббата Максимилиана Штадлера. И эти подозрительные по никчемности беседы по теологии с М. Штадлером, и мое странное отравление от пищи, когда я чуть было не отдал Богу душу, и неожиданный пожар в кабинете, в огне которого сгорел мой письменный стол с дневниковыми записями, документы, свидетельства современников, так или иначе связанные с великим композитором. Надо признаться, я запаниковал. Мало найдется охотников, хладнокровно переживших физическое давление, периодические угрозы в расправе, и, наконец, покушение на мою жизнь, слава Богу, неудавшееся. Да, я никогда не стремился в герои, а скорее — наоборот: был самым пошлым трусом. Хорошо еще, что я отпросился в отпуск, а моих домашних — жену и детей — отослал на ту пору к ее родителям под Инсбрук.
Хуже того, обстоятельства сложились так, что я вынужден был бежать из Вены. Как говорится, с пустыми карманами и в чем был одет. Нужно было отсидеться, отлежаться там, где меня не достанут длинные руки тайных сил.
Спасение, как предчувствие подсказывало мне, могло быть только в Брюнне, куда я добирался на перекладных целых два дня. Опущу подробности, как я оказался в фамильном доме Марии Магдалены Хофдемель (в девичестве Покорной), где она жила в уединении с детьми и своими родителями. Пусть это останется тайной. Скажу только, что для Марии мое явление оказалось столь ошеломительным и внезапным, будто я с неба свалился. От пережитого у меня открылась лихорадка. Мне было так плохо, что я едва не падал от высокой температуры.
Но когда она вышла ко мне, нежданному гостю, то я в свою очередь был так сражен обезображенностью ее некогда восхитительного лица, что даже попятился назад.
Она меня узнала сразу.
— Что, герр доктор Клоссет, испугались? Наверное, подумали: «Боже ты мой! Как страшна, как ужасна!» — сказала она с улыбкой.
Но силы меня оставили, и я медленно опустился у ее ног.
— Что с вами, друг мой? — тембр ее голоса тотчас изменился. — Она склонилась ко мне, тронула лоб. — Господи, да вы весь горите, точно в огне!
Меня провели в комнату с высокой кроватью под балдахином, уложили в постель. Лихорадка моя протекала переменно: то с улучшениями, то усугублялось температурой; случались временные провалы памяти. У человека, больного лихорадкой, в этом нет ничего необычного. Но что меня поразило и очень обеспокоило, так это продолжительность моей амнезии. Видимо, сказывалось все вместе: отравление ядом, душевные переживания, физический надлом. Полуобморочные состояния длились, бывало, более часа. Все это время, подле моей постели, ухаживая за мной, давая наставления, подавая препараты, напитки, сидела служанка. Две недели обо мне заботилась, как о близкой, родственной персоне.
И как только мне становилось лучше, то мы предавались беседе. О Вольфганге Амадее Моцарте, о музыке, о театре, о детях, наконец. Вспоминали ту Вену, повседневную жизнь эпохи Моцарта. И нам становилось и грустно, и горько.
Мария Магдалина впервые рассказала мне о другом Моцарте, которого я не знал. О Моцарте, влюбленном как мальчишка — пламенно и без остатка. Мне довелось услышать откровения ее сердца. О том, как Вольфганг Амадей терзался муками совести, такими глубокими, что не мог поделиться ими. Между Марией и маэстро незримо стояла Констанция, которую он тоже по-своему любил. Мария старались облегчить его телесные муки с помощью различных микстур и нежных слов, — таков еще один дар этой светской красивой женщины. Мы с ней много и подолгу говорили, хотя и так прекрасно понимали друг друга и без слов — такое происходит с людьми в чрезвычайных обстоятельствах, когда мишура условностей слетает сама собой.
Когда я окончательно окреп, то взялся за перо и бумагу, чтобы попытаться восстановить то, что было связано с великим маэстро и безвозвратно потеряно в огне. На меня нашел зуд летописца, я был охвачен идеей фикс, очень простой: я стремился успеть записать все, что знал про болезнь и кончину Моцарта. Надо мной довлели некие силы, гнет которых и побуждал меня спешить. Я торопился закончить свои разрозненные записки, привести их в завершенный и логический вид. А потому строчил, как безумный, исписывая страницу за страницей.
Когда истек срок, и мне нужно было возвращаться в Вену, я оставил все свои труды у Марии Магдалены. Более того, мы собрали воедино все то, что имело хоть какое-либо отношение к жизни Моцарта. И договорились так: не показывать эти записи ни одной живой душе; только крайние обстоятельства должны заставить передать их в другие надежные руки. Рукопись была обернута и запечатана в пергамент. Мария надежно спрятала сверток, и обязалась не притрагиваться к нему, пока я буду жив, — это было мое условие. Понятным было и другое: если записи найдут, то их уничтожат. Причем, не поздоровится и тому, у кого они прятались.
На случай экстраординарного развития событий, когда судьба постучится в ее дверь, Мария Магдалена должна была предать рукопись огню.
Далее рукой графини и поэтессы Веры Лурье было жирно по-русски выведено:
Записки герра доктора Николауса Клоссета.
(Собственность В. Лурье Вильмерсдорф, Германия).
Потом следовал перевод текста с немецкого, сделанный Анатолием Мышевым.
«Когда я вернулся в Вену, то поначалу опасался новых преследований, угроз и даже покушений, которые должны были обрушиться на меня точно снежная лавина в Альпах. Но к своему крайнему удивлению, я нашел ситуацию совершенно безмятежной и мирной. Аббат Максимилиан Штадлер вообще исчез с моего горизонта, а я по-прежнему занялся медицинской практикой. И зажил добропорядочной растительной жизнью обывателя.
Однажды я совершенно случайно наткнулся на свои рабочие тетради, которые завел с того момента, как Моцарт стал значиться моим пациентом в 1789 году. Не будучи ознакомлен с историй болезни Вольфганга, я предпринял попытку расспросить его самого о его пристрастях, привычном образе жизни, питания. Это дало бы мне в руки необходимые инструменты, чтобы наметить перспективу долгосрочного лечения. Моцарт в этом, безусловно, нуждался.
При всей кажущейся легкости проблемы, получить необходимые сведения о своем пациенте оказалось нелегко; герр Моцарт был страшно занят своей работой. Я решил подойти к проблеме просто, как журналист, на ходу задавая вопросы и выслушивая ответы, а затем раскодируя наши диалоги. Наши результаты доставались с трудом. В короткие минуты нездоровья я выпытывал у Вольфганга Амадея больше информации: он отвечал мне рассеянно, зачастую противореча сам себе. Когда я расспрашивал Моцарта о его детских болезнях или их обострениях, он помнил все хорошо и давал достоверную картину. Но случалось, что он замыкался в себе, игнорировал мои вопросы, лежал весь в себе, с раскрытыми немигающими глазами; и до него нельзя было достучаться. Очнувшись от дум, поглощавших его с головой, Моцарт становился таким же, как всегда, отпуская в мой адрес острые шутки или нелестные эпитеты.
Таким манером мы работали с маэстро две недели, а я умудрялся поговорить с ним час, а то и два. Всякий раз я делал одно и то же: тщательно осматривал маэстро, спрашивал о его состоянии, и, конечно же, собирал дополнительные сведения, проверял: правильно ли выполняются мои наставления. Я успевал еще сходить в больницу — там у меня было довольно много работы.
Моцарт никогда не был один: он репетировал с оркестром, занимался с учениками, либо встречался с коллегами по подмосткам — Шиканедером, солистами, музыкантами. Как-то решив сделать статистический анализ, я насчитал среди визитеров половину женщин, включая Лорль, служанку маэстро. Эта небольшого роста особа с непроницаемым лицом настолько была неразговорчива, что я смирился, решив про себя: так и должно быть, поскольку со своими обязанностями она худо-бедно справлялась, а работы тут было невпроворот. Моцарт был неприхотлив и непривередлив, как простолюдин, да и болел-то не так часто. Его комнату она худо-бедно убирала, наводя каждый раз надлежащую чистоту, правда, пища, подаваемая моему пациенту, оставляла желать лучшего..
Ближайшее окружение композитора было довольно-таки пестрым сообществом: от барона Готфрида Ван Свитена, секретаря Зюсмайра и учеников с ученицами маэстро до представителей артистической Вены и бесчисленной родни Веберов. Вот только королевский капельмейстер Антонио Сальери ни разу не появлялся в квартире у Моцартов. Даже на похороны приехал к собору Св. Стефана.
Правда, чем ближе время шло к роковому декабрю 1791 года, тем маэстро более и более оставался один.
Из всех посетителей квартиры герра композитора, конечно же, выделялись личности, которых не включишь ни в какую обычную компанию. Таких персон было немного — по пальцам пересчитать. И когда я появлялся в кабинете герра Моцарта, то у меня возникало предчувствие, что я мешал этим господам по многим позициям: серьезному разговору, неким секретным делам и прочее, и прочее. В этих визитах, — а скорее всего это были братья масоны, — царил некий тайный обряд или ритуал выездного заседания некоей эзотерической ложи. В то революционное время указом нашего императора все заседания этих секретных братств были строго настрого запрещены. И потому мои мысли не были так нелепы или беспочвенны, как могло бы показаться со стороны. Разумеется, гости Моцарта не представляли из себя гармоничный симбиоз. Скорее — наоборот, здесь воочию пульсировало резкое неприятие этих господ в отношении друг к другу. Но поскольку каждый из них близко знал моего пациента, то все они представляли для меня не один только праздный интерес. Ведь я трудился над нелегкой задачкой — описать полную и реальную картину болезни великого моего пациента Вольфганга Амадея Моцарта.
Болезни Моцарта, — оставляя в стороне смертельную или же сомнительные приступы «ревматической лихорадки», были самые распространенные, и их легко перечислить: ангина, оспа и некоторые — более или менее незначительные — инфекционные заболевания.
Ребенком Моцарт был бледен и предрасположен к одутловатости. Примерно за три месяца до смерти здоровье его было вполне нормальным, если не считать «депрессивных кризисов», которые, правда, не прогрессировали. И здесь еще раз нужно сказать несколько слов о том, что касается депрессии и меланхолии, тем более что меланхолию непременно надо учитывать как психодинамическую компоненту творческого становления, именно которая способствует творческому процессу или стимулирует его.
Вполне лирически направленный композитор обладал абсолютным слухом, колоссальной памятью (эйдетик!), даром все схватывать на лету и ярко выраженным творческим самосознанием; он был «необычайно восприимчивым мальчиком» при незаурядном общем интеллекте, дифференцированном от так называемого поведенческого интеллекта, который был у него выражен менее ярко.
Все это прекрасно иллюстрируется строчками писем Леопольда Моцарта:
«И сообщаю Вам, что 27 января в 8 часов пополудни жена моя благополучно разрешилась мальчишкой. Правда, пришлось извлекать послед. Посему была она крайне ослаблена. Сейчас же, слава Богу, дитя и мать чувствуют себя хорошо».
Так в начале февраля 1756 года отец Моцарта писал в Аугсбург издателю Лоттеру, а мы в дальнейшем увидим, какое значение приобретет это роковое число 8 во всей жизни Моцарта.
27 января — день святого Иоанна Хризостома (Златоуста), отца церкви и патриарха Константинопольского (ум. 407 г.).
Музы и гении стали крестными мальчика. Уже на следующее утро, в среду, он был наречен Йоханном Хризостомом Вольфгангом Теофилом. 28 января 1756 года это событие в метрической книге зальцбургского прихода навсегда запечатлено так:
Januarius. 28.
med(iahora) 11.
merid(iana) baptizatus est:
natus pridie h(ora) 8.
vesp(ertina).
Joannes Chry-Nob(ilis) D(ominus)
sost(omus) Wolf-Leopoldus
gangus Theo-Mozart Aulae
philus fil(ius) Musicus, et Maria
leg(itimus) Anna Pertlin
coniugess
Пять братьев и сестер Моцарта, а затем четверо его собственных детей умерли в младенческом возрасте — жизнь новорожденных в то нелегкое антисанитарное время постоянно была под вопросом; так из семи детей четы Моцартов выжили только двое: Наннерль и Вольфганг Амадей, самый младший. Оба ребенка Леопольда Моцарта, сначала скрипача при дворе архиепископа, затем концертмейстера и вице-капельмейстера, и его жены фрау Анны, урожденной Пертль, очень рано обнаружили редкую музыкальную одаренность, которую отец начал развивать со строгой методичностью и самоотверженной любовью. Способности дочери не позволили стать ей более чем вундеркиндом, затем всеми забытым, одаренность же сына оказалась тем фундаментом, на котором вырос один из величайших гениев, какого только знает история музыки.
В обычной жизни, однако, это Вольферль был добрый маленький мальчик, некрасивый, несколько неуклюжий с виду, несмотря на свою необыкновенную живость, с открытыми, наивными глазами. Поэтому преображение, виною которому была музыка, становилось лишь еще более удивительным, поднимая на новую ступень чистоты и возвышенной красоты эту натуру, которая только божественной приверженностью звукам отличалась от других мальчишек, игравших вместе с Вольфгангом во дворе дома на Гетрайдегассе в Зальцбурге.
Кроме музыки, обоих детей с раннего детства обучали языкам. Вольфганг изучал латынь, французский и английский, бегло говорил по-итальянски, хотя свидетельств, что дети посещали какую-либо школу, нет. Необходимо подчеркнуть, что и музыкальное воспитание Вольфганга шло сугубо частным образом.
Сестра Моцарта к одиннадцати, а Вольфганг к шести годам настолько овладели фортепианной техникой и элементами теории музыки, что они стали выступать с концертами в Зальцбурге. Но после упорных тренингов Леопольд решил фантастические таланты детей обкатать на европейском пятачке; и уже в 1762 году он предпринял с вундеркиндами поездку в Мюнхен, где мальчик играл перед курфюрстом.
Вольфганг, чьи первые опыты в композиции относились чуть ли не к шестилетнему возрасту, был добрым, очень впечатлительным мальчуганом, постоянно нуждавшимся в нежности и уже в раннем детстве проявившим магическую тягу к числам и их комбинациям. 18 сентября 1762 года дети в сопровождении отца снова отправились в путь, на этот раз в Вену — выступать перед самой императрицей Марией Терезией при Шеннбруннском дворе.
Эта способность мечтать, жить, погрузившись в феерию, считать сон такой же реальностью, как банальные события повседневной жизни, является отличительной особенностью художественной натуры Моцарта и полностью отвечает его врожденному тонкому чувству сиюминутного, сочетаясь с умственным здоровьем, детской веселостью, даже с самой его непоседливостью и жизнерадостностью. Ангельское «изящество» музыки Моцарта порой вызывает реплики о том, что он не от мира сего. Это до некоторой степени так, в том смысле, что его гений свидетельствует о присутствии сверхъестественного, об озарении святостью.
Вот что я вкратце узнал про Моцарта как своего пациента.
Собственные задатки Вольфганга Амадея были своеобразными «инструментами», при помощи которых он достиг высших музыкальных вершин (это увертюры к «Дон Жуану» и «Волшебной флейте»). Моцарту, который органически не мог бездействовать, ничто не мешало при композиции, и он очень рано проявил невероятную творческую продуктивность. Несмотря на все тяготы, непривычные условия, постоянную смену обстановки, чрезвычайно возбужденный от мелькающих, как в калейдоскопе, картин жизни, Моцарт плодотворно сочинял музыку.
Свою радость от музыки Моцарт мог выражать непосредственно мимикой и жестикуляцией, а это значит, что он — прежде всего в юные годы — не подчинялся той самодисциплине, какую мы можем видеть сегодня у многих исполнителей его сочинений.
Как замечали многие, сочинения рождались у него в голове, когда он был занят совсем посторонними вещами, например бильярдом, беседой или туалетом у парикмахера. Импульс музыки управлял и его моторикой. Моцарт был не способен что-то утаивать, хранить под спудом, а потому раскрывался в своей музыке по полной программе. А так как он был просто начинен шутками и остротами, то это неизбежно должно было вызвать то самое сбивающее с толку «клоунадно-демоническое», или, говоря попроще, задорно-остроумное излучение, которое именно потому так очаровывало молодежь, что исходило столь непосредственно. При всем при этом страдал его внешний вид — платье, помятый парик или покрытое потом лицо. В нем не было того отточенного шика, лоска или английского дендизма, как это было у Сальери.
С этой точки зрения Вольфганг Амадей сначала был на театральных подмостках Вены «в ударе», тем более что и музыка его была революционна. Моцарт был полон надежд, чрезвычайной уверенности в своих силах. Оптимизм был у него в крови, о чем говорят и его письма тех дней. На первых порах свободный художник из Зальцбурга, должно быть, чувствовал себя совсем неплохо. Молодой композитор, часто неосмотрительный, беспечный или скорее благодушный, производил впечатление щедрого человека. Да он и был таким!
За культурной жизнью Вены, ее музыкальной и оперной составляющей зорко и ревностно присматривал камер-композитор, придворный капельмейстер Антонио Сальери.
Психограмма Моцарта.
Черты характера и поведения: быстрая сообразительность, чувство творческой самодостаточности, погруженность в себя, веселость, остроумие, юмор, резвость, уверенность в себе, беспомощность в деловых отношениях, склонность к фарсу, верность в дружбе, идеализм, великодушие, чувство собственного достоинства, готовность помочь, нонконформизм, беспокойный, неосмотрительный, добродушный, беззаботный, эротичный, страстный, темпераментный, недипломатичный, флегматичный, мало религиозный, космополитичный, одинокий, меланхоличный, добросовестный, участливый, расточительный, честный, добрый, легкомысленный, радостный, остроумный, язвительный, рефлекторный, нежный, грубый, свободолюбивый, щедрый, оптимистичный и т. д. Психодинамически доминированный: меланхолия, (внутреннее) одиночество и чувство собственного достоинства. — Маленький, лептосомный до дисплативного. — Тип характера: циклотимный. — Тип поведения: интровертированный, чувственный до инстинктивного тип.
Доминантные факторы темперамента: беззаботность, самоуверенность и толерантность. Интеллект: незаурядный.
Теперь пора делать выводы. Итак, Моцарт был здоровым гением, обладавшим многочисленными амбивалентными чертами характера, причем, конечно, доминировали его толерантность и чувство собственного достоинства. Положительные качества преобладали, хотя деловым его назвать нельзя, да и жил он весьма беззаботно. Моцарт явился прототипом всех музыкальных гениев, но понес изрядные жертвы в детские и юношеские годы и, тем не менее, в последний год жизни оставался еще чрезвычайно продуктивным. Моцарт держался слишком «негениально», чтобы его гений в те годы был замечен. Кто видит в Моцарте борца против клерикалов и аристократии, понимает его неправильно.
Подчеркну особо, что всю жизнь он был индифферентным католиком, имел именитых друзей в аристократических кругах Вены. А перед смертью успел побывать на освящении нового масонского храма «Вновь увенчанной надежды», исполнив свою кантату «Громко восславим нашу радость». Бесспорно, изменником Отечества маэстро никогда не был. Конечно, великий композитор опередил свое время и предугадывал общественные формы завтрашнего дня. Моцарт был «разгневанным молодым человеком», обладавшим пока что малым жизненным опытом для преодоления тяжелых ударов судьбы. Как вундеркинд для мира он был уже ничто, а как зрелый художник еще не стал для мира чем-то. Но личная его трагедия заключалась в том, что он погиб в тот самый момент, когда на пороге его уже ждала мировая слава.
Hessa Hopsasa![10]
«Два факела, горящие зловеще, вмиг
И дождь и ветер жаждут жадно погасить.
Трепещет саван на ветру. Сосновый гроб.
И ни венка. За дрогами же — ни души!
Так злодеяние поспешно прячут в склеп.
И жуткий кашель хоронящих. Только он,
Плащом упрямо запахнувшись, вослед за гробом
Шел. — То гений гуманизма был».
«Похороны Ф. Шиллера», Конрад Фердинанд МейерПознакомившись со второй рукописью, я имел все основания предполагать, что в третьей меня поджидает какой-нибудь сюрприз, который произведет впечатление и на переводчика.
И тут же в ответ на мои мысли раздался звонок в дверь. Он донесся, как нечто неизвестное мне, откуда-то из дальней дали, будто эхо в огромном танке-хранилище для бензина. Я встряхнул головой: да, это был звонок, который прозвучал в моей прихожей. Я встал и, не спеша, двинулся к входной двери. Кто-то опять надавил на кнопку, и звонок прозвучал оглушительно и нетерпеливо. Я включил свет и посмотрел в «глазок»: на площадке стоял Анатолий Мышев с портфелем под мышкой, глупо таращась прямо мне в лицо. Я быстро отпер дверь.
Анатолий шагнул навстречу мне, поздоровался.
— Привет, Макс. Прошу извинить за поздний визит, — проговорил Мышев с чопорностью петербургского чиновника. — Мне кажется, что тебе будет любопытно.
— Раздевайся, Анатолий, — перебил я. — Давай твою куртку.
Странно, но мой голос изменился — я не узнавал произносимых слов. Казалось, вместо меня говорит автоответчик голосом, стилизованным под мой тембр.
Мы прошли в мой кабинет. И тут меня закачало — стены, кушетка, письменный стол с компьютером, бумаги на столе — все плавно двинулось. Но Анатолий Мышев ничего не заметил. Я включил люстру под потолком.
— Присаживайся, старина, — панибратски вымолвил я, чувствуя, что еще никогда в жизни не был так рад присутствию постороннего. — Может, что-нибудь выпить? Глоток водки?
— С удовольствием, — растерянно улыбнулся Мышев, конечно же, не ожидавший от меня подобного поступка.
Интересно, думал я, за кого он вообще меня принимает: ведь мы даже не знаем, кто и чем зарабатывает на жизнь. Отношения наши развивались чисто по-деловому. И вдруг ни с того ни с сего я распахиваю душу и приглашаю чужого человека войти в мою распахнутую душу, даже не снимая шляпу.
Анатолий Мышев на удивление вел себя невозмутимо: спокойно расположился посреди моего холостяцкого эпатажа, нисколько не смущаясь холостяцким разгромом и хаосом вокруг.
Я протянул Анатолию стакан, надеясь, что его содержимое — отличная московская водка! — хватит ему на несколько часов. Я потерян ориентацию во времени и не знал, что сейчас на дворе — вечер, утро, день? Знал только, что утром мне надо бежать в поликлинику — к участковому врачу — продлить больничный лист. Зато сейчас ни за что на свете я не хотел оставаться один. Быть может, Анатолий вдохнет своими новостями в меня порцию жизни?
И Мышев подтвердил мои надежды, когда достал свою работу из портфеля, хотя внешне не выказал особых эмоций.
— Я пришел к тебе, — начал он, — по поводу последней рукописи.
Точней, не столько из-за нее, сколько из-за ее содержания. О! Великолепная водка! — добавил он и вновь пригубил алкоголь.
Я держал стакан, не поднося его ко рту. На сей раз никаких тонизаторов, никакого алкоголя — ничего, что может повлиять на мою память. Я хотел мыслить, размышлять обо всем, что имеет отношение к обычной жизни. Анатолий Мышев, сам того не ведая, стал эстафетной палочкой между мной и остальным миром.
— Рукопись? — с тихой радостью переспросил я. — Да это здорово, черт возьми!
Он сделал еще глоток и стал рассказывать:
— Архизанимательно. Во время перевода у меня создалось впечатление, что это повтор событий, что я уже это где-то видел и читал, — ответил он в обычной в манере ипохондрика и добавил: — Но тут совершенно иное осмысление тех же жизненных эпизодов, другой подтекст. Теперь о сохранности. Рукопись побывала в переделках — это видно невооруженным глазом. Некоторые страницы — в ужасном состоянии: пожелтели, стали хрупкие, тронешь страничку — отваливается. Возможно, манускрипт побывал в огне пожара.
Хорошо еще, что бумага была отличного качества, а, главное, текст не пострадал.
Анатолий улыбнулся, на мгновение умолк, обвел комнату внимательным взглядом и, кажется, впервые заметив, какой здесь бедлам, вопросительно уставился на меня.
— Это я искал материалы к той самой рукописи, — стал оправдываться я. — Уж извини за разгром. Похоже, я так и не научусь класть вещи по своим местам.
Надо было о чем-то говорить, и я неожиданно спросил, переведя тему в иное русло:
— Ну почему, черт возьми, люди всегда ждут, пока явится некто с лавровым венком или короной на голове, а то с военной кокардой на фуражке, и решит их проблемы? Цезарь, Кромвель, Наполеон, Гитлер, Сталин!.. Что толкает человека записываться в партии, ложи или религиозные секты, что заставляет погибать «за правое дело»? Конца этому никогда не будет. И значит, человек никогда не будет истинно свободным.
— Возможно, ты прав: никогда, — кивнул Анатолий. — Дело в том, что свобода слишком опасная штука. Особенно в нашей Евразийской стране. По мне так лучше с блаженной улыбкой внимать очередному «спасителю человечества» в белых одеждах или же зарыться с головой в книжки, как страус в песок.
Анатолий Мышев быстро опьянел и начал клевать носом.
Я с усилием отогнал от себя мысли, встал, подошел к нему и положил руку ему на плечо. Он поднял голову и улыбнулся мне, как старому верному другу, устало и грустно. Впрочем, вряд ли ему было печальнее, чем мне — у него своих проблем невпроворот. Трудно, черт возьми, быть человеком.
— Анатолий, спасибо тебе за новый перевод моих драгоценных манускриптов. Кое-что из этого трудно переварить сразу. Но недавно мне уже довелось столкнуться с событиями, в которые я никогда бы не поверил, не случись они лично со мной. Нам бы нужно почаще встречаться. А теперь, как ни жаль, мне пора браться за свою работу.
Мышев поднялся, заглядывая мне в глаза, как ребенок, который хочет, чтобы его непременно похвалили за хорошо сделанное дело — за рисунок или песенку.
— Правда, Анатолий, я даже не могу выразить, как я тебе благодарен.
Мышев улыбнулся, видя, что я говорю искренне. Он и представить себе не мог — насколько. Я протянул ему деньги за перевод. Он, не считая, положил бумажки в карман и вышел за дверь.
Я запер дверь на все запоры, и развернул пакет. Далее рукой графини и поэтессы Веры Лурье было по-русски написано: (дневниковые записи доктора Николауса Франца Клоссета). В. Лурье, Вильмерсдорф, Германия.
На титульном листе было жирно выведено по-немецки: «Написано собственноручно доктором Николаусом Францем Клоссетом…»
Я был обескуражен: у меня в руках оказались те самые первоначальные дневниковые записи, которые доктор Николаус Франц Клоссет считал безвозвратно утерянными — сгоревшими или найденными людьми аббата Макисмилиана Штадлера. И вот все это рукописное великолепие передо мной. Я принялся за чтение перевода.
Вена, январь 1793 года.
Д-р Клоссет.
Год я не прикасался к этому ящику. Более года пытаясь убедить себя, что наш с Вольфгангом Амадеем странный союз — союз врача и пациента — был неким эпизодом, о котором можно забыть, заперев как бумаги, на замок. Год я был свободен от сновидений с участием самого Моцарта или тех демонов, которые наладились посещать меня по ночам; понемногу затушевался и хаос той ужасной зимы 1791 года.
Но месяц назад все повторилось вновь.
Все начиналось во сне, как только пробьет полночь. Причем, на задворках собственного сознания до меня долетали обрывки фраз, реплик, сказанные Моцартом. Это было неким фоном. Ну а человек в сером появлялся всегда внезапно, когда я уже не ждал его. По утрам я не помнил ничего конкретно, в сознании возникали только смутные очертания происшедшего.
Но я не отчаивался. Пытался воссоздать, что это были за слова, произнесенные демоном Моцарта? Странные, бессмысленные; обрывки фраз, звучащие снова и снова. Когда они появлялись, у меня начинала кружиться голова, возникал жар. Поначалу, проснувшись, я тут же садился к столу, чтобы все записать, — иначе реальная жизнь тут же сотрет в моей голове все до слова. И уже скоро я не мог вспомнить ничего из происшедшего: ни сцен, ни фраз, ни персоналий, а окружающая жизнь шла своим чередом. Но я знал точно, что ночные посещения демонов таили в себе угрозу самой основе моей жизни. Разумеется, так оно и было.
С чего же начать мне свои дневниковые записи? Наверное, с того, что запомнилось больше всего. В то лето Вольфганг Амадей был в ударе. Все те шедевры, которые он мощным тайфуном выплеснул в последний год жизни и творчества, зарождались именно летом 1790 года.
Я оказался невольным свидетелем того, как меня представляла фрау Констанция Моцарт. Не скрою, но я был очень польщен. Помнится, как появившемуся в июле 1790 года помощнику маэстро Францу Зюсмайру, — а я как раз осматривал маэстро, непоседливого и энергичного как ртуть, — она вполголоса проговорила:
— Это наш семейный доктор Николаус Франц Клоссет.
И перейдя на громкий шепот, добавила:
— Клоссет самый модный доктор в Вене. Он немного старше Вольфганга. Когда мне его рекомендовал сам директор придворной библиотеки барон Готфрид Ван Свитен, доктор Клоссет был известен всей империи. Сообщу вам по большому секрету: герр доктор пользует многих знатных особ, состоит личным лекарем князя Кауница, лечит, нашего героя и полководца фельдмаршала Лоудона; к нему обращаются даже члены императорской фамилии. Скажу вам, мой друг, с полной откровенностью: я сделала верный выбор.
И я был чрезвычайно рад, что являюсь домашним врачом Моцарта. Свою профессиональную деятельность я прекрасным образом совмещал с посещением венских подмостков, отчего меня величали театральным доктором. Будучи завсегдатаем многих театров столицы, я был в курсе светских сплетен и прочей буржуазной мишуры. Вне сомнения, Моцарт был модным композитором. Нонконформистом. В его «Женитьбе Фигаро» и «Дон Жуане» маэстро гениально спародировал с вельможных особ двора и высшего света Вены такие гримасы и обобщения, что я с трудом удержался, чтобы не расхохотаться.
Вот так началось мое знакомство с этим субъектом! Любопытно, найдется ли хоть один человек, способный общаться с ним длительное время? еще больше меня занимала загадка: что лежало в основе его отношений с Моцартом? От фрау Констанции я узнал, что Франц Зюсмайр, едва узнал про Моцарта, — он на ту пору был учеником императорского капельмейстера Антонио Сальери, — так тут же пришел к Вольфгангу и упросил того стать его учителем, обещая выполнять роль личного секретаря без жалованья.
Разумеется, я довольно скоро раскусил нового помощника маэстро. Итак, Франц Ксавер Зюсмайр — этот вечно стоящий на страже интересов Моцарта секретарь маэстро, одновременно был учеником Моцарта и Сальери. Ох уж этот молодой человек из Верхней Австрии!
Этот гибкий и любезный господин, со смазливым лицом Гансвурста развернулся во всю свою провинциальную прыть. У Франца Зюсмайра была привычка во всем копировать Моцарта. В общем, он старался из кожи вон, чтобы зеркально повторить своего учителя. От этого субъекта, а в особенности от его водянисто-белых, словно стеклянных глаз, так и веяло неискренностью и фальшью.
По этой ли причине, или по какой другой, но именно герр Зюсмайр, пианист и сочинитель музыки, занял в 1790 году место секретаря Моцарта. Очевидно, Моцарту кто-то порекомендовал Франца Ксавера в качестве ученика и помощника: тот пишет музыку, боготворит его, Моцарта, и готов работать бесплатно.
Поначалу Вольфганг Амадей был доволен тем, что взял к себе на работу герра Зюсмайра, который, по словам маэстро, был в любом деле незаменим: бегал с поручениями, вел его переписку, нанимал или увольнял слуг и выбирал апартаменты для семьи Моцарта.
По причинам, которые мне до сих пор не вполне ясны, герр Зюсмайр взял себе за правило информировать меня о жизни Вольфганга Амадея. Все ограничивалось небольшими репликами, примечаниями, комментариями, коими секретарь делился со мной, домашним доктором. Правда, подобная информированность стала меня утомлять, так как мне не хотелось перегружать свой мозг ненужным мусором — таким, как светские сплетни, кто и что сказал или совершил. Что меня особенно раздражало, так это то, что в обмен на свою информацию Зюсмайр постоянно пытался выманить у меня сведения о здоровье Моцарта — вплоть до его детских и юношеских недугов, о которых я знал по медицинской линии от своих коллег и, самое неприятное, обо мне самом. Зачем? Это для меня и сейчас остается загадкой.
До этого я никогда не встречал подобного типа людей, но со всей определенностью могу утверждать: Зюсмайр был довольно-таки занятным типом. Казалось, он абсолютно не понимал разницы между главным и второстепенным: какую-нибудь эпистолярную депешу из тех, что на досуге пишут обыватели, он составлял с той же старательностью и дотошностью, как и важный документ. Без сомнения, он очень любил совать нос в чужие дела. Ему до всего было дело, он постоянно до чего-то докапывался или разнюхивал. Вероятно, в отсутствие Моцарта его помощник с наслаждением обследовал каждый клочок бумаги на рабочем столе маэстро, заталкивая нос даже туда, куда не следовало.
Я постарался навести о нем справки, — у меня были кое-какие связи в тайной полиции. Франц Ксавер Зюсмайр родился в 1766 году в Штейере. О его родителях и проведенном детстве никаких свидетельств я не нашел. Поскольку у Франца Ксавера обнаружился звонкий голос и неподдельный интерес к музыке, он получил музыкальное певческое образование в бенедиктинском монастыре Кремсмюнстера. Зюсмайр посещал гуманитарные классы и класс грамматики, а от Георга Пасторвица получил теоретические и практические знания по композиции.
Однако любознательного молодого Зюсмайра не могли удовлетворить ни провинциальный городок Кремсмюнстер, ни разностороннее, но скромное провинциальное образование. Нетерпеливый, живой и честолюбивый молодой человек подался в столицу империи Вену. И попал на прием не к кому-нибудь, а к самому композитору и королевскому капельмейстеру
Антонио Сальери. Уже имея несколько своих сочинений, он наконец-то нашел благосклонного учителя, который продолжил с ним занятия по композиции.
И вот, совершенно неожиданно посредственно одаренный и ведущий беспорядочную жизнь Зюсмайр покинул Сальери, чтобы стать на этот раз учеником Моцарта, к которому он почувствовал вдруг неодолимое «притяжение».
Но я так не думаю, тут была долгоиграющая интрига. Вероятно, сыграли иные мотивы, скорее всего — политические. Профессиональный взлет Моцарта и поразившее Сальери творческое бесплодие подтолкнули придворного капельмейстера к превентивным действиям: внедрить к Моцарту «своего человека». Мне кажется, что этот ортодоксальный католик и предусмотрительный тактик презирал гениального, но неверующего и беззаботного гения. В честолюбивом психопате Франце Зюсмайре он нашел то послушное орудие, которому и рискнул довериться. Искусство иносказательного выражения мыслей господина Бонбоньери в театральных и ясновельможных кругах хорошо были мне известны.
Вполне могло случиться так, что он в приватной беседе сказал Зюсмайру следующее:
— По моему мнению, этого (тут идет крепкое выражение) Моцарта вам, дорогой друг, следовало бы изучить и поглубже. Если уж говорить прямо, то вы подходящий человек на место капельмейстера при дворе Его Величества. Я полагаю, что для оперного искусства, патриотического настроя Империи, для Вены и. и. все это было бы как нельзя кстати. Я полагаю также, что вы достаточно талантливы, самобытны и веротерпимы. По моему мнению, было бы хорошо, если б такое положение изменилось в вашу пользу и поскорее. Если вы к тому же возьмете на себя роль помощника, побудете рядом с ним, с его окружением и приглядитесь получше, то сможете у него кое-чему научиться, использовать это. А главное — вы убедитесь, мой друг, в его поверхностном характере. Моцарт вредит искусству, и если уж говорить начистоту, ведь сам он источает один только яд. Он просто клоун, фигляр и шут гороховый! Полагаю, вам нелишне было бы самому составить о нем представление. Если же вы станете мне обо всем рассказывать, то, будьте уверены, на благодарность вы можете рассчитывать всегда. В конце-то концов, что, у вас не меньше музыкальных достоинств, нежели у этого дерзкого выскочки?.. И запомните: я — человек слова, потрудитесь — вознагражу вас сторицей.
Я думаю, что причин к этому приватному разговору было предостаточно.
Что же касается Франца Ксавера Зюсмайра, то и у меня есть что сказать. Он — небесталантлив; всерьез занявшись музыкой и став учеником Моцарта, герр Франц со временем займет свою музыкальную нишу в Вене. Другое дело, что он был и остается скрытным человеком, одержимым какими-то бурными страстями. Скорее всего, он, будучи гипертимной личностью, из-за своей эмоциональной незрелости и заурядного интеллекта не способен создать что-то великое, а потому обладает непомерным тщеславием и амбициями. И умеет извлекать выгоду из других. Вот почему Зюсмайр вообразил, что его долг — любой ценой угодить своему патрону — Вольфгангу Моцарту, лишь бы быть в курсе всех его творческих дел и свершений.
Как мне стало известно, Зюсмайр уже в молодые годы познал вкус подковернной борьбы, дворовых интриг и приобрел опыт ведения закулисных игрищ. Видимо, герр Франц Ксавер — один из тех узколобых интриганов, что влезают в чужую жизнь, собирая все слухи и сплетни в надежде когда-нибудь пустить их в дело и извлечь немалую выгоду.
Допускаю и то, что этот начинающий композитор пристроился к Моцарту, рассчитывая погреться в лучах славы великого маэстро и даже подкормиться за его счет. Тысячи ничтожеств самоутверждаются таким образом. Со временем я обнаружил, что эта жалкая тень рассматривает маэстро, как собственность, на которую он всякий раз пытался претендовать. Я перестал отвечать на записки Зюсмайра. Однако прошло еще немало времени, прежде чем секретарь композитора прекратил информировать меня о Моцарте.
Довольно быстро Зюсмайр подружился с Констанцией, а затем вступил с ней в любовную связь и виртуозно вжился в стиль Моцарта. И это проявлялось в самых крайних формах. Его почерк был так разительно похож на почерк обожаемого им кудесника звуков, что на первый взгляд различить их было совершенно невозможно. Беззаботный и необязательный Зюсмайр даже сумел стать соавтором коронационной оперы «Тит», и Моцарт, как мне кажется, был вполне доволен его работой. По-моему, гений проглядел, что и неудивительно, подлинный характер своего «друга», которого следует классифицировать как тщеславного психопата.
Отношение Зюсмайра к себе Моцарт воспринимал как преданность и искренность, к тому же он видел, что тот нашел общий язык и с Констанцией — какая ирония судьбы! Зюсмайр, разумеется, был хорошо осведомлен о характере своего учителя и даже посвящен в процесс его музыкального восприятия. Когда Моцарт умер, Зюсмайр закончил его Реквием. Эта, впрочем, не слишком высоко оцененная услуга составляет единственное светлое пятно в его творческой биографии, лишь сопричастность к моцартовскому Реквиему спасла его имя от забвения.
На второй или третий день нашего шапочного знакомства, Зюсмайр отвел меня в сторону с таким заговорщицким видом, словно желал сообщить мне нечто необыкновенно важное.
— На одно слово, доктор Клоссет. Могу ли я вас попросить выйти в приемную ненадолго? — сказал секретарь Моцарта.
— Что за вопрос, герр Зюсмайр, — откликнулся я. — Конечно.
Секретарь удалился из комнаты больного, я последовал за ним.
У него была своеобразная походка: он мелко семенил ногами, не отрывая ступни от пола, словно юркий хорек. Этот человек раздражал меня невероятно — я физически не выносил его присутствия. Кожа у него была как у покойника, казалось, кто-то высосал из него всю кровь. Когда он взял меня за плечо, чтобы отвести в угол приемной, где мы могли бы поговорить тет-а-тет, меня передернуло от его прикосновения. Ледяной холод его пальцев я ощутил даже сквозь ткань сюртука.
— Доктор Клоссет! — заявил Зюсмайр. — Благодарю вас за то, что вы безотлагательно откликнулись на нашу просьбу и согласились лечить маэстро.
— Не благодарите, герр Зюсмайр, — сказал я. — Я врач и исполняю свой долг.
— Уверен, вы уже поняли, что Моцарт — человек необычный, наделенный редкостным даром настоящего художника, — спросил секретарь и повторил: — Редкостным даром, вы это поняли?
Я не ответил, ожидая продолжения и пытаясь понять, к чему Зюсмайр клонит. Ведь не зря же он вызвал меня на «откровенный» разговор.
— Маэстро я знаю намного меньше, нежели вы, — вновь заговорил Зюсмайр. — Как вы уже наверняка заметили, я — его самый близкий помощник, а значит и друг. Кстати, я всегда к этому стремился — быть преданным другом Моцарта и заботиться о нем так, как и полагается верному другу.
Я начал терять терпение. У меня были дела в клинике, а тут приходится выслушивать высокопарные речи хорька, рядящегося в горностая. Я почувствовал, как кровь прилила к шее, но, сжав зубы, приказал себе слушать дальше.
— Вам кое-что кажется странным?.. — начал он с вопроса и сам ответил: — Знаю, знаю. Вокруг Моцарта вечно творится нечто странное. Большинство людей, навещавших Моцарта, являются членами каких-то тайных обществ, истинные цели которых покрыты мраком. Эти братья из масонских лож со своими делами, сообщают какие-то высшие секреты, про которые надо говорить тихо, либо шепотом. Ну, это пустое. Как известно, мы — художники — вообще довольно странные натуры. Сообщу вам как на духу: я лично не состоял и не значусь в списках ни в одной из таких организаций. Я патриот, верующий католик и, если тайно общаюсь с кем-либо, то лишь с подобными себе истинными друзьями Империи и Искусства. Господи, да и вы с такими же принципами. Я прав, герр доктор Клоссет? — Зюсмайр уставился на меня пытливыми беловодянистыми глазами.
Я кивнул. Меня интересовало одно: как долго будет продолжаться речь господина секретаря.
— Маэстро подвержен резким перепадам настроения, — вещал избитыми фразами Зюсмайр. — Так бы сказали вы? Я уже давно наблюдаю эти скачки! Есть один нюанс: не все, что он говорит, стоит принимать всерьез. Как бы это нам с вами сказать. Как всякий художник, как истинный художник, Моцарт не всегда полностью дает себе отчет в том, в какой реальности он существует. Полагаю, я выражаю свою мысль достаточно ясно?
— Герр Зюсмайр, — я повысил голос, — простите, но мне пора возвращаться в клинику, там меня ждут неотложные дела. Если хотите что-то изложить по существу — слушаю. — Я демонстративно вынул из кармана часы.
— Ах, герр профессор! Заботы, заботы. Не намерен злоупотреблять вашим драгоценным временем. Одна-единственная просьба. Исключительно о здоровье маэстро. Если заметите, что с Моцартом творится что-то неладное и, на ваш просвещенный взгляд, из ряда вон выходящее, не сочтите за труд, дайте мне знать. Буду вам крайне признателен. Повторюсь, но вы уже наверняка отметили, герр профессор, что у нас с Моцартом отношения очень близкие. Я сумею верно оценить любой его поступок, каким бы странным, на взгляд постороннего человека, он ни был, и, как бы мы с вами сказали, смогу успокоить Моцарта, погасить любую его вспышку, даже самую неистовую. — Зюсмайр смахнул нитку корпию с рукава. — И, м-м, еще один моментик. Можно я буду с вами предельно откровенен, доктор Доктор Клоссет? — спросил секретарь.
Он выждал паузу, словно колеблясь, открывать или не открывать мне свою тайну. При этом он опустил голову и глядел на носки своих башмаков. Мне бросилось в глаза, что воротник рубашки у него помят. «Холостяк, прислуги нет, некому погладить», — машинально отметил я.
— Да, герр Зюсмайр, — откликнулся я. — О чем Вы?
— О женщине, — отметил секретарь Моцарта. — Некая дама, как бы выразиться, чрезвычайно опасная для дома Моцарта. Это исчадие ада, доктор Клоссет. Фрау Мария Магдалена Хофдемель, жена известного господина Франца Хофдемеля.
Я промолчал. Зюсмайр посмотрел на меня пустым невидящим взглядом.
— Фрау Мария пытается отвратить маэстро от собственной жены, от Констанции! — изрек секретарь. — Она хочет разрушить союз двух сердец, скрепленный на небе. Констанция не находит себе места. Ей и вмешиваться нельзя, ведь Франц Хофдемель — брат по ложе, состоятельный человек.
Секретарь придвинулся ко мне, обдав своим дыханием — странный какой-то запах с противной сладостью залежалых яблок. Я ощутил, как в нем застучало сердце, а одурманивающая его кровь интрига заблестела сатанинским блеском в глазах.
Зюсмайр приблизил губы к моему уху и зашептал театральным шепотом:
— Знаете, какие слухи ходят об этой женщине? Мол, вьет веревки из своего мужа, подливая ему в питье и еду приворотное зелье. Она же из славян, в девичестве Покорная. Она из тех мест, откуда всем известный Дракула. Говорят, собственными руками отравила-де чем-то собственного родственника наследственным порошком. Такая вот она, эта Мария Магдалена.
— Что мне до грязных сплетен, герр Зюсмайр! — отрезал я. — На своем веку я их слышал-переслышал. Подобные наветы — плод болезненного воображения.
— Да, конечно, доктор Доктор Клоссет. Полностью с вами согласен. Боюсь, однако, что эта женщина не остановится ни перед чем, чтобы совратить маэстро, а проще говоря, уничтожить Моцарта. Если вам нужны факты, то я дам вам дополнительную информацию обо всем этом. Хоть сейчас.
— Не стоит утруждать себя, Tepp Зюсмайр. А теперь я вынужден.
— Безусловно, доктор Клоссет, — извиняющимся голосом опередил меня помощник маэстро. — Просто хочу, чтобы вы знали: если у вас возникнут какие-либо вопросы, проблемы, то и я могу быть вам полезен, — обращайтесь!
— Разумеется, герр Зюсмайр, — политкорректно сказал я, — как только мне понадобится ваша помощь или информация, я дам вам знать. Не будем усложнять дело. Моя работа есть моя работа. Постараюсь справиться с ней своими силами, — остановил я его излияния и потянулся за шляпой, лежавшей на столе.
Таким образом, я недвусмысленно дал ему понять, что разговор окончен. Франц Ксавер улыбнулся. В его улыбке не было и тени теплоты. Когда тяжелые дубовые двери остались за спиной и широкие каменные ступени лестницы вывели меня на улицу, я почувствовал неизъяснимо облегчение. Наконец-то избавился от общества герра Зюсмайра!
Разумеется, вскоре и сам Моцарт, отдавая должное одаренности и заметной сноровке Зюсмайра, пришел к невысокому мнению о своем помощнике и ученике. Реакция маэстро была, как говорится, неадекватной. Он шокировал Зюсмайра вспышками «жуткого шутовства», и я по этому поводу смущенно спрашивал себя, «играло ли здесь роль глубоко скрытое и скрываемое бешенство, неприкрытым адюльтером с его женой, Констанцией?»
С другой стороны, и Моцарт был не без слабостей и не всегда демонстрировал своим собратьям по музыкальному цеху добрые чувства. Именно так можно объяснить вражду, скажем, Антонио Сальери или безудержную злобу на Моцарта того же композитора из Праги Леопольда Кожелуха, скрытую за чрезвычайной любезностью. Не считая тех многочисленных посредственностей, у которых недосягаемое духовное превосходство Моцарта вызывало непримиримую ненависть к его носителю.
Но Моцарт, в сущности, оставался неуязвим для этой антипатии. Действительно, острый язык маэстро был известен многим, и кое-кто полагал, будто Моцарт был социально прогрессивным человеком, бросившим перчатку аристократии.
Теперь о секретаре композитора Франце Ксавере. Так вот. Несколько озадаченный таким неожиданным и малоприятным обращением хозяина, Зюсмайр, однако, к моему удивлению, не выказывал ни малейших признаков раздражения.
А на следующее утро, когда я снова явился к Моцарту, Зюсмайр вежливо поприветствовал меня, мягко улыбнулся и даже учтиво справился о моем здоровье. Казалось, он ничего не помнит о том, что случилось накануне. Вроде бы подразумевалось само собой, что мы с ним оба посвящены в некую тайну — в данном случае в тайну того, как управляться с капризным ребенком. Вместе с тем секретарь иногда вел себя точь-в-точь как человек, собирающий багаж перед дальней дорогой. Он задумчиво оглядывал комнату (мол-де, немудрено и забыть что-нибудь нужное), прохаживался по ней и усаживался возле камина на стул с прямой жесткой спинкой.
Еще раз я должен был спросить себя о вине и прегрешении Зюсмайра. Действительно ли он заслужил это, выражаемое с поистине рапсодическим размахом агрессивное глумление над собой? Или Моцарт заходил слишком далеко в своем черном юморе? Зюсмайр «заслужил» это агрессивное глумление по двум причинам: первая — от Моцарта не могла укрыться завязывающаяся связь с Констанцией, и вторая — Моцарту не мог быть близок — несмотря на его ограниченное знание людей — поверхностный, тщеславный и легкомысленный характер его ученика.
В этом отношении характерно октябрьское письмо (1791 год) Моцарта, пусть даже написанное им в шутливом тоне:
«Зюсмайру от моего имени пару увесистых оплеух. Кроме того, позволю попросить Зофи Хайбль (которой 1000 поцелуев) тоже влепить ему пару штук — только не стесняйтесь, ради Бога, чтобы ему не на что было жаловаться! — ни за что на свете я не хотел бы, чтобы он не сегодня-завтра упрекнул меня, будто вы обошлись с ним не надлежащим образом — лучше уж ему дать, нежели недодать — Было б чудесно, ежели б вы наградили его порядочным щелбаном по носу, подбили б глаз или уж на крайний случай отдубасили как следует, чтобы дурень никак не мог отпереться, будто ничего не получил от Вас.»
Констанция и Зюсмайр были социопатами и фантазерами одновременно. Они чувствовали взаимное притяжение и подсознательное отталкивание друг от друга. Моцарт для Констанцы был только помешанным на музыке и неудачником, заманившим ее в это зыбкое предприятие под именем «брак». Франц Зюсмайр же, осознав колоссальный творческий потенциал своего наставника, которым тот явно не знал, как распорядиться, скорее всего, разрабатывал его для своих или Констанции целей, поскольку они, в конце концов, объединились. Возможно и то, что после смерти Моцарта она хотела выйти за него замуж. Почему? Только потому, что эта неспособная на настоящее чувство женщина увидела для себя выгоду — она была убеждена в успехе своего партнера на профессиональном поприще. То, что Зюсмайр мог подавать такие надежды, следует хотя бы из такого факта: после дальнейшей практики у Сальери Зюсмайр с 1792 года становится весьма известным оперным композитором в Вене и Праге. Итак, связь! После сближения Констанцы и Зюсмайра, обладавшего незаурядными артистическими данными, последний, разумеется, сообщил ей о намерениях Сальери, так или иначе связанных с его собственной, почти уже обеспеченной карьерой.
Ну, а секретарь так и не вернул себе расположения маэстро. Всегда корректный, тактичный, почтительный Зюсмайр даже в последние месяцы жизни патрона подвергался насмешкам с его стороны. Бесспорно, он, может быть, и любил музыку Моцарта, но его отношения с учителем, шутливо называвшим его то «балбесом», то «свинмайром», были довольно странными. Кроме того, заваливал его работой, заставляя нанимать слуг, снимал квартиры, улаживать дела с полицией — словом, принуждал быть мальчиком на побегушках. Словно солдат на часах или верный телохранитель, Зюсмайр не покидал своего поста. В какой бы ранний час я ни приходил к пациенту, преданный секретарь всегда находился подле маэстро. Он никогда не выказывал ни малейшего раздражения по поводу насмешек, которыми осыпал его Моцарт, равно как никогда не жаловался на отсутствие внимания к своей персоне со стороны маэстро. На мои расспросы о том, как развивалась болезнь Моцарта, Франц Зюсмайр только пожал плечами и сухо ответил:
— Так ведь нечему было и развиваться.
Он, правда, и потом, ближе к уходу Моцарта, неоднократно повторял мне:
— У Моцарта постоянно, особенно в последний год, были проблемы с пищеварением. А так маэстро всегда был здоров и бодр, а что до лихорадки — ну, с кем не бывает, дело случая, да и только.
Потом наступила та черная дата: 20 ноября 1791, когда великий Моцарт слег и более не поднимался с постели. Разумеется, я предпринял все возможное и невозможное, чтобы поднять на ноги Моцарта. Мы с коллегой доктором фон Саллабой, — главным врачом Венской городской больницы, — использовали весь современный арсенал медицинских знаний, сил и средств. Но что было делать, если болезнь прогрессировала с ужасающей динамикой. Мне ничего не оставалось, чтобы объявить Констанции наше обоюдное заключение:
— Мне очень жаль, фрау Моцарт, но надежды нет никакой.
После смерти Моцарта я сам сильно занемог и вынужден был долго проваляться в постели. За время моего ухода за герром композитором и наших ночных бдений я настолько врос в него, что, когда его тело предали земле, в моем теле начала угасать жизнь. Но прошли месяцы, и меня понемногу отпустило.
Тело мое еще было истощено болезнью, но, спускаясь к утреннему кофе, я находил в себе силы радоваться цветам, украшавшим стол. Я смотрел в глаза жены, глаза, в которых год с лишним жила тревога за меня. И хотя я не воспрянул еще душой и телом, но обнаружил, что могу по-прежнему восхищаться ее мягкой красотой и плавностью походки, замирать от шелеста ее шелкового платья. Тогда-то я убедил себя, что возвращение к нормальной жизни возможно. И поклялся себе, что не позволю ни обстоятельствам, ни кому-либо ни было поглотить меня целиком, без остатка. Отныне я стану воспринимать, как должное, торжество здравого смысла и радость от обыденной жизни.
Когда жизнь вошла в свою колею, я решил упорядочить свои дневниковые записи, согласно хронологии, надеясь, что, поверяя мысли и чувства бумаге, мне удастся прояснить сознание и сохранить ощущение реальности бытия. А самое главное — отвести от себя весь тот шлейф демонов и тайных сил, которые опутали мою душу невидимой, но прочной сетью и не давали покоя ни днем, ни ночью. Итак, выдержки из моего рукописного дневника:
Вена, июль 1791 года.
Д-р Клоссет.
Меня, опытного врача с богатой практикой, трудно провести за нос. Особенно в вопросах медицины. В середине июля 1791 года в жестоких конвульсиях умер единомышленник, друг Вольфганга Амадея — Игнац фон Борн, не достигнув и 50 лет. Меня точно молнией поразила мысль: бесспорно, тут сработала средневековая аптека! «Загадочных обстоятельств» здесь было в достатке. Симптоматика ясно указывала на «aqua toffana» (мышьяк — лат.), а вскрытие ничего существенного не показало бы. Еще с прошлого года Моцарт и Борн трудились над текстом будущей оперы «Волшебная флейта». И когда сценарий был закончен и поставлена логическая точка, произошла трагедия. Для Моцарта это был невосполнимый удар. Он был у гроба своего друга фон Борна, отдав полагающиеся почести. Но сам не находил себе места, страстно переживал происшедшее и так же переживал, как потерю четыре года назад друга и лечащего врача д-ра Зигмунда Баризани.
А тут с ним произошло несчастие — он отравился, да так крепко, что ко мне прибежала его служанка Леонора (или Лорль, как маэстро величал ее) и срочно позвала меня к Моцартам. На Рауэнштайнгассе № 8. Я жил недалеко и скоро был у постели композитора.
От хвори, поразившей маэстро, он впал в беспамятство; лицо было бледное, изможденное. Когда он пришел в себя и увидел у постели меня, то с трудом проговорил:
— Я был на ужине у Сальери. И дома почувствовал себя скверно. Неужели меня отравили плохой пищей, доктор?
Я, конечно же, смутился и попытался успокоить маэстро:
— Чепуха! Это невозможно. Скорее — просто совпадение; все болезни от нервов. А вы, по всей видимости, расстроены.
— Но у меня невыносимые боли в желудке, тошнит от любого куска, даже от питья — чуть что, открывается рвота, — признался он со слезами на глазах и высказал свои подозрения: — Доктор
Клоссет, кто-то, должно быть, покушается и на мою жизнь, намереваясь отправить меня на тот свет раньше отмеренного срока?
— Все болезни поселяются, прежде всего, в голове, а потом уже в желудке, — дипломатично ответил я и поинтересовался: — Какие у вас симптомы?
— После еды у меня во рту остается металлический привкус. Потом это чувство нездоровья, которое охватило целиком организм. И эта проклятая депрессия. А мне, дорогой доктор, болеть просто нельзя! Болеть — это роскошь для нашего брата, сочинителя музыки. Нет, нет! Здесь все гораздо серьезнее: все эти игры не понарошку, а всерьез. В меня прямо-таки вцепился один неприятный тип, одетый в серые одежды — слуга от некоего влиятельного господина. Причем, с заказом заупокойной мессы, которую я уже написал и отдал. Богадельня для умалишенных! Только разговор между нами, господин доктор, считайте мой монолог, как исповедь духовнику. Этот неприятный господин в сером появлялся уже два раза. И не ограничился фразами о реквиеме, а говорил с подтекстом, смысл которого я не могу разглашать. Да и сам его облик ужасен: степенный вид с холодно оценивающим взглядом, узкими, несколько подобранными губами. И где-то я его видел, но где?..
Моцарт, немного помолчав, грустно уставился в точку, и продолжил свой рассказ:
— А тут мне сон приснился, как говорится, в руку. Измотанный работой, я уснул с листами партитуры на груди. Через пару часов проснулся от жуткого холода. Было такое ощущение, что я стою, в чем мать родила, на убогом церковном кладбище, а дождь льет как из ведра. Невыносимо ломит виски, голова раскалывалась, словно ее стягивают пыточным обручем.
Я невольно закрыл глаза. И тут же огненные мушки замелькали в глазах, голова кружилась, мигрень усилилась — никогда еще мне не доводилось испытывать такую адскую боль. Казалось, воспаленная конъюнктива век разбухла, и я не смогу больше видеть. Открыв глаза, я с ужасом обнаружил, что завис над кладбищенскими крестами на высоте около двух-трех метров. Будто в кошмарном сне я вдруг понял, что вижу самого себя, абсолютно голого, на центральной аллее этого погоста. Ушло чувство раздвоенности.
Откуда-то раздался неестественный голос, он звучал тихо-тихо.
Я пытался понять эту неземную речь и источник, откуда она возникала. Невнятные звуки, рождающиеся во тьме, как бы сами по себе, адресовались исключительно ко мне.
— Твоя наглость дошла до предела, — вещал голос. — Я вижу, ты еще не осознал, что находишься возле роковой черты, за которой — небытие. Пора одуматься и не лезть в события, нюансы и предметы, которые не выразить на скудном человеческом языке. Еще шаг — и случится непоправимое! Просим только одного: уйди! Предупреждаем тебя в последний раз.
— Что вам нужно? Кто вы? — был мой ответ, но странное дело: мой голос звучал, а я даже не раскрывал рта и не двигал языком — все происходило помимо моей воли.
Вдруг комната, и без того темная, погрузилась в непроглядный мрак, какой, наверное, бывает в глубокой шахте. Несмотря на это, я видел все до мельчайших подробностей. Прямо передо мной стоял некий господин, облаченный в черное одеяние, — похожее носят священники. Капюшон был надвинут на брови, не позволяя разглядеть лицо. Этот субъект странным образом висел в воздухе, не касаясь ногами пола. Я только ощутил мощные токи, исходящие от него, которые парализовали мою волю, мои физические силы.
Мой визави произнес:
— Мы знаем, что ты собрался поставить эксперимент на запретную тему: докопаться до сути и раскрыть взаимосвязь света и тьмы.
Но ты жалкий музыкант, а не алхимик. Твоя идея заслуживает внимания, но эта проблема не твоего уровня. Прекрати тащить все подряд на подмостки театра, который зовется жизнью, ибо неосторожное движение — и ты ничто, прах! Твои опыты гораздо опаснее, чем может представить твое жалкое воображение. Так пусть же ящик Пандоры останется запертым, а тайны умрут с теми, кто дал им жизнь!..
После эмоционального рассказа Моцарт развел руками и заявил в отчаянии:
— Вот и все, дорогой доктор, что я запомнил. Несколько часов спустя я пробудился и мог бы счесть виденное и слышанное сном, если бы не тот «серый посланец», который стал буквально преследовать меня со своим заказом мифического Реквиема. Гм, понятно, когда сновидения веселят душу и сердце. А что до той прелюдии, устроенной мне тайными силами из Зазеркалья, то я не вижу никакого смысла.
Ну что я мог посоветовать тогда маэстро?
— Друг мой, это нервы, — отозвался я и, немного поразмыслив, добавил: — Выпишу-ка я вам рецепты на лекарства. Передадите фрау Констанции, она распорядится заказать в аптеке.
С этого времени маэстро часто посещало предчувствие смерти, но кто этот отравитель, он совершенно не подозревал.
Не только заказ Реквиема, в завершении которого «серый посланец» упорно торопил композитора, ошеломил Моцарта и дал повод для раздумий, его напугал и устрашающий вид самого Антона Лайтгеба (управляющий графа Вальзегга цу Штуппах, — о чем я узнал много позже).
Было ли это все случайно? И почему Моцарт мог даже вычислить день своей смерти? Действительно, он подумал о масонской символике, и, тем не менее, ему и в голову не могла прийти мысль о братьях-масонах по ложе, им не было никакого смысла устранять его, ведь, в конце концов, они его поддерживали! И он им платил сторицей.
Мне, по крайней мере, становилось все яснее, что Моцарту — в соответствии с символикой «Волшебной флейты» и легализацией на сцене масонских ритуалов — кто-то хотел отомстить. И, скорее всего, — «круг заинтересованных лиц» уже сформировался, а значит, была выдана своеобразная «черная метка» в виде визитов настойчивого человека в серых одеждах.
Вена, сентябрь 1791 года.
Д-р Клоссет.
По случаю премьеры 30 сентября, в Вену из Бадена приехали Констанция и Зюсмайр.
Спектакль «Волшебная флейта» состоялся у Эмманауэля Шиканедера в его народном театре «Ауф дер Виден» в предместье Фрайхауза. Моцарт был у пульта и вдохновенно дирижировал оркестром, хотя здоровье у него было швах, он чуть не упал в обморок. Опера «Волшебная флейта», особенно ее вторая часть, прошла с успехом. И далее, с каждой новой постановкой, популярность спектакля возрастала в геометрической прогрессии.
Констанция и Франц Ксавер сразу же после премьеры «Волшебной флейты» вновь вернулись на целебные воды в Баден.
Вена, октябрь 1791 года.
Д-р Клоссет.
Я не упускал своего пациента из поля зрения и наблюдал за ним по мере возможности.
В октябре Моцарт фактически был представлен самому себе. Даже за месяц до гибели он придерживался прежнего распорядка: так же был предельно насыщен работой каждый его час, день, а самочувствие, аппетит и сон в середине октября, судя по двум письмам к жене, казались сносными.
Моцарт присутствовал на представлении «Волшебной флейты» 8, 9 и 13 октября, причем один раз его видели с А. Сальери и его пассией Катариной Кавальери.
Маэстро махнул рукой на адюльтер Констанции с его секретарем Францем Ксавером, что явствует из его очередной депеши в Баден («делай с NN, что хочешь»). Я совершенно случайно заглянул на оставленный маэстро лист с текстом и прочитал часть письма, адресованное Констанции. Это следует из последнего письма от 14 октября 1791 года (или были еще — мне неведомо?), написанного за полтора месяца до кончины Моцарта.
Я, как доктор, могу доподлинно утверждать: ни в его каждодневном рабочем распорядке, ни в его письмах к жене в Баден нет и намека на болезнь. И эта загадка стоит того, чтобы серьезно задуматься над порой «странными» разговорами маэстро об отравлении, каких-то подозрительных «серых» посланцев по поводу заказа уже исполненной заупокойной мессы и вещих снов Моцарта, про которые он мне рассказал!..
Вена, ноябрь 1791 года.
Д-р Клоссет.
Последний раз в обществе Вольфганг Моцарт появился 18 ноября 1791 года. На освещении нового храма «Вновь увенчанная надежда» композитор продирижировал своей «лебединой песней» — небольшой масонской кантатой «Громко возвестим нашу радость». Домой он пришел никакой.
Констанция прислала служанку Лорль, чтобы та привела меня к Моцартам.
Я внимательно осмотрел маэстро: налицо было страшное переутомление; нервная система крайне истощена. Очень подавленное состояние; пульс слабый и нерегулярный, частота его колебалась от 70 до 80 ударов в минуту. Температура тела — 35 градусов по Цельсию. Больной обильно потел, испытывал жажду и говорил, что у него нет никакого аппетита, а от пищи его воротит. Иногда он выражал желание выпить немного вина, но решительно отказывается принимать лекарства. Усиление лихорадки при ледяных ногах. Его знобило всю ночь, жар перемежался с ознобом, особенно в нижних конечностях. Больной испытывал болезненное потягивание внизу живота.
На другой день я пригласил коллегу и главного врача городской больницы Маттиаса фон Саллабу, он тщательно осмотрел Вольфганга и довольно громко сказал, что не разделяет моих опасений и предсказывает улучшение состояния. Как я понял, доктор Саллаба не считал, что маэстро страдает серьезным заболеванием; его недомогание — скорее всего психического происхождения. Я хотел бы думать так же.
Наутро Моцарту действительно стало лучше. Правда, к вечеру опять стало худо. Приступы рвоты становились опасными; я пытался их остановить и предложил ему безвредную противорвотную микстуру, содержащую опий. Он безропотно согласился:
— Доктор, отныне я ваш больной, буду слушаться медицину и готов принять ваши лекарства.
Я подал ему настойку, он внезапно поднес ее ко рту и выпил залпом. К несчастью, она мало помогла, и рвота продолжалась; а с ней тягостные приступы удушья, крайнее беспокойство. Он повсюду ощущает боль. Сон наполнен кошмарами, ужасающими картинами. Тошнота. Рвота слизью. Обильный липкий пот.
Практически с 20 ноября Моцарт слег в постель и больше не поднимался.
Теперь он стал похож на собственную тень. Полнота его испарилась, как снег под солнцем; он был ужасно бледен; огонь в его глазах потух, и он стал настолько слаб, что ежеминутно терял сознание; затем добавилась внезапная рвота. Болезнь началась с воспаления рук и ног и их почти полной неподвижностью.
Пение канарейки причиняло ему почти физическую боль, и птицу унесли из комнаты. Зато сознание не покидало его. Вечерами, когда шла его «Волшебная флейта», Моцарт следил по часам за ходом каждого спектакля, которые, кстати сказать, проходили с возрастающим успехом.
Вена, 3 декабря 1791 года.
Д-р Клоссет.
Сегодня утром Моцарту пустили кровь; состояние немного улучшилось. Маэстро с видимым удовольствием съел с ложечки сухарик, яичный желток, выпил вина. Но силы его убывают с возрастающей быстротой. Дремота, тошнота; рвота того же вида, что и раньше. Даю болеутоляющие микстуры. Зофи Хайбль предлагает дать Моцарту молока, которое, по ее мнению, сможет облегчить жестокую агонию маэстро. Я противлюсь изо всех сил и мешаю, чтобы умирающему Вольфгангу дали молока. Моцарт больше ничего не хочет пить, кроме вина, разбавленного подслащенной водой. Всякий раз, как я подаю ее, он с благодарностью смотрит на меня, и с трудом говорит:
— Хорошо, герр доктор, очень хорошо!
Полдень. Пульс прыгает: то едва заметный, то прерывистый, до 110 ударов в минуту, температура гораздо выше обычной.
3 часа пополудни. Моцарт в полном сознании. Он обращается к своим домашним:
— Я скоро умру, несомненно, мне дали яду.
Странно, но у Вольфганга не было три дня стула; клизму я не стал делать, поскольку она может спровоцировать спазмы, опасные для больного; он и так слишком слаб.
Моцарт подолгу лежал с закрытыми глазами, с вытянутыми вдоль постели руками; я коснулся руки — она холодна как лед. Я оставался один у постели Моцарта, сдерживая эмоции, но слезы текут сами.
Пришел доктор Маттиас фон Саллаба. Я описал симптомы болезни; коллега пожелал самостоятельно ознакомиться с состоянием пациента. И неожиданно предложил дать слабительное — хлористую ртуть или каломель. Я протестовал: больной обессилен, и слабительное может привести к его гибели. Но вмешался до этого нейтральный барон Готфрид
Ван Свитен и секретарь маэстро Франц Зюсмайр. К ним присоединилась Констанция. Я в одиночестве, а их — четверо; они побеждают.
Разумеется, я был шокирован таким поворотом. Больной может потерять сознание и еще хуже: ослепнет и оглохнет, а мышцы его парализуются. Нервная система еще будет функционировать, но в силу вступит разъедающее действие хлористой ртути на слизистую пациента. Правда, желудок больного может вытолкнуть в виде рвоты токсическое содержимое каломели. Но защитная реакция желудка подавлена введенным ранее в организм Моцарта рвотным. Дилемма налицо: если желудок тотчас же не выбросит ядовитую смесь, смерть пациента неизбежно наступит через день-два.
Я был сражен уже тем, что в желудок Моцарту вводилась завышенная комбинация каломели и оршада, а до этого пациенту давали рвотное. Доза в два кристалла каломели, рекомендованная моими оппонентами Моцарту, была чистейшим безумием. В то время в Австрии обычно прописывали один кристалл каломели.
После проведенного между нами врачами консилиума, на меня вновь оказали давление и потребовали в жесткой форме: дать каломель Вольфгангу. Я попытался апеллировать к Моцарту: дескать, он сам был против.
Но тут вмешался молчавший секретарь маэстро:
— Да, конечно, вы правы, герр доктор. Но это — последнее средство, какое мы пытаемся испробовать. Моцарт обречен, и мы потом будем терзаться упреками, если не сделали все, что в человеческих силах, чтобы спасти его.
Эти слова Зюсмайра меня убедили, я развел микстуру в подслащенной воде и дал ее Вольфгангу, когда он попросил пить.
Он открыл рот, с трудом глотнул и захотел тотчас же выплюнуть, но безуспешно.
Обратившись ко мне, Моцарт сказал с выражением непередаваемого упрека:
— Вы меня, доктор Клоссет, тоже обманываете?
Справка. Каломель — это в своем роде палочка-выручалочка медиков того времени, как в наше — антибиотики. Особенность каломели в том, что она не причиняет вреда лишь в том случае, если быстро выводится из организма через кишечник. Если же препарат задерживается в желудке, то начинает действовать, как сильнейший ртутный яд — сулема. В те времена доктора прописывали каломель часто, как укрепляющее, в таких случаях, когда все иные средства исчерпаны. Хлористая ртуть или каломель, будучи сама по себе безвредной, становится смертельно опасной в сочетании с горьким миндалем оршада, который Моцарту давали в качестве питья и, скорее всего — ежедневно. Напиток оршад готовился вначале на ячменном отваре, а позднее, начиная с XVIII века, его стали производить на базе экстракта из сладкого миндаля. Кстати, для придания приятного вкуса часто добавляли горький миндаль и освежали его цветами апельсинового дерева (флердоранж). В своей основе миндаль содержит цианистую (синильную) кислоту, которая катализирует хлористые соединения ртути, обычно инертные в каломели. То есть палочка-выручалочка становилось смертельно опасным средством. Ядом.
Я действовал по настойчивой рекомендации барона Готфрида Ван Свитена, который предложил давать Моцарту препарат, изобретенный его отцом, лейбмедиком Марии Терезии Герхард Ван Свитен. Барон предоставил мне эту схему Liquor mercurii Swietenii, содержащий 0,25-0,5 грана сулемы, растворенной в водке, и потребовал — ни на йоту не отступать от дозировки. Иначе, все могло обернуться не успехом, а осложнениями или, как говорят, с точностью до наоборот.
Меня, правда, насторожило то, что в мое кратковременное отсутствие Зюсмайр давал Моцарту какое-то питье без моего дотошного контроля.
— Что это? — спросил я, указывая на пустой бокал.
— Миндальный напиток — оршад, — отмахнулся он. — Моцарту нравится его горьковатый привкус.
«Ну вот. Заставь дурака Богу молиться — лоб расшибет», — грустно подумал я и спросил:
— Чье это решение?
Я услышал то, о чем можно было не спрашивать.
— Барона Ван Свитена, — подтвердила мои мысли Зофи Хайбль.
К вечеру «микстура по Свитену» пока не дала никакого эффекта.
Обсуждается, следует ли давать новую дозу. Я больше не могу сдерживаться и заявляю формальный протест. И вновь больному дали кристаллы каломели.
К ночи у Вольфганга случился обильный стул. черного цвета, превосходящий по количеству все вместе взятое за целый предыдущий месяц. Микстура подействовала; произошла эвакуация черной и густой массы, частично твердой консистенции, напоминающей смолу.
Из-за крайней слабости Моцарта было невозможно снять его с постели так, как это делали еще недавно. Тогда он еще был способен воспользоваться своим стульчиком с посудиной. Но теперь лучшее, что можно было сделать, это сменить нижнюю простыню. Операция не была легкой. Чтобы было удобнее его приподнять, мне пришлось просунуть руки под поясницу Моцарта и приподнять его, чтобы Зюсмайр с Зофи Хайбль и служанкой Лорль смогли убрать запачканные простыни. Мне было особенно трудно, Моцарт был тяжел, а я не имел нужной точки опоры.
Несколько мгновений маэстро молчал, изменившись в лице; затем протянул ко мне руку и произнес печально и сердечно:
— Пусть пошлют за его преподобием, господином пастором, — и снова погрузился в раздумья.
Через два часа прибыл пастор. Это произошло в субботу 3 декабря 1791 года ближе к вечеру.
Вольфганг смиренно исполнял все обряды; видно было, что он готов предстать перед лицом вечности. Затем кивнул мне, как всегда делал днем, и добавил с неожиданной теплотой:
— Спасибо, доктор Клоссет. Мне стало намного лучше. До скорой встречи.
Вена, 4 декабря 1791 года.
Д-р Клоссет.
Я был в театре, смотрел «Волшебную флейту» великого Моцарта. В Вене только и говорили об этой восхитительной премьере. Зюсмайр достал мне два билета и предупредил, чтобы я не беспокоился — у Моцарта явное улучшение. Я пригласил своего коллегу по городской больнице. Мне очень понравился Папагено. Я истовый театрал и, разбираюсь в театральных постановках, а потому сразу же, с первых минут с головой окунулся в это странное египетское действо на сцене: и вдруг осознал, что Папагено нравится не только мне, но и всей публике разом.
Меня позвали где-то через полтора часа после того, как открылся занавес и началось действие. Мне думалось (а Зюсмайр подтвердил), что вчерашнее улучшение у Моцарта успешно продолжается и сказал, что приду непременно после представления — благо театр был рядом с квартирой маэстро.
Но я ошибся и застал Моцарта в значительно худшем состоянии, нежели вчера. У него поднялся сильный жар, начались невыносимые головные боли. Состояние полного коллапса. Холодный пот. Я назначил ледяные компрессы на лоб. У него — прерывистый, едва различимый пульс. Постоянное мочеиспускание. Моцарт пьет воду с лимоном лишь понемногу и через большие промежутки времени. Он отказывается от всего, что ему предлагают. И продолжает пить подслащенную воду с вином или с лимоном — единственный напиток, который ему приятен. Каждый раз, как я его предлагаю, он произносит:
— Спасибо, доктор Клоссет.
Правда, Моцарт отказывается принимать внутрь какие-либо лекарства. Чуть позднее он пьет много воды с лимоном. Беспричинный смех. Неподвижный взгляд.
Кажется, моему пациенту полегчало, он уснул. В самом деле, ему лучше, чем два часа назад. Прошла икота, дыхание не затруднено.
В половине восьмого вечера он оглядывает всех разумным взглядом. От семи до восьми несколько раз подряд Моцарт теряет сознание, когда срабатывает кишечник. Без четверти девять опять теряет сознание. У него стул и довольно обильный.
В десятом часу я подумал, что Моцарт не переживет полуночи. До самого последнего времени, то есть до того, как он стал полностью неподвижен, его что-то угнетает — он два раза застонал.
К 22 часам Моцарт, кажется, задремал. Оставаясь возле кровати, я слежу за малейшими его движениями, а Зофи и Зюсмайр шепотом беседуют у натопленной голландской печи.
Опять позыв к рвоте, и я тотчас подставляю посудину, которая заполнилась черной массой, после чего его голова снова упала на подушку. Снова этот черный, характерный для металлической ртути цвет. Желудок Моцарта делает последнее усилие.
— Хесса, Хопсаса!.. (Зовусь я Хопсаса! — нем.).
— Это последние внятные слова маэстро.
Моцарт постоянно бредит, слова произносит неотчетливо, не до конца, иногда можно различить:
— Штанци… мама… ария.
Наступившая ночь проходит крайне беспокойно. Состояние общей тревоги, во всем теле боль, затрудненное дыхание. Пульс неразличим, тело холодеет. Общая прострация нарастает. Я ставлю горчичные припарки к ногам и два оттягивающих пластыря: один — на грудь, другой — на икры. Моцарт несколько раз вздыхает. Я освежал ему губы и рот водой, смешанной с лимоном и сахаром, но из-за спазмы гортани и икоты больной ничего не может проглотить. У Моцарта вырываются стоны, иногда так громко, что все, кто в комнате, тревожно смотрят на меня и друг на друга.
Наступила полночь. Мне показалось, что жизнь оставляет Моцарта. Но мало-помалу пульс крепнет. слышны глубокие вздохи. Моцарт еще живет. Именно в этот момент произошла самая душераздирающая сцена из всех, что имели место на протяжении его долгой агонии. Фрау Констанция, несмотря на плохое самочувствие, решила придти к одру мужа. Эта несчастная женщина даже не показывалась в комнате, где угасала жизнь великого композитора, — настолько она была ослаблена переживаниями за умирающего мужа. Ей хотели помочь, чтобы подойти к одру Моцарта, но она сама попыталась это сделать и не смогла переступить порог, — будто незримая стена не пускала ее внутрь. Костанция, залившись слезами, отступила назад вглубь комнат. Я постарался проводить ее, сказал, что ей лучше уйти. Но она хочет сражаться и даже умереть за него.
В порыве она бросается к кровати, хватает руки Вольфганга, целует их и, рыдая, покрывает слезами. Маленький Моцарт не в силах вынести этой жестокой сцены, волнение слишком велико — он теряет сознание. Скорбящую Констанцию вынуждены оторвать от Моцарта и вывести вглубь квартиры. Она плохо соображает, что-то говорит, я хвалю ее за усердие, успокаиваю и возвращаюсь на свой пост.
Мы, не отрываясь, смотрим на чело композитора, время от времени стараясь прочитать в его глазах: есть ли еще какая-нибудь надежда. Напрасно, безжалостная смерть рядом.
Вена, 5 декабря 1791 года.
Д-р Клоссет.
Понедельник 5 декабря 1791 года.
Пошел первый час ночи. В половине первого Зофи Хайбль положила на желудок бутылку с горячей водой.
Состояние ухудшилось. Дыхание затрудненное и частое. Уже не различая пульса, я с беспокойством прислушивался: не появится ли он вновь, старался угадать, не угасла ли окончательно жизненная энергия.
Я не спускаю глаз с часов, считая интервалы между вздохами: 15 секунд, потом 30, потом проходит минута-вторая, а мы все еще ждем, но все кончено.
Глаза Моцарта внезапно открываются, а я, стоящий у изголовья и следящий за последними ударами пульса по шейной артерии, тотчас же их закрываю.
Веки остаются неподвижными, глаза двигаются, закатываются под верхнее веко, пульс исчезает.
На исходе первого часа в понедельник 5 декабря 1791 года в 00.50 великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт скончался. Все, кто был в комнате, становятся рядом с нами вокруг ложа умершего.
Неожиданно появляется граф Дейм-Мюллер, и без лишних слов, быстро и со знанием дела снимает посмертную маску с Моцарта. Появляется барон Ван Свитен; он мрачен и неразговорчив. Отозвав меня в другую комнату, герр Ван Свитен негромко спросил:
— Каков будет ваш эпикриз, доктор Клоссет?
— Герр барон, мы с коллегой доктором фон Саллабой расходимся в деталях, но не в диагнозе: налицо токсико-инфекционное заболевание.
— Понятно, тут на сей счет имеется мнение — не терпящее возражения, — категоричным тоном заявил барон и, многозначительно указав глазами наверх, тут же стал медленно говорить, будто диктуя: — У покойного Моцарта — острая просовидная лихорадка, болезнь, всегда сопровождающаяся характерными изменениями кожи. Симптомы налицо. И потому никаких вскрытий тела не производить, никаких эпикризов не писать.
— Вы правы, барон, «просянка» чрезвычайно заразное заболевание, поэтому тело нужно как можно скорее вынести из дома. А санитарный военный лекарь должен присматривать за тем, чтобы в пути соблюдались противоэпидемические гигиенические меры, а именно: сжигание одежды, запрет на прощание с телом — и дома, и в церкви; похороны произвести без выдержки срока в течение 48 часов. Указ императора Леопольда II.
— Полностью согласен. И соблаговолите разъяснить сей вердикт вашему коллеге, герру фон Саллабе.
Я кивнул.
Погода соответствовала моменту: мрачная, из низких свинцовых туч моросит дождь пополам со снегом, все кругом в туманной дымке. А ведь еще час или два назад на небосводе царила полная луна. В тот момент, когда ночное светило скрылось под толстый войлок угрюмых туч, душа Моцарта вернулась к Богу. Как будто природа заодно с людьми скорбит с уходом великого маэстро. Это была самая могучая душа, когда-либо вдохнувшая жизнь в глину, из которой лепится человек.
А вот то, что за день до смерти по настоянию моего коллеги герра фон Саллабы было произведено кровопускание, только ускорило кончину и так уже истощенного и ослабленного Моцарта, — в этом я не сомневался.
По сути, болезнь, приковавшая Моцарта к постели, длилась 15 дней. За два часа до кончины он пребывал еще в полном сознании.
Вена, 6 декабря 1791 года.
Д-р Клоссет.
И вот самое печальное — похороны великого маэстро. В три часа пополудни 6 декабря 1791 года совершилось отпевание тела усопшего.
Экипаж с телом Моцарта прибыл к собору св. Стефана. Но по каким-то непонятным мне соображениям эта грустная процедура происходила в Крестовой капелле, примыкающей к северной стороне собора св. Стефана. В том месте, где находится соединительная решетка, которая идет параллельно стене собора, отгорожено довольно большое пространство перед Круцификс-Капеллой; здесь на время отпевания ставится гроб.
Кто же пришел на панихиду? Барон Готфрид Ван Свитен, Франц Зюсмайр, композитор Альбрехтсбергер (вскоре назначенный на освободившееся место капельмейстера в собор св. Стефана), Антонио Сальери. Меня настолько удивило появление Сальери, что я навсегда запомнил это. Всем была хорошо известна враждебность Сальери к Моцарту. Разумеется, Сальери своим присутствием на похоронах явно хотел подчеркнуть дружеское отношение к покойному и. и доказать свою невиновность. А также, возможно, чтобы в чем-то увериться и доложить по инстанции выше.
А вот жена Констанция не проводила мужа в последний путь, как и некоторые из друзей.
Хотя заупокойная служба проходила рядом с домом: от квартиры Моцарта на Раухенштейнгассе, 8 до собора св. Стефана всего ничего — несколько минут ходьбы. Почему же так произошло? Ходили слухи, что многие побоялись пойти на его похороны, потому что он впал в немилость у Габсбургов. Говорили разное. Одни считали, что австрийскую знать рассердила «Свадьба Фигаро», другие, что виной тому масонство Моцарта. Кроме того, все знали, что он слишком открыто позволял себе критиковать Габсбургов. Да и история с «Волшебной флейтой» не прошла, якобы, даром.
Нашлись люди, которые увидели в Царице Ночи императрицу Марию Терезию — нелестный портрет. А в Метастазио кто-то узнал Сальери.
Гроб с телом Моцарта не внесли в храм св. Стефана, хотя бы для краткого отпевания, как того требует погребальный церемониал католической религии, а напутствовали в так называемой часовне св. Креста. Здесь состоялась заупокойная служба над телом Моцарта. Это был своеобразный ритуал памяти по великому композитору. В глаза бросалось неестественно темно-восковое лицо Вольфганга Амадея, точно лик с византийской иконы. Небольшой круг малочисленной компании провожавших скрашивала, пожалуй, Мария Магдалена Хофдемель, пришедшая попрощаться с композитором.
Ее славянская красота и неподдельная скорбь вносили непередаваемое обаяние в этот траурный ритуал. Но лицо ее скоро потерялось из вида — возможно, она, попрощавшись, быстро ушла. К тому же, как я узнал позже, Магдалена была на пятом месяце беременности. Бедная женщина — она не знала, какая трагедия ждет ее дома в лице разъяренного мужа Франца Хофдемеля.
С того дня мне чудится одно и то же: будто на кресте капеллы было не тело Христа, а самого Моцарта. Я уходил отсюда с чистым сердцем и распахнутой душой, как после покаяния. До сих пор я жалею, что вынужден был вернуться в город по делам — поступил срочный вызов к жене русского князя.
От собора св. Стефана до кладбища св. Марка можно добраться за полчаса. У меня было смутное предчувствие, что в церемонии похорон произошло что-то не так, поскольку утверждали, что поднялась буря — снег с дождем, и процессия от городских ворот вернулась в Вену. А россказни о том, что дешевые желтые дроги и гробом с телом Моцарта возница отвез в полном одиночестве для погребения в общей могиле кладбища св. Марка — это все пошлые выдумки. По моим сведениям, провожавшие Моцарта в последний путь, разошлись сразу же от собора св. Стефана. А гроб с Моцартом остался в мертвецкой часовни до утра, и что было дальше — никому не ведомо. Об этом говорят многие факты.
Но по порядку.
Управившись с делами в городе, я вернулся назад и проехал на экипаже до кладбища св. Марка. Это было недолго. Быстро смеркалось, я торопил возницу. За городскими воротами на Ландштрассе начинались пригороды, дышалось намного легче. И дорога вполне сносная, мощеная. Вскоре я подъехал к кладбищу св. Марка. Я вышел из кареты у маленькой невзрачной церкви. Отыскал смотрителя.
Тот удивился:
— Моцарт? Даже не знаю, где захоронение. Вы говорите, его похоронили на этом кладбище, по третьему разряду? Это, наверное, на большом участке, вон там — справа, за крестом.
Смотритель привел меня к свежевскопанной полосе земли, которая тянулась на большое расстояние. Разве определишь теперь, где опустили в землю гроб, а вернее — мешок с телом Моцарта?
Мне стало отчаянно грустно.
На небе уже высыпали звезды, столько звезд — не сосчитать; полная луна освещала все кругом. Теперь они будут озарять все кругом над огромной усыпальницей великого Моцарта, источать серебристый свет, смешиваясь с его волшебной музыкой, которая приносила много радости и счастья. И тут все колыхнулось перед глазами, я заплакал. Я горько рыдал, стоя над необъятной могилой Моцарта, рыдал над собой, рыдал над теми безвестными — сирыми и обездоленными, кто жил и умер и теперь оказался рядом с богом музыки Вольфгангом Амадеем Моцартом.
Смотритель ушел. Я остался один.
«Надо запомнить место погребения, — подумал я. — Возле этого креста».
Как ни странно, экипаж ждал меня, только возница проворчал, что нужно доплатить вдвое за потраченное время, я согласно кивнул. И мы покатились по звонкой брусчатке Ландштрассе обратно в Вену.
Великого Моцарта нет с нами. Пройдет неделя, прежде чем эта шокирующая, но до конца не осознанная новость достигнет Европы, распространится по Германии, дойдет до Аугсбурга, Берлина, Дрездена, Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, войдет в пределы Праги, Брюнна, затем прокатится по Франции — до Парижа, Лиона и, наконец, до Англии и России, радуя одних, успокаивая других и удручая несчетное большинство поклонников. Без сомнения, эта информация будет воспроизведена большинством газет. Они дадут комментарии, где вновь найдут место грусть утраты и восхищение его божественной музыкой. И всюду газеты без исключения воздадут должное его гению.»
Разумеется, пресса в Австрийской империи, империи Леопольда II, уделит мало внимания этому событию; оно будет упомянуто двумя строчками в венских газетах о смерти капельмейстера и композитора Моцарта. Конечно, венская пресса пока что не заговорит о возможной причине его смерти. Об этом раструбят заграничные (в основном немецкие, французские и пражские газеты).
Так оно и оказалось. Например, в берлинском «Музыкальном ежедневнике» я прочитал такой пассаж: «Так как тело Моцарта сильно опухло, то предполагают даже, что он был отравлен.» Я был, конечно же, ошарашен таким газетным разворотом события. Не только я, но и многие недоверчиво усмехнулись: чего только не придумают газетчики!
Затем это дикое происшествие в доме Хофдемелей, когда в день похорон Моцарта герр Франц набросился с ножом на вернувшуюся после панихиды свою жену Марию Магдалену, обезобразив ее, он покончил жизнь самоубийством. Ужасное событие как будто бы отодвинуло странные похороны Моцарта на некие задворки памяти.
Но позже, встречаясь с участниками и очевидцами загадочных похорон маэстро, которые были столь скупы на откровения, предпочитая, наверное, чтобы прошло время, я засомневался во многом, чему оказался вольным или невольным свидетелем.
Наверное, думал я, понадобятся долгие годы, прежде чем появится достаточно солидное «медицинское досье» и историки смогут начать поиск возможных причин смерти Моцарта, о трупе которого ничего не известно, поскольку он был похоронен в общей безымянной могиле.
Но такое «досье» на основе одних лишь документов, то есть без самого трупа, приведет лишь к многочисленности предложенных «диагнозов», многочисленных свидетельств жизни и смерти и биографий великого маэстро. Так, смерть Моцарта припишут к целому арсеналу грозных заболеваний. Гепатиту, амебному воспалению печени, эндокардиту, перфорирующему (прободному) кишечному амебиазу, застарелой язве, прободной язве, гастриту, ревматической лихорадке, легочному, костному или мочеточному туберкулезу, эпилепсии, кишечной непроходимости, плевриту, обезызвествленному холециститу, гнойному геморрою, подагре, опухоли гипофиза, раку, гастритному сифилису и еще целому ряду других болезней.
Причем, некоторые из недугов могли бы иметь причиной его «хронические болезни» детского периода; или бесшабашную жизнь великого маэстро — страсть к вину, женщинам и другим праздным удовольствиям.
Из этого следует, что прежде, чем сформулировать мнение, которое, во всяком случае, не может выдаваться за стопроцентную истину, следует тщательно взвесить все «за» и «против» и никогда не забывать о необходимой осторожности. Не ошибиться и не навредить!..
Так что, может быть, в конечном счете, речь идет лишь о простом «споре врачей», и он мог бы вызвать улыбку, если бы не вращался вокруг одного слова: был ли отравлен маэстро или умер собственной смертью из-за некоего грозного заболевания.
Действительно, удобнее всего говорить о роковом недуге, унесшим гения музыки. А может, это убийство. Ведь тот, кто решается на убийство, разумеется, попытается избавиться и от трупа. Поскольку нет тела, нет доказательств криминала. А тело Моцарта исчезло бесследно.
Но только произнесешь слово «отравлен», как спор о смерти Моцарта приобретает эмоциональный характер, кладущий конец всякой дискуссии, потому что вокруг фатального слова — яд — сгущается страх, порождаемый бессилием.
Но вместе с тем найдется ли кто-нибудь смелый, кто согласился бы «дать голову на отсечение» в поддержку версии о сознательном отравлении национального гения? Тем более своим же гражданином, австрийцем. Все это ни что иное, как оскорбление Австрии, Вены, императорского двора. Эта версия тем более неприемлема для нашей, австрийской национальной гордости, она чаще всего выдвигается иностранными авторами или специалистами, которые таким образом вмешиваются не в свое дело, ведь речь идет о нашей собственной Истории, и право на интерпретацию ее принадлежит только нам, австрийцам.
Сразу после смерти Моцарта многие австрийцы считали, что он был отравлен, и никем иным, как Сальери. Было опубликовано несколько брошюр, где подробно рассказывалось о совершенном «преступлении». Но здесь речь идет лишь о распространенном в народе убеждении, что итальянцы способны на самые чудовищные преступления и потому вполне могли быть убийцами Моцарта.
Отложив рукопись доктора Николауса Франца Клоссета, я стал размышлять над его выводами. По справедливому замечанию такого выдающегося историка, как доктор Поль Ганьер, «соответствующие тексты не всегда были составлены с желательной точностью. Кроме того, врачи, по причине либо некомпетентности, либо недобросовестности, либо из желания обелить себя, слишком часто расплывались в лишенных интереса соображениях, намеренно неточных и даже противоречивых. Наконец, весьма трудна и деликатна задача перевести прошлое в настоящее, учитывая неизбежные изменения в способах интерпретации и приемах логических рассуждений».
Пройдет 200 лет, прежде чем версия об отравлении. будет очищена от налета страстей, порождавшихся поклонением Моцарту, и сможет быть представлена строго научно, отводя, кстати, обвинения от масонов, у кого действительно не было политического интереса медленно «ликвидировать своего брата по ложе».
И случилось так, что первые солидные исследования на эту тему будут опубликованы в 50-х годах XX века Йоханнесом Дальховым, Гунтером Дудой, Дитером Кернером, Вольфгангом Риттером вместе с рядом других медиков и специалистов. К 200-летию гибели маэстро они вновь вернулись к этой проблеме, прямо поставив вопрос, «был ли Моцарт отравлен», и, отвечая утвердительно, указывает даже на возможных преступников.
Эта первая публикация «триумвирата врачей» была встречена, по крайней мере, в Австрии, скептическими улыбками, острой критикой и даже бранью. Историки музыки, ничтоже сумняшеся, посчитали в своем кругу, что это всего лишь полицейский роман жаждущих славы людей.
Вена, 3 июля 1802 года.
Д-р Клоссет.
Я почти не спал. Ночью меня знобило. В сумерках началась жуткая гроза — с молниями, грохотом и шумными водопадами льющихся потоков воды. Я проснулся от собачьего скулежа, похожего на завывания.
«Господи, покойника накликает», — подумал я, и зажег свечу.
Было около трех часов ночи. Я набросил на плечи халат и спустился посмотреть, откуда доносятся собачьи стенания. С фонарем в руке выбрался во двор и обнаружил насквозь промокшего пса-бродяжку, который скулил и дрожал от холода. Не знаю, что побудило меня привести это чудовище домой. Я втащил пса за загривок вверх по лестнице и устроил ему ложе из тряпья и подушек в комнате для прислуги, — там была голландская печь, хорошо протопленная с вечера. Нелогичность моих действий была очевидна: назавтра меня не поймут ни жена, ни прислуга. В растерянности я присел рядом с «голландкой», прижавшись к ее теплому боку. Затем спустился в столовую, вошел в кухню и, найдя кусок вареного мяса с сахарной костью, принес эти деликатесы голодной псине.
Рано утром, чтобы не было осложнений с женой и прислугой, я вывел собаку во двор и выпустил за ворота. Пес посмотрел на меня, как мне показалось, с человеческой признательностью. Но и я был благодарен собаке: ведь это она помогла мне подобным поступком привязать себя к одушевленному миру — миру живых существ. Хоть раз в жизни позаботиться о любой Божьей твари — пусть даже дворняжки; только бы не поскользнуться на собственном дерьме и не угодить в царство мертвых.
Я не мог не думать о Моцарте. Трудно сказать, было ли ему всегда радостно в Вене. Снобистская, чопорная и слишком неуютная столица Европы, где маэстро прожил почти десять лет, приносила ему все вместе: и счастье успеха, и горечь провала. И я вспомнил наш разговор летом 1791 года, когда Вольфганг сказал удивительные слова: что «сновидения, которые, если бы они действительно существовали, сделали бы мою более печальную, чем веселую жизнь — страстной». Эта фраза, как мне кажется, есть гениальнейшая характеристика жизни и творчества Моцарта. Действительно, его жизнь — более печальная, чем веселая; а сновидений он желал таких, осуществление которых сделало бы его жизнь страстной, а значит счастливой. Тогда Моцарт жил бы страстной жизнью, если бы эти сновидения были реальностью. И я подумал, что все то, что написал Моцарт, это те самые сновидения, при которых ему жилось бы страстно, если бы они действительно существовали.
В отличие от подмостков Вены в театральную жизнь Праги Моцарт прямо-таки летел на крыльях — там его ждали и любили поклонники и, наверное, с большей щедростью и размахом, чем в родной Австрии. В Чехии сценическая жизнь маэстро протекала по-настоящему страстно.
В моей жизни пришло время, когда я отметил положительный момент: уже три ночи подряд, как в «человек в сером» не являлся мне в сновидениях. Да и у меня не было особой нужды прокручивать картинки прошлой жизни и бродить среди мертвецов.
Вена, 7 июля 1802 года.
Д-р Клоссет.
Но все хорошее быстро заканчивается. Вчера пресловутый «посланец» вернулся в мои сновидения, и опять в мой адрес полетели искаженные слова, непонятные фразы, смысл которых от меня ускользал. Кроме того, заворошились в уголках памяти прежние воспоминания, тяжелые часы и дни у изголовья умирающего Моцарта.
На службе, в городской больнице, герр главный врач отвел меня в сторону и заявил, что я выгляжу ужасно, швах; у меня мешки под глазами, и что сегодня во время операции у меня тряслись руки. Я попытался возражать.
Но герр доктор был неумолим и стоял на своем: необходим отдых — и баста! Но у меня были другие планы, и я отказался. Возможно, что в этом году я побываю с женой на водах в Бадене. Прогулки, диета и теплые ванны — все это будет для меня несомненным подспорьем и сослужат хорошую услугу здоровью. Главное — конечно же, сохранение присутствия духа, выдержка и язык за зубами. Молчание — золото.
Вена, 15 июля 1802 года.
Д-р Клоссет.
После трех ночей спокойствия, преследования демонов возобновились. Сразу после полуночи я не стал дожидаться явления «серого посланца», а спустился из спальни в кабинет и разжег в камине огонь. Налил в бокал шнапса, сделал глоток, поморщился. Но умиротворение не наступало: сердце бешено колотилось, и унять его было невозможно. Я подтащил кресло к огню. Отсветы огня, жар пылающих дров успокоили меня, и я полетел куда-то в кромешную тьму. Уснул? Нет, это не было обычное забытье спящего человека, а некие реальные перемещения в жутком сумраке ночного города, а вернее сказать — в совершенно незнакомой мне Вене.
В эту ночь я был неведомым образом перенесен к порогу собора Святого Стефана. Воздух был недвижим. Над моим ухом зазвенел комар, прилетевший из предместий Вены. Окружающий пейзаж казался вполне обычным: улицы пусты; лишь старуха-нищенка в лохмотьях съежилась у церковной стены.
Неожиданно грянула дробь — то был цокот копыт. Из-за поворота стремительно выкатился серый экипаж, запряженный в четверку серых в яблоках рысаков. Неожиданный цуг резко остановился подле меня. Из кареты соскочил на землю худой человек в сером. Такого изможденного лица, как у него, я никогда прежде не видел. Водянистые, глубоко запавшие глаза смотрели оценивающе и высокомерно. На тонких губах змеилась презрительная усмешка.
Незнакомец приказал мне следовать за ним. Голос его был сухим и властным. Странно, но тело мое парализовал беспричинный страх. Я беспрекословно подчинился.
Мы беспрепятственно прошли на территорию храма св. Стефана и оказались у входа в капеллу св. Креста, прилегающую к недостроенной (из-за вмешательства дьявола, как гласит легенда) северной башни храма. Незнакомец дотронулся до дверей капеллы, они бесшумно отворились. Мы прошли внутрь и, пройдя перед Распятием, свернули в сумрачную боковую ком-натку. Спутник толкнул неприметную дверь, — та тихо скрипнула, и перед нами открылся низкий сводчатый коридор, уходивший вниз, на стенах которого висели канделябры с горящими свечами. Я сразу же догадался: скорее всего, это был ход, ведущий в катакомбы, где хоронили людей, умерших во время эпидемии чумы. Память об этой трагедии запечатлена сооруженной неподалеку отсюда «чумной колонной», и осталась в названии улицы «Graben» («Могилы»), проходящей над катакомбами.
Пока спускались по лестнице вниз, спутник не произнес ни слова.
Мы остановились перед тяжелыми коваными дверьми. На мои глаза надели повязку. Раздался лязг открываемых запоров, мы вошли внутрь какого-то помещения.
Повязку сняли.
Я оглянулся и оторопел от увиденного: мы оказались в мрачном вестибюле с низкими сводчатыми потолками, в которые упирались колонны; в металлических светильниках-лампадах потрескивал огонь. У входа стояли два скелета, на полках были брошены черепа или адамовы головы со скрещенными костями. На тумбочке, покрытой красным бархатом, были кинжал, пистолет, стакан с ядом и таблица с изречением «Кинжал, пистолет и яд в руке посвященного — это последнее лекарство для души и тела». На стене картина и распятый Христос; внизу подписано: «Во Вселенной — настоящая истина». Мой провожатый негромко, но довольно жестко сказал:
— Друг мой, не надо слов, только слушайте и подчиняйтесь. Вы удостоились чести быть принятым в наше братство. Вопросов не задавать, прошу делать то, что скажут.
И вот распахнулись следующие двери, и мы оказались в просторном зале — будто в каком-то громадном замке. Стены помещения, выложенные красным кирпичом, представляли правильные прямоугольники; в огромную залу вело шесть дубовых дверей. Пилястры и потолок радовали глаз зеленовато-голубыми тонами. С потолка свисал трос, держащий бронзовый равносторонний треугольник — своеобразный светильник; под ним стояли громадные витые канделябры с толстенными свечами. На шести венских стульях сидели в камзолах и париках какие-то сановники и непринужденно переговаривались между собой. Спиной к нише, обрамленной полудрагоценным опалом, в кресле за столом-конторкой сидел барон Готфрид Ван Свитен. Я его узнал тотчас же. По правую руку барона возвышался светильник из трех свечей, а перед ним была раскрыта толстая книга.
Оценивающе посмотрев мне прямо в глаза, он отдал кому-то распоряжение:
— Все уже в сборе, приступайте, брат.
Шестым чувством я понял, что сейчас будет проведен обряд посвящения в масонскую ложу. Скорее всего, в степень ученика. Я безропотно и легко подчинился ритуалу, и делал все, что мне говорили. Как посвящаемый, я поначалу вступил на начертанные знаки на ковре, совершенно не понимая еще масонского значения символических фигур: тайна символов будет мне оглашена только после клятвы сохранения тайны и соблюдения орденских знаков. Положив руку на Библию и лежащий подле обнаженный меч, я стал читать текст клятвы, поданный мне спутником в сером одеянии.
— Клянусь, во имя Верховного Строителя всех миров, никогда и никому не открывать без приказания от ордена тайны знаков, прикосновений, слов доктрины и обычаев франкмасонства и хранить о них вечное молчание. Я обещаю и клянусь ни в чем не изменять ему ни пером, ни знаком, ни словом, ни телодвижением, а также никому не передавать о нем — ни для рассказа, ни для письма, ни для печати или всякого другого изображения и никогда не разглашать того, что мне теперь уже известно и что может быть вверено впоследствии. Если я не сдержу этой клятвы, то обязываюсь подвергнуться следующему наказанию: да сожгут и испепелят мне уста раскаленным железом, да отсекут мне руку, да вырвут у меня изо рта язык, да перережут мне горло, да будет повешен мой труп посреди ложи при посвящении нового брата как предмет проклятия и ужаса, да сожгут потом и да рассеют пепел по воздуху, чтобы на земле не осталось ни следа, ни памяти изменника.
Мне показали готовый диплом своего причисления к ордену, и этим вся церемония принятия в первую степень ученика закончилась. Барон Готфрид Ван Свитен или Председатель ложи резюмировал:
— Теперь Вы, брат, должны в качестве ученика, принятого в ложу, работать над собою, совершенствоваться в добродетелях, усваивать «царственную науку вольных каменщиков» и подготовиться к прохождению других, более высоких степеней.
Мне был вручен белый кожаный фартук, как знак, что я, будучи профаном, теперь вступил в братство каменщиков, созидающих Великий Храм человечества. Дали лопаточку — неполированную, серебряную; «ибо отполирует ее употребление при охранении сердец от нападения от расщепляющей силы», пару белых мужских рукавиц — в напоминание того, что лишь чистыми помыслами, непорочною жизнью можно надеяться возвести Храм Премудрости.
Я облачился в круглую шляпу — символ вольности, повесил кинжал на черной ленте с вышитым серебром девизом: «Победи или умри!»
— А сейчас Брат Ужаса познакомит тебя с нашими сокровищами, — сказал Председатель собрания.
Им оказался мой спутник, который тут же кивнул мне: идем дальше.
Повсюду стояли странные приспособления из дерева — стеллажи с черепами, человеческими костями, высушенные звериные шкуры, перетянутые веревками и ремнями.
Я безропотно следовал за таинственным проводником, не в силах и помыслить о протестах или своем недовольстве. Создавалось впечатление, что мы шли по лабиринту из сводчатых коридоров, гигантских полутемных зал.
Мы покинули их и продолжили шествие. Тьма окружала нас; лишь канделябры-светильники выхватывали те или иные картины вокруг, и тогда я видел не то людей, не то призраков в длинных одеждах с капюшонами — так, что их лица нельзя было рассмотреть. Все они неспешно брели в ту сторону, куда направлялись и мы.
Мы расстались с этим подземным мраком так же незаметно, как вошли в него, и оказались в огромной сокровищнице, полной золота и драгоценных камней. Там было светло, как бывает за городом — в светлый июньский день; однако я нигде не увидел окна. Залу освещали все те же трехсвечные канделябры, а с потолка свисал трос с гигантским треугольником, нашпигованным светильниками.
На стенах висели полотна с масонской символикой, о которой я прежде только слышал. В центре этих панно с ориентацией на север-юг, запад-восток красовались пятиконечные пламенеющие звезды. Линейка и отвес символизировали равенство сословий. Угломер — символ справедливости. Циркуль служил знаком общественности, а наугольник, по другим объяснениям, означал совесть. Дикий камень — это грубая нравственность, хаос; кубический камень — нравственность, но уже «обработанная». Молоток, как непременный атрибут мастера, служил символом власти. Являясь орудием для обработки дикого камня, он таил в себе знак молчания, повиновения и совести; а по другим объяснениям молоток нес в себе символ веры. Лопаточка — снисхождение к слабости человечества и строгости к себе. Ветвь акации — бессмертие; гроб, череп и кости — презрение к смерти и печаль об исчезновении истины.
Одежды масонов изображают добродетель. Круглая шляпа — символ вольности.
Обнаженный меч — карающий закон; это знак борьбы за идею, предназначенный для казни злодеев и защиты невинности. Кинжал — это символ предпочтения смерти поражению, борьбы за жизнь и смерть.
Потолок располагался слишком высоко, а сама комната была громадной и поражала немыслимой роскошью. В нишах стояли две полуобнаженные фигуры Гермеса-Меркурия с повязкой на глазах: одна с жезлом в руках, другая — в привычной позе бегущего. Особенно потрясала картина «Обезглавливание», где на облачном фоне воин в стилизованных римских доспехах и пурпурной накидке держал в правой руке окровавленный меч, а в левой — отрубленную голову. Второй план являл собой пасторальную идиллию: мирно беседующие обнаженные люди, а также отдыхающие животные — львы, собаки; а в стороне — закрывшейся щитом ангел. Все это только усиливало воздействие непритязательного сюжета; и настолько сильно, что я, находясь рядом, чувствовал себя дискомфортно — странно и неуверенно.
Ну, а Брат Ужаса в сером одеянии снова обратился ко мне. Он сказал жестким, не терпящим возражения голосом, что все, что я вижу перед собой, откроет мне многие тайны и, если нужно, станет моим, если я опущусь на колени перед панно и помолюсь обычной молитвой во славу Господа.
Я посмотрел на старинный гобелен, испещренный геометрическими символами: равносторонними треугольниками, могендовидами, концентрическими кругами, прямоугольниками. В центре был выписан гроб, в котором, как было обозначено, покоится тело убитого архитектора Хирама (Адонирама), возводившего храм Соломона.
Я почувствовал, как сами собой сгибаются колени, а я опускаюсь на пол.
— Да святится имя Твое, да, — прошептали сами собой губы, но тут же мой рот сковала немота.
Вдруг я услышал божественную музыку. То было, несомненно, творение великого Моцарта, и музыка была так восхитительна, ярка и неповторима, что слезы непроизвольно потекли из глаз.
Райские аккорды маэстро гремели все громче и желаннее, кольцами обвивалась вокруг меня, и даже приподнимали мое тело над полом из красного с черными точками мрамора.
И вдруг прямо передо мной повисла посмертная маска Моцарта: высокий лоб, зачесанные назад волосы и умиротворенное лицо с закрытыми глазами.
Слезы хлынули у меня из глаз столь бурно, что я не мог различить черт моего серого спутника. Чары рассеялись. Против моей воли губы мои зашевелились, повторяя слова заупокойной молитвы, смысл которых я давно позабыл:
— Libera me, Domine, de Morte Aeterna (Заупокойная молитва — лат.).
Мой спутник был далеко впереди, он толкнул рукой в стену, покрытую гобеленом, и та легко отворилась. Я побежал следом, чтобы не отстать.
Проследовав дальше, мы оказались в помещении, задрапированным черными тканями. На стенах — черепа и перекрещенные кости с надписью «Мементо мори», на полу — черный ковер с нашитыми золотыми словами, и посреди ковра открытый гроб, покрытый красною, будто окровавленной, тканью. Я смотрел, как завороженный: ведь в гробу лежало чье-то тело; слева, где сердце, покоился золотой треугольник с именем «Иегова» с золотой ветвью акации; в головах и ногах усопшего были циркуль и треугольник. Гроб окружали три светильника-канделябра, поддерживаемые тремя человеческими скелетами. По правую сторону от жертвенника, на искусственном земляном холме, сверкала золотом ветвь акации. Все здесь символизировало глубокую скорбь: это было горе по убиенному архитектору храма Соломона — Адонираму.
Раздались три удара молоточком.
Мой спутник пояснил:
— Теперь ты должен пройти последнюю степень масонской лестницы ступеней, но в старом принятом шотландском обряде «Рыцарь белого и черного орла, Великий Избранник Кадош». Но мы должны быть уверены в твоем бесстрастии и преданности ордену. Поэтому ты опустишь руку в расплавленный свинец и совершишь убийство человека.
— Как это?! — возопил я. — Не смогу-у.
— Сможешь, — жестко отозвался Брат Ужаса. — Во-первых, это будет не свинец, ртуть. Ну а вместо живого человека перед тобой его фантом, состоящий из туловища с приставленной головой. Мы приказываем тебе: порази «убийцу Адонирама», отмсти за его смерть!..
Когда я выполнил все, что от меня требовалось, мой спутник подвел меня к гробу и проговорил, что теперь я могу узнать заветное слово, без которого нельзя было закончить построение иудейского храма.
Я взглянул на покойника и ахнул: в гробу лежало тело Вольфганга Моцарта. Что-то было тут не вполне так, но что? Я напряженно думал, и никак не мог понять. Ах, да! Его лицо не было отчужденным ликом покойника.
«Да он ведь живой!» — успел подумать я.
Но тут внезапный разряд грома раздался над головой, и свет ослепил меня. Пропало все: комната-мавзолей Моцарта, мой спутник в сером плаще.
А я оказался в своем кабинете, у камина.
И тут у меня в ушах прозвучал голос маэстро:
— Все, что произошло с тобой, — великая тайна. Никому ни слова. Но важные моменты поверь бумаге. Торопись, времени в обрез.
— Какие моменты, о чем писать? — в недоумении поинтересовался я, ответом было молчание.
Немая печаль сковала меня по рукам и ногам. Жизнь Зазеркалья, куда провидение перенесло меня, и где совершился со мной какой-то ветхозаветный языческий ритуал, — вот та новая планида, где мне нужно теперь жить-существовать. С прежней жизнью, казалось, теперь покончено навсегда. Нужно забыть законы здравого смысла людей, былую уверенность в идеалах христианского мира. С этого момента ни душевного покоя, ни трезвости и ясности рассудка, ни женской любви — никаких человеческих радостей, а только потусторонние игры всерьез, где я, скованный навеки страшной клятвой, должен быть и жить с иными ценностями и по иным законам, если таковые там существуют.
Вена, 19 июля 1802 года.
Д-р Клоссет.
Главный врач больницы был прав. Вопрос решен окончательно: беру отпуск. Если я не могу исцелить себя сам, то какой из меня врач! И тогда я сказал себе: довольно валять дурака. И утром отправился на работу, в больницу. Оформить отпуск по причине переутомления мне не составило труда. Главный врач был всецело на моей стороне. Дома я решил основательно заняться документами Моцарта, которые столько лет пролежали в ящике письменного стола.
С другой стороны, будет время придти в себя после того кошмарного сна, когда я оказался в подземных залах масонского братства и был посвящен в высшие степени ордена и дал клятву и обет молчания. Но чисто человеческое любопытство не давало мне покоя. И я попробовал отыскать те входы в подземелье с коридорами, залами и помещениями, которые, как мне показалось, существовали на самом деле, а не привиделись во сне.
Так вот, две или три ночи я блуждал в окрестностях храма св. Стефана в поисках входа в те самые катакомбы, где и должен был быть подземный замок.
Но входа я так и не нашел. Монахи и священники откровенно не понимали, о чем я их спрашивал.
Хотя я повстречал похожую старуху-нищенку, которая сидела в лохмотьях у порога собора св. Стефана. Это произошло в последнюю ночь, под самое утро. Я остановился рядом со старухой, протянул ей деньги и спросил:
— Помнишь, как ночью приехал мужчина в сером, и мы с ним пошли в Крестовую капеллу?
Она повернула ко мне ужасное иссиня-красное лицо и произнесла жарким и хриплым голосом:
— Человек в сером ждет тебя. Разве ты не знаешь? Финита ля коммедиа, — и она захохотала диким смехом душевнобольной.
Разумеется, клятва, данная мною, запрещала расспрашивать или говорить обо всем этом, тем более — упоминать о моих встречах с Моцартом. Хотя глаза мои остаются слепыми, а рот — немым, но я не мог противоречить себе и пытался смотреть на все происходящее незамутненным взглядом ученого человека. Нужно было разобраться: в чем причина моих ночных кошмаров, всего этого умопомрачения? Неужели это нервный срыв, связанный со смертью Моцарта? Или какая-то дрянная пища, попадая в мой желудок, отравляет мозг? А может, причина — в моей совести, которая мечется между правдой и кривдой и не может найти тихую пристань? Или это вина неисполненного долга — обещание, данное умершему Моцарту? И от этого мечется моя душа и помрачился рассудок? Не знаю. Загадка какая-то, тайна. Может, сходить в храм, покаяться во всех грехах, вольных или невольных?..
А тут несказанная удача: за ужином моя супруга сообщила мне, что назавтра уезжает по срочным делам к родителям в Инсбрук. Так что все хозяйство ляжет на меня и на прислугу.
Я знал, что в этот момент ей нужно было лишь одно: признание, как я люблю ее, и как буду скучать в ее отсутствии.
— Любовь моя, может, ты передумаешь? Как же я обойдусь без твоей любви и заботы?
— Ах, мой милый! Я скоро, долго не задержусь, — пообещала моя довольная жена.
Рано утром жена уезжала. Я помог ей сесть в карету, она подняла тонкую красивую руку, которую я тут же поцеловал. С минуту она пристально смотрела в мои глаза, кивнула и крикнула вознице:
— Поехали! С Богом!..
Попытки примирить мою душу с телом закончились у меня ничем.
Я решил изменить свою жизнь по принципу: меняйся — или умрешь. Вернувшись в дом, я почувствовал страшную слабость. Нестерпимо болела коленка правой ноги — каждый шаг вызывал неприятную боль, руки мелко подрагивали. Я попросил служанку приготовить мне черный кофе, а сам поднялся в кабинет, достал дневник из дальнего ящика письменного стола и занялся бумагами Моцарта.
Habent Sua Fata Libelli![11]
Смотрите, на немецкой сцене
Резвятся кто во что горазд.
Скажите — бутафор вам даст
Все нужные приспособления.
Потребуется верхний свет.
— Вы жгите, сколько вам угодно,
В стихии огненной, и водной,
И прочих недостатка нет.
В дощатом этом балагане
Вы можете, как в мирозданье,
Пройдя все ярусы подряд,
Сойти с небес сквозь землю в ад.
«Фауст» Гете, «Вступление в театр»
Я оказался на краю бездны, которая существует между миром людей, где я когда-то жил, и тайным миром, с который я невольно соприкоснулся, будучи домашним врачом Моцарта. Меня одновременно притягивали к себе два мира: реальный и параллельный, или Зазеркалье. С уходом маэстро пропасть между ними стала расширяться, делаясь все неодолимей. Я оказался заложником тайных сил мира сего, так что было немыслимым поведать о случившемся: ни моим коллегам по больнице, ни даже моей супруге.
Жизнь не только прекрасна и удивительна, но и полна неожиданностей. Не вдаваясь в детали, сообщу только: ко мне пришел слуга придворного капельмейстера Франца Ксавера Зюсмайра и передал приглашение — посетить его дом. На рандеву прояснились многие вопросы, связанные с кончиной Моцарта.
Не скрою, в руках и ногах появился зуд от нетерпения, когда я, гонимый скорее любопытством, нежели разумом, перешагнул порог его жилья.
Меня встретил тот же слуга — сухощавый молодой человек с непроницательными глазами и поджатыми губами, одетый во все серое. Он проводил меня наверх в комнату, на пороге которой я встретился с Зюсмайром. Тот быстро пожал мою руку и поклонился.
Рукопожатия оказались вялыми, поклон — каким-то старомодным и церемонным. Я запомнил герра капельмейстера напыщенным человеком с выражением высокомерия и снобизма. Посмотрев на него, я поразился тому, что сделали с Зюсмайром недуг и время.
Глаза глубоко запали; кожа на лице еще больше побледнела, стала мертвенно-серой. Да и лицо его странно переменилось: казалось, будто нижняя и верхняя его части принадлежали разным людям.
Зюсмайр попробовал улыбнуться, но во взгляде не было и намека на дружеское тепло, в потухших глазах застыло недоумение затравленного зверя. Мое презрение к Зюсмайру уступило место жалости. Я упрекнул себя за то, что так холодно встретил человека, который, судя по его лицу, со времени нашей последней встречи пережил тяжкие испытания.
Преодолев смущение, я заговорил первым:
— Как я рад видеть вас, герр Зюсмайр!
— Здравствуйте, доктор Клоссет. Пожалуйста, присаживайтесь! Не хотите ли кофе?
— Нет, благодарю, я только что позавтракал.
Он опустился на краешек стула, выпрямил спину, провел руками по коленям, словно расправляя невидимые складки на безукоризненно отглаженных брюках, и заложил пальцы левой руки за борт сюртука — жест, который много лет назад я видел сотни раз.
— Вы, вероятно, удивлены моей просьбе, доктор Клоссет, посетить мои апартаменты. Мы ведь с вами никогда не были. скажем так. лучшими друзьями.
Я благоразумно промолчал.
— Скажу прямо: я повторил судьбу своего учителя Моцарта и даже в чем-то превзошел его, — вдруг заговорил он с жаром. — Да вы и сами знаете про мои успехи на венских подмостках. Начав с соавторства в коронационной опере «Милосердие Тита», я написал оперу «Зеркало из Аркадии», которая была поставлена с большим успехом. В 1792 году я был назначен придворным капельмейстером, чего не удалось даже Моцарту.
Мне так и хотелось ввернуть: «Простите, сударь, но этот взлет стал возможен только благодаря Сальери, верным учеником которого вы были всегда».
Я не понимал, к чему он клонит, тем более, что я все это знал и без него.
— Вы забыли упомянуть и другой ваш шедевр — турецкая опера «Сулейман II», от которой была в восторге вся Вена.
— Спасибо, герр доктор, — кивнул он и поморщился, точно от зубной боли. — Пока что моя легкая и непритязательная музыка выполняла свою задачу, пользуясь успехом у венской публики. Я не могу понять одного: я не поступался никогда основными своими убеждениями: свой ярко выраженный патриотизм я, безусловно, разделял с герром Сальери. В этом мы, пожалуй, кардинально расходились в своих убеждениях с Моцартом. Вы же знаете мою патриотическую кантату «Спаситель в опасности», которая была встречена бурными аплодисментами; публика даже вставала с места.
— О да, мне это тоже известно.
— Скажите, доктор Клоссет, — проговорил он и замолчал. — В последние годы жизни я стал чувствовать себя нездоровым. Вернее, на меня стали часто накатываться слабость и хворь. Кто-нибудь скажет, дескать, из-за беспорядочной жизни. Вот уже полгода, как я стал чувствовать себя полубольным и фактически заточенным в четырех стенах своего дома.
— Нужно провести всесторонне обследование, — мягко ответил я, и, пожав плечами, добавил: — Трудно сказать что-то однозначно.
Я принялся искать ответы на загадку болезни Франца Зюсмайра, которого тоже посетил тяжелый смертельный недуг.
С каждым днем его душевные и физические силы таяли. Он лежал, безукоризненно опрятный, в залитом солнечным золотом помещении, украшенном цветами в горшках и гобеленами. Тогда я удивился разительному контрасту роскошной квартиры Зюсмайра и комнатой великого композитора Моцарта, в которой тот закончил свои дни, — там было постоянно мрачно и сыро.
Но, несмотря на слабость, Франц Ксавер так жаждал говорить о Вольфганге, как я — слушать; особенно о тех временах, когда тот жил еще в Зальцбурге.
Я стал навещать Зюсмайра ежедневно. Примерно в пятом часу пополудни я появлялся у его порога со своим саквояжем в руке и каким-нибудь скромным подарком — несколько пирожных, цветы или просто сверток с восточными сладостями, которые он любил.
Оказалось, что Зюсмайр был самым кротким и добрым малым из всех, кого я когда-либо встречал. Ни разу я не слышал ни единого упрека от Зюсмайра, что наши с ним встречи грубо нарушали уклад чьей-либо жизни.
Изо дня в день меня встречал его слуга с холодным пронзительным взглядом и провожал в просторную, полную воздуха комнату на первом этаже. Тут же подавался отменный венский кофе, который тогда был в чести во всех столичных домах.
Хотя герра Франца Зюсмайра уже нельзя было назвать процветающим — доходы его стали весьма скромны, зато дом производил приятное впечатление пристанища мужского аскетизма и порядка.
Хозяин приподнимался на постели, далее следовало дружеское рукопожатие и ангельская улыбка.
У Зюсмайра я проводил не более часа, поскольку у меня было много работы в больнице. Но август шел уже на закат, близилась осень, а с ней неумолимо надвигался последний час Зюсмайра, и я стал засиживаться допоздна. Поэтому единственным, кого я встречал на улице, возвращаясь домой, был фонарщик.
Мои бесконечные вопросы о Моцарте, как мне казалось, были самым бесцеремонным вторжением в святость его холостяцкого очага. Но он терпел это как должное и неизбежное. Герр Зюсмайр умудрился даже вести дневниковые записи, — я видел кипу страниц, исписанных старательным почерком Франца Ксавера, которые он делал для меня. На все протесты и объяснения, что такой труд непосилен человеку в его состоянии, капельмейстер отвечал:
— Герр доктор Клоссет, друг мой, если Всемогущий постановил, что мне пришла пора покинуть пределы сего бренного мира, то я просто не успею превратить свои мысли в эти бумаги. И что хуже всего: они могут попасть в руки недобросовестных людей.
Кажется, во второй визит к герру Зюсмайру, тот признался:
— Я знаю одно и твердо: наш великий Моцарт хотел и настаивал, чтобы каждое слово, написанное о нем после его смерти, было бы словом истины.
— Это мое кредо, — подтвердил я его слова.
Он произнес со слабой усмешкой:
— Вы бы знали, доктор Клоссет, что герр Моцарт только скончался, как целая орда жизнеописателей принялась сочинять про него всякие небылицы. Но уж таков удел гения — того, кто опередил свое время. Я надеюсь, что наступит время, когда про Моцарта напишут всю правду, какой бы горькой, зловещей и ужасной она ни была.
Я усмехнулся и недоверчиво покачал головой:
— Мне кажется, что этого не произойдет. Никогда.
Далее Зюсмайр сообщил мне, что все до единой бумаги Моцарта, которые у него остались, перейдут в мое личное пользование.
— Герр доктор, только сохраните все, что окажется в вашем распоряжении, и все то, чем я владею, — нотные записи маэстро, его несколько писем, которые я не отдал Констанции, — сказал он и поморщился, точно от сильной зубной боли. — Возможно, они окажутся полезными для Вашего исследования. Одна просьба: не отказывайте мне в том, что я решу отдать и что Вам может пригодиться.
Я кивнул.
— По крайней мере, — добавил он, — это хоть какое-то полезное занятие. Тем более, что я прикован к постели, а это, как утверждал мой врач, даже в лучшем случае продлится не больше месяца. Так что время еще есть, и я буду безмерно счастлив поделиться с вами воспоминаниями о нашем Моцарте, о прожитом прошлом. Только бы все это помогло лучше разобраться в причинах и течении его загадочной болезни.
— Герр Зюсмайр, не нужно так мрачно, — подбодрил я. — Вы же верующий человек, христианин!
Зюсмайр улыбнулся и откинулся на широкую подушку, благоухавшую растительными ароматами.
— Я всего лишь императорский капельмейстер, доктор Клоссет, — проговорил он с долей напыщенности. — Но видит Бог, я буду честно служить искусству до конца.
Так проходили наши посиделки. Не обязательно наши беседы касались напрямую Вольфганга Амадея, но он всегда незримо царствовал между нами. Франц Зюсмайр по-своему любил маэстро и потому был некой связующей нитью, соединяющей меня с самим Моцартом. И что интересно! Обоюдная очарованность великим маэстро незримо помогала еще и еще раз подтвердить нашу преданность покойному.
Но Зюсмайр чах на глазах, силы его угасали, а непрочные узы, связующие нас, неминуемо должны были порваться.
Всякий раз я уходил от Зюсмайра с массой бумаг, исписанных мною, или им самим, причем почерком, так похожим на письмо Моцарта. У себя в квартире я немедленно уходил в кабинет и сортировал рукописное наследство на столешнице письменного стола. К концу второго месяца там образовались две внушительные стопки. Но из-за своих личных проблем я ни разу не прикоснулся к этому богатству. Четырнадцать лет эти бумаги оставались непрочитанными до той минуты, пока пожар в моем кабинете не уничтожил их безвозвратно.
Несколько раз я пытался заговорить с Зюсмайром о том, что же происходило в последние недели жизни Моцарта, высказывая без утайки мои подозрения. Правда, меня интересовала медицинская сторона этого дела и кое-какие нюансы тех последних дней жизни маэстро. Но всякий раз что-то мешало нам — то приступ кашля у Зюсмайра, то неожиданное появление его прислуги — молодого человека.
Да и сам Франц Ксавер, перебивая меня, уносился памятью в давние времена, когда еще мальчишкой жил-был у себя на родине в верхней Австрии. Уже тогда, будучи юнцом, он мечтал в заштатном Штейере об успехе и триумфе на столичных подмостках Вены.
— Так, а как наш Моцарт? — я неумолимо возвращал его к нашей главной теме разговора. — Мы ведь договаривались.
— Ах, да, Моцарт, — печально улыбался Франц Зюсмайр и начинал вспоминать то, на чем мы остановились: — Да, да, болезнь наступала стремительно, но, несмотря на физические недомогания, энергия Моцарта, его воля казались неисчерпаемыми. Он творил, как музыкальная машина, рождая великолепную, божественную музыку. Почти все его произведения, казалось, были вложены ему в уши некоей могучей небесной силой. Он только успевал перекладывать музыку на ноты и записывать на бумагу. Тут был некий непостижимый феномен. Жизнь маэстро стремительно угасала, а сочинения становились все волшебнее и грациознее, а в последних произведениях достигли недосягаемых вершин. Болезнь уничтожала его тело, но не смогла погубить душу и сердце.
Размышляя обо всем этом, я пришел к выводу, что Моцарт страдал общим заболеванием по такой цепочке: пищеварительный тракт — почки. Уже в августе 1791 года, в Праге, начались головокружения, слабость, рвота и стремительная потеря веса. Моцарта преследовали галлюцинации, руки и ноги опухали, а бледность и худоба были ужасны. Его энергетика, темперамент справлялись с этим недугом. И духовные силы маэстро, сконцентрировав его волю в кулак, давали отпор телесным мукам, физическим страданиям гибнущего тела. И волшебный талант неукротимого нечеловеческого гения воплощался в пленительной музыке.
Ну а Зюсмайр не уставал делиться своими рассказами о Моцарте. Однажды, когда я в очередной раз затронул ту памятную поездку в Прагу в конце августа 1791 года с коронационной оперой «Милосердие Тита», то Франц Ксавер неожиданно заговорил сам:
— Маэстро уже тогда чувствовал себя хворым. Невыносимые боли в пояснице, слабость, обмороки, раздражительность и неустойчивость настроения — терзали его. Нам очень пригодилась настойка барона Свитена.
— Так вы давали ему Liquor mercurii Swietenii? (Настойку ртутную по Свитену — лат.) — спросил я. — И в каких же пропорциях?
— Утром и вечером по две пилюли, растворенных в водке.
— И что, Маэстро стало лучше?
— Наоборот — пришлось прекратить пользовать его ликером.
— Так значит, в герр бароне проснулся его отец, лейб-медик жены императора Марии Терезии Герхард Ван Свитен? — вслух подумал я и ужаснулся от нахлынувших мыслей:
«Настойка по Свитену содержала от 0,25 до 0,5 грана и стоило запятую перенести вправо на один знак, и Моцарт получит сулему — яд в чистом виде!»
Зюсмайр расценил мое молчание однозначно: дескать, вопрос исчерпан, и совершенно некстати проговорил:
— Удивительно, но с возрастом человек лучше помнит события двадцатилетней давности, нежели то, что случилось с ним вчера.
Пока я думал, что он имел в виду, Зюсмайр стал рассказывать о детстве Моцарта:
— Его мать Анна-Мария обожала Вольфганга. Она умела видеть в каждом человеке его лучшие стороны, и Вольфганг, ее сын, не был исключением. Он всегда старался вести себя наилучшим образом, легко и изящно двигаться; но мама, бывало, говорила дочери:
«Нанерль, ну-ка быстренько прячь фарфор, а то Вольфганг идет!»
— Да, конечно, Вольферль был в детстве шалуном.
— Знаете, доктор Клоссет, его мать была единственным человеком, кто умел делать замечания Вольфгангу, не обижая при этом сына.
— Как же ей это удавалось, герр Франц?
— Не знаю, — отвечал Зюсмайр. — Как мать, Анна-Мария чувствовала его настроение. Она не обращала внимания на его клоунские выходки или не замечала признаков недовольства, появлявшихся всякий раз, когда она напоминала Вольфгангу о каких-то его обязанностях.
Просто она делала это очень тактично, и Вольфганг всегда соглашался с матушкой.
— В самом деле? — удивился я, силясь увязать образ кроткого молодого человека с тем стремительным и горячим Вольфгангом Амадеем Моцартом, которого я знал.
— О, да, — кивнул Зюсмайр. — Понимаете, фрау Анна-Мария хорошо знала, когда нужно оставить Вольфганга в покое. Она первой замечала это отсутствующее выражение в его взгляде и делала замечания сестре Моцарта: «Нанерль, не трогай Вольферля; видишь, он опять витает в облаках».
Я откинулся в кресле, любуясь Францем Зюсмайром. Лицо его, еще минуту назад бледное как смерть, расцвело румянцем.
«Это у него жар, — подумал я. — Нужно сказать слуге, чтобы наложил на лоб холодные компрессы».
Приоткрылась дверь, и в комнату вошел его слуга.
— Герр Зюсмайр, — спросил он, склонившись над кроватью, — не угодно принести вам чаю?
— Нет, спасибо, — вежливо отозвался Зюсмайр.
Зюсмайр вдруг приложил палец к губам и прошипел:
— Тсс!.. Я никому не доверяю: ни прислуге, ни аббату Максимилиану Штадлеру. Аббат страшный человек, он мне пересказывает всякие гадости, которые исходили от Констанции. Якобы, после смерти Моцарта на его рабочем пюпитре находилось «несколько каких-то листиков бумаги с музыкой», которые она, не зная их содержания, передала мне, — это и был Реквием. Более того, она напридумала потом с три короба вранья. Когда Моцарт почувствовал себя плохо, то я часто должен был пропевать с ним и с Констанцией то, что было уже написано маэстро, а перед смертью я получал от Моцарта подлинное руководство (förmliche Unterricht) к Реквиему. Ей даже запечатлелось, что Моцарт часто говорил мне, по ее словам, «балбесу и свинмайеру»:
«Ei, da stehen die Ochsen wieder am Berge» («Эге, опять уставился как баран на новые ворота»).
Я не выдержал и прыснул, точно мальчик, но тут же извинился:
— Простите, герр Франц.
Но Зюсмайра как будто прорвало:
— Герр доктор, все это сказка для просвещенных идиотов. Во-первых, листки с неоконченным Реквиемом я совершенно случайно нашел в кипе бумаг, и относились они к 1784 году.
Дело даже не в этом. Чья идея с Реквиемом — неизвестно. Скорее, инициатор этого проекта был аббат Штадлер, который в союзе с Констанцией решили поставить жирную логическую точку на жизни и смерти Моцарта.
— Вы в этом уверены? — наивно поинтересовался я.
— Более чем, — махнув рукой, сказал Зюсмайр и добавил: — Скажу вам, как на духу — мне терять нечего. Заказчик Реквиема (граф Вальзегг) уже в августе 1791 года имел на руках свой Реквием, целиком дописанный до «Sanctus». Мне он особенно врезался в память из-за использования в нем бассетгорнов.
— Получается, что Моцарт достал старый опус и по желанию заказчика переделал его в заупокойную мессу для частного лица — и все это задолго до своей смерти?
— Именно. После смерти графини Вальзегг в январе 1791 года Реквием был заказан, получен и исполнен. А в сентябре, то есть уже после приснопамятного Реквиема, о котором столько споров, Моцарт находился в Праге на коронации императора Леопольда.
— И у вас есть доказательства?
Зюсмайр кивнул головой, задумался и негромко сказал:
— У меня достаточно доказательств: бумаги, письма, документы.
Это были последние его слова. Мы попрощались с маэстро Зюсмайром, а встретились уже на его собственной панихиде.
Тайное и явное
«Но духи зла, готовя нашу гибель,
Сперва подобьем правды манят нас,
Чтоб уничтожить тяжестью последствий».
В. Шекспир. «Макбет»После смерти Моцарта прошло пятнадцать лет. А какие встречи последовали после этой даты!..
Мой жизненный путь вновь пересекся с аббатом Максимилианом Штадлером, вернее — он самолично нанес мне визит.
Однажды служанка доложила, что меня спрашивает какой-то человек. Она проводила его в гостиную и попросила подождать, пока узнает, удобно ли мне принять его в этот час. Она протянула мне визитную карточку. Я прочел:
«Аббат Максимилиан Штадлер, доктор теологии, помощник фрау Констанции Моцарт».
— Господи! — ахнул я, мучаясь в предчувствиях, и добавил: — Не буди лихо, пока оно тихо.
Конечно же, до меня доносились слухи о нем. Я знал, например, что, когда Зигмунд Нойком собирался писать биографию Моцарта, то Максимилиан Штадлер сам принялся собирать для него материалы. Ему было легко это сделать, ибо вскоре после смерти маэстро он стал помощником и поверенным в делах у мадам Моцарт.
Я тут же вспомнил завуалированную ревность Максимилиана Штадлера к тем, к кому Моцарт высказывал малейшие признаки расположения. Это походило на тотальный контроль и даже слежку. Одно было непонятно, сам ли аббат был автором этого патронажа маэстро, или он был миссионером тех тайных мира сего, мира Зазеркалья и тьмы. После смерти Моцарта я сразу же вычеркнул из жизни все, что касалось моих взаимоотношений с Максимилианом Штадлером, поскольку я был не слишком высокого мнения о нем и никогда не поддерживал с ним контактов.
Года два или три назад мы с аббатом Максимилианом Штадлером случайно встретились на улице и сухо поздоровались. Это был единственный раз, когда я видел его после похорон Вольфганга. И вдруг он пришел ко мне, о чем доложила служанка.
Я велел прислуге проводить аббата Штадлера в кабинет и поднялся из-за стола навстречу ему.
— Я скажу прямо. Причина нашей встречи — маэстро Моцарт, — заявил он с порога, и пристально посмотрев мне в лицо, добавил: — Вам, доктор Клоссет, наверняка не по душе многое из того, что я сделал или написал, но забудем об этом.
В ответ я широко открыл глаза.
— Не надо, герр доктор, мне все известно, — отмахнулся он. — Есть люди, которые хотят опорочить память маэстро. Вот почему я уверен, в одном: мы, знавшие его, должны забыть обо всех недоразумениях и объединиться ради доброй памяти о нем.
— Не пойму, о чем вы, герр Штадлер. Мои отношения с Моцартом остались далеко в прошлом и не имеют ни малейшего отношения к моему будущему, — солгал я в ответ.
Лицо Максимилиан Штадлера прояснилось.
— Прекрасно, доктор Клоссет! Я, разумеется, читал ваше краткое заключение о последней болезни маэстро. Мудро, ничего лишнего, только факты. Весьма профессионально и сдержанно.
— Герр Штадлер, в медицинском заключении, о котором вы упомянули, я изложил всю правду, известную мне на тот момент. Я и не мог пространно рассуждать о сути проблем.
Аббат сверлил меня испытующим взглядом, пытаясь угадать, что я скрываю. Он не мог понять, насколько я далек от мысли что-то утаивать, — сотни вопросов роились в моем мозгу.
— В таком случае, — сказал он, — я могу быть уверенным, что вы не опубликуете ничего связанного с болезнью Моцарта, с какими-то известными вам нюансами его жизни; некими новыми причинами смерти? И с его музыкой тоже. Особенно все, что касается его последнего произведения — Реквиема. Ведь музыка и была его жизнью. Не так ли, доктор Клоссет?
Поведение аббата было настолько вызывающим, что я попросту не мог ничего сказать.
— Как вам, наверное, известно, источник музыки ведет в космос, к самому Господу, — продолжал свой монолог аббат. — Вот почему музыка Моцарта не принадлежала ему. Сообщу вам по секрету: Моцарта я знал давно, мы с братом познакомились с ним у русского посланника в Вене Дмитрия Голицына, у которого служил мой младший брат Антон Пауль. Что и говорить, мой брат — высокоталантливый исполнитель на кларнете и бассетгорне. У русского посланника 23 марта 1784 года исполнялся написанный Моцартом в его честь так называемый «Штадлер-квинтет» с кларнетом. Все эти годы после смерти маэстро я помогал вдове Моцарта и ее другу Георгу Ниссену разбирать рукописное наследие Моцарта, завершил ряд незаконченных произведений Вольфганга Амадея. Приходилось многократно выступать в печати со страстной защитой подлинности моцартовского Реквиема. В «Kyrie» Моцартом написаны только первые 37 тактов, а завершать же пришлось мне. Честно скажу, мне было трудно трудиться над таким шедевром.
— Все верно, господин аббат, — кивнул я. — Руку маэстро править практически невозможно, нужно быть вторым Моцартом.
— Все верно, герр доктор, — задумчиво произнес аббат и добавил с сожалением: — У меня были копии и оригиналы нескольких пьес, в частности «Семирамида», которые пропали вместе с чемоданом при одном из его переездов. Хорошо еще, что из оригинальных эскизов «Реквиема» Моцарта у меня сохранились свыше двадцати страниц «Dies irae» до «Confutatis» включительно, которые я передал Венской придворной библиотеке.
— Герр Штадлер, этого потомки не забудут никогда, — польстил я.
Аббат испытующе посмотрел мне в глаза и сказал:
— Вы не будете со мной спорить и по иному поводу: ведь сам Моцарт был всего лишь пешкой в руках сильных мира сего. Вы согласны?
Слова Максимилиана Штадлера ошеломили меня. Я хотел возразить ему, но он вещал дальше, не давая мне опомниться.
— Я не собираюсь принижать или заземлять величие маэстро — просто хочу дать вам понять, кто Моцарт и кто они, — аббат ткнул указательным пальцем вверх. — Печальнее всего, мой дорогой Клоссет, что и жизнь маэстро, и наши с вами бесценные усилия спасти то, что осталось после его смерти — не прошли бесследно.
Если бы не его ррр-революционность, то он создал бы еще много гениального и высокого. Трагедия маэстро заключалась в его подчеркнутой независимости — я бы даже сказал, революционности и приверженности к низшим, земным ценностям. Вступив в борьбу с высшими силами, он сам погубил себя. Или вы объясняете это иначе?
Какое-то время я молчал, не веря своим ушам, затем пробормотал:
— Я. я догадывался и не мог взять в толк, какой смысл, какой резон. Кому выгодно?
— Вот именно: кому выгодно, — согласился Максимилиан Штадлер, — Одно ясно: только не Моцарту. Ведь маэстро мог жить и творить даже сегодня, сейчас. Скажите мне, уважаемый доктор Клоссет, что он сказал лично вам в те последние недели? Это должны знать люди из высших сфер, вы понимаете меня.
Неожиданно я вышел из себя, чувствуя, как лицо мое заливается краской.
— Да как вы смеете, герр Штадлер? — взорвался я. — Я ничего вам не должен. Если я в долгу, то перед самим Моцартом, которого мне не удалось спасти. Мне не хватило профессионализма, мне не удалось предвосхитить то коварство, о котором я был просто не способен помыслить. А теперь я прошу, я требую вас немедленно удалиться!
Забывшись, я схватил со стола кипу бумаг от Франца Зюсмайра, которые еще не рассортировал, и стал махать ими перед носом аббата Штадлера.
Его взгляд вдруг вспыхнул опасным огнем, в котором угадывался неподдельный интерес, который еще пару минут назад невозможно было предположить. Казалось, что мои слова и вспышка гнева запустили в действие скрытый в нем механизм: облик его, поведение и все его существо изменились до неузнаваемости. Передо мной стоял другой человек: холодный, жестокий, готовый на любой поступок — вплоть до убийства.
Он не сводил взгляда с пачки бумаг, которую я по-прежнему держал в руке.
Максимилиан Штадлер отряхнул пыль с идеально выглаженных брюк, затем медленно поднял с пола упавшую страницу и, не сводя с нее глаз, протянул мне.
И тут во мне проснулся раб: я испугался собственной выходки.
— Ах, герр доктор, вы так наивны по своему невежеству, — сказал аббат. — Иные знания следует хранить в тайне, они опасны для простых людей. Что-то доступное для одних людей возмутит других, а слабые души и непросвещенные умы просто погибнут. Я, доктор Клоссет, держу в тайне только то, что необходимо для общего блага. Долг и совесть — вот наши путеводители в океане жизни.
Он замолчал, исследуя мою реакцию на откровения. Но я был настолько ошеломлен, что стоял и слушал. Штадлер продолжил:
— Будучи аббатом, я многое познал в церковных кругах, доктор Клоссет. Я не только сочинял церковную музыку. Мне пришлось научиться великому искусству, как влиять на людей и управлять ими.
Наши князья столичного католицизма всегда восхищались умением иезуитов подчинять людей единой власти. Их цели и методы сослужили нам хорошую службу. Они, как и мы, настаивают на полном отказе от личной воли и личного мнения во имя общего дела. Мы очень тонко вербуем своих сторонников, ибо далеко не всякий в состоянии уловить смысл этого общего дела. Таким образом, мы, как вы сами понимаете, практикуем изощренный и спасительный обман, чтобы вести людей к неизвестной и непонятной им цели.
Слова Максимилиана Штадлера отозвались во мне полным неприятием его непомерного снобизма. От него разило таким высокомерием и амбициозностью, а слова и тезисы выдавались подчеркнуто и терпеливо, как будто речь шла о чем-то архиважном для человечества.
Я молчал.
Аббат дважды шаркнул левой пяткой о ковер, снова отряхнул брючину и встал, выпрямившись. Внезапно почувствовав головокружение, я отступил к столу в поисках опоры.
— Простите меня, доктор Клоссет, — произнес Максимилиан Штадлер с железным хладнокровием. — Я снова устыдился своего поведения. По-видимому, я погорячился.
Безусловно, вы медик, естествоиспытатель. В ваших сферах люди должны пользоваться полной свободой исследований — в этом я всецело на вашей стороне.
Он умолк и цепким взглядом осмотрел мой кабинет, как будто оценивая обстановку и желая понять: кто я такой на самом деле.
— Я позволю напомнить вам, что есть люди, — аббат показал глазами вверх, — люди, которые не поступятся своими принципами. И поверьте мне, они не погнушаются никакими средствами, чтобы убедить вас не впутываться в дела, которые вас абсолютно не касаются.
Максимилиан Штадлер шагнул к дверям, но снова обернулся:
— Именно так, доктор Клоссет. Именно так. Кстати, как поживает ваша супруга? Надеюсь, она в добром здравии? Прекрасная женщина!
— Спасибо, все хорошо.
— Жаль, что маэстро так и не связал себя брачными узами с особой благородного происхождения. Как это сделали Глюк или Гайдн. Вы ведь помните чудесную ученицу Моцарта? Ее, кажется, зовут Мария Магдалена? Какая была бы чудесная пара!..
— Простите, а Констанция, которую он так любил!.. — воскликнул я.
— Констанция, — ухмыльнулся он и добавил: — Причем тут это. Она мелкая, ничтожная женщина, ваша Констанция!..
Он буравил меня взглядом. Я молчал.
— Ну конечно, вы ничего не знаете, да и откуда вам знать — вы ведь уже десять лет не интересуетесь делами Моцарта. А она не только жива, но и, по моим данным, бывает иногда в Вене. Как там Моцарт называл ее? Ах да: Венера Милосская.
Он вновь замолчал.
— Профессор Клоссет, — Максимилиан Штадлер внимательно посмотрел мне в глаза, — говорят, что люди, погрязшие в грехах и пороках, доживают до глубокой старости. А такие добродетельные, вроде вас, зачастую умирают во цвете лет. Как это верно и как грустно, правда? Мои наилучшие пожелания фрау Клоссет. Весьма достойная женщина.
Аббат повернулся и исчез, как будто его и не бывало.
Я выглянул в окно и с удивлением увидел, что он задержался на крыльце и беседует с моей служанкой. Я не мог расслышать его слов, но видел, как он быстро вложил ей что-то в руку. Наверное, деньги за то, что служанка впустила его в такую рань.
И Максимилиан Штадлер ушел, оставив после себя больше вопросов, чем ответов.
Я отвернулся от окна и вспомнил, что он говорил о Магдалене Хофдемель — об ученице и возлюбленной Вольфганга. Я знал о ней все: в девичестве она называлась Магдаленой Покорной — была дочерью известного капельмейстера из Брюнна. Сегодня о ней я тоже мало слышал. Говорили, что она так и не переезжает в Вену из Брюнна, куда ее отправил еще император Леопольд П. ее дети выросли, бывают в Вене; а взрослый сын ее, выйдя в отставку, вернулся в австрийскую столицу. Последнее, что я слышал, — это то, что младший Вольферль живет у своей матери Магдалены Хофдемель.
Стараясь не думать о визите Максимилиана Штадлера, я снова принялся перебирать бумаги Вольфганга и листать свои дневники.
В половине третьего вошла служанка и предложила принести мне обед прямо в кабинет, чтобы я не отрывался от дел. Я поблагодарил ее за заботу, и через несколько минут обед был подан — наваристый говяжий бульон, свежевыпеченный хлеб и засахаренные фрукты. Затем служанка ушла из дому. У меня проснулся страшный аппетит, и сама мысль о еде вызвала в душе радостный подъем. Поскольку мне предстояло поработать с бумагами Моцарта, я ограничился половиной всех блюд, рассчитывая, что после работы доем все.
Поначалу я плодотворно потрудился — сделал то, что не удавалось много лет. Но скоро все изменилось. Мне не удавалось сосредоточиться на пустяках; потом все поплыло перед глазами, и я не мог прочесть ни слова. Ближе к вечеру я почувствовал себя совсем плохо. Но это были не привычная головная боль, жар, бессонница или что-то в этом роде. Сильно болел желудок, меня подташнивало, а во рту ощущался странный металлический привкус. Я утер испарину со лба, встал и отправился в постель, даже не убрав бумаги со стола. В постели меня стал бить озноб; мне стало страшно холодно. Сквозь сон я чувствовал, как сознание мое давила смертельная тяжесть; тревожные сновидения пролетали чередой, но я ничего не успел запомнить. Помню только лица — моей жены и обезображенный лик Магдалены Хофдемель; растворяясь друг в друге, они слились в единое целое.
Проснулся я, когда рассвело. Страшная слабость охватила весь организм. Воля была подавлена. Дрожь в конечностях не унималась, зрение, правда, восстановилось.
Кое-как я поднялся в свой кабинет. Все оставалось нетронутым: бумаги Моцарта, посуда с остатками еды. Я печально улыбнулся, вспомнив, сколько подобной посуды уносил, бывало, из комнаты Моцарта, когда больше некому было сделать это.
Скоро в дверь постучала служанка. Она забрала поднос и вернулась через полчаса с завтраком: кофе, хлеб, копчености, сыр и фрукты. Я только с наслаждением выпил крепкий черный кофе, а остальное оставил в нетронутости: пища вызывала отвращение. И вдруг, как ночью, меня встревожил металлический привкус во рту. Мне не удалось высидеть за столом даже до обеда, потому что странности с самочувствием и зрением возобновились.
Я встал и отстраненно, точно глядя на себя со стороны, собрал все бумаги, кроме нескольких страниц, и снова запер их в столе. И неверной походкой спустился в спальню. Прилег и уснул каким-то поверхностным с чередой сновидений сном.
Ближе к вечеру служанка постучалась в спальню и спросила, куда принести обед. Я лежал на кровати, пытаясь не обращать на боли в желудке и спазмы в правом боку. Я сказал, что плохо себя чувствую, и спросил, чтобы перед уходом она принесла мне крепкого чая.
Я выпил чай, но спазмы в желудке и боку не прекратились. Не исчезал и привкус металла. Ближе к рассвету меня охватил панический страх. Мне не хватало здравого смысла сказать себе, что я опасно болен и нуждаюсь в медицинской помощи. Но рядом не было ни жены, ни прислуги, чтобы послали за врачом. Нужно было что-то срочно предпринимать, промедление было смерти подобно. С огромными усилиями я поднялся; острая боль в кишечнике становилась все нестерпимее.
Я медленно оделся, собрал рассыпанные по постели бумаги, захватил с собою дневник и спустился на улицу. Мне с трудом удалось остановить подъезжающий экипаж. Было еще довольно рано, но я рассчитывал, что приеду в больницу как раз к обходу главного врача, и попрошу его помочь мне. Однако ошибся в расчетах более чем на полтора часа.
Я миновал вестибюль приемного покоя и прошел в процедурную, так как знал, что до девяти туда никто не войдет, и принял рвотное — каломель. Судороги и резкие боли в области желудка уменьшились, но со зрением что-то было не так: в углах глаз мелькали мушки.
Я вышел в коридор и сел в кресло; задремал, провалившись в густую тьму. Проснулся от звуков двух мужских голосов в приемном покое, голоса были до боли знакомыми, но мне казалось, что все происходит во сне.
— Спасибо, герр доктор, рассчитываю на вашу помощь.
— Ему необходим строгий постельный режим, мы все сделаем.
— Правда, я очень беспокоюсь. больное воображение. галлюцинации. да, были знакомы еще при жизни Моцарта. в последний раз я видел его два дня назад.
Я ущипнул себя — нет, все въяве. Помотал головой, стряхивая остатки сна. Голос, вне всякого сомнения, принадлежал Максимилиану Штадлеру; второй же я не мог разобрать.
— Прекрасно, профессор. я был уверен, что вы не усомнитесь в серьезности моих намерений.
Я вскочил на ноги и, шатаясь, устремился к выходу. У меня было одно паническое желание — уйти от этих голосов, уйти как можно дальше!
Уже в дверях я столкнулся с врачом из приемного покоя.
— Доктор Клоссет, вам плохо?! — с выражением страха поинтересовался тот.
Я протянул руку, выдавил:
— Ничего, все хорошо, и, прижимая к груди бумаги Моцарта и мой дневник, я бросился на улицу.
Остановленная пролетка понесла меня к дому.
Мой дом находился не более чем в десяти минутах езды от больницы — в лучшие времена я ходил туда пешком. Вначале экипаж ехал быстро, но что-то случилось с колесом, и мы остановились. Ноздри мои учуяли запах дыма; сердце сжалось. Я выбрался из экипажа и, ведомый каким-то последним запасом внутренней энергии, на грани человеческих сил, попробовал протиснуться сквозь толпу.
Я предчувствовал, что увижу самое плохое.
За последним поворотом мои предчувствия оправдались. Возле дома стояла пожарная конка. На площади перед зданием толпились люди. Пожар уже был потушен, а люди продолжали толпиться и обсуждать событие. Обессиленный, я подошел ближе, спросил:
— Что случилось?
Мне охотно ответили:
— Был огонь на втором этаже, но его вовремя потушили. Даже вещи целы.
От сердца отлегло.
Но тут я увидел его спину. Ошибки быть не могло. С кем можно спутать человека в сером. Это был Брат Ужаса, который водил меня по фантастическим залам и коридорам катакомб, участвовал в ритуале моего посвящения в масонскую ложу и, в конце концов, привел меня к гробу Моцарта? Хотя сейчас это уже кажется сном или буйной фантазией сумасшедшего. Он обернулся, будто чувствуя на себе мой взгляд, и я разглядел надменную усмешку на немыслимо тонких губах.
Крепко сжимая под пальто бумаги, я бросился по переулку в какой-то двор. За ним начинался сад, а вдали виднелось поле. Но куда? И как? Как смогу я теперь записать то немногое, что знаю о Вольфганге и о его последних ночах? Как выполню обещание, если самая необходимая информация безвозвратно утрачена?.. Я еще крепче прижал к груди бесценные листы бумаги. Если я потеряю их, жертвоприношение лишится всякого смысла. Я должен найти убежище — любое место, где смогу довести жизнеописание маэстро до конца, поверить бумаге то, что знаю; где смогу исполнить обещание, данное Моцарту. Но где оно, это место? И тут я увидел воду, бьющую фонтанчиком из водоразборной колонки. Я жадно припал к холодной струе воды. Холодные брызги остудили мое пылающее лицо. Вот теперь я знал, куда мне податься. В самое сердце ночи. Там и только там можно было укрыться от таких, как человек в сером или аббат Максимилиан Штадлер.
Место такое существовало. Там даже дюжина верных помощников или нукеров госпожи Констанции или ее советника аббата не найдут меня. Им просто в голову не придет разыскивать меня в Брюнне и его окрестностях. Магдалена Хофдемель, а в девичестве Мария Покорная — вот тот спасительный оазис.
Я нашел ее — после бесконечно долгих часов езды до Брюнна и поиска ее родительского дома Покорных. Здесь, в ее фамильных апартаментах, я обрел покой — покой под сенью шлейфа Царицы Ночи из «Волшебной флейты». Здесь, размышляя о прощальных словах аббата и об отравлении «аква тоффаной», я снова и снова спрашивал себя: одному ли мне уготовил Максимилиан Штадлер такую участь? Ибо я вспомнил служанку в доме Моцартов Лорль, которой Максимилиан Штадлер что-то положил в ладонь, и было это во время отъезда на воды в Баден Франца Зюсмайра с Костанцией. Как сейчас помню, это было 1 октября 1791 года.
Но что ему нужно было теперь от меня? Быть может, он боялся, что я выдам его? И за это темные силы преследовали меня? Но зачем он предал огню всю мою жизнь? Вот тайна, которая не дает мне покоя.
Комната напоена тонким ароматом благовоний и парфюма. Я лежал на ослепительно белых простынях Марии Магдалены Хофдемель, а медленный яд постепенно делает с моим организмом свое черное дело. Выживу ли я? Я уже перенес на бумагу все, что мог сказать. Рука моя дрожит, и боюсь, что сегодня я больше писать не в силах. Сбоку от меня окно и шикарный вид — лесистые горы, много неба и солнца. Но нынче утром солнце так беспощадно льет золотой свет в мою комнату, что ничего не хочется делать — только лежать и ни о чем не думать. Придется сделать паузу.
Вена, 20 сентября 1803 года.
Д-р Клоссет.
Пишу по свежим впечатлениям. Только что вернулся с похорон придворного капельмейстера Франца Ксавера Зюсмайра — если это можно назвать похоронами. Скорее фарс, поскольку все повторилось по образу и подобию маэстро. Правда, еще хуже, как насмешка судьбы.
Именно 17 сентября 1803 года ко мне пожаловал сухощавый молодой человек, с непроницательными глазами и поджатыми губами, одетый во все серое — камердинер Зюсмайра.
— Герр Клоссет, смею вам сообщить пренеприятное известие, — с порога заявил он. — Сегодня скончался придворный капельмейстер Франц Ксавер Зюсмайр. Он пожелал, чтобы вы проводили его в последний путь. Отпевание покойного будет завтра в церкви св. Стефана в три часа пополудни.
— Как он умер?
— В последние полторы недели герр Зюсмайр был крайне раздражительным. У него были частые головокружения, наступала такая слабость, что он не мог встать с кровати. Рвота его замучала; он потерял вес — остались кожа да кости; зато руки и ноги опухли. Ему постоянно что-то мерещилось — какие-то видения или галлюцинации, бледность его лица даже пугала.
Врачи не могли точно определить, что у маэстро — то ли чахотка, то ли ревматическая лихорадка.
— Какие-либо бумаги у него остались — ноты, партитуры или письма? — спросил я.
— Приходил герр Штадлер, аббат Максимилиан Штадлер. Все бумаги и забрал.
— Все до единого листочка?
— Да, ни клочка не оставил.
— А бывала у вас ли вдова Моцарта — Констанция Моцарт?
— Они вообще не поддерживали отношения. Хотя, нет, приходила не так давно, но с герром Штадлером.
Я был ошарашен этим сообщением, ходя интуитивно догадывался о некоем связующим треугольнике.
Когда я подходил к собору св. Стефана, меня обогнали желтые дроги с гробом, который поставили в часовне Крестовой капеллы (Kreuz-Kapelle), расположенной по северную сторону собора. Это обиходное название капеллы, правильно она называлась Kruzifix-Kapelle, то есть Капелла распятия, так как открытый павильон, образующий вход в катакомбы собора, украшен изображением распятого Христа.
В часовне было два-три монаха и монахиня. Вместе со мной внесли гроб — там было тело Зюсмайра. Никто из присутствующих даже головы не повернул. Похороны — обычное явление, а тут, по всему было видно, хоронят какого-то безвестного бедняка. Об этом свидетельствовал некрашеный сосновый гроб и более чем скромное число провожающих.
Когда я попытался внести нужную сумму за подобающие сану Зюсмайра похороны, то мне было категорично заявлено:
— Не волнуйтесь, герр доктор. За все уже заплачено, это воля покойного.
— Откуда вам известно, друг мой?
— Аббат Штадлер — это по его милости все сделано.
«Господи, — подумал я. — Ведь точь-в-точь, как хоронили великого Маэстро — Вольфганга Амадея Моцарта. Но какой-то за этим стоит фарс, издевка, а может, ритуал?..»
На время отпевания я встал рядом гробом, стараясь не смотреть на изменившееся до неузнаваемости желто-бронзовое лицо покойного — острый нос, впалые щеки. Когда притч отправлял похоронную службу под крышей павильона капеллы, я оглянулся по сторонам — из провожающих только я один. С сухим треском горели свечи, наполняя помещение запахом воска и благовоний.
После отпевания тела гроб поставили в катафалк, и возница повернул лошадь в сторону кладбища.
Маленькое кладбище св. Марка было создано стараниями прихожан собора св. Стефана для тех, у кого не было средств хоронить своих близких с большим почетом. Когда похоронные дроги затряслись по булыжной мостовой предместья Ландштрассе, за ними, кроме меня, никто не последовал.
На кладбище находился всего лишь один могильщик. День сегодня что-то долго тянулся, пожаловался он вознице. Он как раз заканчивал закапывать общую могилу.
Могильщик был стар и туговат на ухо; он уже составил много гробов возле длинной узкой ямы. Любивший порядок во всем, могильщик гордился своей аккуратностью. Он не расслышал имени, но прикинул, что покойник, должно быть, маленького роста, сразу видно по размеру гроба, да и бедняк, судя по третьеразрядным похоронам. Только такие похороны бывают без провожающих.
Возница свалил гроб на землю рядом с другими гробами и поспешил прочь. Он презирал такие похороны. Разве на них заработаешь? Скажи спасибо, если окупишь расходы по содержанию лошади и повозки.
Тело Зюсмайра пошло в общую могилу, где в три яруса были навалены сотни других трупов.
Кроме меня, еще двое все-таки добрались в тот день до кладбища св. Марка. Это был Эммануэль Шиканедер, он приехал на кладбище с двумя актерами, когда могилу уже зарыли. Он ожидал, что многие съедутся на похороны в каретах, и когда повозок у собора не оказалось, потерял немало времени на поиски экипажа, чтобы добраться до самого кладбища св. Марка. Могильщик уже ушел, а смотритель ему сказал:
— Мы тут сегодня целый день хоронили. Откуда нам знать, где могила вашего друга?
Я совершенно случайно столкнулся с ним.
— О, герр Шиканедер! Столько лет, столько зим!.. Пойдем-те, я покажу.
Мы вернулись назад, я стал искать то место, где еще недавно стоял, но не нашел.
— Кажется, вот здесь.
Но тут подошел могильщик.
— Ваш приятель похоронен в общей могиле. Его хоронили по третьему разряду. Это на большом участке, — там сегодня немало народу похоронено. Свежевскопанная полоса тянулась на большое расстояние, — разве определишь теперь, где опустили в землю последний гроб.
На небе уже высыпали звезды, столько звезд — не сосчитать. Теперь они будут светить и над Зюсмайром, как и над Моцартом. Светить над его музыкой, которая приносила ему радость и счастье. Для них он не исчез. Он не может исчезнуть с его музыкой, ставшей неотъемлемой частью природы. И все. Больше никому не будет нужна музыка Зюсмайра. Он один из многих, он даже не талант, он обыкновенный середняк.
— Вот и тень Моцарта похоронили, — с некоей долей цинизма сказал Эммануэль Шиканедер. — Может, и к лучшему, что его похоронили вот так, с безвестными покойниками, которые волею судеб оказались в одной с ним общей могиле. — Тень Моцарта останется тенью — не более того.
— Пусть земля ему будет пухом, — добавил я.
Постфактум.
С уходом Франца Ксавера Зюсмайра прошло не более чем 9 лет, как 21 сентября 1812 года в возрасте 61 года (родился в Штраунбинге в 1751 году) скончался сам Иоганн Иосиф (Эммануэль) Шиканедер и его тело отвезли, как и тело Моцарта, на катафалке для бедняков, где он и упокоился в общей могиле. А на 9-й день 30 сентября в небольшой церкви св. Иосифа, к приходу которой относился «Виденертеатр» прозвучал торжественный и душераздирающий Реквием Моцарта.
Круг, как говорится, замкнулся.
Вот и все, что я могу поведать про необыкновенную жизнь и смерть великого маэстро Моцарта. Молю Бога, чтобы истина восторжествовала и незамутненный облик великого композитора Австрии предстал перед соотечественниками и миром в истинном свете.
Остается пожелать трудов праведных и успехов в составлении истинного жизнеописания бога музыки В. А. Моцарта. Надеюсь на то, что восторжествует правда и истина, о чем мечтал наш музыкальный Гений.
Записано лично доктором Николаусом Францем Клоссетом, Вена, 24 сентября 1812 год.
Часть четвертая Благими намерениями
Моцарт, голос вышних сфер
«Моцарт приговорен к смерти. Меня гнетет мысль, что в каждом из этих людей есть что-то от убитого Моцарта».
А. де Сент-Экзюпери, «Земля людей»Рукопись заканчивалась, я перевернул последнюю страничку. Причем, то, что попалась мне из записей герра доктора Николауса Франца Клоссета ранее, явно цензурованное, сделанное под официальное клише, было результатом грубого давления на него гвардейцев сильных мира сего, темных сил Зазеркалья. Еще неизвестно, как повел бы я на его месте после пережитых им драматических эпизодов жизни, начиная с преследований во сне и наяву, а также до зловещего визита и угроз аббата Максимилиана Штадлера, за которыми было почти что «моцартовское отравление»; и, наконец, пожар в кабинете его венского дома. А только что прочитанные мной дневниковые записи доктора Николауса Франца Клоссета, которые он посчитал сгоревшими, на самом деле фантастическим образом выжили и оказались в моих руках. Но — Боже мой! — как разнятся эти эпистолярии: в одних записях — все как было на самом деле, зато в других — политкорректная точка зрения, стандартный официоз неправды.
Эти искренние записки домашнего врача Моцарта захватили меня. Благодаря доктору Клоссету последняя, смертельная болезнь Моцарта уже не предстает в такой тайне, как прежде.
Действительно, правда о композиторе, которую скрывали, замалчивали, спустя 30 лет после смерти Моцарта так и не легла в какое-либо удовлетворительное объяснительное русло. Интересна была небольшая, фельетонного характера и чрезвычайно насыщенная фактами книга Франца Немечка, но не более того. В 1828 году вышло сочинение второго мужа Констанции Георга Николауса фон Ниссена, где так и чувствовался красный карандаш бывшего цензора, который выписал «сглаженный» портрет Моцарта; а что касалось его ранней смерти, то здесь все обставлено в классическом духе романтизма. Благодаря этим «каноническим» жизнеописаниям дилетанту от медицины открывалось ровно столько, чтобы благоговейно притихнуть перед довлеющим над Моцартом роком безысходности.
Но неожиданно у одного из соучастников, престарелого Сальери, сдают нервы: в присутствии нескольких свидетелей он признается в причастности к убийству Моцарта. Как только эту новость подхватила бульварная пресса, и дело начало принимать нешуточный оборот, у современников не осталось другого выбора, как объявить его «душевнобольным», хотя бы на время его признаний. Однако возглас этот не остался не услышанным. Русский поэт А. Пушкин и композитор Н Римский-Корсаков, подхватили «дело», и на камне истории культуры был высечен иероглиф, навсегда запечатлевший мысль о противоестественной кончине сына Муз.
Глухие слухи, что «тут что-то не так», вплоть до наших дней не давали покоя многим литераторам, исследователям, музыковедам. И только в наши дни медицина решительно заявила: композитор стал жертвой отравления ртутью! И как тут не впасть в искушение, взять да и заявить: все очень просто, Моцарт умер от венерической болезни, которую тогда лечили именно ртутью. Увы! Не тут-то было. Скорее, следует говорить о планомерном умерщвлении, связанном — судя по исключительности средства убийства — с сакрально-культовыми аспектами.
Поэтому рукописи из пакета Веры Лурье стали предварительным итогом ошеломляющих, захватывающих дух научных выводов. «Дело Моцарта» стало разрастаться, как снежный ком. И без самоотверженной помощи переводчика и компьютерщика Анатолия Мышева, знатоков эзотерических наук и символики, специалистов по вопросам религии, филологов и музыковедов, с которыми мне пришлось работать, мне не удалось бы расшифровать многое и не написать итоги расследования.
Более того, оказавшись у роковой и запретной черты, я навлек на себя изощренный арсенал тайных сил мира сего. Значит, я не единственная мишень тех сил, которые погубили Вольфганга Моцарта. Не только моя жизнь разбилась на мелкие кусочки, как то зеркало с отражением Моцарта в ванной, но я узнал многое из доподлинной жизни Бога музыки — Вольфганга Амадея Моцарта — «живом и мертвом», как точно заметил Гвидо Адлер.
Мы были настолько близки по духу с доктором Клоссетом, и все же между нами лежала пропасть. Доктор Клоссет всегда пытался быть честным с самим собой и имел мужество признаться в собственных ошибках. Я же провел десять лет в бегах от себя самого. Он жил по законам чести и милосердия, и эти законы были незыблемы для него. Ну а я, только прочитав рукопись, понял, какая ничтожно малая часть моей жизни действительно была моей.
После того, как герр Клоссет узнал секретные данные о смерти Вольфганга, ему пришлось вступить борьбу с теми же силами, какие много позже развернули полномасштабную охоту за мной. Однако герр Клоссет делал это с мужеством, которого мне, несмотря на все мое показное удальство, никогда не хватало. Николаус Клоссет держался с честью даже в самые трудные минуты. А я?.. Как только начинало пахнуть жареным, я с позором делал ноги. Как, например, в 1991 году у Белого дома в Москве, где собрались Ельцин и единомышленники новой России, — я пришел на следующий день и все понял: мне тут делать нечего. То же повторилось в Германии, когда я в панике понесся из особняка Веры Лурье.
Я был уверен на все сто процентов: что всегда буду над схваткой, успею исчезнуть или по-умному замести следы. И лавровый венок мне обеспечен. Теперь-то доподлинно ясно: мой козырь был всего один, но подленький и скорее воровской, чем геройский — вовремя смотать удочки.
Я поднялся с постели. Состояние было как после долгих дней изнурительного труда, когда наконец-то можно расслабиться. Стоял один из тех летних московских вечеров, когда в десять часов небо все еще светлое. Я подумал, не пойти ли прогуляться на Воробьевы горы — подальше от этой квартиры, от этого двора-помойки, от моего одиночества.
Вместо этого лег на продавленный диван и заложил руки за голову.
«Нет уж, надо остановиться и оглядеться», — подумал я.
По необъяснимой прихоти судьбы баронессы Веры Лурье, поэта Александра Пушкина, профессора истории музыки из Вены Гвидо Адлера, театрального врача Николауса Клоссета, русского музыковеда Игоря Бэлзы, триумвирата докторов науки из ФРГ: медиков Гунтера Дуды и Дитера Кернера и филолога Вольфганга Риттера — с моих глаз были сорваны очки со светозащитными фильтрами. И я, поначалу ослепленный ясными и чистыми красками, постепенно стал привыкать к белому свету дня, хотя мне было крайне некомфортно в этой новой обстановке.
Я был преисполнен чувства исполненного долга. Наверное, впервые я не сделал ноги и не ударился в бега. Мне уже было все равно, что я навечно обосновался в этой пыли и хаосе квартиры в Лиховом переулке. Правда, теперь меня удерживали, в общем-то, не реальные российские проблемы, а события из другого, параллельного мира или Зазеркалья. Тут было много из мистики: тайна жизни и смерти великого Моцарта, властный патронаж Веры Лурье, назойливые соглядатаи в сером, наваждения и необъяснимые события — галлюцинации у зеркала в ванной комнате или симптомы какой-то таинственной болезни и, наконец, загадочная гибель людей, перешедших незримую черту.
Мне стало вдруг смешно от мысли, что, возможно, на этот раз я окончательно влип в нечто серьезное, от чего не сбежишь. Всю ответственность за случившееся мне придется прожить и прочувствовать на собственной, а не на чужой шкуре.
Я поднялся и подошел к окну. Казалось, голову сковал какой-то обруч, отчего мигрень уже второй день не покидала меня. Я даже привык к головной боли, как к естественному состоянию. Постараюсь внести своеобразный колорит в мою квартиру. В керамических горшках, кашпо разных видов и подставках теперь цвели и зеленели герань, бегония, фикус, жасмин, кактусы и другие растения. Все это вместе с ковровыми дорожками скрашивало мой холостяцкий быт-существование и привносило некий домашний колорит. Правда, я не поливал цветы уже неделю; растения стали сохнуть. Пришлось встать и сходить в кухню за водой и полить цветы. Мне почему-то захотелось, чтобы они все выжили.
Я отдернул штору, которую не открывал уже пару месяцев, и выглянул во двор. Пейзаж был контрастный: короба с мусором — помойка под самым окном, два роскошных лимузина и крыша дома напротив с кирпичными трубами, которые вот-вот развалятся, да клочок неба — по-прежнему сине-пресного, но безбрежного и завораживающего.
Вновь подумалось, а не сходить ли и не подышать свежим воздухом — подальше от этого бедлама, от рукописей и воспоминаний. Подумал и тут же усмехнулся: марафонец чертов! Только и умеешь, что бежать: от сумбура, в который превратил собственную жизнь, от страха перед какими-то манекенами в сером, от самого себя. И это дурацкое кредо: цель — ничто, а движение — все! Надо меняться, иначе — смерть.
Я не хотел этого больше. Просто очень устал. Пошел, взял ключ от почтового ящика — проверить почту. Там оказалась внушительная добыча — я не проверял ящик уже несколько дней. Вывалив на стол корреспонденцию, я обнаружил конверт с открыткой от Веры Лурье. Вскрыв конверт, я перевернул открытку и прочел депешу со знакомым почерком:
«Посмертная маска В. А. Моцарта. Какое просветленное выражение лица, — эта воплотившаяся в образе музыка, юность гениального облика! И самое, пожалуй, главное: следы острой почечной недостаточности, сопровождаемой сильным отеком лица, — вот абсолютные доказательства подлинности Моцартовой маски. Но это еще не все. В ядре маски есть и «сигнатура»: зеркально отраженные буквы Th. R и число 1793, что может означать единственное: отлито года от Рождества Христова 1793 Таддеусом Риболой. Это знак венской литейной мастерской по олову и бронзе Паулер Тор, находящейся в непосредственной близости от художественного кабинета Дейма-Мюллера!
Как подсказывает здравый смысл, который зиждится на всех критически рассмотренных обстоятельствах дела, настоящую маску по праву следует считать отливкой с посмертной гипсовой маски В. А. Моцарта, снятой Деймом-Мюллером 5 декабря 1791 года. Дерзайте, мой друг!»
И сбоку была приписка баронессы Лурье, сделанная красной тушью:
«..Меня преследуют двое мужчин в сером. Они знают про рукописи. Берегите себя, Макс. Существуют и другие тексты, но они хранятся не у меня. Думаю, где-то должен быть «ребенок». Вам ничего не говорит имя графа Дейма-Мюллера, Марии Магдалены Хофдемель? На всякий случай даю вам пару адресов в Мюнхене и Вене. Запомните и уничтожите.… Боюсь, что ваша жизнь в опасности… »
Я положил открытку на стол. Мне было уже известно, что я никуда не пойду. Я сам превратил эту комнату в некую исследовательскую лабораторию, филиал частного сыскного агентства а-ля Шерлок Холмс в Москве. Причем, я так и не осознал в полной мере всего того, что случилось со мной с того момента, как я повстречался с баронессой и русской поэтессой Верой Лурье. Одно я четко уразумел: коготки мои так вонзились в древо познания, что отодрать их уже не было никакой возможности, и придется стоять до конца, чего бы мне это не стоило.
На этот раз я постараюсь разобраться во всем — и ради себя самого, и ради давно ушедшего Александра Пушкина, Гвидо Адлера, Бориса Асафьева, Гунтера Дуды, Вольфганга Риттера и более всего ради Моцарта. В глубине души я всегда знал, что мой марафонский стипль-чез не вечен, финишная ленточка впереди. Остановиться все-таки придется; так почему не здесь и не сейчас?
Внезапно меня охватила глубокая усталость. Я направился в ванную умыться. Из зеркала на меня воззрился изможденный незнакомец с усталым лицом и огромными глазами. Мне стало противно смотреть на этого монстра, в которого я превратился. И быстро отвел взгляд — я просто не мог его видеть.
Итак, во-первых, я должен срочно вылететь в Берлин, к Вере Лурье, у нее — карт-бланш к моим последующим тропам поиска. Кроме того, есть еще два запасных «аэродрома»: в Мюнхене, в Вене и, может, где-нибудь еще. Обратной дороги не было.
Вспомнив про НЗ в количестве двух с половиной тысяч евро, хранившихся у меня, я схватил телефонную трубку, набрал номер мобильника знакомого клерка из турагентства и попросил устроить мне в самое ближайшее время визу и билет до Берлина. Тот немного подумал и попросил позвонить утром.
Чтобы получить заряд музыкального допинга, я выбрал из инструментальной музыки Моцарта нужный диск, вставил его в плеер и нацепил наушники.
Первые же аккорды моцартовской симфонии несказанно восхитили меня. Казалось, Вольфганг Амадей вложил в эту вещь всего себя без остатка. Слушая эту музыку, казалось, что ты паришь в горной вышине, между небом и вершинами Альп. Моцарт, Моцарт! Какое поразительное и восхитительное природы! Какой Гений!..
Передо мной на широчайшей мировой сцене жизни схлестнулось все вместе: стихии, силы мира, живые люди, феномены, судьбы. Не музыка души — аккорды мировых сил — мрачные, светлые или загадочные, легкие или тяжелые, радостные или скорбные, или то и другое вместе. Но это не только космос, рок и стихии, это живые люди, их судьбы.
Затем мне попался грандиознейший фортепианный концерт c-moll и фортепианный квартет g-moll. Это уже была не собственная психика композитора, а мировая арена, вселенная. Мою голову заполонили все эти страстно-трагичные массовые выкрики и как бы хоры, эти живые всемирные драмы — не бездушные стихии, а огромные страдающие человеческие массы. И я, и художник вместе пропадаем в ничтожестве перед грандиозными образами страдающих людей.
Моцарт не стремится, как Бетховен, обнять миллионы, он уничтожен громадностью мировой картины, горя и лишений людей.
Фортепианный квартет g-moll начинается мрачной и страшной темой рока; затем проносится сверху вниз легкая фигурка, как дрожь по поверхности человеческой массы; затем вторично проносится дрожь и возникает некий вселенский человеческий хор страсти и страдания. Как только заканчивается первая часть — симбиоз мирового отчаяния и ужаса, то звучит andante — тихая, заглушенная и скорбная задумчивость. И тут, как рябь по океану, развертывается и наступает скорбный трепет. Финальные аккорды словно ведут меня по разным сценам интимной жизни людей: по идиллиям, по домашнему уюту, по сельским песням и мечтам — и везде человеческие страдания, безотрадность. И только в последних тактах звучит идиллический мотив рондо. Создается иллюзия, будто художника нет, а мировые силы развертываются и развивается сами. Правда, писать об этом — невозможно, это надо переживать.
Я понял, чего ждал от этой музыки. Она должна была дать мне нечто словами невыразимое — то, что скрыто в молчании, а возможно, мужество, или хотя бы надежду, что все это когда-нибудь прекратится. А может, я просто хотел убедиться, что моя марафонская дистанция подходит к концу.
За ней последовал отрывок из «Реквиема» Моцарта — мощная лавина строгих величественных и вечных аккордов, некий катакликтический гимн. И вот полные трагизма мощные аккорды о боли и печали — печали моей и его, Вольфганга Моцарта, печали мужчин и женщин, одиноких и беспомощных в этом враждебном мире. Моя каморка превратилась в космическое пространство; аккорды, арктически-ледяные и кристально чистые, возвещали о том, как бесконечно далеки друг от друга атомы Вселенной, наполненной загадочным эфиром, а не обезличенной пустотой. Ноты коснулись страшного для человеческого понимания вопроса о бесконечности Вселенной.
Но вот протрубил пронзительный вопль, взывающий к иным мирам, населенным иными живыми существами. Потекли аккорды про мировую душу, блуждающую в потемках вечности с какой-то возвышенной целью и смыслом. Вверх взмыл голос скрипки, изливаясь ликующей радостью — чуждой к прошлому и будущему. И где-то засверкали беззвучные зарницы или промельки света, — эти краткие мгновения торжества Неба над Тьмой и безысходностью. Потом снова вступили мощные траурные аккорды; тональность и высота их сменялась с немыслимой скоростью, они перетекали друг в друга, и творили новые миры, ввергая человека в космическое состояние небожителя. Этот был гимн торжеству радости, аккорды звучали снова и снова, воспаряясь над вершинами духа, перерастая в самую прекрасную молитву из всех, что мне доводилось слышать, чтобы затем превратиться в песнь безрассудной смелости перед ликом мировой скорби и нечеловеческих страданий.
Когда «Реквием» закончился, я вспомнил один из музыкальных вечеров моего приятеля Виктора Толмачева, посвященный «Реквиему». Последний.
Разумеется, Толмачев был в ударе. Я даже заметил, как у него подрагивали пальцы от нервного напряжения. Как будто Реквием, эта заупокойная месса, звучала по его ясной и светлой душе. Как знал, как чувствовал, как предвидел! Через каких-то полгода его не стало.
Я шарил взглядом по комнате, надеясь уцепиться хоть за что-то прочное, но комната тоже стала частью вселенского водоворота. Книги на столе утратили свою материальность. Мне виделись только пустоты между домами. Передо мной явился мир пустот, мир ужаса пустоты — мир без структур, без правил, без законов, мир, где не за что бороться и не за что держаться, ибо ты неотделим оттого, что вокруг, ибо ты сам — зияющая пустота между атомами и молекулами. Меня обуял страх. Не похожий на тот, который испытываешь, когда за твоей спиной стоит Смерть. Нет. Сейчас я боялся, что я песчинка в этом бесконечном мире или ничто. И весь окружающий мир необъятная бесконечность Вселенной. Этот ужас нескончаемой непрерывности Мира был непереносим. Сердце стремилось разорваться на тысячи осколков.
Я тряхнул головой, чтобы сбросить наваждение и при этом хохотнул грубо, зло.
Только комната осталась той же в своем мрачном постоянстве. А музыкальные аккорды Моцарта все звучали и звучали.
В груди похолодело, меня охватила паника. Я попытался взять себя в руки. Опять бежать? Но куда? Конечно же, в Берлин, к Вере Лурье. Жива ли она? Опасность ее жизни налицо — ей угрожали и, видимо, в последний раз.
И я понял, что все вокруг, как и прежде, было в движении. Нет ничего прочного, устойчивого.
Я подошел к окну. Было темно, ночь неумолимо надвигалась.
Рухнув на диван, я заломил руки за головой, задумался.
Нет, я не боялся смерти. Как и сам Вольфганг Моцарт, который написал в последнем письме к отцу Леопольду, почти пророчествуя и совершенно примирившись с близкой потерей близкого человека.
Это было философское утешение родному отцу, который готов был отправиться в последний путь:
«Так как смерть (по правде говоря — genau zu nehmen) — истинная конечная цель нашей жизни, я за пару лет столь близко познакомился с этим подлинным, наилучшим другом человека, что ее образ для меня не только не имеет теперь ничего ужасающего, но, наоборот, в нем довольно много успокаивающего и утешительного! И я благодарю господа моего за то, что он даровал мне счастливую возможность (Вы понимаете меня) познать ее, как ключ к нашему истинному блаженству. Я никогда не ложусь в постель, не подумав, что, может быть, меня (как я ни молод) на другой день более не будет, — и все-таки никто из тех, кто знает меня, не может сказать, чтобы в обществе я был угрюмым или печальным. За блаженство сие я каждый день благодарю моего творца и сердечно желаю того же каждому из моих ближних».
Так и я, следуя великому напутствию великого композитора, встретил бы смерть с благодарностью. Но — что это со мной! — я боялся одного: раствориться, исчезнуть, стать частицей бесконечности. Ничтожеством. Мой организм не подчинялся мне, словно я был в наркотическом угаре, зато рассудок был ясным и трезвым.
Однако вместе с паникой я ощущал странное равнодушное спокойствие. Что осталось у меня в этом пустом и жестоком мире, где ждать милостей от общества, от людей — просто бесполезно? Здесь не во что верить, кроме только во Всевышнего. К чему тогда сопротивляться, идти всем смертям назло?
Я упал спиной на диван, закрыл глаза; голова кружилась все сильней. Я открыл глаза, уставился в потолок. Стены, книги, растения, цветы в горшках, книги на полках, письменный стол, компьютер — все это мчалось вокруг меня, точно в последней надежде спастись и выжить.
Я панически подумал:
«Неужели это и есть жизнь? Без смысла, без цели, без надежды — как у этих цветов в глиняных горшках? Растительная жизнь, жизнь как безостановочный процесс, примитивная технология, руководимая высшими силами?».
«Ах, господа, как же скучно на этом свете жить!» — Так сказал один из героев Антона Чехова, и кажется, попал в точку. Тогда зачем такая жизнь? Вероятно, затем же, зачем и мне: не потому, что в жизни есть смысл, вера, цель, но оттого, что желание жить заложено во всякой божьей твари, а значит, и в человеке, с ветхозаветных времен.
Мысли вихрем неслись в мозгу, но ответных слов не было. Слова пришли позже — из каких-то неведомых запасников памяти, они были словно вырублены из куска мрамора — готовые шедевры словесности. И все же они явились из глубин безмолвия и спасли меня, слова, которые никогда прежде не срывались с моих губ: «Отче наш, Иже еси на небесех!» — Я приостановился на мгновение и продолжил говорить животворные слова: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Они пришли из ниоткуда, но я знал, что я — и только я один — выбрал их из всех сущих слов. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» — заклинал я снова и нова. Эти вещие слова стали знаком и символом, в который я вцепился что было сил: «…и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, и избави нас от лукавого». И в комнате стало поспокойнее.
Поначалу незримо, неприметно, но с уверенной поступью в моем сердце утвердилась тишина и умиротворенность.
Раздался звонок в дверь. Он донесся, точно эхо, отразившееся от далекой горы, такое слабое, что поначалу не веришь собственному слуху. Но звонок прозвучал снова. Медленно — каждый шаг был как самый первый — я двинулся в прихожую. Звонок зазвенел опять, на этот раз оглушительно, и я понял, что он заливается прямо над головой. Я включил свет и отпер дверь. Галогенная лампа над входом снаружи так ярко била в лицо стоящего перед дверью человека, что я, в страхе от увиденного, отшатнулся. Это был Анатолий Мышев, но иной. Такой Анатолий Мышев мог бы привидеться мне в ночном кошмаре. Лицо его стало совсем прозрачным; мертвенно-бледный свет, казалось, сорвал с него все покровы, и обнажилось самое существо человека. Мне стало стыдно, словно я ненароком вторгся в чей-то тайный мир. Я не хотел этого. Я не хотел больше причинять боль ни одному живому существу.
— Добрый вечер. Извини меня еще раз за столь поздний визит, — проговорил Анатолий Мышев с подчеркнутой интеллигентностью компьютерного мальчика. — Я человек ночной, а главное — полагаю, что тебе будет ну-у очень любопытно!
— Какой разговор, Анатолий, входи, — перебил я. — И будь как дома. Без церемоний.
Мой голос вновь преобразился, вновь стал каким-то деревянным, искусственным.
Я проводил его в комнату и зажег свет.
— Присаживайся, — сказал я, предвкушая сюрприз, который приготовил мне Анатолий. — Ну что, опять шнапс?
— Не откажусь, — растянул в улыбке губы Мышев.
Я пошел в кухню за чистыми стаканами, налил один стакан до половины для Анатолия, а себе опять плеснул на донышко. Пить я не собирался — мне нужно было завтра рано утром вылетать в Берлин.
И тут я вспомнил молитву и животворные слова:
«Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли».
И еще были слова. какие же это были слова? Ах, да!.. Да пребудет любовь!..
Я вернулся с подносом в комнату, расставил стаканы, легкую закуску и протянул Анатолию стакан с отличной водкой.
— Я пришел к тебе, — заговорил Анатолий, — по поводу той последней рукописи. Из Берлина. По правде сказать, я появился из-за ее содержания. О! Великолепный шнапс! — добавил он, пригубив зелье. — Полагаю, что у тебя есть маленький водочный заводик?
Я держал стакан, не поднося его ко рту.
— Опять рукопись? — переспросил я.
— Да, милсдарь, — важно заявил Анатолий и сделал еще глоток. Потом он глубокомысленно спросил:
— Что тебе известно о людях в сером?
— Почти ничего, только то, что есть про них в рукописи.
Мышев улыбнулся и опять отхлебнул водки.
— Мне неловко задерживать тебя надолго, может быть, поговорим завтра?
— Послушайте, Анатолий, — сказал я, — я вовсе не хочу спать и горю желанием услышать твой рассказ. Меня не интересует, сколько времени он займет. К чему эта твоя политкорректность?
Мышев расплылся в улыбке: наконец-то представился случай поразглагольствовать о том, в чем, как ему казалось, он здорово поднаторел. Он стал потчевать меня рассказами об эзотерике, а я то и дело подливал ему водки.
— Поговорим о ртути, — широко улыбнувшись, проговорил он. — Ртуть (Hg) издревле была посвящена Меркурию. В средневековой алхимии этой планете ставилось в соответствие число 8. О том, какое отношение имеет это число 8 к смерти и вопросам посвящения в античном культе таинств, речь пойдет ниже. А пока что отметим, что сразу же бросается в глаза: эта восьмерка присутствует и в том числе 18, которое намертво связано с великим Моцартом. Поскольку числам 1 и 2 нет алхимических соответствий (они начинаются только с 3 это Сатурн, а 4 — Юпитер и т. д.), то из этой комбинации двух чисел единица выпадает: и сублимируется в цифру 8 — Меркурий, образуя смертельный яд: сулему или mercurius sublimatus.
Увидев недоумение в моих глазах, Анатолий подчеркнул:
— На первый взгляд все это может показаться преувеличенным и надуманным, но, к сожалению, не все так просто. Необычными такие взаимосвязи покажутся только тому, кто неискушен в мифологических сплетениях античного и средневекового образа мышления. Скажу откровенно, ведь, скажем, душу химии мы потеряли в схематизме ее формул. И то, что нам сегодня представляется абсурдным, еще несколько поколений тому назад принадлежало «благости знания» посвященных. И тут на свет выступают целые таблицы «соответствий», соответствий чисел, элементов, металлов, планет, драгоценных камней и целебных трав. И тут среди прочих признаков для ртути в Меркурии выступает серый цвет. Запомни это, серый цвет, пресловутый «серый посланец», а это ничто иное, как символ или знак.
— Ты имеешь в виду то, что за три месяца до кончины Моцарт был напуган серым посланцем, будто бы заказавшим ему траурную мессу? Хотя сведения об этом заказе и мессе, по многим источникам — чистой воды выдумка.
— Верно. Так вот, Моцарт был крайне напуган этой встречей и переданное незнакомцем известие воспринял как открытое предупреждение о своем скором конце. Причем, «серый посланец» приходил в согласии с символикой чисел — священное число раз — было ровно три встречи.
— Единственное, чего тут не хватало, так это подписи черным по белому: «Ты, Моцарт, приговорен к смерти».
— Вне сомнений, «Волшебная флейта» в окружении этих событий предстает теперь совсем в ином свете. И слухи, гулявшие по Вене, будто Моцарт был отправлен на тот свет из-за разглашения тайн «королевского искусства», сегодня уже не кажутся безосновательными. В самом деле: здесь он столкнулся со «своим ядом», так же как столкнулся с 8-ю аллегориями Меркурия на колонне Гермеса, изображенной на титульной гравюре к первому либретто «Волшебной флейты». Остановимся на ней подробнее. Слева под колонной лежит мертвец: вот он, умерщвленный архитектор храма Адонирам или Хирам! А ведь Моцарт наверняка держал эту гравюру в руках, держал и созерцал свой яд и судьбу своего двойника — но не понял этого!
Те, кто доконали его, оказались на несколько порядков изощренней. И, тем не менее, внутренний голос подсказал ему, что «музыке скоро конец».
— Что последовало за этим — известно, — резюмировал я.
— В пасьонах Моцарта число 18 приобретает новое, откровенно культовое значение. 18 ноября 1791 года состоялось освящение второго храма венской ложи «Вновь венчанная надежда». Для этого случая Моцарт написал кантату объемом в 18 полных листов. Подобно древнеегипетским гимнам к богу Солнца Ра, в этом сочинении канонически проводятся соло, дуэты, речитативы и номера для смешанного хора. То есть церковный стиль очевиден.
Вскоре Моцарт оказался прикованным к постели, тело его сильно опухло. На 18-й день после освящения храма, 5 декабря 1791 года он скончался. Не будь это число зафиксировано документально, его без стеснения попытались бы оспорить и выдать за культовую легенду.
Ибо 5 декабря исполнялось ровно 7 лет, как Моцарту было предложено вступить в «Благотворительность». Семь лет созидательной работы над так называемым «Соломоновым храмом», о чем говорится уже в Третьей книге Царств, завершились, день в день. Справившись в срок, архитектор храма Адонирам — именно под таким именем, с отличиями высшего градуса шотландского обряда, неожиданно является имя Моцарта в циркулярном письме ложи от 20 апреля 1792 года! — он закончил свой жизненный путь, или «Via regia».
— Поистине, факт, который заставит задуматься любого упрямствующего нигилиста, — согласился я.
— Вспомним библейскую притчу. Мудрый Соломон, который был одним из избранных в познании символов, которые выражали собой «хранилище святыни всезнания Адама до грехопадения», задумал построить Великий Храм, и так построить его, чтобы он символически передал потомству, всем жаждавшим познать истину, божественные познания. Главным строителем храма был назначен Адонирам, обладавший знанием «божественной истины»; рабочих для постройки этого храма было собрано 130.000 человек, которых Адонирам разделил на три степени: учеников, товарищей и мастеров. Каждой из этих степеней было дано символическое слово: ученикам — Иоаким, товарищам — Вооз, а мастерам — Иегова, но так, что мастера знали свое наименование низших степеней, товарищи свое слово и слово учеников, а ученики знали только свое слово. Мастера за свою работу получали более высокую плату, что вызывало желание трех товарищей выпытать у Адонирама мастерское слово. Воспользовавшись тем, что по вечерам Адонирам ходил осматривать в храме работы, первый из них остановил его у южных ворот и стал требовать от него, чтобы он открыл ему слово мастеров, и, не получив желаемого, ударил Адонирама молотком. У северных ворот другой товарищ нанес ему удар киркой. Адонирам бросился спасаться, и едва он успел бросить в колодец золотой священный треугольник, символ всесовершенства духа, божеское начало (на треугольнике было таинственное изображение имени Иеговы), как третий товарищ нанес ему смертельный удар циркулем у восточных ворот. Убийцы унесли и схоронили тело Адонирама. По приказу Соломона тело было найдено, ибо земля оказалась рыхлой, а воткнутая ветвь акации, которою убийцы отметили место погребения Адонирама, — зазеленела. Мастера из боязни, что древнее слово уже потеряло значение, решили заменить слово «Иегова» первым, которое будет кем-либо из них произнесено при открытии тела погибшего мастера.
В это мгновение открылось тело, и когда один из мастеров взял труп за руку, то мясо сползло с костей, и он в страхе воскликнул: «Макбенах», что по-еврейски значит: «плоть от костей отделяется». Это выражение и было принято отличительным словом мастерской степени.
Таким образом, для мастеров Адонирам, или Хирам есть только олицетворение гения, перешедшего к нему и всему его потомству, состоящего из тружеников ума и таланта, по наследству от Каина, который родился будто не от Адама, созданного из земной глины, а от гения огня, одного из элохимов, равносильного Иегове. А три убийцы Адонирама объясняются для кандидатов в мастера как выражение самовластия, изуверства и тщеславия, убивающих гениальность. Борьба с «деспотизмом гражданским и церковным» диктуется теми целями и задачами, которые ставит себе орден франкмасонов: превратить весь мир в одну республику, в которой, по выражению масонов, «каждая нация есть семья и каждый член сын оной».
Я согласился с моим гостем, и сделал попытку подвести черту под нашими бдениями:
— Итак, каков итог расследования? Вся жизнь Моцарта — от рождения до могилы — находилась под властью этого необычайного числа 8. Рождение в 8 часов пополудни в ночь на день Меркурия, среду, и на 28-й день года, гомеровский «Hymn on Mercury» под его детским портретом, доминирующая роль числа 18 в «Волшебной флейте» и в событиях, сопутствующих смерти, 8 аллегорий Меркурия на титульной гравюре к первому изданию либретто оперы и на австрийской юбилейной марке рядом с четырьмя солнечными дисками, три визита «серого посланца» как олицетворение ртути и как символ числа 8! Наконец, сумма цифр его полных лет жизни — 35 — опять-таки чистая восьмерка. Пусть теперь скажут, что это тривиальная «случайность»? С трудом верится: для простого случая что-то многовато совпадений.
Я с усилием отогнал от себя нахлынувшие мысли, поднялся, подошел к Анатолию и положил руку ему на плечо.
Он поднял голову и улыбнулся мне, как старому верному другу, устало и грустно. Впрочем, вряд ли ему было печальнее, чем мне, ведь это я целую ночь из страха одиночества выслушивал его интересные мысли, почерпнутые из огромного количества книг, документов. Трудно, черт возьми, быть человеком. Кто знает, может, он прав, и мы действительно стали друзьями?
— Анатолий, спасибо тебе за рассказ. Кое-что из этого удачно ложится в мои конструкции, хотя и трудно переваривается сразу. Но недавно мне уже довелось столкнуться с событиями, в которые я никогда бы не поверил, не случись они лично со мной. Нам бы нужно почаще встречаться и общаться. А теперь, как ни жаль, мне пора. У меня скоро самолет.
Мышев поднялся, заглядывая мне в глаза, как ребенок, который хочет, чтобы я непременно похвалили его за сюрприз, который он мне приготовил — за рисунок или песенку.
— Правда, Анатолий, я так благодарен тебе за твой рассказ, что даже не могу выразить свой восторг словами.
— Только отличным шнапсом? — пошутил он и улыбнулся, убедившись, что я говорю искренне.
Было уже поздно, когда я, оставшись один, засел за письменный стол, чтобы собраться с мыслями.
Итак, что мы имеем? В 1822 году в Вене появилось впервые «Собрание египетских древностей». Научное освоение Египта вообще началось только через несколько лет после смерти Моцарта и достигло своего расцвета благодаря египетскому походу Наполеона (1798–1799). Откуда стали известны имена Тамино и Памины, ведь иероглифы были расшифрованы И. Ф. Шампольоном в 1822 году, благодаря Розеттскому камню[12].
У создателей „Волшебной флейты» сошлись пути Памино и Тамины (таково точное звучание имен), ничего друг о друге не слыхавших на родине, в Египте. Но это далеко не все! Более всего впечатляло то, что либретто точно разрабатывало различные типы посвящения. Центр тяжести происходящего в „Волшебной флейте» утвердился в посвящении Тамино и Памины в таинства Изиды и Осириса, типично египетский обряд.
Как утверждал немецкий исследователь С. Мориц, в Египте это мертвый, который вводится в таинства. Ибо таинства Изиды соотносятся с мертвецом. В Египте испытуемый подвергался смерти, — тот приносился в жертву. Для Египта, таким образом, характерна направленность в грядущее (смерть) и деиндивидуализация мертвого. «Быть посвященным» эквивалентно «знать» мифически-религиозные вещи, и это знание оставляет за собой древнеегипетский мертвый — характерно, что именно мертвый, и только он (Я знаю литературу мертвых!)».
Вспомним текст «Волшебной флейты»:
«Оратор: Но если он сложит голову таким молодым?
Зарастро: Значит, он отдан Осирису и Изиде и вкусит радости богов раньше нас. Пусть Тамино со спутниками введут в храм».
В этом-то и заключена была ошеломляющая новизна текста «Волшебной флейты», что духовно-идейное четвертое измерение здесь выставлялось на всеобщее обозрение: Мастером можно стать только путем высшей жертвы, а именно через пожертвование собственной жизни, чем достигается более высокая жизнь в более высоком, тесно побратанном мире. Здесь же выбрана что ни на есть превосходная степень драматизма.
С точки зрения парадигмы заговора и конспирологии лучше, если обо всем этом будет знать как можно меньше «посвященных»! Факты не должны всплыть на поверхность. Именно поэтому кончину Моцарта нужно было повернуть так, чтобы слушатель в партере «прозрел» сам и определил, что Моцарт работал буквально себе на погибель.
Что здесь главное? Моцарт был загублен при помощи тайных языческих обычаев, верный католик сошел в могилу по дохристианскому ритуалу! Вероятнее всего, речь тут идет о крупнейшем скандале на религиозной почве, какой только случался в ХVIII столетии в области изящных искусств!
Таким образом, любыми средствами, при любых обстоятельствах все это просто необходимо было как-то «замять».
Вот тут-то и понадобился отвлекающий ход, наживка для просвещенных дилетантов. На свет Божий всплыл «Реквием», вернее будет сказать — «Реквием-легенда»!
Наступление
«Слава, море и волнение!
Слава, пламя и горение!
Слава, пламя! Влаге слава!
Как все это величаво!
Слава ветра дуновению!
И пещер уединению!
Слава вечная затем
Четырем стихиям всем!»
Гете, «Фауст», II часть. Сцена «Скалистый залив Эгейского моря»Утром, как и договаривались с моим знакомым клерком, я позвонил в турагенство. Счастливый случай и деньги сделали свое: во второй половине дня у меня уже был билет на утренний рейс, оформлена шенгенская виза, загранпаспорт и турвояж лежали в кармане.
С вечера я усердно готовился к предстоящему вояжу в Германию. Тщательно помылся, побрился, побросал в сумку кое-какие вещи (на всякий случай взял рукописи и открытку от Веры Сергеевны) и вызвал такси. В дверях я в последний раз оглянулся на разбросанные по полу книги и листы бумаги. Творческий хаос мне не понравился. И я мысленно поклялся по возвращении сразу же приняться за уборку. Ладно, пусть будет так, главное — это остаться в живых и вернуться в Москву.
Запирая дверь, я вдруг осознал, что еду к единственному человеку на свете, способному распутать все узлы, — к баронессе Вере Лурье. Движение — это жизнь: стоит только принять решение: «вперед», как тут же уходят прочь все сомнения, страхи, рушатся барьеры, а впереди открывается широкая прямая дорога.
Вера Лурье, конечно же, подскажет мне все, что я должен выполнить, или укажет путь к этому. Ведь она написала в открытке, что есть и другие варианты!
Сначала Моцарт преследовал меня; настал мой черед гнаться за ним. Я не знал, куда заведет меня эта погоня. Может, в знаменитую «Канатчикову дачу», с диагнозом «параноидальная шизофрения». Может, смерть настигнет меня в обличье человека в сером, который и не человек вовсе, а некий фантом из Зазеркалья.
А может, я просто окажусь в незнакомом городе, один-одинешенек, без планов и надежд. Нищий, всеми брошенный. Но какая разница! Раз уж оказался в воде, то придется выплывать.
В Берлине я позвонил Николаю Митченко и попросил помочь мне взять напрокат машину.
Он мигом откликнулся, снабдил меня путеводителем с приложенной полной картой Falk или ADAC — картой центра Берлина и окрестностей.
И я отправился за город. В Берлине за рулем было спокойнее и увереннее, чем в Москве. Над всем довлел его величество порядок. Поля, которые в прежний мой приезд были зелены и пестрели цветами, теперь покрылись позолотой. Странно, но я вдруг почувствовал, что еду домой. Моя нелюбовь к новому фешенебельному Берлину усугублялась нелепостью этого ощущения, но я ничего не мог с ним поделать. С тревогой думал о Вере Лурье, как прилежный ученик о встрече с любимой учительницей после летних каникул.
Наконец я свернул с главной дороги к коттеджу. Кругом стояла тишина — такая же глубокая, всеобъемлющая тишина, которая поразила меня в прошлый раз.
Я не стал подъезжать прямиком к коттеджу, а припарковал машину за двести метров от него — за садом Веры Лурье, под раскидистым деревом. И дальше пошел пешком. На случай, если придется удирать, а я был готов к такому раскладу.
Вот и коттедж, ослепленный солнечным светом. Он был какой-то отчужденный, словно неживой. Мне, как усталому путнику после долгой дороги, захотелось восхитительного сладкого чая с приятным восточным ароматом. Как тогда, во время моего первого приезда в Вильмерсдорф…
Я привычно подошел сосновым воротам и просигналил звонком валдайского колокольчика. В ответ на звук этого колокольца повисла пугающая тишина. Снова дал сигнал. И вдруг послышался мягкий девичий голос:
— Was es Ihnen notwendig ist? (Что Вам нужно?)
— Ich heisse Maxim, der Freund frau Lourie. Berichten Sie, bitte, dass ich aus Russland angekommen bin (Я Максим, друг фрау Лурье. Передайте, пожалуйста, что я прибыл из России.).
— О, Макс, вы, наконец-то! Дверь отперта, проходите, пожалуйста, — радостно проговорил девичий голос на чистом русском языке; и тут же щелкнули автоматически отпираемые запоры.
Как и в тот раз, навстречу мне вышла прислуга — девушка со славянской внешностью и, обняв меня, заплакала. Потом она проводила меня в комнату, залитую дневным светом.
Я растерялся, панически подумал: «Где Вера Сергеевна? Что с ней?».
Надежда, — так звали девушку, — будто прочитала мои мысли и, подняв залитое слезами лицо, сказала:
— Веры Сергеевны больше нет, она ушла.
В коттедже было прохладно и чуточку сыро. Вся мебель стояла, как и прежде, впечатление было такое, что хозяйка только покинула квартиру и скоро вернется. Если бы не спертый, затхлый воздух давно не проветриваемого помещения. В промельки штор сочился свет, окрашивая убранство комнаты бледно-сливочным и даже кофейным цветом.
На столике в прихожей лежали несколько нераспечатанных писем: одно из Англии, конверт из США с официальной печатью, три открытки и журнал «Нейшнл Джиогрэфик». Надежда взяла их с собой, и мы переступили порог гостиной, где я впервые встретился с Верой Сергеевной. Комната так же, как и тогда, была залита дневным светом. Переступив порог помещения, я вновь почувствовал ощущение неловкости и парализующую немоту.
Я подошел к столику, где лежали конверты, несколько чистых листов бумаги и ручка, и обнаружил там фотографию Веры Лурье в черной рамке. На ней по-немецки было выведено:
«Keinen unseren lieben Freund die Lyrikerin und die Baronesse des Glaubens Vera Lourie-Waldstetten mehr gibt es mit uns. Den Gottern gegeben und hat sie zu sich den 20. Juni diesen Jahres aufgefordert. Sie wurden ja die ewige Ruhe und der Geist sie wird sich in der Welt auflösen» («Нашего дорогого друга поэтессы и баронессы Веры Лурье-Вальдштеттен больше нет с нами. Богом данную, Господь призвал ее к себе 20 июня сего года. Да упокоится душа в бесконечном Мире».)
Баронесса и русская поэтесса Вера Лурье ушла насовсем. Заодно с ней улетучилась призрачная надежда расставить все логические точки и выстроить наконец-то правдивое здание под названием «Моцарт». На мои глаза навернулись слезы, мне стало невыносимо жаль все вместе: славную русскую графиню Лурье, наш с ней неоконченный проект, рухнувшие в пропасть блестящие надежды. Куда же теперь идти, что делать, и кто виноват?
— Это вам, — пробудила меня Надежда и протянула фотографию Лурье.
Я кивнул и положил карточку во внутренний карман.
— А теперь перейдем к делу, а точнее — к тому, что не успела Вера Сергеевна, — неожиданно резко проговорила девушка и, дотронувшись теплыми и мягкими пальцами до моей руки, но, улыбнувшись, добавила грудным бархатным голосом: — А дорогому гостю — чаю, как это принято у нас, у русских.
— Того самого, сладчайшего чая с экзотическим восточным ароматом? — поинтересовался я. — Как тогда, во время моего первого приезда в Вильмерсдорф?
— Именно, — кивнула Надежда и бесшумно ушла в кухню.
Я встал и подошел к книжной полке, на которой стояли книги всех форматов, размеров. На английском, немецком, русском и каких-то восточных языках. Фолианты об искусстве, истории, музыки.
У самого края полки располагались большие роскошные подарочные альбомы. Я увидел издание, выпущенное Зальцбургским Моцартеумом к двухсотлетию со дня рождения Моцарта, полное двухтомное собрание. Я принялся листать книгу Гунтера Дуды «Богом данные» и «Подлинные страсти по поводу посмертной маски Моцарта» с богатыми иллюстрациями. В альбоме была и посмертная маска Вольфганга — изможденное, но умиротворенное лицо. Мне показалось совершенно естественным, что я смотрю на нее именно здесь, в этой комнате, окутанной белой тайной, напоенной золотым светом и неправдоподобной тишиной.
Неужели, думал я, здесь, в этой комнате, и успокоится та неукротимая, шальная сила, которая владела не только Вольфгангом, разрушая его тело и дух, но и Пушкиным, Гвидо Адлером, Борисом Асафьевым, Игорем Белзой, Верой Лурье и мною самим? Сколько еще людей подхвачены ею, этой безжалостной огненной пляской, разрывающей человека на части и несущей его — по крайней мере, так случилось с доктором Николаусом Клоссетом, Францем Зюсмайром, Эмануэлем Шиканедером, Гвидо Адлером, Дитером Кернером, Вольфгангом Риттером или Виктором Толмачевым — прямо в объятия смерти?
Мне показалось очень подозрительным, что в альбоме, где сотни иллюстраций и подписей на нескольких языках, отсутствует портрет Франца Зюсмайра, который я уже видел и успел запомнить на всю оставшуюся жизнь, зато была репродукция с портрета аббата Максимилиана Штадлера. Странное упущение, особенно если учитывать, что альбом издан в Германии, а немцы в своих исследованиях всегда педантичны и необычайно скрупулезны. Где же Франц Ксавер Зюсмайр?
Зато на каждой странице «Моцартианы» есть упоминание об аббате Максимилиане Штадлере, о котором сказано, что он «являлся профессором теологии, церковным композитором, был в дружеских отношениях с Моцартом, а после его смерти был помощником у Констанции и ее второго мужа Николауса Ниссена, помогая им разбирать рукописное наследие композитора; завершил ряд незаконченных произведений Вольфганга Амадея и выступал в печати со страстной защитой подлинности моцартовского Реквиема». Как пишут современники, сам Штадлер относился к числу членов масонского ордена, не внушающих доверия. На портрете выражение лица Иоганна Карла Доминика (Максимилиана) Штадлера более чем откровенное: скепсис сноба, надменность и какая-то похожесть с напыщенным служителем музыки императорским капельмейстером Антонио Сальери — этого яркого представителя «черни светской», по Пушкину.
— Кто еще попал в сети аббата после гибели Моцарта? — сказал я вслух.
— Вам знакомо имя скульптора и художника графа Дейма-Мюллера? — послышался неожиданный голос Надежды.
Я вздрогнул, поскольку произнесенные слова были точь-в-точь из последней открытки Веры Лурье.
— В некотором роде, да, — отозвался я.
Девушка уже сервировала стол небольшим самоварчиком и легким ужином — все в русском стиле: ароматный чай в фарфоровом пузанчике, крендельки, баранки. Подлетев ко мне, она ловко достала том иллюстраций Полного собрания писем Моцарта и открыла его на странице 284, где была посмертная маска Вольфганга.
— Ну как? — торжествующе спросила она.
Я изумился: это был не Вольфганг из подарочного издания Зальцбургского Моцартеума; не конфетно-приторный Вольфганг Амадей с портрета Б. Крафта — эдакая смесь из Тропинина и Репина; не великий композитор из чистенькой, причесанной биографии специалистов Моцартеума.
Тут на меня смотрело спокойное красивое лицо мастера Вольфганга Амадея Моцарта. И приписка рукой поэтессы Веры Лурье на полях: «Наконец-то! Факт остается фактом: до сих пор — вот уже в течение 30 лет — от мира скрывается последнее и самое достоверное изображение Вольфганга Амадея Моцарта. И оно, изображение, к слову будет сказано, приведено не как подделка, а как апокриф».
Открытый чистый лик композитора — застывшая в его образе неземная и волшебная музыка.
Я еще раз посмотрел на изображение посмертной маски Моцарта. Волосы зачесаны назад, полноватые губы чуть полуоткрыты, большой мясистый нос, глаза закрыты, голова слегка откинута назад.
Невероятно, чтобы кто-то, спустя много лет после смерти Моцарта сумел с такой точностью воплотить в бронзе Вольфганга — всю ту музыку великого маэстро, застывшую в металле!
Когда мы пили чай с Надеждой, она стала говорить о программе моего вояжа, спланированного еще Верой Лурье:
— Впереди у тебя, Макс, — Мюнхен. Тебя ждет доктор медицины Гунтер Карл-Хайнц фон Дуда. У него есть рекомендательное письмо касательно тебя, сударь, от графини. Для справки. Герр Дуда выпустил три книги о Моцарте. Он уроженец Верхней Силезии, совмещал деятельность врача-терапевта под Мюнхеном с изучением тайны гибели Моцарта. Живет недалеко от баварской столицы, в печально известном после Второй мировой войны небольшом городке Дахау. Научному исследованию этой проблемы посвящены многие работы д-ра Дуды, такие книги, как «Богом данные», «Страсти по посмертной маске Моцарта» или «Конечно, мне дали яд». Уже эти слова Моцарта, вынесенные герром Гунтером в заголовок книги и сказанные Моцартом жене во время прогулки в Пратере — его любимом венском парке — незадолго до смерти, определяют ее содержание и уверенность в справедливости подозрений великого мастера.
— У меня взята напрокат машина, — сказал я. — Идеальные немецкие дороги, несколько часов пути — и я на месте.
— Нет, так не пойдет. Когда ты в машине, за тобой легче следить. Лучше сделай так: поезжай в Берлин, сдай авто — и железнодорожным экспрессом утром ты будешь в Мюнхене.
— Никакой слежки я не заметил, — попытался оправдаться я.
— Все еще впереди, — резко выговорила Надежда и продолжила: — После Баварии тебе нужно побывать в Майнце. Там Сильвия Кернер, жена и коллега покойного Дитера Кернера. Она тоже в курсе событий, рекомендательное письмо у нее есть. После всего этого отправляйся в Вену. И тогда круг замкнется.
Я бережно вернул книги по местам, опасаясь, что мое рысканье в библиотеке поэтессы Вера Лурье может нарушить святость этой золотой комнаты. Ее комнаты, комнаты, которая с того момента, как я впервые переступил ее порог много дней — или веков? — назад, полностью и навсегда изменила мою жизнь. Разумеется, Вера Лурье знала, что я приду сюда, вторгнусь в ее мир, стану трогать ее вещи, оплетаемый по рукам и ногам паутиной, имя которой — Вольфганг Моцарт; паутиной, которую она сама, со всей своею красотой и силой, сплела для меня? Я чувствовал присутствие графини Веры Лурье. Словно лукавый дух, который украдкой следит за тобой, еле сдерживаясь, чтобы не рассыпаться брызгами звонкого смеха, эта женщина, которая связала временной цепью Россию императорскую, великолепный СССР и Россию современную. А что стоит ее откровенное и гениальное замечание:
«Если Вы будете звать меня как-то иначе, я не пойму, к кому Вы обращаетесь».
Поэтесса Вера Лурье тоже любила Моцарта; и его демонический облик тоже преследовал ее в сновидениях. Она же стремилась освободиться от власти, которую выплескивала на нее эта рукопись. Я подумал: принесла ли ей смерть эту желанную свободу? Но тут же решил, что над силами Бога, дьявола и творчества смерть не властна. Я вернулся мыслями в тот день, когда Вера Лурье настояла, чтобы я взял рукопись. Неужели я годился для исполнения просьбы этой прекрасной дамы, я — самый недостойный из рыцарей? Ну не смешно ли?
И я расхохотался, расхохотался неожиданно, раскованно и вызывающе.
Смех отразился от стен золотой комнаты, а воздух задрожал, искрясь, словно отзываясь радостью самой поэтессе Вере Лурье. Да, хозяйка покинула дом, но радость ее по-прежнему жила в его стенах.
Все это время Надежда широко открытыми глазами смотрела на меня, не понимая мою то ли радость, то ли истерику.
Кофейный свет в промельках штор потускнел. Наступали сумерки. На маленький коттедж, который утвердился недалеко от рощицы, опускался вечер.
Надежда постелила мне в небольшой комнатке на кушетке, и я тут же уснул — крепко и безмятежно, как спят только в детстве.
Проснулся рано, в семь утра, встал, прошел в кухню. Там уже колдовала Надежда: блины, чай.
После легкого завтрака, Надежда, передав две визитки, лаконично и сухо поведала:
— Максим, вот адрес Гунтера Дуды — это под Мюнхеном, в городке Дахау. А это копии рекомендательных писем от Веры Сергеевны к герру Дуде и фрау Сильвии Кернер и ее адрес. На тот случай, если этих депеш они не получили. В Вене все по-иному: в кафе Ландтманн спроси у кельнера: за каким столом сидел Вольфганг Моцарт. Он покажет, ты займешь это место и наберешь на мобильнике такой номер. Запомнил?
— Конечно. Ну, мне пора. С Богом! — я поцеловал Надежду и склонил голову в полупоклоне.
— С Богом! — эхом отозвалась она.
Нужно было сохранять конспирацию до конца. Через кухонную дверь выскользнул в маленький сад позади дома и направился к рощице, где оставалась машина. Я предусмотрительно пошел кружным путем не по дорожке, как накануне, а по узенькой извилистой тропинке, петлявшей меж деревьев. Наверное, Вера Лурье здесь прохаживалась во время своих прогулок?
Осторожно открыл дверцу в машине, включил зажигание и прогрел мотор. Затем медленно, точно в запасе у меня была вечность, вырулил в направлении главного автобана. Солнечные блики плясали на сидении, в промельках густых крон деревьев.
И вот трасса. Прямо за перекрестком стоял длинный серебристо-серый автомобиль. В нем сидели двое, одетых в серое, мужчин. Надежда оказалась более чем права: за мной открыто следили.
Dum spiro, spero[13]
Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь;
Я знаю, я.
Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей; я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой.
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Монолог Сальери, «Моцарт и Сальери». А. С. ПушкинЯ вновь сжался в комок, сгруппировав все мышцы, будто перед выстрелом стартового пистолета на дистанции; все тело пронзили живительные токи. Нарочито медленно я подъехал к перекрестку, дождался, когда в потоках машин образовался прогал, и нырнул на трассу. Было не страшно, а противно. Я проехал мимо, спокойно глядя прямо перед собой. Сразу же послышался шум мотора серого автомобиля. Я прибавил газу. Они — тоже.
Серебристо-серая машина следовала за мной синхронно, не делала попыток догнать или перегнать. Кто сидел в этом сыскном рыдване, я не знал. Были ли это люди из плоти и крови или фантомы из Зазеркалья — мне было все равно, я не желал иметь ничего общего с этими «спецлюдьми». Нужно было от них как-нибудь оторваться, чтобы избежать возможных дальнейших неприятностей.
Еще вчера, подъезжая к коттеджу Лурье, я запомнил, что в трех километрах от этого перекрестка сразу же за крутым поворотом трассы в лес отходит узкая асфальтовая дорога, окруженная глухими зарослями, — так что никакой преследователь не увидит, куда именно я повернул. Возле поворота я внезапно дал газу, выскочив к спасительной глухой дороге, резко тормознул и через несколько мгновений мчался сквозь бившие по корпусу машины заросли, но уже в противоположном направлении. На полянке я остановился и простоял с выключенным мотором минут пять.
Погони не было. Значит, серебристо-серый автомобиль пронесся стороной.
Через десять минут я вернулся на главную дорогу.
Но что-то случилось со зрением, вернее — скакнуло давление, поскольку в глазах рябило. Я-то надеялся, что все это в прошлом. Перед глазами плыли волны, мельтешили мушки, как это было со мной в пустыне Каракум, когда поднималось марево над раскаленной дорогой. Я зажмурился, потом поморгал, пытаясь стряхнуть наваждение. Может, наваждение пройдет, если я успокоюсь и угомоню свое сердце, которое бешено колотится в груди. Что-то творилось с моим организмом, рассудком. Тогда я решил воздействовать на себя элементарным психоанализом.
Я стал выговаривать вслух — медленно и громко:
— Спокойно, малыш, без паники! Ничего страшного. Все очень просто и легко объяснимо. Сейчас главное — выжить и вырваться отсюда — во что бы то ни стало!..
Надо же, еще недавно мне было абсолютно наплевать, погибну я или буду жить. Теперь все изменилось. Этот эпизод с наружным наблюдением и киношной погоней повернул систему координат на 180 градусов. Кстати, тоже эзотерическое число.
Скоро я добрался до фирмы, где взял машину напрокат, быстро рассчитался и, освежившись в туалете, вышел на улицу. Вежливые берлинцы подсказали, как мне добраться до вокзала Zoo или Zoologischer Garten.
Поднявшись в роскошный автобус маршрута № 100 и, уплатив 2,1 EUR, я довольно скоро прибыл на Zoo.
Вокзал оказался совсем крошечным в сравнении с нашими Казанским, Павелецким или Белорусским, хотя и считался тогда одним из главных вокзалов Западного Берлина.
Я решил воспользоваться скоростным экспрессом, получившим название ICE, билет стоил недорого — 40 EUR.
До отправления поезда Берлин-Мюнхен оставалось 20 минут.
Истинна ли посмертная маска Моцарта?
«Тайные обстоятельства смерти великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта и сегодня, по прошествии двухсот десяти лет (исполнилось 5 декабря 2001 года), побуждают исследователей возвращаться к документам, фактам и преданиям тех стародавних лет в надежде, хотя и призрачной, чтобы докопаться до истины.»
Гунтер Карл-Хайнц фон Дуда, Мюнхен ФРГБыло рано, шел пятый час утра. Уже рассвело, до восхода оставалось минут 20–30. Хотя я спал мало, но было такое чувство, что выспался всласть.
Поезд полз, как улитка по ветке. Еле-еле. Странно, но хочется жить этими мгновениями. Внизу рельсы, бетонные шпалы — как будто у нас, в России. Нырнули в плотный туман.
Продвигаемся вслепую, будто на ощупь. И вот из ниоткуда, как в мультфильме Норштейна «ежик в тумане», выдвинулась громада Мюнхенского вокзала.
Вот и перрон, какой-то длинный, бесконечный, так долго тянется. Последние сантиметры мучительной дороги. Господи, приехали! Стоп. Выбрался наружу.
— Wie geht’s? (Как поживаете?)
— Danke! — благодарю я и спрашиваю: — Wo befindet sich der Weg zu Dachau? (По какой дороге проехать в Дахау?).
Мне объясняют — тут недалеко автобусная стоянка, а там — рукой подать, минут тридцать-тридцать пять — и я в Дахау.
Прохожу сквозь вокзальную толпу и, отыскав нужный автобус, отправляюсь в путь. Дорога в Дахау заняла всего полчаса. Признаться, я немного заволновался: как меня встретит герр Гунтер Карл-Хайнц Дуда. Тугое нарастание сердечных ударов, истома ожидания.
И вот после двух резких поворотов, моста через реку, я добрался до места. Отыскать улицу Томаса-Шварца, дом не представлялось трудным делом. Я шел, а мне в лицо дул утренний верхнее-баварский ветерок, кругом — немецкий покой и порядок.
Мэтра Гунтера Карл-Хайнца фон Дуду я узнал сразу. Доктор медицины, создавший три книги о Моцарте, разительно напоминал французского киноактера и певца Ива Монтана.
Уроженец Верхней Силезии, герр Гунтер Дуда совмещал деятельность врача-терапевта с изучением всех деталей, аспектов, связанных с тайной гибели Моцарта.
Доктор Гунтер Дуда принял меня, как будто мы знали друг друга много лет.
— Я знаю все, — лаконично сказал он.
И мы сразу перешли к делу. Он показал мне два документа, впрямую связанных с посмертной маской Моцарта.
Это был текст письма Констанции Моцарт Брайткопфу и Хертелю от 17 февраля 1802 года (письмо № 1342):
«А посему сообщаю Вам, что здешний императорский и королевский камергер, граф фон Дейм (несколько лет тому назад, назвавшись Мюллером, устроил художественную галерею из собственных работ) тут же после смерти Моцарта сделал гипсовый слепок его лица. И еще: придворный актер Ланге, очень славный художник, написал его в натуральную величину, en profil, затем же, не без помощи, видимо, отливки Дейма, переделал портрет — Моцарта он знал хорошо — en face, причем сходство совершенное».
И еще упоминание в письме младшей сестре Зофи Хайбль второму мужу Констанции Моцарт Георгу Ниссену:
«До сих пор в ушах моих звучит последнее, что он попытался сделать: изобразить литавры в своем Реквиеме. Тут же появился Мюллер из художественного кабинета, он сделал гипсовый слепок с его бледного, помертвевшего лица» (З. Хайбль Ниссену, 7 апреля 1824 года).
Показав эти два отрывка из писем, доктор Дуда прокомментировал:
— Вот два известных документа, которые доказывают, что с В. А. Моцарта своевременно и со знанием дела была снята посмертная маска. Упоминаемый в письмах граф фон Дейм, или Мюллер как раз и есть императорский и королевский камергер граф Дейм (полное его имя Иосиф Непомук Франц де Паула граф Дейм фон Штритец, известный под псевдонимом как Мюллер или Дейм-Мюллер (1750–1804), который сыграл в жизни великого Моцарта небольшую, но важную знаковую роль).
— А у Констанции осталась хотя бы копия посмертной маски? — поинтересовался я.
— Согласно документам, у нее был гипсовый слепок, но она во время уборки уронила и разбила гипсовую маску. И выкинула обломки артефакта.
— Кстати сказать, история жизни графа Дейма-Мюллера — скорее остродетективный сюжет для кино, — продолжил тему Гунтер Дуда.
Итак, граф Дейм изготовил для себя бронзовую отливку посмертной маски Моцарта, иначе гипсовый оригинал при работе с воском утратил бы свою чистоту и стал бы просто непригоден для выставочных целей. Кто сообщил ему о кончине композитора, неизвестно. Ясно только одно, что граф Дейм предвидел возвышающееся значение гения Моцарта. Георг Николаус Ниссен упоминает об этом 17 февраля 1802 по поручению жены:
«Мне хочется сообщить Вам, что здешний императорский и королевский камергер, граф фон Дейм, который несколько лет назад назвался Мюллером, — он еще устроил художественную галерею исключительно из своих работ, — так сей господин снял гипсовый отпечаток с лица только что умершего Моцарта. Ну а дальше придворный актер Ланге, кстати, очень хороший художник, написал его в натуральную величину, правда, в профиль, а затем, — ни без помощи вероятно отливки графа Дейма, — перерисовал портрет в фас (а с Моцартом он был хорошо знаком). Причем, сходство получилось необыкновенно точное. У этих обоих господ адреса были поблизости, и в своей общей работе им не было нужды обмениваться письмами».
Так звучат известные в настоящее время документы, которые доказывают, что профессионал в действительности снял посмертную маску или может быть, даже слепок с головы. Качество бронзовой отливки соответствует вышеприведенным источникам, и как раз тогда изготовленному единственному негативу. Слепок должен был сделан самое позднее через два-три часа после смерти Моцарта, то есть где-то в районе 3 или 4 часов утра 5 декабря 1791 года, так чтобы исключалось движение глаз.
Кстати сказать, недалеко от него располагалась литейная мастерская по олову и бронзе Таддеуса Риболы, где и была отлита посмертная маска Моцарта, и, судя по «сигнатуре» в ядре маски, она была отлита в 1793 году.
В 1797 году граф Дейм-Мюллер открыл галерею в специально оборудованном здании. Согласно преданию, в одном из 80 помещений, доступ в которые имел не всякий простой смертный, существовал особый кабинет грации, где были выставлены восковые фигуры, среди которых можно было лицезреть, и великого Моцарта в собственном платье; а также там была отливка с посмертной маски великого композитора. И на самом деле, это не голословное утверждение.
В 1801 году в столичной печати Вены было недвусмысленно заявлено:
«Художник господин Иосиф Мюллер (как себя называл граф Дейм) привлекал к своей личности не меньшее внимание, чем его произведения искусства; он сумел за короткое время в свои далеко не молодые годы стать непревзойденным мастером своего дела. Многие состоятельные люди позволяли ему даже при жизни лепить себя в гипсе или воске. Причем, цены всегда были предельно высоки».
В завещании графа Дейма-Мюллера от 22 января 1804 года, как и в описи наследства от 1828 года, называлась посмертная маска Моцарта и восковая фигура, или «бюст» В. А. Моцарта.
О посмертной маске вспомнили лишь 24 октября 1875 года в публикации в столичной газете «Венская газета для иностранца», где говорилось следующее: «Согласно сообщению известного анатома Иосифа Хиртля (1811–1894 гг.), который унаследовал череп от своего брата, приписываемый Моцарту: «Он, череп, столь соответствует посмертной маске, что Хиртль, в распоряжении которого находятся и некоторые документы, касающиеся этого дела, ручается за его подлинность».
И только через 72 года известие о посмертной маске Моцарта всплывает в таком контексте. Летом 1947 года житель Вены Якоб Елинек за 5 шиллингов приобретает маску из цветного металла у старьевщика Антона Форрайта (1883–1956 гг.) в его лавке на Браухаузгассе, дом 5 (Венский округ, 5). По заявлению продавца подержанных вещей, он «не имел представления, откуда появилась посмертная маска в его закромах, скорее всего, была куплена во время войны с прочей рухлядью».
Не сумев продать маску с аукциона в Доротеуме, Елинек отправляется к скульптору и пластику-документалисту Вилли Кауэру, признанному специалисту в своей области. Тот покупает маску и после тщательного обследования приходит к выводу, что в его руках посмертная маска Моцарта.
— И вот разыгрывается фарс, достойный всех нелепостей, связанных с Моцартом, — будь то похороны композитора, приписываемый ему череп или Реквием-миф. Иначе говоря, скандал вокруг Моцарта, — определил эту ситуацию герр Гунтер Дуда.
5 июня 1948 года Кауэр сообщил о своем открытии федеральному канцлеру и предложил снять об этой находке научно-популярный фильм. Канцлер направил это предложение с ходатайством в министерство образования. 19 июля 1948 года Кауэр обратился в министерство с просьбой о скорейшем решении вопроса. 14 сентября он направил новое письмо федеральному канцлеру, указав, между прочим, что им уже отклонено несколько предложений о продаже маски, поступивших из-за рубежа. Только после этого, не без инициативы, видимо, самого канцлера, 29 сентября последовал телефонный звонок с приглашением Кауэра на обсуждение вопроса о маске в министерство образования. Вслед за тем, как он предъявил там фотографию маски, ему было заявлено, что до принятия каких-либо определенных мер, маска должна быть исследована экспертной комиссией. Кауэр безоговорочно согласился.
Микроскопические исследования были проделаны членами комиссии проф. Шварцахером и проф. Киари. 1 февраля 1949 года, по настоятельному требованию Кауэра, комиссия собралась на второе заседание. Шварцахер и Киари подтвердили подлинность заявления Кауэра относительно следов кожи на маске. Тогда один из музыковедов стал настаивать на выяснении обстоятельств появления маски у Кауэра, указав на возможность подделки. Это обвинение побудило Кауэра забрать маску и отказаться от дальнейших исследований до своей реабилитации.
4 февраля 1949 года в новом письме в министерство Кауэр повторно подтвердил свою позицию, одновременно внеся протест против появившихся тем временем официальных публикаций.
12 февраля по поручению федерального управления по охране памятников культуры Кауэр был вызван в управление культуры города Вены. Основываясь на высказываниях прессы, его упрекнули в намерении переправить маску (так и не признанную) за рубеж. Кауэр дал письменное заверение, что подобных намерений у него никогда не было, но маску он никому не передаст до тех пор, пока перед ним публично не извинятся. Между тем от Елинека поступило ложное заявление, будто Кауэр, как специалист, зная, что это маска Моцарта, обманул его при покупке (Кауэр же заплатил Елинеку 20-кратную сумму от первоначальной цены).
9 апреля 1949 года бюро безопасности управления полиции Вены конфисковало маску, и она была отправлена на временное хранение в федеральное управление по охране памятников культуры.
После окончательного заключения вышеупомянутой комиссии от 21 апреля 1950 года, где маска не была признана Моцартовой, она вновь вернулась к Кауэру.
По этим изображениям антрополог в состоянии определить некоторые характерные черты лица. На юношеских портретах Моцарта следует отметить относительно широкий лоб с очень подчеркнутыми Tubera frontalia (буграми лобной кости), три взрослых портрета выполнены в профиль, поэтому выводы можно делать только относительно особенностей профиля.
Антропологические особенности профиля
Указанных портретов.
Лоб: спадает отвесно, линия прямая, без отчетливо выраженной глабеллы.
Нос: в меру подчеркнут, часть лица, начиная с корня носа, выдается вперед.
Спинка носа: прямая, волнистая.
Кончик носа: полноокруглый.
Дно носа: умеренно длинное.
Крылья носа: глубоко утоплены в щеки, низкие.
Область над верхней губой: очень высокая, направлена прямо, горизонтально вогнута.
Губы: тонкие.
Область подбородка: под нижней губой подбородок слегка втянут, затем слегка выступает.
Рассматриваемой маски.
Лоб: подан назад, линия волнистая, с отчетливо выраженной глабеллой.
Нос: резко подчеркнут, лицо вперед не направлено, резко выдается только нос.
Спинка носа: очень выпуклая.
Кончик носа: остроокруглый.
Дно носа: очень длинное.
Крылья носа: слабо утоплены в щеки, очень высокие.
Область над верхней губой: невысокая, горизонтально вогнута.
Губы: скорее толстые.
Область подбородка: под нижней губой подбородок сильно втянут, затем сильно выступает.
«По юношеским портретам видно, что у Моцарта, вероятно, были сильно подчеркнуты далеко отстоящие друг от друга Tuberà frontalia, на посмертной маске Tuberà подчеркнуты слабо и посажены близко друг к другу. Портреты позволяют отнести Моцарта к церебральному типу. Профиль же маски приближается к так называемому полукруглому профилю, который в народе окрестили птичьим. (Лоб — спинка носа — губы — подбородок образуют часть окружности.)
Общая линия профиля маски выдает иной тип человека, нежели представленный на портретах того времени. Тип этот совершенно далек от истинно среднеевропейского типа, к которому принадлежат родители Моцарта.
Из всего сказанного особенно следует выделить полукруглую линию профиля маски. Будь у Моцарта такой профиль, тогда если уж не на портретах, то в свидетельствах современников до нас дошли бы упоминания об этом, поскольку этот тип человека особенно бросается в глаза.
В результате анализа обеих точек зрения я пришел к выводу: невероятно, чтобы бронзовая маска, представленная скульптором В. Кауэром, являлась посмертной маской Моцарта».
(Из заключения антрополога, профессора Венингера от 20.04.1950 г.)
Теперь, наконец, напрашивается вопрос:
Почему же посмертная маска Моцарта не признана? Что это, только доказательство человеческой несостоятельности? Или признание ее повлечет профанацию или крушение культа? Или на посмертной маске Моцарта лежит проклятье?
Мы не знаем этого! Однако факт остается фактом: до сих пор — вот уже в течение почти что полувека — от мира скрывается последнее и самое достоверное изображение Вольфганга Амадея Моцарта, хотя, к слову будет сказано, в томе иллюстраций Полного собрания писем Моцарта, (стр. 284), оно приведено, и приведено не как «подделка», а как «апокриф».
— Каков же итог, господин Гунтер Карл-Хайнц, вашего титанического труда? — спросил я, — После столь обстоятельного исследования подлинности посмертной маски Моцарта?
— Мне кажется, разумнее ответить на ваш вопрос вопросом: а вполне ли Австрийское государство и, прежде всего, Интернациональное учреждение Моцартеум в Зальцбурге, осознают свой долг и ответственность перед всем миром?
Я поинтересовался у Гунтера Дуды о судьбе литературного и научного наследия Дитера Кернера, который занимался проблемой Моцарта. Герр Дуда кивнул и, помолчав, добавил:
— Да, печальная потеря. Пожалуй, вы могли бы встретиться с его женой, Сильвией Кернер… Она могла бы помочь вам в таких вопросах, как Реквием, история которого вас заинтересовала. Кстати, не могли бы вы передать ей небольшой пакет?
— О-о!.. Разумеется, передам, — обрадовано сказал я и тут же внутренне осекся: опять документы, опять проблемы, опять преследование людей в сером.
— Вот и чудесно! — в свою очередь обрадовался герр Гунтер Карл-Хайнц, потирая руки от удовольствия. — У меня, кстати, есть ее домашний адрес и необходимые телефоны.
* * *
Итак, вернемся к печальному уходу из жизни В. А. Моцарта. Как мы уже сообщалось, в берлинском еженедельнике «Musikalisches Wochenblatt» под рубрикой «вести из писем»
9 декабря 1791 года: «Моцарт скончался. Он вернулся домой из Праги больным и с той поры слабел, чахнул с каждым днем: полагали, что у него водянка, он умер в Вене в конце прошлой недели. Так как тело его после смерти сильно распухло, предполагают даже, что он был отравлен.» Подозрения усилились от того, как был погребен гений музыки. Хоронили Моцарта с подозрительной поспешностью, не удостоив почестей, соответствующих его сану, как помощника капельмейстера собора Св. Стефана, а также званию придворного капельмейстера и композитора. Более того, на кладбище Санкт-Маркс по Гроссе Шуленштрассе никто из сопровождавших тело Моцарта не пошел. Якобы, из-за резкого ухудшения погоды. Хотя, из архивных источников того же дневника графа Карла Цицендорфа явствует, что во время погребения гения музыки (в 3 часа пополудни) была «погода теплая и густой туман», а температура — утром было 2,6 градусов, а вечером — 3 градуса по Реомюру. Именно на момент отпевания у собора Св. Стефана дул «слабый восточный ветер» и никаких осадков!.. Те, кто бывал в столице Австрии, знает, что венцы настолько привыкли к зимним туманам, что неблагоразумно искать в погоде некую причину странного поведения людей, сопровождавших гроб с телом Моцарта. Особенно то, что он был похоронен в безымянной («братской») могиле для бедняков, которая естественно была утеряна. Вдова Констанца не была на похоронах, а впервые посетила кладбище спустя. 17 лет! Ни могилы, ни могильщика, который хоронил ее мужа (по сведениям, могильщик умер в 1802 году) она, конечно же, не могла найти. Таким образом, останки Моцарта были утрачены навсегда.
Несколько позже фантастическим образом объявились реликвии великого маэстро: череп (недавно была проведена генетичекая экспертиза и «череп Моцарта» был признан фальшивым) и посмертная маска. Последний предмет — более достоверное свидетельство, о чем мы и будем повествовать ниже. Но по порядку.
Поздно вечером 4 декабря 1791 года вновь послали за врачом. Доктор Николаус Франц Клоссет, который с 1789 года считался домашним эскулапом маэстро, на ту пору был в театре на представлении и согласился прийти, но после окончания спектакля. Хотя, он посоветовал Зюсмайру употребить холодный компресс на голову, а в заключение, по секрету, сказал, что будто положение знаменитого пациента безнадежно. Прилежный ученик выполнил так, как советовал доктор.
Но после подобных процедур Моцарт потерял сознание и до полуночи лежал пластом и бредил. Примерно в полночь он, якобы, приподнялся, недвижно засмотрелся в пространство, а затем повернул голову к стене и, казалось, задремал. Смерть наступила по свидетельству некоей Марианны (Nottebohm. Mozartiana, S.109) без пяти минут час 5 декабря 1791 года.
Вскоре появился императорский и королевский камергер граф Дейм (полное его имя Иосиф Непомук Франц де Паула граф Дейм фон Штритец, известный под псевдонимом как Мюллер), и сделал гипсовый слепок с лица гения музыки. Кто сообщил графу о кончине композитора, неизвестно. Будущий муж Констанции Георг Ниссен упоминает об этом 17 февраля 1802. Согласно другому источнику, где Софи Хайбл, своячница композитора, 7 апреля 1824 года написала Ниссену, «в качестве вклада к его биографии Моцарта»: «.Последнее, что мне помнится, так это было то, как он пытался ртом изобразить литавры, которые звучали в его Реквиеме, что это мне слышится до сих пор. Тут же появился Мюллер из художественного кабинета и снял гипсовый слепок с его вдруг замершего навеки лица».
Так звучат два известных в настоящее время документа, которые доказывают, что профессионал в действительности снял посмертную маску или может быть, даже слепок с головы. Качество бронзовой отливки соответствует вышеприведенным источникам, и как раз тогда изготовленному 1 негативу. Слепок должен был сделан самое позднее до двух-трех часов после смерти Моцарта, то есть где-то в районе 3 или 4 часов утра 5 декабря 1791 года, так чтобы исключалось движение глаз.
Кстати сказать, годы жизни графа Иосифа Иоганна Дейм-Штритеца от 2 апреля 1752 года по 27 января 1804 год полны жизненных коллизий, авантюризма и приключений. Он должен был в 1771 году участвовать в дуэли в Праге, после чего вынужден был спасаться бегством в Голландию. Итак, предначертанной военной карьеры не получилось, все оказалось прерванным дуэлью, после которой он был вынужден эмигрировать, и зарабатывать на жизнь изготовлением восковых фигур. Через два года при поддержке королевы Марии Каролины он перебрался в Неаполь. Дочь кайзера Франца I (известного масона) и Марии Терезии, она стала известной, благодаря защите масонских лож от своего супруга Фердинанда IV.
Под покровительством Каролины, граф Дейм сумел добиться позволения копировать античные фигуры для гипсовых копий. А нажив громадное состояние, он в 1780 году вернулся в Вену, где открыл художественную галерею в местечке Шток-на-Айзенплатц, № 610, а много позже, в 1795 году, на Кольмаркт. Кстати сказать, недалеко от него располагалась литейная мастерская по олову и бронзе Таддеуса Риболы, где и была отлита посмертная маска Моцарта, судя по «сигнатуре» в ядре маски: зеркальное отражение букв «Th.R» (Таддеус Рибола) и цифры «1793», а это может означать год, когда отлита маска.
Ну а в 1795 году в специально оборудованном здании граф Дейм-Мюллер устроил («по всемилостивейшему позволению») своеобразную привилегированную галерею и кабинет восковых фигур, где демонстрировались восковые фигуры, среди которых была и фигура Моцарта в подлинном костюме. В. А. Моцарт по заказу графа Дейма написал редкостные сочинения «для механического органа в часах» — Adagio и Allegro F-dur, которые были закончены в декабре 1790 года, а также Andante F-dur, завершенная 4 мая 1791 года. Как Моцарт заметил в письме Констанце от 3 октября 1790 года: «Вот если бы это были большие часы и аппарат звучал бы, как орган, тогда я радовался бы; а так инструмент состоит из одних маленьких дудочек, которые звучат высоко и для меня чересчур по-детски».
Вскоре граф Дейм-Мюллер возвысился до «придворного модельера и скульптора», а с 3 ноября 1798 года он — член «частного общества патриотических друзей искусства» в Праге.
Разумеется, как профессионал граф Дейм-Мюллер позже заказал в мастерской Т. Риболы бронзовую отливку с посмертной гипсовой маски Моцарта, иначе гипсовый оригинал вскоре утратил бы свою первозданность в противоположность металлу. Согласно преданию, в одном из 80 помещений, доступ в которые имел не всякий, существовал особый кабинет грации, где была выставлена посмертная маска Моцарта. И на самом деле, это неголословное утверждение. В 1801 году было недвусмысленно заявлено: «Художник господин Иосиф Мюллер (как себя называл граф Дейм) привлекал к своей личности не меньшее внимание, как и его произведения искусства; он сумел за короткое время в свои далеко не молодые годы стать непревзойденным мастером своего дела. Многие состоятельные люди позволяли ему даже при жизни лепить себя в гипсе или воске. Причем, цены всегда были предельно высоки».
«Мастер ваятельных форм» реагировал молниеносно, выполняя тот или иной скорбный заказ в предельно сжатые сроки. Характерен в этом смысле приведенный «Венской газетой» эпизод в случае с кайзером Леопольдом II, гражданская панихида которого состоялась 1 марта 1793 года, а «по высочайшему повелению с мертвого тела было разрешено снять форму», что и было сделало с помощью «испанского плаща» (средневековое орудие пытки).
Правда, гильотинированный Людовик XVI (в 1793 г) не позволял при жизни тому же графу Дейму себя изображать в воске. Кстати сказать, в коллегах по ваянию у Мюллера был известный скульптор по рельефу Леонард Пош (1750–1831 гг), «друг юности» Моцарта, открывший секрет красного рельефа из воска.
Граф Дейм предвидел возвышающее значение гения Моцарта. Вот почему мы смеем думать, что посмертная маска была тут же снята с лица усопшего, а из гипсовой заготовки была отлита ее бронзовая копия в мастерской известного Таддеуса Риболы на Паулерто № 226.
Ну и в 1832 году после кончины графини Дейм, урожденной Брунсвик, композиция восковых фигур была закрыта.
О посмертной маске вспомнили лишь в 1875 году в публикации «Венский туристический вестник», где говорилось следующее «Согласно сообщению анатома Хиртля, который унаследовал череп, приписываемый Моцарту: дескать, он разительным образом соответствует посмертной маске, а потому сей доктор ручается за его подлинность». А еще через 72 года житель Вены Якоб Елинек за 5 шиллингов приобретает маску из цветного металла у старьевщика Антона Форрайта в его лавке на Браухаузгассе. Затем пластик-документалист Вилли Кауэр покупает у Елинека эту маску, а после тщательного обследования приходит к окончательному выводу: у него посмертная маска Моцарта.
По поводу посмертной маски Моцарта имеется заключение антрополога профессора Венингера от 20 апреля 1950 года, резюмирующие строчки которого гласят: «В результате анализа обеих точек зрения я пришел к выводу: невероятно, чтобы бронзовая маска, представленная скульптором В. Кауэром, являлась бы посмертной маской Моцарта». Но антрополог доктор Эмилиан Клойбер считает, что точка зрения Венингера, «построенная на основе указанных просчетов и ошибочных умозаключений, не в состоянии доказать ни того, что обсуждаемая бронзовая маска не посмертная, ни того, что это вообще не маска Моцарта»!
Подлинность посмертной маски наглядно доказывает просветленность в выражении лица, застывшая в металле музыка облика гения, а самое важное — следы почечной недостаточности, которые сопровождаются сильновыраженным отеком лица. И такие немаловажные факты, как «сигнатура» маски: отлито года от Рождества Христова 1793 Таддеусом Риболой. Это знак венской литейной мастерской по олову и бронзе Паулера Тора, находящейся в двух шагах от художественного салона графа Дейма!..
Таким образом доктор Э. Клойбер, который по инициативе австрийского «Интернационального учреждения Моцартеум» в Зальцбурге исследовал бронзовую маску с привлечением 25 репродукций-семейных портретов и 10 достоверных изображений самого Моцарта, сделал окончательное заключение 24 ноября 1956 года: «Как подсказывает здравый смысл, основанный на всех критически рассмотренных обстоятельствах дела, настоящую маску по праву следует считать отливкой с посмертной гипсовой маски В. А. Моцарта, снятой Мюллером 5 декабря 1791 года».
«Интернациональное учреждение Моцартеум» в Зальцбурге не признает выводы экспертов о подлинности бронзовой посмертной маски В. А. Моцарта. Совпадение ее с достоверными портретами Моцарта, разительное сходство с изображениями членов семьи, особенно матери композитора, а также убедительные симптомы острой почечной недостаточности, запечатлены на маске, и «сигнатура» с обозначением фирмы, мастера и 1793 года — вот неоспоримые подтверждения истинности бронзовой посмертной маски В. А. Моцарта.
Почему же не признается подлинность посмертной маски Моцарта? Что принесет положительное решение «Моцартеума»?
Существовала и вторая параллельная цепочка, соединявшая Моцарта с Вальзеггом цу Штуппах (заказчика Реквиема) через Дейма-Мюллера и Лайтгеба. Для владельца своеобразной кунсткамеры или собрания восковых фигур Моцарт создал несколько произведений для механических органов в 1790 и 1791 году (см. выше, с. 241, 481). Дейм занимался также изготовлением копий с классических скульптур и для этого ему нужен был гипс. Так он оказался связанным с тем же Лайтгебом и через него с Вальзеггом. Дейм, конечно, тоже знал о материальных затруднениях Моцарта и также мог рекомендовать его в качестве возможного автора Реквиема. Это лишь вероятность, но вполне правомерная.
Стоит упомянуть и другую форму сотрудничества Моцарта и графа Дейма-Мюллера Это редкостные в настоящее время сочинения «для механического органа в часах» — Adagio и Allegro F-dur, оконченные в декабре 1790 года 68 (KV 594; GA, Ser. XXIV, № 27а, издано только для фортепиано в четыре руки), фантазия f-moll, сочиненная 3 марта 1791 года (KV 608; GA, Ser. X, № 19), и Andante F-dur (KV 616; GA, Ser. X, № 20), завершенное 4 мая 1791 года. Эта пьеса, как и остальные, была написана по заказу графа Дейма (Deym; его псевдоним Мюллер) для художественного кабинета Мюллера на Плаццум-Шток-им-Айзен. С более поздними переложениями для фортепиано Моцарт не имеет ничего общего.
Очевидно, что для выступления в одной из академий, Моцарт написал свой последний фортепианный концерт B-dur, датированный 5 января 1791 года (KV 595; GA, Ser. XVI, № 27), а между 28 сентября и 7 октября концерт A-dur для кларнета и оркестра — «для господина Штадлера Старшего» «(KV 622; GA, Ser. XII, № 20). Наряду с этим на протяжении всего периода продолжается усиленная деятельность для праздничных балов двора в танцевальном жанре.
Например, газета Musikalische Korrespondenz, 1790, S. 170 f.; 1791, S. 69. Марианна извещала, что 19 августа 1791 года она будет играть «совершенно новый, в высшей степени красивый концертный квинтет господина капельмейстера Моцарта, сопровождаемый духовыми инструментами». Wiener Zeitung, 1791, А эскиз еще одного квинтета находится в зальцбургском Моцарте-уме (KV Anh. 92).
В Берлине и Лейпциге Марианну Кирхгеснер порицали за чрезмерно виртуозную манеру исполнения (Berlinische Musikalische Zeitung, 1793, S. 150; AMZ, II, S. 254).
Кстати, господин Дейм-Мюллер извещал через венскую газету (Wiener Zeitung, 1791, № 66, Anhang), что у него можно увидеть «пышный мавзолей, устроенный для великого маршала Лаудона. При этом поражает изысканная траурная музыка композиции прославленного господина капельмейстера Моцарта, каковая совершенно подходит для сюжета, ради которого написана».
Историк музыки В. Плат считает, что не совсем ясно, сколько произведений написал Моцарт для галереи Дейма-Мюллера. Он допускает, что их могло быть больше, чем известно нам: по заказу Дейма Моцарт мог сочинять музыку для различных музыкальных автоматов, в том числе и небольших, и для разных мастеров, изготовлявших их для владельца галереи. Среди таких пьес, как полагает Плат, и следует искать ту, что не давалась Моцарту в начале октября 1790 года (Plath W. Vorwort zu NMA, IX/27/2, S. XX). Но даже и известные нам три пьесы предназначены для разных музыкальных механизмов. Так, Andante F-dur KV 616 явно рассчитано на инструмент с небольшими, более высокими по звучанию трубами и по сравнению с KV 594 и 608 оно кажется несколько однотонным, несмотря на всю безукоризненность и тонкость стиля.
Известно, что Бетховен, также писавший музыку для механического органа (см.: Misch L. Zur Entstehungsgeschichte von Mozarts und Beethovens Kompositionen fur die Spieluhr. — In: Mf, XIII, Hft. 3. Kassel, 1960, S. 317 ff.), позаботился получить копии KV 594 и 608. Так как моцартовские автографы этих пьес утеряны, копии из бетховенского наследия, по словам Плата, стали для нас важнейшими источниками. Под сильным воздействием KV 608 написана фантазия f-moll для фортепиано ор. 156 Ф. Шуберта. Нужно назвать также переложение для струнного квартета М Клементи и транскрипцию для двух фортепиано Ф. Бузони (Plath. Op. cit., S. XXII).)
Адажио[14] маэстро!
«Нам говорят, что музыкой Орфей
Деревья, скалы, реки чаровал.
Все, что бесчувственно, сурово, бурно,
Всегда, на миг хоть, музыка смягчает».
Шекспир, «Венецианский купец»Переночевав у доктора Гунтера Карл-Хайнца фон Дуды, я на другой день самолетом из Мюнхена прилетел в громадный мегаполис — Франкфурт-на-Майне, а оттуда на белоснежном экспрессе за двадцать минут добрался до главного вокзала древнего Майнца. Пока я стремился достичь пределов этой столицы холмистой земли Рейнланд-Пфальц, лежащей на юго-западе Германии и известной как Могонтиакум еще во времена Римской империи, я выслушал массу рекламных роликов про эту родину европейского книгопечатания.
Итак, Майнц — старинный епископский город и столица федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Это и современный индустриальный центр, и вечно юный университетский город, и один из телевизионных центров Германии (отсюда вещают несколько ведущих телеканалов и радиостанций). В Майнце на Масленицу стартует немецкий карнавал, здесь печатал первые европейские книги Гутенберг, а в окрестностях Майнца делают тот самый рейнвейн, который знаком нам как минимум по названию.
К сожалению, мне не пришлось попробовать ни популярное белое вино, ни траминер с фруктовой нотой, ни кернер, ни серое бургундское, ни айсвайн. Следопытский дух не давал ни времени, ни желания расслабиться и заняться сторонними делами.
Дом Кернеров в Майнце я нашел без особого труда. Сильвия Кернер встретила меня радушно, как старого знакомого и даже как коллегу своего мужа. Мне сразу же подумалось, что значит рекомендация, которая открывает все немецкие двери. Самое приятное было то, что Сильвия Кернер была, как говорится, в теме Вольфганга Амадея Моцарта.
— Мне особенно приятно познакомиться с вами, поскольку вы с родины великого Пушкина. Два великих русских — поэт А. Пушкин и композитор Н. Римский-Корсаков — подхватили это знамя, и на камне истории культуры был высечен иероглиф, навсегда запечатлевший мысль о противоестественной кончине Моцарта; особых слов благодарности заслуживает и Игорь Бэлза: это он при не очень-то благоприятных обстоятельствах еще в 1953 году воскресил события прошлого! Мне оставалось только улыбаться и кивать головой.
— Что касается последних лет, то с полной определенностью можно говорить о кризисе моцартоведения. Все неясные вопросы, в свое время сформулированные моим мужем Дитером Кернером, Дудой и Дальховом, либо остались без ответа, либо — без каких-либо контраргументов — были просто отнесены в область пустых домыслов.
— Вы правы, фрау Кернер, — согласился я и добавил: — Мне кажется, доктор Гунтер Дуда с его посмертной маской Моцарта крепко держит оборону этой пяди земли, сотканной из аргументов и фактов.
— Да, вы правы. И потому нужно идти не по зыбкой почве предположений, а реальных фактов. Когда спустя год после смерти своего мужа я передала Вольфгангу Риттеру все собранные им материалы о Моцарте, то его поразило не столько их количество, сколько детальные медицинские заключения, которые могли выйти только из-под пера врача-токсиколога, хорошо знакомого с проблемой.
Посудите сами. Только продолжительность жизни больного — еще одно обстоятельство, которое должно было бы поставить в тупик последователей «почечного» тезиса. Если бы Моцарт ребенком перенес гломерулонефрит, так и не излечившись полностью, то совершенно точно, что он не прожил бы после этого более 20–30 лет, тем более работая в полную силу до самого конца. Средняя продолжительность жизни пациента с хроническим гломерулонефритом составляет сегодня около 10, самое большое 15 лет. По данным ученого Сарре, даже в наши дни после 25 лет хронического нефрита в живых остается всего лишь 12 процентов больных, а что уж говорить о временах Моцарта, когда и условия жизни, и гигиена, и медицинские знания были неизмеримо скромнее, нежели сегодня! В высшей степени маловероятно, чтобы Моцарт был каким-то исключением, подтверждающим правило. А чудовищный объем его продукции, составляющий 630 опусов, более 20000 исписанных нотных страниц, — лучший контраргумент против «апатии, летаргии, хронического и длительного заболевания почек», не говоря уж о нагрузках, которые ему пришлось перенести за время многочисленных путешествий, не прекратившихся даже в последний год жизни. И это еще не все! У пациентов, умирающих от хронического заболевания почек, значительные отеки в конце чаще всего не наблюдаются. У Моцарта же именно финальные опухоли были проявлены настолько резко, что их заметили даже профаны.
Таким образом, трактовка последней болезни Моцарта, если выбрать путь хронического заболевания почек, встает перед дилеммой: острые терминальные отеки, если на то пошло, можно еще вписать в картину острого нефрита, но тогда эти проявления едва ли будут совместимы с симптомами, давшими о себе знать за недели и месяцы до смерти во всем их объеме.
И заметьте: нигде ни слова о жажде, об этом обязательнейшем симптоме любой хронической почечной недостаточности! Тем не менее, есть немало еще приверженцев «почечного тезиса», попадаются они и в свежей периодике.
Дитер Кернер, заново рассмотрел «тезис отравления» в моцартовском, 1956 году, ибо стремительная, острая «симптоматика почек», в смысле токсического ртутного нефроза, приводила к убедительному согласию с уже существовавшими подозрениями на интоксикацию (отравление). Моцарт, сам — как свидетельствует дневник Новелло — считавший, что он отравлен — то же подтверждают Немечек и Ниссен, — еще при жизни заклеймил Сальери словечком «убийца».
Окончательный вывод Дитера Кернера о том, что Моцарт отравлен, настолько убедил Вольфганга Риттера, что он предпринял дальнейшие исследования, направленные в первую очередь на поиск предполагаемых преступников этого невероятного в истории музыки скандала.
— То есть вы считаете прежний круг возможных «погубителей Моцарта»: тайные организации, композитор Сальери — тупиковым?
— Время доказало это. Хотя бы то, что Моцарт не мог стать жертвой масонов, то есть своих же братьев по ложе. Это абсурд! Или то, что Антонио Сальери же сразу после смерти Моцарта попал под подозрение как бесспорный преступник, о чем свидетельствовали многочисленные слухи. Таким образом, до последних дней моцартоведение ограничивалось этим кругом потенциальных преступников, совершенно игнорируя другие фигуры. Соглашаясь со своим мужем и следуя за ним, я постоянно в курсе этих открытых вопросов. Кстати, Вольфганг Риттер, благодаря материалам и выкладкам Дитера Кернера, обнаружил здесь для себя много нового, что проливало свет истины на смерть Моцарта. Он не только убедился в том, что Моцарт был отравлен, но и нащупал возможные мотивы этого преступления и соответствующий «круг преступников».
— То есть любителям музыки Моцарта да и всему миру будут сообщены новые открытия по поводу этой загадки века?
— Да, коллеги моего мужа обещали, что опубликуют решающие аргументы в пользу версии об отравлении Моцарта, а также обнародуют новые аспекты и разного рода обстоятельства, которые заставят более серьезно задуматься о причинах устранения композитора Моцарта, а главное — в иной проекции покажут ближайшее окружение австрийского гения.
Фрау Кернер порывисто встала и подошла к окну, за которым густой стеной стояли деревья дивного сада.
— Позвольте, я закурю, — сказала она и спросила: — Вы курите?
— У меня «Кэмэл», — сказал я и полез в карман.
— Вот и прекрасно, — сказала она. — Значит, никто из нас не будет в претензии.
— Да, совсем забыл, фрау Сильвия, — спохватился я, — у меня для Вас от господина Гунтера Дуды пакет с бумагами.
— Он мне звонил. Спасибо, благодарю вас, — кивнула она и жадно затянулась дымом легкого ароматного табака.
Походив по гостиной и остановившись напротив меня, она стала рассказывать:
— После неожиданной смерти моего мужа Дитера Кернера, а случилось это в одном из госпиталей, я растерялась, озабоченная одним вопросом: что делать дальше? Я тоже доктор медицины, но тут особый случай. В общем, я привела в порядок архив мужа и передала многие записи Вольфгангу Риттеру. Он был настолько ошеломлен архивом герра Дитера, что, как он сам признался: прочитал и ахнул — настолько они с ним оказались близки в своих разносторонних научных интересах. Вольфганга Риттера поразила его блестящая работа о Парацельсе, а также своеобразная книга о девяти врачах-профессионалах, ярко проявивших себя и в области художественного творчества: «Arzt-Dichter» («Врачи-поэты»). Кроме того, Кернер включил сюда очерки о Рабле, Шиллере, Чехове и статьи о наших современниках Готфриде Бенне и Гансе Кароссе, скончавшихся полвека назад. Оказалось, что они шли параллельным курсом: более десяти лет, как герр Риттер трудился над 12-томной серией «Гениальность, безумие и слава», в которую должно было войти около 400 очерков о жизни и духовном развитии крупнейших деятелей европейской культуры прошлого и настоящего.
Вышедший в 1986 году сборник работ Риттера — как раз из этой серии; сюда он включил статьи об Иисусе, Парацельсе, Моцарте, русском писателе Чехове и русском шахматисте Алехине; причем, герр Риттер последовательно применял разработанную доктором Кернером методику изучения психики людей, выделяющихся своеобразием и богатством духовного мира.
Пришло время откланяться.
— Я рад, что мы встретились, — прощаясь с фрау Сильвией Кернер, сказал я. — Теперь будем дружить домами, переписываться, поскольку великий Моцарт нас объединил навечно.
— Tschüß, mach’s gut! (Всего хорошего!) — сказала она и добавила: — Так у нас прощаются очень близкие люди. Ах, да! У меня, к счастью, есть книги Гунтера Дуды, Дитера Кернера и Вольфганга Риттера — там очень толково разбирается вся «кухня» с Реквиемом Моцарта. Я их вам дарю во имя немецко-русской дружбы.
От последней фразы я чуть было не рассмеялся: «немецко-русская» дружба — это уже из другой песни, политической.
Сильвия Кернер ненадолго вышла и скоро принесла три роскошных фолианта.
— Это эксклюзивный выпуск издательства «Пэл», — пояснила она.
— Благодарю! — ахнул я от неожиданного счастья и добавил:
— Tschüß, mach’s gut, фрау Кернер!
Так мы расстались.
Как мне пригодилась книга трех немецких врачей «Смерть Моцарта», где я нашел все, чего мне недоставало в исследовании этой загадки века Реквиема-легенды! В этом «трехкнижии» было сконцентрировано все. Тут я наткнулся на «след» профессора теологии, помощника Констанции Моцарт-Ниссен, аббата Максимилиана Штадлера. Здесь, может быть, объединилось все вместе: и «Волшебная флейта», и план создания «тайного общества Грот», сообщенный композитором аббату Штадлеру, «дурному человеку, которому он, Моцарт, слишком доверял».
Поэтому я обратил внимание на предположение Г. Ф. Даумера в издаваемом им журнале «Из мансарды» о том, что вышеназванный М. Штадлер был орудием ордена для незаметного устранения слишком много знавшего Моцарта.
Эти тайны тьмы и бездны, видимо, так и не появятся на свет божий в полном своем обличье.
Реквием-легенда
«Теперь позовите мне гуслиста! И когда он тронул струны, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал: Так говорит Господь»
Четвертая книга ЦарствЯ развернул пакет с книгами и бумагами, переданный мне Сильвией Кернер. Мне попалась вырезка из итальянской газеты «Карьере де ла Серра» с броским заголовком: «Неужели плагиат?» Далее шел текст, который можно было предвидеть заранее: «Итальянские музыковеды обвинили великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта в том, что для заключительной части своего знаменитого «Реквиема» он использовал музыку итальянского современника Паскуале Анфосси.
К такому выводу музыковеды пришли после исследований, которые провели в архивах Неаполитанской консерватории. Там ими была обнаружена партитура написанной Анфосси симфонии, которая, по их мнению, «удивительно схожа» с моцартовским «Реквиемом». Моцарт был знаком с музыкой Анфосси, который написал более 700 опер и был известен не менее, чем австриец, — утверждали итальянские исследователи музыки.
Неаполитанские музыковеды считают, что большую часть «Реквиема» Моцарт, безусловно, написал сам, однако, по крайней мере, в одной его теме использована Венецианская симфония Анфосси, созданная за 16 лет до знаменитого «Реквиема».
Но это только присказка — сказка впереди.
Ни одно из творений Моцарта не вызвало такой бури мнений относительно вопроса о его подлинности, как так называемое последнее сочинение композитора — Реквием. Вся история возникновения этой заупокойной мессы, заказанной летом 1791 года при загадочных обстоятельствах таинственным посланцем в сером, что уже отмечали исследователи, писавшейся в предчувствии смерти и так и оставшейся незаконченной; вся эта история уже сама по себе обнаруживает не только необычные, но и неподдающиеся проверке подробности. А запечатлелась в сознании потомков как отчетливая реальность только благодаря пресловутому «серому посланцу».
Итак, судя по достоверным источникам, в июле 1791 года к Моцарту является странный «серый посланец» с известием, от которого Моцарт приходит в неописуемое волнение. Вряд ли логику дальнейших событий можно объяснить только заказом заупокойной мессы, с чем якобы этот посланец приходил ровно три раза.
Георг Ниссен пишет по этому поводу следующее:
«Да, о странном появлении и заказе неизвестного Моцарт выражал даже иные, весьма диковинные мысли, а когда его пытались отвлечь от них, он замолкал, так и оставаясь при своем».
А теперь последуем совету австрийского драматурга позапрошлого века Франц Грильпарцера, который утверждал, что нельзя понять великих, не изучив темных личностей с ними рядом. Итак, рассмотрим возможные варианты взаимоотношений Моцарта и тех самых «субъектов» из его ближнего и дальнего окружения.
Это, прежде всего, управляющий Антон Лайтгеб — тот самый «посланец в сером» (в «Моцарте и Сальери» Пушкина он, вероятно, ради большей романтичности образа, превратился в «человека, одетого в черное» или в «моего, Моцартова, черного человека»). Через него граф Вальзегг передал Моцарту устный заказ на создание Реквиема. Кто же такой этот «посланец в сером»? Антон Лайтгеб был сыном или, вероятнее, воспитанником венского бургомистра Андреаса Людвига фон Лайтгеба; получил юридическое образование, владел усадьбой и мельницей в местечке Ау — неподалеку от того самого Шотвина, куда летом 1790 года Моцарт ездил на обед к Эйблерам.
Лайтгеб увлекался музыкой, имел несколько музыкальных инструментов, хорошо играл на виолончели и, будучи ближайшим соседом Вальзегга, принимал деятельное участие в его музицированиях. Он консультировал Вальзегга по правовым вопросам и иногда выполнял отдельные его поручения. Согласно другой версии, он работал управляющим принадлежащими Вальзеггу гипсовыми мельницами в Шотвине или служащим в канцелярии венского адвоката Иоганна Зорчана, который был поверенным графа.
Каким образом случилось, что в жизнь Моцарта вторгся Вальзегг со своим заказом заупокойной мессы по умершей жене? Ведь другие контакты Вольфганга Амадея с графом неизвестны. И, однако, обращение Вальзегга к Моцарту было не случайным. Тот же М. Пухберг, на протяжении длительного времени оказывавший материальную помощь Моцарту, жил в венском доме Вальзегга. Можно даже предположить, что имя заказчика не было секретом и для Моцарта.
Существовала и вторая параллельная цепочка, соединявшая Моцарта с Вальзеггом через Дейма-Мюллера и Лайтгеба. Для владельца своеобразной кунсткамеры или собрания восковых фигур Моцарт создал несколько произведений для механических органов в 1790 и 1791 году. Дейм занимался также изготовлением копий с классических скульптур, и для этого ему нужен был гипс. Так он оказался связанным с тем же Лайтгебом и через него с Вальзеггом.
К этим фактам авторы подходят, как говорится, «по-человечески», они заявляют следующее:
«При благожелательном отношении Пухберга к Моцарту не было бы удивительным, если бы он, зная о финансовых затруднениях Моцарта и желая поддержать его, лично или через Лайтгеба обратил на композитора внимание графа или прямо рекомендовал его в качестве автора нужного тому произведения. Дейм, конечно, тоже знал о материальных затруднениях Моцарта и также мог рекомендовать его в качестве возможного автора Реквиема».
Правда, в конце своих предположений авторы оговариваются: нет никаких документальных подтверждений этому, однако такое допущение правомерно.
Попробуем открыть перечень сочинений, составленный самим Моцартом и доступный теперь исследователям в факсимильном издании. И что же? Мы не найдем там никаких упоминаний о Реквиеме. Это уже достаточно странно, поскольку Моцарт, как правило, вносил в него и неготовые сочинения.
Согласно текстам книг, переданных мне Сильвией Кернер, порядок следования последних произведений композитора был, мягко говоря, иным. По окончании «Волшебной флейты» (июль-сентябрь 1791 года) Моцарт никак не мог с «рвением», как утверждает биограф Моцарта и второй муж Констанции Георг Ниссен, приняться за работу над заупокойной мессой, так как следующая запись в перечне, сделанная вслед за увертюрой и Маршем жрецов к упомянутой опере, касается оперы «La Clemenza di Tito» — (K.621). Далее идет Концерт для кларнета ля мажор (К.622), написанный 7 октября 1791 года. За этим следует небольшая масонская кантата «Laut verkunde unsre Freude»[15] — (K.623), написанная 15 ноября 1791 года для освящения Второго храма ложи «Вновь венчанная надежда» и продирижированная композитором 18 ноября 1791 года. Объем ее — 18 листов, а на 18-й день после освящения, 5 декабря Моцарт умирает.
Последняя рукопись Моцарта (К.623), недоступная простым смертным, хранится в архиве Общества друзей музыки в Вене. Моцарт, член ложи с 1784 года и, как известно, совсем не ординарного ранга, за свою короткую жизнь написал несколько масонских сочинений, и прежний храм его материнской ложи «Вновь увенчанная надежда» располагался на втором этаже венского дома барона Мозера по Лангекронгассе.
В масонских кругах не Реквием, а именно кантата «Laut verktinde unsre Freude» («Громко восславим нашу радость») считалась последним сочинением Моцарта. И для этого есть весомые основания. Ибо, в отличие от Реквиема, партитура этой кантаты Моцартом полностью закончена, пронумерована и собственноручно внесена в его собственный список сочинений под таким титулом:
«Вена, 15 ноября 1791 года.
Маленькая масонская кантата (К. 623).
Включает 1 хор, 1 арию, 2 речитатива и дуэт, тенор и бас, 2 скрипки, альт, бас, 1 флейту, 2 гобоя и 2 валторны».
Справа вверху начала партитуры рукой Моцарта помечено: «В.А. Моцарт 15 ноября 791». На последней странице, после указания о повторении первой части, следуют три такта «Coda»; затем стоит «Fine».
Уже 25 января 1792 года императорский и королевский придворный владелец типографии Иосиф Храшански, который и издал кантату, поместил о ней в «Венской газете» следующее сообщение:
«Чувство уважения и благодарности к покойному Моцарту побудило филантропическое общество известить об издании сочинения сего великого художника в пользу нуждающейся вдовы и сирот оного, сочинение, кое справедливо может быть названо его «лебединой песнью», написанной с присущим ему искусством и исполненной им в кругу лучших друзей под собственным управлением за два дня до последней болезни. Это кантата на посвящение масонской ложи в Вене, слова коей есть труд одного из членов упомянутой ложи».
Как и либретто «Волшебной флейты», текст кантаты принадлежит Эммануэлю Шиканедеру.
В классической литературе о Моцарте сведения об этой кантате были довольно скудны и неопределенны. В 1798 году биограф Моцарта Франц Немечек писал: «Его состояние в самом деле улучшилось, и это позволило написать ему маленькую кантату, заказанную неким обществом по случаю торжества. Ее хорошее исполнение и большой успех, с коим она была принята, вновь воодушевили его».
После краткого, прерванного небольшим соло хора, звучат речитатив и ария тенора, затем речитатив для тенора и баса, переходящий в дуэт, после чего повторяется первый хор. В качестве примера приведем текст первого речитатива:
«Впервые, благородные братия, приемлет нас сие новое пристанище мудрости и добродетели. Мы освящаем сие место для святости нашей работы, которая отомкнет нам великую тайну. Сладостно чувство масона в столь светлый день, который внове и тесней сплотит братскую цепь; сладостна мысль, что ныне человеколюбие вновь поселится среди людей; сладостно воспоминание об очаге, где сердце каждого брата целиком вещает ему, что он был, и что он есть, и что он будет, где пример наставляет его, где братская любовь печется о нем и где в тихом сиянии восседает на троне всех добродетелей святейшая, первейшая, всех добродетелей царица — благотворительность».
В предисловии к факсимильному изданию Реквиема Шнерих в 1913 году высказывает мнение, что кантата КУ 623 была создана в два приема, то есть перед, и после пражского путешествия 1791 года, когда Леопольд II принимал корону Чехии, а Моцарт исполнял своего «Titus». Шнерих исходит при этом из того, что при записи кантаты была использована бумага двух разных сортов: в первой части автографа водяной знак — звезда, во второй — полумесяц. То есть вполне возможно, что Моцарт прервал свою работу, а позже продолжил ее. Что кантата по времени непосредственно примыкает к «Волшебной флейте», над которой Моцарт работал в мае, июне и июле 1791 года, доказывает уже то обстоятельство, что некоторые места из большой разговорной сцены этой оперы (1/15) всплывают в первом речитативе кантаты; даже ноты на словах «Где она, которой он лишил нас? Памина, может, ее уже принесли в жертву?» почти точно повторяются в оркестровом сопровождении.
В связи с этим замечательно то, что не Реквием, а именно эта кантата в специальной масонской литературе названа его «лебединой песнью», которую «он с присущим ему искусством сочинил и в кругу лучших друзей сам продирижировал ее первым исполнением за два дня до своей роковой болезни».
Перерывая бумаги умершего композитора, его жена Констанция и ученик Моцарта Зюсмайр наткнулись на нотные листки. «Что это?» — удивился Франц Ксавер.
Потом оказалось, что эти фрагменты к заупокойной мессе были написаны и не окончены в 1784 году. И потому Моцарт никогда не слышал исполнения этого неоконченного произведения, найденного у него в документах после смерти. Об этом же Констанция говорила другим лицам, как, например, аббату Максимилиану Штадлеру.
Попытка Констанции склонить капельмейстера Иосифа Эйблера к доработке этого сочинения потерпела неудачу, тогда Франц Зюсмайр, секретарь и ученик Моцарта, друг Констанции, заявил о готовности взять на себя такой риск.
Уже одно это противоречит утверждению, будто Зюсмайр в качестве «поверенного» Моцарта у одра смерти был самым тщательным образом проконсультирован композитором по всем вопросам дальнейшего завершения сочинения. Во-первых, он был другом Сальери, во-вторых, — «постоянным провожатым» жены Моцарта Констанцы во время ее лечения в Бадене летом 1791 года, и письма Моцарта так и пестрят ядовитыми замечаниями по отношению к человеку, обоими именами которого — Франц Ксавер — был назван его младший сын, родившийся в июле того же года.
Сначала все это не очень бросалось в глаза, поскольку сам Зюсмайр был очень скуп на слова, и, таким образом, «все сочинение было истинно моцартовским». Настоящий спор вокруг Реквиема разгорелся после выступления теоретика музыки из Майнца Г. Вебера, который в 11-м номере журнала «Cacilia» (Verlag В. Schott’s Sohne, Mainz) за 1825 год начисто опроверг его подлинность. На это его натолкнули серьезные расхождения в оригиналах. Но, кроме своих соображений он, видимо, обладал достаточно точными документами, переданными его другом, оффенбахским издателем А. Андре, который приобрел у вдовы большую часть музыкального наследия Моцарта.
Г. Вебер выступил против подлинности уже потому, что в основу вступления к Реквиему положена тема из кантаты Генделя — на погребение королевы Шарлотты, — транспонированная из соль минора в ре минор, а двойная фуга «Kyrie» представляет собой обработку Генделевой же фуги из оратории «Иосиф» (транспонированной в другую тональность). А вопрос об оригинале вообще захлебнулся, увязнув в джунглях обработок, копий, продолжений и противоречий.
Получается, что Моцарт достал старый опус и по желанию заказчика переделал его в заупокойную мессу для частного лица — и все это задолго до своей смерти. Это согласуется и с письмом пештского адвоката Й. Крюхтена Г. Веберу от 3 января 1826 года, где говорится, что после смерти графини Вальзегг (январь 1791 года)«был заказан, получен и исполнен Реквием. В сентябре же 1791 года, то есть уже после нашего Реквиема, о котором столько споров, Моцарт находился в Праге на коронации императора Леопольда II».
Поразительно, но граф Вальзегг, который якобы из тщеславия выдал Реквием за собственное сочинение, по своей инициативе нарушил молчание, о чем и сообщила Констанца в письме издательству Брайткопф и Гертель от 30 января 1800 года. Вальзегг сам же дал разрешение на публичные исполнения Реквиема, например — 14 декабря 1793 года, при этом он прозвучал не как «Requiem composto del Conte Walsegg», о чем так настойчиво твердили раньше, а как произведение великого композитора Моцарта! Отсюда следует: сочинение, о котором мы ведем сейчас речь, было исполнено в сентябре 1791 года, то есть за три месяца до смерти Моцарта!
Английский музыковед Блюме в журнале «The Musical Quarterly» (Лондон, апрель 1961 года) возмущенно восклицает:
«Зайти так далеко, как Андре и Кернер, это значит обвинить в чудовищном обмане всех потомков, начиная с современников Моцарта — Констанции, Эйблера и Зюсмайра, и Кернер не боится этого». По поводу подобного высказывания, повторенного затем и в «Syntagma musicologicum» (Barenreiter/Kassel, 1963), можно только ответить: да, именно так!
Итак, подведем итог этой беглой дискуссии:
Вплоть до наших дней Реквием остается, видимо, величайшей мистификацией в истории мировой культуры. То, что Моцарт счел незрелым для публикации, то, что он «из-под полы» продал частному лицу задолго до своей смерти и о чем впоследствии старался не распространяться, было теперь возведено в summum opus summi viri (великий опус великого человека — лат.)! Как, разве Немечек и Ниссен не упоминали в связи с отравлением Моцарта о «Реквиеме»? Но раз слово это прозвучало, то первым, кто мог его произнести, уж, конечно же, был сам Моцарт! Такой шанс упускать было нельзя.
И что же дальше?.. Берем листы давнишнего, порядком забытого уже опуса, раскладываем их на все стороны света, поручаем кому-нибудь с похожим почерком сделать пару изменений и дополнений, затем плодим копии и дубликаты. и вот «последнее сочинение», от которого у слушателей по спине пробегают мурашки благоговения, готово! Ничего не изменит здесь и росчерк «di me W. A. Mozart 792» вверху рядом с названием; он напоминает манеру росчерка молодого мастера, но год явно проставлен после смерти. Ибо эта будто бы собственноручная датировка Моцарта опровергается уже его датой смерти. И словно по мановению волшебной палочки сочинение было сотворено. Смертельная болезнь — предупреждение о смерти — погребальная музыка: какая сладостная наживка для просвещенных дилетантов.
Моцарт умер рано — следовательно, должна быть и заупокойная месса — ведь «смертельно больной» Моцарт пророчески предвидел свой «преждевременный» конец. Только с Реквиемом убийство Моцарта стало «законченным». Толкование этих печальных источников по обрывкам, запискам и «автографам» сразу было делом безнадежным. Мистика, ложь, страх перед разоблачением и — сделка с совестью: вот четыре источника, давших общий знаменатель — Реквием. Да, если б еще хоть какое-нибудь упоминание о нем в Каталоге сочинений. тогда уж ликование было бы безграничным. Но, к сожалению, дальше — одно молчание.
То, что Реквием в своем начале написан — вот только когда! — Моцартом, спору нет. Но его отношение к «последнему репертуару» композитора таково же, как отношение Атлантиды к географии сегодняшнего дня!
Вещественные доказательства
«Слышите, грохочут Оры!
Только духам слышать впору,
Как гремят ворот затворы
Пред новорожденным днем.
Феба четверня рванула,
Свет приносит столько гула!
Уши оглушает гром,
Слепнет глаз, дрожат ресницы.
Шумно катит колесница,
Смертным шум тот незнаком.
Бойтесь этих звуков. Бойтесь,
Не застали б вас врасплох.
Чтобы не оглохнуть, скройтесь
Внутрь цветов, под камни, мох».
Гете, 2-я часть «Фауста»В элегантную буржуазную Вену я прилетел из Франкфурта-на-Майне в полдень. Тут обошлось без сюрпризов — все шло по плану.
Я сразу же отправился в известное заведение «Cafe Landtmann», расположенное рядом с Бургтеатром и Венской ратушей. Здесь, как я знал, собираются политики, театралы, бизнесмены, артисты.
У кельнера я спросил:
— Entschuldigen Sie, bitte, zeigen Sie mir den kleinen Tisch und die Stelle, wo der Sägen des Kaffees Wolfgang Mozart (Извините, пожалуйста, покажите мне стол и место в кафе, где пил кофе сам Вольфганг Моцарт).
— Ist hier, — указал кельнер столик у окна. — Setzen Sie sich, bitte hin. Sie werden jetzt bedienen (Это здесь. Садитесь, пожалуйста. Вас сейчас обслужат).
Я присел за столик, за которым, согласно легенде, неоднократно сиживал великий маэстро. И сразу же набрал указанный Надеждой номер по мобильнику.
— Аmadeus? — спросил я.
На другом конце ответили ожидаемой фразой:
— Nein, das ist «Сяйе Landtmann» (Нет, это кафе Ландтманн).
— Entschuldigen Sie, (Извините, пожалуйста) — извинился я и снял вызов.
Все это время кельнер был где-то занят, и это было мне на руку.
Не прошло и пяти минут после моего звонка, как кто-то легко коснулся моего плеча. Это было так неожиданно, что я непроизвольно вздрогнул и обернулся. Позади меня стояла девушка в синих джинсах и белой футболке. Короткая стрижка пепельных волос делала ее похожей на юношу. У нее был рюкзак с плюшевой игрушкой. Она улыбалась.
Мне показалось, что ее лицо я где-то видел, но где? И не мог вспомнить.
— Добрый день, — сказала она с саксонским диалектом.
— Добрый, — отозвался я.
— У тебя все в порядке?
— Да.
— Мы рады, что ты, наконец-то, появился здесь, в Вене. Мы очень долго ждали тебя.
— Может, выпьем кофе?
— Ах, да!.. — спохватилась девушка и назвала себя: — Эрика, Вебер, а ты. Вы Макс, я знаю.
Я протянул роскошное меню Эрике, но та махнула рукой и сказала подошедшему кельнеру:
— Wiener Eiskaffee, — как потом оказалось, это был высокий стакан, наполовину заполненный ванильным мороженым, наполовину холодным крепким черным кофе.
Эрика полуобернулась ко мне:
— Я вам порекомендую чашечку кофе с такими излюбленными венскими лакомствами, как Apfelstrudel — яблочный штрудель или Himbeer-Topfen-Torte — торт из творога с корицей.
Я кивнул и добавил:
— Мне чашку кофе и Himbeer-Topfen-Torte — торт из творога с корицей.
Фирменный венский напиток оказался и на самом деле божественным. Пока я с нескрываемой жадностью сделал несколько глотков терпкого кофе, Эрика стала рассказывать про историю кофейни. «Cafe Landtmann» было открыто 125 лет назад Францем Ландтманом и переходило во владение различных собственников, последними из них стала династия
Кверфельд, которая смогла сохранить до настоящего времени кафе в его первозданном виде и в традиционной венской атмосфере.
Побывать в Вене и не посетить это кафе, — значит, лишить себя многого и, в частности, — перенестись в атмосферу очаровательного города, сохранявшего веками свои неувядаемые обычаи.
Традиции Венских кофеен, зарекомендовавшие себя во всем мире, восходят к 1683 году, когда после второй осады австрийской столицы турками было открыто Георгом Колшитским кафе в маленьком переулке за собором Святого Стефана.
Согласно легенде, Георг Колшитский был посыльным времен турецкой осады Вены, он курсировал с поручениями во вражеский стан. После разгрома венцами войска Великого визиря Кары Мустафы среди трофеев, оставленных турками, Колшитский обнаружил зерна кофе.
С этого времени и начинается распространение в Австрии и в Европе ароматного напитка и культа кофепития.
После Колшитского кафе, предлагающие венцам, полюбившим ароматический напиток, росли как грибы, и кайзер Леопольд I с 1697 по 1700 год выдал большое количество лицензий.
В «Cafe Landtmann» снимались многие эпизоды кино и видеофильмов, таких как, например, американский триллер «Scorpio» с Аленом Делоном, телефильм о Вене с американским писателем и артистом русского происхождения Питером Устиновым, немецкий кинофильм «Отец и сын».
В течение всей своей истории венские кафе стали не только местом приятного времяпрепровождения, но и приобрели культурное значение.
Австрийский писатель Ганс Вейгель писал в одном эссе о различии слов кафе и кофе:
«Второе слово означает только напиток, а первое — стиль жизни, которому принадлежат соответствующий тон, атмосфера кофепития и выбор напитка».
От Эрики я узнал, что кофейня пользовалась известностью в Австрии и за рубежом. Мы не отказали себе в удовольствии, чтобы полистать книгу почетных посетителей «Cafe Landtmann», которую принес кельнер. Моя визави, сноровисто порывшись в этом фолианте, грациозно ткнула мизинцем в автографы побывавших тут знаменитостей: известного тенора 50-х годов Яна Кипура, композитора Имре Кальмана, английской кинозвезды Вивьен Ли, австрийского комика Ганса Мозера, немецкой актрисы Марлен Дитрих и Роми Шнайдер, писателя Арнольда Цвейга, видных политиков — таких, как Карл Реннер, Теодор Кернер, Адольф Шэрф, канцлер Вилли Брандт, британский премьер-министр Эттли, королева Нидерландов Юлиана и жена президента США Хиллари Клинтон.
— Стоп! — вдруг спохватилась Эрика и, расшнуровала свой минирюкзак, всучила мне сверток. — Это тебе пригодится, я знаю.
И, заглянув в мое недоуменное лицо, она как-то непосредственно рассмеялась и добавила:
— Тебе нужно быть по этому адресу: Домгассе № 2. — Эрика ткнула пальцем в листок и добавила: — Оттуда позвони по мобильнику и за тобой заедут.
— Я сделаю как надо, — пообещал я девушке, забирая от нее увесистый предмет.
— Ну и хорошо.
Она поспешно встала, подошла ближе и, прикоснувшись ко мне шелковистой, как крылья бабочки щекой, повернулась и ушла.
Мне не пришло даже в голову спрашивать у Эрики, каким образом она знакома с Надеждой и, наверное, с Верой Лурье; по каким каналам они узнали, что я — здесь, в Вене, откуда взяла этот сверток с документами, почему передала этот манускрипт в популярной кофейне, недалеко от храма св. Стефана. Все это было пустое.
Кажется, впервые в жизни я был спокоен, поскольку знал, что на все эти вопросы не будет и не может быть однозначных ответов. Истинные ответы зависели от моего понимания сложного взаимодействия неких сообществ людей из разных стран, связанных друг с другом общей идеей под именем Моцарт, и о существовании которых я даже не догадывался до встречи с Верой Лурье. Тут смешалось все в пестром национальном котле: от русских эмигрантов первой волны, казачьих офицеров Кубанского и Донского Войск, известного ученого-генетика, немецких исследователей-музыковедов и так далее. Причем, как я понял, неадекватность поведения, иная ментальность этих сфер, окончательно спутывала мои прогнозы или стратегию поведения на будущее. И если я когда-нибудь узнаю однозначные ответы, то эти вопросы тут же лишатся всякого настоящего, земного смысла.
Мне долго не удавалось найти нужный номер дома на Домгассе, пока, наконец, сухонький старичок, похожий на русского интеллигента-гуманитария, не указал на трехэтажное здание и с важностью прокомментировал: «Здесь Моцарт создавал великую оперу «Свадьба Фигаро».
Я набрал необходимые цифры по мобильнику, послышался ответный вызов, который тут же оборвался; прозвучал отбой. Пока я пытался соединиться с абонентом вновь, откуда-то вынырнул черный джип марки «Мерседес» и тормознул рядом, дверца открылась, ловкие руки внесли меня в темноватый салон; на глаза тут же одели повязку.
Джип с легким визгом сорвался с места; и мы покатили в неизвестном направлении.
Кажется, прошло минут 30 или 40 — трудно сказать, когда, наконец, мы плавно въехали куда-то, и машина остановилась.
Повязку с моих глаз тотчас сдернули. Осмотревшись, я ахнул: я находился в роскошной зале, исполненной зеркальным паркетом и выкрашенной в салатно-золотистые тона. С верхотуры сферического потолка, расписанного библейскими сюжетами, свисали феерические люстры с хрустальными гирляндами и свечами в легких подсвечниках. Величественность увиденного дополняли лаконичные пилястры с изящными канделябрами и небольшие, парадно расписанные золотыми квадратами, двери вкупе с ажурной решеткой анфилад второго этажа. Скорее всего, это был старинный замок, разумеется, не «Нойшванштайн», знаменитое владение короля Людвига II Баварского — но нечто из того же ряда.
Я понял, что мне предоставлена возможность осмотреть это средневековое чудо. Какое великолепие открылось перед моим ясным взором! То передо мной шла череда небольших гостиных, обтянутых китайскими шелками, вытканными изображениями фантастических птиц. Впечатляли фарфоровые и зеркальные комнаты, будуары со стенами бледно-зеленого цвета, украшенными золотыми орнаментами, мозаикой из разноцветного искусственного мрамора, изображавшей листву каких-то экзотических деревьев, рисунками в виде перьев. Меж причудливых арабесок, украшавших потолки, резвились серебряные обезьяны. Здесь было собрано все самое прекрасное, самое изящное, созданное гением рококо, все то, что могла придумать самая изощренная фантазия для услады глаз и ума, для покорения сердец и пробуждения самых высоких чувств.
Из окон был виден роскошный парк правильной английской планировки, с перспективой, открывавшейся в конце бесконечных аллей, протянувшихся между сплошными зелеными стенами из подстриженных на испанский манер деревьев. В этих рукотворных лесных кущах угадывались нескончаемые рощицы с фонтанами и статуями, в которых можно было запросто заблудиться.
По наитию я понял, что мне нужно было пройти через анфиладу комнат, но не сразу вошел туда. Нутром чуял, что стоит подождать. Это был мой последний шанс: собрать воедино части головоломки — волшебной музыки Вольфганга Моцарта, навязчивые видения доктора Николауса Клоссета, музыковеда Гвидо Адлера, рукописи графини Веры Лурье, тайные эзотерические общества, посланцев в сером, мои собственные странные выходки, секретный зал «Х» и все остальное. Я не хотел спешить. По крайней мере, не сейчас.
Согласно преданию, в одном из 80 помещений знаменитого здания на Кольмаркт — владения графа Дейм-Мюллера, доступ в которые имел не всякий, существовал особый кабинет грации, где была выставлена посмертная маска Моцарта. И я убедился, что на самом деле это не голословное утверждение, поскольку я неожиданно оказался в кабинете грации. Так значит, коллекция работ графа Дейм-Мюллера сохранена, но в частных руках. Вопрос — в чьих? — был, разумеется, чисто риторическим.
Но я вовремя опомнился, осознав, для чего я тут и какова моя миссия. И отправился искать помещение или, точнее, кабинет — все то, что было тесно увязано с именем Моцарта.
Работы графа Дейм-Мюллера оказались вживую еще прекрасней, нежели я мог себе представить, рассматривая репродукции в альбоме.
Я, будто во сне, переходил из зала в зал, из помещения в помещение, разглядывая миниатюрные головы, бронзовые фигуры, бюсты мифологических героев, чьи-то картины маслом, пастели. Все, что творил скульптор и художник Дейм-Мюллер, было здесь — от крохотной гипсовой миниатюры до копий античных статуй, которые он изготовил, будучи в
Неаполи по протекции королевы Каролины. Весь этот творческий симбиоз придавал скульптурам удивительную целостность — словно материя и дух слились воедино и на мгновение застыли между небом и землей. Ни старомодных изысков, ни авангардных эффектов. Со мной произошла своеобразная телепортация: будто я оказался в тех же залах, среди его работ в Вене конца XVIII века, куда он вернулся из-за границы в 1790 году. Теперь я понял воочию, что работы графа Дейм-Мюллера пользовались успехом, и заказов было хоть отбавляй.
Бродя по залам, обходя скульптуры, поднимаясь и спускаясь по лестницам, я везде искал Вольфганга Моцарта, но не видел и следа его: ни прекрасных бюстов Моцарта, не слышал его произведений. Не померещилось ли мне все это? А спокойствие, которое снизошло на меня ночью, а уверенность, что я, подобно одной из восхитительных скульптур графа Дейм-Мюллера, впервые в жизни обрел душевное равновесие и мир с самим собой? Неужели то была только химера, прощальная выходка усталого и помраченного рассудка?
Я обошел все залы и помещения этого громадного здания, все, кроме первого. Тут было все: экзотика Индии, Африки, Латинской Америки, Австралии, но не было Вольфганга Амадея Моцарта. Плотно закрыв за собой за собой дверь, я пересек комнату и направился в один из залов. Паркет был с глянцем, навощен и прилипал к ботинкам при каждом моем шаге. И здесь я не нашел того, что искал. И вдруг ноги сами повлекли меня влево по коридору, в райскую с позолотой ярко освещенную комнату. И, едва переступив порог, я оказался лицом к лицу с ним — с Моцартом. На меня смотрели много лиц страшно знакомых — со своих пьедесталов. Это был Вольфганг Моцарт.
Передо мной на столе лежал большой фолиант. Я принялся читать: это была книга, обнимавшая все творчество графа Дейм-Мюллера — с репродукциями картин, рисунков, фоторепродукций фигур, скульптур и лаконичным текстом. Граф Дейм-Мюллер долгие годы был одержим Вольфгангом Моцартом. А вот любопытное объявление из столичной газеты:
«Герр Мюллер извещает в «Венской газете», в 1791, № 66 (в приложении), что у него можно увидеть пышный мавзолей, устроенный для великого маршала Лаудона. При этом поражает изысканная траурная музыка композиции прославленного господина капельмейстера Моцарта, каковая совершенно подходит для сюжета, ради которого написана».
Само собой разумеется, что граф Дейм-Мюллер предвидел будущее значение Моцарта и сотрудничал с ним по всем возможным каналам.
Поначалу я принялся читать, но скоро прекратил изучение текстов и стал рассматривать цветные репродукции. В конце книги перечислялись скульптуры графа Дейм-Мюллера с датами создания и указанием местонахождения. В этом списке я насчитал пятнадцать работ, посвященные Моцарту. Первая была закончена в 1789 году, то есть герр Дейм-Мюллер в своем творчестве обратился к фигуре Моцарта, когда маэстро стал знаменитым. Последняя же работа, напрямую связанная с великим маэстро, была завершена в час и день смерти Вольфганга. Посмертной маской он поставил логическую точку в ряду прижизненных работ композитора.
На задней обложке тоже располагались фотографии работ скульптора. Некоторые из них были уменьшенными копиями снимков, помещенных в книге, другие я видел впервые, но от этого они были не менее прекрасны. Какое чудо, подумал я, что его работы дошли до нашего времени.
С особым тщанием я продолжил осматривать «Моцартовский раздел». И чем дольше я знакомился с экспонатами, тем более всего убеждался, что пребываю в своеобразной привилегированной галерее, включая и кабинет восковых фигур, которые 200 лет назад демонстрировались в Вене.
Ба! Я вздрогнул, натолкнувшись взглядом на легко узнаваемый силуэт мужчины в парике и камзоле. Но здесь было иное восприятие, не сравнимое с неожиданной встречей манекенов-моделей в салонах магазинов, когда пугаешься замены живого человека на его имитацию из пластмассы. Здесь было все иначе. Я обошел вокруг застывшей на миг фигуры великого композитора. Восковой Моцарт не пугал своей безжизненностью, а, наоборот — завораживал всем: от подлинности костюма до ауры, незримо присутствующей и создающей иллюзию. живого человека.
Не веря своим глазам, я даже тряхнул головой: «Неужто — это та самая подлинная скульптура!?».
Это был тот редкий момент истины, когда слова излишни и не надо что-то говорить, объяснять. Ложь Зюсмайра, лукавство Констанции, иезуитское коварство аббата Штадлера, а на этом фоне — правда художника графа Дейма-Мюллера; и такие реалии, как стародавнее прошлое, пресно-обыденное настоящее и технократическое будущее (по-голливудски) — все теперь казалось мизерабельным, лишилось смысла.
Здесь, в этой комнате, нас было только двое: я и он, Вольфганг Моцарт, которого я прежде даже не стремился узнать, а тем более познать, зато знал теперь лучше, чем самого себя. Передо мной был не тот лубочный отлакированный Моцарт — великий композитор, неузнаваемый под толстым слоем рекламного глянца сувениров и конфет, но возник истинный Вольфганг Амадей, Вольферль, — человек, во всех своих проявлениях, желаниях и мечтах.
Я вспомнил вопрос Веры Лурье:
«Вы захвачены Моцартом?»
Или по-немецки:
«Die Ergriffenheit in Mozart?» — вопрос, который я тогда так и не понял.
Теперь, если бы она была жива, я ответил бы:
«Да, Вера Лурье, я более чем захвачен!».
Герр Дейм-Мюллер, — а я был уверен в этом, — тоже был “захвачен Моцартом”, тоже оказался во власти его энергии, этого грозного, внушающего трепет величия. Эту маленькую комнату и ту, что за ней, заполонила небольшая империя под названием Вольфганг Амадей Моцарт: великий маэстро в разных ипостасях — глиняный, гипсовый, из воска, пастельный, акварельный — картины, а центром всего — его посмертная маска. Тут были сотни Моцартов. Вольфганг Амадей, чье лицо явилось мне в зеркале, которое я в страхе разбил вдребезги; Вольфганг Амадей, четко схваченный и понятый графом Дейм-Мюллером; Вольфганг Амадей — новатор, Вольфганг Амадей — мечтатель, Вольфганг Амадей — жертва, Вольфганг Амадей живой и мертвый.
Казалось, он посещал эти залы, был здесь.
Кто еще лучше знал Вольфганга, кроме как скульптор и художник герр Дейм-Мюллер или мои современники: Дитер и Сильвия Кернер, Вольфганг Риттер, Гунтер Карл-Хайнц Дуда и, наконец, поэтесса Вера Лурье?
У входа в следующую комнату стояло солидное кресло. Я присел. Отсюда были видны все «Моцарты» работы неутомимого графа Дейм-Мюллера, начиная с самого первого, изваянного еще при жизни маэстро — до посмертной маски, снятой в 1791 году — в день и час смерти композитора. Могучий дух Вольфганга всюду излучал свою сияющую ауру. Скульптуры, изваяния, рисунки — все это стало явью, когда герр Дейм-Мюллер уже был в преклонных годах.
Под каждой скульптурой значился год ее создания. Разглядывая их в хронологическом порядке, я ясно видел, как божественный огонь все ярче разгорался в душе Дейм-Мюллера и как сильный и отважный скульптор на глазах всех творил волшебство, сам преломляясь в этом божественном огне. Несколько лет трудился он над созданием образов Моцарта. Он перепробовал различный материал: камень, глину, бронзу, мольберт и кисть — и везде было видно, как проецировались зарницы его священного творческого огня. В экспозиции этой залы было все от великого Вольфганга Моцарта.
Тут стоял и знаменитый «механический орган с часами», который играл по заказу графа Дейм-Мюллера редкостные сочинения — Adagio и Allegro F-dur, которые были закончены Моцартом в декабре 1790 года, и по поводу чего он сообщил в письме от 3 октября Констанции:
«.Я тут же решил заняться Адажио для этого часовщика. так и поступил — но как не по душе мне эта работа, я так несчастен, что никак не могу ее закончить, — пишу целый день и бросаю от отчаяния. Если б не такой случай, конечно, я давно бы все бросил — но, уже через силу, все же пытаюсь работу как-то закончить.».
Вольфганг далее сообщает, как тяжело ему дается сочинение траурной музыки, заказанной графом Дейм-Мюллером для исполнения в его кабинете восковых фигур в память недавно почившего фельдмаршала Лаудона. И добавляет:
«Вот если бы это были большие часы, и аппарат звучал бы, как орган, тогда я радовался бы; а так инструмент состоит из одних маленьких дудочек, которые звучат высоко и для меня чересчур по-детски».
Но вот зазвучали первые аккорды — орган заработал по какому-то сигналу — и я обомлел, услышав музыку. Глубочайшие по чувству вступительные такты отражали тогдашнее душевное состояние Моцарта, которое сложно было выразить словами. Воистину его музыка — это молитва без слов.
Я подошел к небольшой конторке, под стеклом которой лежали чьи-то письма и кусочек картона с небольшой прядью светлых волос, чуть ниже было написано: «Волосы великого композитора Австрии и мира Вольфганга Моцарта». Табличка над письмами гласила: депеши из Брюнна от красивой и умной Марии Магдалены Хофдемель (в девичестве Покорной).
Я повернул голову направо — и онемел от радости: это было то, к чему я так стремился!.. Во своем блеске и великолепии под стеклянным колпаком лежала отлитая в бронзе посмертная маска Вольфганга Амадея Моцарта.
Подошел ближе, всмотрелся и увидел упокоенное лицо с мягкими, округлыми чертами того человека, на которого снизошла благодать Божья. Это была посмертная маска с лица великого Вольфганга Амадея Моцарта.
Я рассматривал металлическую отливку с посмертной гипсовой заготовки, которую герр Дейм-Мюллер снял с лица и отнес к себе в мастерскую на Плаццум-Шток-им-Айзен. И вот она — ее бронзовая копия, сделанная в мастерской известного венского мастера Таддеуса Риболы.
Я сидел в кресле, с рукописью на коленях. Уже одно то, что я находился среди бесчисленных изображений композитора, среди ликов человека, которого давным-давно нет на свете, но которого — странное дело! — я знал лучше, чем кого бы то ни было из живых.
Наконец, я утомился чтением и разглядыванием страниц фолианта. Встал из-за стола. Но прежде чем уйти, мне захотелось прикоснуться к посмертной маске Вольфганга. Я подошел к ней. Огромная бронзовая отливка; пряди волос отброшены с высокого лба; закрытые глаза, чуть полуоткрытый рот, полноватые губы, крупный нос. Просветленное выражение лица, эта воплотившаяся в образе музыка, юность облика и, самое главное, следы острой почечной недостаточности, сопровождаемой сильным отеком лица, — вот абсолютные доказательства подлинности Моцартовой маски. Впечатление усиливает отчетливо видимая и значительная выпуклость лица, особенно в области носа и щек, а также век. Но Моцарт-то умер от острой токсикозной почечной недостаточности, то есть смерть сопровождалась сильными движениями мышц лица, что подтверждают и источники того времени.
Я потрогал руками посмертную маску: металл был шершавым и холодным. Потом обошел экспонат с другой стороны и в последний раз остановился перед ним. Мне хотелось еще раз взглянуть в это спокойное лицо. Долго-долго смотрел, и вдруг маска стала оживать, заговорила со мной. Не помню, сколько прошло времени, пока я находился в бреду. Я очнулся и прошагал несколько метров по кунсткамере Дейма-Мюллера, остановился, ища выход.
Наконец, я выбрался из Моцартовой комнаты-музея в прихожую с памятным свертком под мышкой и с письмами в руке. Меня встретил любезный молодой человек. Он проводил меня во двор и жестом руки предложил прогуляться по воздуху, посмотреть окрестности замка.
Я кивнул и не пожалел об этом. Можно было диву даваться искусственным руинам, называвшимися «развалинами Карфагена», на ощупь я пробрался по лабиринту и полюбовался набором каменных нагромождений, вызвавших некое представление о Древнем Египте, отзвуки которого пропитана музыка в «Волшебной флейте». Я то и дело задерживался в искусственных пещерах между пугающими фантастическими нагромождениями скал, с интересом рассматривал сверкающие камни, атлантов с ониксовыми и малахитовыми глазами, таинственные источники с невидимыми шумными водопадами, гул которых был слышен за каменной стеной, испещренной фрагментами каменного угля, конкрециями кальцита, ляписа и агата.
Гроты всегда обладали для Моцарта каким-то особым очарованием. Ребенком он восхищался гротами Шенбрунна, позднее опишет до того ошеломившие его гроты парка графа Кобенцля, что, став масоном — «вольным каменщиком», он задумал в свою очередь основать собственное (eigene) тайное общество, а назвать собрался «Die Grotte». Насколько при этом привлекали его (Моцарта) творческую фантазию таинственные церемонии ордена, сейчас уже невозможно установить; важным, однако, представляется то, что он подготовил устав «Грота».
27 ноября 1799 года и 21 июля 1800 года Констанция сообщала лейпцигскому издательству об этом проекте своего мужа, касавшемуся учреждения этого общества, указав на то, что его доверенным лицом в этом деле был аббат Штадлер, который будто бы при тогдашних неблагоприятных для масонства обстоятельствах опасался за свое сообщничество. Сам Максимилиан Штадлер относился к числу членов ордена, не внушающих доверия. В письме от
21 июля 1800 года Констанция писала: «Настоящим я одалживаю Вам для использования в биографии (Моцарта) некоего сочинения, по большей части в рукописи, моего мужа об ордене или обществе, называемом Grotta, которое он хотел организовать. Я не могу дать других разъяснений. Здешний придворный кларнетист Штадлер старший (Антон Пауль), написавший остальное, мог бы сделать сие, но он опасается признать, что знает об этом, ибо ордена и тайные общества так сильно ненавистны. Да и события «Волшебной флейты» развертываются в мрачных, похожих на пещеры приделах египетского храма, в котором властвует Зарастро.»
Но вот экскурсия, похожая на некий тайный ритуал, закончилась. На меня надели повязку, посадили в машину и отвезли обратно в Вену, высадив возле собора св. Стефана, где в капелле Распятия отпевали Моцарта.
Солнце стояло высоко, на бледно-голубом небе не было ни облачка. Я не знал, конечно, о чем говорится в письмах, но у меня не было ни малейших сомнений в том, что они приведут меня к Марии Магдалене Хофдемель. Она — последнее связующее звено, ключ к решению головоломки.
Я уже знал, кто такие вольные каменщики — масоны, иллюминаты. Может быть, они, как и их современные двойники, которые ведут себя словно прыщавые подростки, мастурбирующие в укромных местечках, просто корыстные особы с манией величия, запутавшиеся в паутине собственных интриг и махинаций. Но вдруг, как говорит литератор из американского Квинса Григорий Климов, они, сами того не зная, продали душу неким зловещим силам, которые питаются их кровью, а взамен наделяют их властью, позволяющей эксплуатировать человеческую жизнь и разворовывать ресурсы планеты. Может, письма расскажут мне правду?
После встречи с Верой Лурье я понял: неважно, во что ты веришь. Всякая вера есть лишь попытка объяснить жизнь. А объяснить ее — все равно, что объяснить, почему, слушая струнные квартеты Вольфганга, смеешься и плачешь одновременно.
Моцарт вошел в мою жизнь в день знакомства с графиней и баронессой Верой Лурье. Со всей своей божественной силой, своим незримым присутствием. Эта же неизбывная сила и мощь, но в иных формах и пропорциях, есть в каждом из нас. Моцарт, точно небожитель или, скорее, посланец из другого мира, устилал свой путь терниями и писал восхитительную неземную музыку. В музыке Моцарта — животворное пламя его гениального духа. Эта империя души Моцарта будет трудиться как вечный двигатель, перпетуум-мобиле, рождая гениальную музыку, сжигая дотла все суетное и иллюзорное. И в этом не будет никакой пощады серости и высокомерному снобизму. Останется только акт рождения музыки — мучительный и восхитительный процесс, который имеет на выходе однозначный ответ: вот гениальное, а вот — бездарность, и пошлость, рядящаяся в чужие перья.
Давным-давно, глядя поверх крутобоких полей и рощиц Средне-Русской возвышенности, накрытой небесным шатром, я твердо решил, что моя жизнь должна быть посвящена борьбе за истину, честь и свободу.
Вся беда в том, что я принял за поле боевых действий учебное пособие из папье-маше. Уже скоро я перестал верить рекламным объявлениям политиков, зазывно оравших с импровизированных трибун Белого дома в 1991 году: «Свобода, свобода!» Что это за свобода, и от кого? Теперь, благодаря Вольфгангу Моцарту, доктору Клоссету, Гвидо Адлеру, Борису Асафьеву, Игорю Бэлзе, Вере Лурье, Дитеру Кернеру, Гунтеру Дуде и моим размышлениям обо всем, я твердо уразумел, что свобода — выдумка политиков, свобода для дураков или пациентов из «психушки». Истинную свободу обретешь только в себе самом, осознав, кто ты на самом деле. Об этом мечтали многие гуманисты прошлого. Ибо им самим доставало смелости идти на баррикады, бороться с тиранией и не принимать всерьез иллюзию свободы. Пламя, зажженное музыкой Моцарта, пылает и по сей день ярким волшебным огнем истинной красоты и свободы. Нам только нужно иметь мужество поддерживать его и передавать дальше.
Теперь я твердо знал, как поступлю. Передо мной стояли простые, до боли прозаические задачи: прибрать пыльную и захламленную квартиру в Москве, вернуть книги из библиотек. Встретиться с девушкой, закрутить с ней роман, жениться и завести детей. А почему бы и нет? У меня в сердце оставалась страна под гордым именем Россия, в которой мне предстояло жить, чтобы жить. Честно говоря, я не ведал, что ждет меня в будущем, и не хотел ничего об этом знать. Всему свое время.
А теперь пора домой. Впереди меня ждала самая загадочная и последняя рукопись, которую мне передали в Вене.
Cherchez la femme[16]
«Так как писать умели главным образом мужчины, все несчастья на свете были приписаны женщинам».
Сэмюэль Джонсон, английский писатель.«Брюнн, 5 декабря 1796 года.
Дорогой герр Дейм-Мюллер!
Спешу довести до Вас мое восхищение Вашими работами, особенно теми, что касаются великого маэстро Вольфганга Моцарта. Пишу Вам в пятилетний юбилей памяти великого маэстро.
Я имела честь побывать в одном из многочисленных залов, доступ в которые имел не всякий. Потряс меня, конечно же, Ваш кабинет грации, где господствовала посмертная маска Моцарта. Это не голословное утверждение. Я узнала многое про вас: Вы, господин Иосиф Мюллер (или как Вы себя называете: граф Дейм-Мюллер), великий художник и привлекаете к своей личности громадное внимание, как и Ваши произведения искусства. Вы сумели за короткое время в свои далеко не молодые годы стать непревзойденным мастером своего дела. Многие состоятельные люди позволяют Вам даже при жизни ваять себя в гипсе или воске. Причем, цены, как я знаю, у Вас всегда были предельно высокие. А это свидетельствует о том, что Вы — законодатель мод.
Ваш Моцарт живее живого — эта грация посланца из иного мира, в любой момент готового с легкостью воспарить в бездонное небо. А это безудержное веселье гения! Именно такого Вольфганга я запомнила, когда он давал мне уроки игры на клавире.
Вам, герр Дейм-Мюллер, достало мудрости избежать прикрас и надуманности образа горячо любимого мной Моцарта. Мне в достатке удалось насмотреться на произведения многих художников, которые делали прижизненные портреты композитора, а также после его смерти. Многие, чтобы стяжать деньги или славу. Вы не таковы.
Ваша восковая скульптура Моцарта — бесценный подарок, который мне распорядилось доставить некое влиятельное лицо. По его словам, когда он попал в Вашу мастерскую и увидел этот шедевр, то тут же решил купить фигуру Моцарта для меня: сколько бы денег это ни стоило, чтобы я могла насладиться истинным искусством — мне кажется, я заслужила этого. Вот почему, я безмерно благодарна ему, равно как и Вам, за доброту и за все хлопоты, связанные с пересылкой такого хрупкого и дорогого предмета.
Теперь эта скульптура стоит в моей комнате, в специальной нише. При любых переменах освещения меняется и выражение лица Вольфганга.
Каждый день я часами любуюсь им. Мне приходится редко выходить из дому. Вы, конечно же, догадываетесь, почему. Меня навещают друзья раз в две недели и рассказывают венские новости. Вы можете быть покойны: Ваше произведение никто, кроме меня и доверенных лиц, не видит.
Мне сказали, что это первая Ваша скульптура Моцарта. И стоило большого труда убедить Вас расстаться с нею. Неудивительно — она так прекрасна! И, герр Дейм-Мюллер, эта восковая фигура ни в коем случае не будет последней в Вашем творчестве — так, мне кажется, Моцарт велик и ему есть, что сказать Вам. Мне говорили, что Гете высоко отзывался о Ваших работах, он знает, что Вы околдованы нашим Моцартом. Великий Гете так горевал, что Моцарт не успел написать музыки для его «Фауста» и создать еще один шедевр.
Мне рассказывали, что, когда Вы говорите о великом маэстро, в Ваших глазах зажигается страсть художника. Не Вы первый, герр Дейм-Мюллер. Те из нас, кто действительно знал Моцарта, всегда ощущали в себе его присутствие. Многие ошибались в нем, принимая его человеческую оболочку за его внутреннюю сущность, не замечая его подлинную духовность и музыкальный гений. Но это удел слепцов. Глядя на Ваше творение из воска, я, ни секунды не колеблясь, могу утверждать: Вы знали неземной внутренний мир небожителя по имени Моцарт.
Что означало для Вас это знание — благословение или проклятье, — сказать не могу. За свою жизнь я часто с удивлением обнаруживала то, что когда-то казалось «благословением», приносило несравненно меньше радости, чем-то, что называлось «проклятием», и, в конечном счете, мало что значило.
Мне всего двадцать девять лет, а такое ощущение, что я прожила очень долгую жизнь, герр Дейм-Мюллер, гораздо более долгую, чем могла подумать. Но я всегда страстно хотела жить.
Мы с Вами едины в одном: если меня переполняла жажда жизни, то Вас, как и Вольфганга, — жажда обнаженного творчества. У некоторых эта страсть врожденная. Хвастаться тут нечем.
Мои чистые чувства к Моцарту принесли мне немало бед. Всякий раз, когда передо мной возникало нечто, что нравилось мне или было нужно, я брала это, не задумываясь. Богатство, удовольствия, свободу. Если мне не удавалось сразу получить желаемое, я ждала. Не из показной скромности или христианской терпимости — нет, просто женщина всегда ждет. У нас нет выбора, даже у титулованных особ, как я. Миром управляют мужчины, а нам, женщинам, приходится подчиняться.
Примите мои самые сердечные похвалы и поздравления по поводу Ваших талантливых работ. И хотя я значительно моложе Вас, но судьбе было угодно, чтобы я прошла жуткие испытания, а потому мне, как женщине, простителен менторский тон.
Пожалуйста, творите и дальше. Бог дал Вам талант и сколько препятствий судьба не ставила бы перед Вами, дерзайте и не жалейте своего дара, хотя бы в угоду тех, кто его лишен.
С восхищением Вашим талантом!
Ваша Мария Магдалена Хофдемель».
«Брюнн, 30 января 1797 года.
Дорогой мсье, герр Дейм-Мюллер!
Вчера получила Ваше письмо. Оно было в пути более месяца. И не удивительно! Из Вены почтовые кареты с ямщиками еле-еле справляются с дорогой, чтобы добраться сюда по осени, в наш забытый Богом Брюнн.
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Вы сделали мне такой королевский подарок, о котором ни словом сказать, ни пером описать — все только в восхищенном молчании. Я только могу догадываться, как Вам удалось совершить столь героический поступок. Возможно, Ваша технология снятия посмертной маски с Моцарта помогла этому. Еще раз благодарю Вас за такой презент. Об этом я не могла даже мечтать. Я приложу прядь волос Вольфганга к этому письму, и буду хранить до могилы. И передам моему сыну Вольфгангу.
Что касается ответа — я в замешательстве. На многие Ваши вопросы мне бы отвечать не хотелось. И, уверяю Вас, вовсе не из соображений репутации или безопасности. Для меня это не более, как дешевые побрякушки, которые давно и безнадежно потускнели, отчасти по нашей собственной воле, отчасти из-за мужчин, которые искали подходящий манекен, чтобы повесить на него, — будто одежды, — свои комплексы. Есть люди, герр Дейм-Мюллер, которые способны уничтожить нечто гораздо большее, нежели женскую репутацию. Это люди, которые грабят и убивают без малейших угрызений совести, руководствуясь лишь своими желаниями. Чтобы добиться своего, они, не моргнув глазом, уничтожат младенца на глазах у матери, сотрут лица земли целый народ или континент.
Моцарт, будучи гениальной личностью, часто обманывался и в своем ближайшем окружении, а более всего — в князьях мира сего. Вольфганг, на свою беду, общался и хорошо был знаком с такими людьми.
Пожалуй, этими доводами и объясняется мое вынужденное молчание.
Вы пишете, что ощущаете присутствие Моцарта, чувствуете, как Вы выразились, «его душу». Меня вовсе не удивляет, поскольку я изо дня в день вижу Ваш чудесный воск, а теперь — спасибо от всего сердца! — и присланный Вами удивительный, полный жизни рисунок. Конечно, Вы ощущаете его душу, его присутствие. Да и могло ли быть иначе? Поэтому Вы и чувствуете, как Вольфганг, мыслите как он; в Вашей душе горит тот же огонь творчества и созидания. Вам хорошо знакомы и его одиночество, и его страстность. Разве все живое не ищет своего повторения? То же происходит и с мужчинами, и с нами, женщинами, любящими вас — живых или мертвых.
Вы спрашиваете меня о характере болезни и изменениях в здоровье Вольфганга перед тем, как он неожиданно умер. Что же мне точно известно? Моцарт 18 ноября еще присутствовал на освящении нового храма своей ложи, где им самим была продирижирована кантата объемом в 18 рукописных листов. На 18-й день после этого, 5 декабря, мастера уже не стало.
Скажу честно, его здоровье всегда было крепким, по крайней мере, за два-три месяца до смерти он ни разу мне не жаловался. Был грустным, был озабоченным работой — так это все в порядке вещей. Это уже за две недели до кончины его стали мучить сильные боли в желудке; у него начались обмороки, сильные головные боли, галлюцинации. У Моцарта был ангельский характер. Он любил глубоко и сильно, отчаянно и высоко любил меня, и это была именно любовь, несмотря на причиненные этим высоким чувством страдания.
Полагаю, для Вас не секрет, что Вольфганг так же был предан своей жене Констанции. Даже тогда, когда она завела любовную интрижку с его учеником-секретарем, этим ничтожеством Зюсмайром. Об этом знала вся Вена, а потом стало известно и Моцарту. Вольфганг пытался облагоразумить Констанцию, давал в письмах наставления, когда она уезжала на лечение в Баден. Он делал все возможное и невозможное, чтобы она вела себя добропорядочно и берегла свою репутацию.
Но бесполезно. Констанция не умела оценивать, что хорошо, а что плохо; инстинкт правил ею во всем.
Вопросы Ваши трудны, а искренность, с какой Вы их задаете, сродни искренности самого Вольфганга. Отважусь ли отвечать на них? Никогда не думала, что смогу выводить на бумаге самые сокровенные свои слова. Поначалу, я была уверена, что никому не поверю свои тайны.
Я понимаю Вас, герр Дейм-Мюллер. И хотя не смогу ответить на все Ваши вопросы, я поведаю Вам то, что никто не знает, — сокровенные подробности наших отношений. Об одном прошу: храните молчание.
Да, я знала Моцарта — и как знала! Сначала он не произвел на меня особого впечатления. Человек с большой головой, крупным носом (с большими крыльями) и испещренной оспинками кожей лица внешне, конечно, был мало привлекателен. Маленький, суетливый, с туповатым выражением. Ростом чуть более 150-ти сантиметров, он был в вечном движении. Все это могло показаться чрезмерным, но позже я поняла, в чем дело. Мне кажется, что это шло от одного и главного: у Вольфганга не было настоящего детства, поскольку его отец Леопольд Моцарт с младых ногтей ввел его в музыкальные сферы Европейских государств.
В первые годы своего брака я видела Вольфганга не больше дюжины раз. Наша встреча и знакомство произошло у нас дома.
Однажды утром маэстро явился, запыхавшись, в наш дом без предупреждения, взволнованный и озабоченный. Как я поняла из разговоров, Вольфганг Амадей помогал моему мужу стать членом какого-то тайного союза или масонской ложи, о чем говорить строжайше запрещалось. А это в свою очередь должно было принести свою пользу, поскольку в масонских ложах собирались очень влиятельные и нужные для моего мужа лица столицы.
Моцарт был хорошо и аккуратно одет, парик сидел на нем, как на картинке. Франц стоял в нерешительности, оглядываясь на меня, затем обнял Вольфганга за плечи, ласково привлек его к груди и сказал:
— Входи, Вольферль.
Вольфганг стремительно вошел в комнату и двинулся по ней зигзагами и вприпрыжку, хотя ему нужно было сделать всего три шага. У него было что-то от клоуна. Я чуть было не расхохоталась. Он словно видел только то, что находился прямо перед ним, и направлялся туда, потом внезапно менял курс и устремлялся к новой цели; каждый его шаг был похож на ритуальный танец, и его голова, казалось, опережала тело. С появлением Вольфганга в нашей гостиной порядка как не бывало.
Моцарт вел себя крайне раскованно. Он кинул на стул свое пальто и вывалил на столик нотные листы.
— Все эти издатели, Франц, будь они неладны, — сказал он, — жулики, все до единого. Платят за сочинения гроши, а то норовят вообще не платить, если оперы не идут на подмостках театров. Мне нужна твоя помощь. Вот, погляди, что они наделали.
Небольшого роста, коренастый, коротконогий, он склонился над столом и принялся разбирать страницы. При этом он поднял глаза, и взгляд его, прежде устремленный внутрь себя, вдруг остановился на мне. Я стояла возле двери, ведущей в кухню. Вольфганг замер; затем рука его потянулась к шляпе, которую он забыл снять. Он сдернул шляпу и сделал отрывистый и резкий поклон.
— Добрый день, — расцвел Вольфганг, — какая все-таки восхитительная у Вас жена, дорогой Франц.
— Надо же, а я и не догадывался, — отшутился Франц.
Глаза Моцарта глядели с какой-то чистотой во взоре. Молчание, как легкое дыхание ветра. Все кругом преобразилось: стало прозрачнее и таинственнее. Я уже поняла, что Вольфганг влюбился в меня с первого взгляда, как маленький мальчик. Его светло-голубые глаза в немом восторге вспыхнули ослепительным светом, который пронзил меня насквозь и будто коснулся моего тела, скользнув теплой волной по щекам, плечам, груди, а, ткнувшись об изгиб живота, выплеснулся на пол, к краю моей юбки. Я машинально схватилась руками, испугавшись, что юбка задерется вверх, как от резкого порыва ветра.
Комната была тихая и неподвижная, как солнечный блик, который спящим котенком притаился под окном.
Не знаю, сколько времени мы так простояли, наверно, несколько секунд, а может быть, и час. Но голова у меня закружилась, и я чуть не упала. Пробормотав извинения, я вышла в другую комнату. Когда через несколько минут я вернулась, они сидели рядом за столом.
Мой Франц просматривал бумаги и громко возмущался неблагородным поведением всех дельцов вообще и издателей в частности. Он больше не смотрел на меня. Я недоумевала: Франц какой был, такой и остался — он ничего не заметил. Да это и понятно: будучи судебным канцеляристом, он вел массу дел, и к тому же был частным секретарем графа Карла Якоба и Августа Зейлера. И главное кредо для него всегда было — заработать побольше денег и пустить их в оборот.
Как мало он знал себя сам в то время, когда мы впервые повстречались в ином качестве!..
Это произошло весной 1789 года, когда мой муж Франц договорился с Моцартом о занятиях со мной по музыке. Вообще, Моцарт никогда формально не относился к преподаванию. Он чувствовал себя увлеченным, если у него возникало личное взаимопонимание с учеником. У нас с ним это получилось как нельзя лучше. Причем, он всегда во время преподавания придавал большое значение такому понятию, как живой пример учителя.
Вы спросите: почему Моцарт преподавал больше всего дамам, а не мужчинам? Дело в том, что мы, женщины, в тогдашней нашей аристократической Вене имели тонкий музыкальный вкус и рвение к совершенству, а потому задавали в музыкальных сферах тон.
С тех пор Вольфганг стал частым гостем в нашем доме № 10 по Грюнангерштрассе, первый этаж которого занимали мы, состоятельная чета Хофдемелей. Дело в том, что они с Францем теперь были братья в одной из масонских лож, ну, а во-вторых, Вольфганг музицировал, давая мне уроки на клавире.
Франц всегда оставлял нас одних. Я думаю, что делал он это не намеренно, хотя он и ревновал меня к мужчинам. Я думаю, что на самом деле мой муж Франц вряд ли осознавал все величие музыки Моцарта, но зато он прекрасно понимал и чувствовал, как сильно Вольфганг любит его, и делал все — наивно и по-детски, — чтобы помочь ему заработать побольше денег. Порой они шумно ссорились, тоже совсем как дети.
— Мы, — часто говорил Франц, когда речь шла, к примеру, о попытке продать новый квартет Моцарта, — мы обязаны настоять, чтобы издатели оценивали наш с Моцартом труд по достоинству и платили соответственно нашим заслугам.
— Ты прав, Франц, — вторил ему Моцарт. — Такие торговцы нота ми, как Лауш, Торричелли или Трэг без зазрения совести через газеты продавали рукописные копии моих концертов, чтобы через пару годиков награвировать и сделать известными за хороший куш.
Когда Моцарт, его дети или жена Констанция заболевали, то Франц Хофдемель ссужал им деньги без всяких процентов. Он трогательно заботился о чете Моцартов. Иногда Франц приносил бутылку прекрасного рейнского вина, и они подолгу просиживали в гостиной.
— Что ты хочешь выпить, Вольфганг? — спрашивал он. — Говори!
Я все раздобуду, достану самое редкое зелье из-под земли. Я люблю трудности — это моя работа.
И бедный Моцарт, который в последние дни плохо себя чувствовал, и даже ел с трудом, благодарно улыбался Францу. Он предпочитал тогда одно и главное: работа, работа и еще раз работа. Казалось, его обуревала страсть, чтобы успеть сделать к некоему часу и дню «Х» все и даже больше.
Вольфганг обычно появлялся у нас в доме днем или под вечер, когда не был занят на концертах, репетициях или не музицировал.
Приходя к нам, Вольфганг всегда старался удостоить меня, хоть капелькой, но вниманием. Невооруженным глазом было видно, что он откровенно симпатизировал мне, как женщине и как личности. Когда мы оставались одни, он часами говорил со мной как с преданным и верным другом. Он рассказывал о своем детстве, путешествиях по Европе, о матери, которая скончалась у него на руках в холодном Париже, и которую он всегда нежно любил. Бывало, ночную тишину нарушало только ровное дыхание Моцарта. Однажды вечером Вольфганг особенно разоткровенничался. Он рассказал мне о женщине, которую когда-то любил, по его словам, сильнее всех на свете. Это была сестра Констанции — Алозия Ланге, талантливая оперная певица, которая предпочла его другому. Потеря женщины (а она вышла замуж за актера и художника Ланге), означала для него утрату всякой надежды.
— Тогда я понял, — говорил он, — что Господь создал меня не для любовных утех, что жизнь моя принадлежит не мне, но великой музыке.
Я была так тронута его юношеской искренностью и каким-то грустным одиночеством. Опустившись перед ним на колени, я обняла его ноги и нежно привлекла к себе. Вольфганг поднял меня и без единого слова прижал к своей груди.
Моцарт, менявший каждый год квартиры, был обвинен в непоседливости, жил тогда в отчаянной бедности. Однако, как бы ни плачевно складывались обстоятельства, он умел находить успокоение в своей семье. Хотя Констанция музыкально — и не только музыкально — была образована слабо и не понимала его гениального величия, он принимал ее такой, какой она ему представлялась: незаинтересованной, но весьма одаренной в интимной драматургии. Таких сцен Моцарт, вечно сконцентрированный на своей музыке, насмотрелся предостаточно, особенно во время возросшего отчуждения венского общества.
Здесь прорывается двойная натура гения: то обуреваемый внезапными внутренними впечатлениями, то безрассудный и легкомысленный и в то же время — добросовестный, настроенный идеалистически, выплескивающий все это «светящейся радугой» музыки. Он пытался стать независимым. Некоторое время это ему удавалось. В течение трех лет, начиная с 1781 года, он был, прославленной звездой. Затем ему пришлось увидеть и пережить, как другие, более слабые композиторы обходят его. Тут он являл собой баловня судьбы, там ему открывалось человеческое ничтожество, а здесь он проявлял свой высокий талант, там — не мог справиться с простыми практическими вещами: в самом деле — какой «негениальный гений»!
Как и моего мужа Франца, Вольфганг втянул в эзотерические сферы своего отца Леопольда, который по настоянию и стремлению сына тоже стал масоном (в той же ложе «Благотворительность»).
Вообще у Моцарта постоянно прослеживалась и звучала направленная на компромисс жизненная установка гения — примирительная позиция, цель которой не только устранить все диссонансы в противоречивых отношениях между ним и отцом, но и примириться с коварной и ненавистной тещей Цецилией Вебер. С чисто человеческой стороны Моцарт был сердечным и великодушным (хотя, дорогой герр Мюллер, это понятие сегодня несколько подустарело). У Моцарта было осознанное чувство собственного достоинства, о котором Констанца даже не подозревала и только регистрировала обузданные им и уже не болезненные примитивные реакции. В то самое время в привилегированных слоях нашей знати и венского бюргерства начали сторониться страстного молодого музыканта, который с таким удовольствием и определенностью высказывал свои суждения. Ведь в тех же «Фигаро» и «Дон-Жуане» Моцарт с аристократией обошелся довольно бесцеремонно. Мне кажется, что непонимание его венским светом как личности, в сущности, и привело к трагическому концу. Зато мой Моцарт нес несчастье и страдание спокойно и невозмутимо. Смерть и бренность он ощущал как что-то естественное, присущее жизни.
Однажды, когда мы оставались наедине, Моцарт стал рассказывать мне о своих горестях.
Он совсем-совсем один; ему бывает так трудно дирижировать своей музыкой. Вольфганг рассказывал, что замыслил новые, грандиозные произведения, каких еще не создавал никто прежде.
Амадей любил вспоминать, как в детстве он страшно скучал по дому, особенно по собачке Тризль, которую он в те годы — годы бесконечных переездов с отцом по ухабистым дорогам Европы, — чаще видел во снах, нежели наяву. Ненадолго вернувшись в Зальцбург, они отправлялись в Италию, Францию или Германию, Чехию, Англию, а затем снова тряслись в экипаже во Францию. И повсюду их ожидали не только триумфы, громкая слава, но и равнодушие императорских салонов, скаредность княжеских дворов. Но отец, как импресарио своих детей, не успокаивается на достигнутом. Он раз от разу усложняет концертную программу и, чтобы публика убеждалась в отсутствии какого-либо подлога, включает в нее номера с испытанием диковинных способностей Вольфганга. И вот его из зала (разумеется, по подсказке отца) просят то поиграть на клавесине одним пальцем, то — с завязанными глазами, то угадать, какие ноты издают часы с боем, звенящие колокольчики, рюмки и т. д. и т. п. Маленький виртуоз, обладатель абсолютного слуха, доводя публику до умильных слез и восторженного рева, с доброй улыбкой блестяще выдерживает все проверки. Конечно, он при этом сильно устает. Ведь концерты длятся по три, иногда четыре часа.
Зато всякий раз, когда Моцарты возвращались домой в Зальцбург, первым делом Вольферль бросался к собачке Тризль и упоенно играл с ним на полу. Но приученный отцом Леопольдом к постоянному труду и жестокой дисциплине, Вольферль вскоре садился за клавесин и занятия продолжались. Да и чем он мог заняться, кроме музыки! Из-за продолжительных вояжей ни у него, ни у его сестры Нанерль в Зальцбурге не было и нет ни друзей, ни подружек.
Вольфганг говорил и о будущем, о своих мечтах, о стремлении пробудить людей ото сна, тронуть их души. И все сильнее приникал ко мне. Вне всякого сомнения, я тоже влюбилась в Моцарта. Но, рассказывая про себя, Вольфганг прижимался так сильно, что у меня перехватывало дыхание. Внутри меня словно опалило пламенем и жар все разгорался. Я стала гладить волосы Вольфганга, его щеки, словно эта ласка могла помочь ему, мне, моему ребенку, который спал в соседней комнате.
Я видела, что лампа гаснет; нужно было следить за ней, как и за огнем в камине, который к тому времени уже едва теплился. Но огонь в груди меня разгорался все сильнее, жарче. Я не думаю, что Вольфганг это почувствовал. Скорее всего, это была тоска по человеческому теплу, ласке и счастью. Мне даже казалось, что он не понимал, чем я для него была — тепло, жизнь, женщина, место, где можно приклонить голову. Он обнимал меня, любя вместе со мной всех женщин на свете.
— Можно я лягу рядом, — проговорил он надтреснутым голосом. — Я только прикоснусь к тебе. И не обижу, нет. Мне нужно быть с тобой. Позволь мне только обнять тебя. И все.
Комната была напоена восточными благовониями. У меня все поплыло перед глазами, я подумала: а, ничего не случится! Тем более, что Франц укатил по каким-то финансовым делам в Германию, и не появится, и никто и никогда ничего не узнает. Все у меня внутри трепетало от нежности. Все женское, что было во мне, поглотил этот страстный огонь. И я совсем потеряла голову.
Это было, будто во сне. Ничего подобного со мной не было. Я не понимала, что с нами происходит. Все мое тело словно испарилось в томительном упоении. Все это походило на некий ритуал, совершаемый двумя влюбленными — мужчиной и женщиной.
Его пленение было восхитительным. Вольфганг заставил трепетать все мое существо так, как никто и никогда за всю мою жизнь. Его энергия, его мощь будто перетекали в меня, и я становилась его вторым «я», близняшкой, по образу и подобию. Мы двое, он и я, жили во вселенной, лежащей за пределами пространства и времени, добра и зла, здравого смысла и справедливости. Желание, жившее в нас, стало очагом, в котором пылал священный огонь любви. Я произношу это слова без тени сомнения, не боясь обвинений в богохульстве. Ибо пламя, разгоравшееся от нашего сближения, от слияния наших тел, звуков наших слов, взглядов, было неземным. И этот божественный огонь не имел никакого отношения ни к Вольфгангу, ни ко мне — ни как к мужчине или женщине, ни как к друзьям, врагам или любовникам. Все происходило так, словно наша встреча и породила эту новую вселенную, этот мир, охваченный всепожирающим огнем страсти. И это понимала не только я, но и он. Все это я читала в его больших голубых глазах. Стоило ему появиться в дверях, стоило его руке коснуться моей, как тут же силы покидали меня. В вечном страхе, что Франц может неожиданно прийти и увидеть, что происходит в его доме, где он живет, работает и спит, я каждый день клялась себе, что больше ничего не будет — ни прикосновений, ни объятий, ни огня. Но только Вольфганг возникал на пороге, я цепенела, и остатки воли покидали меня.
Все поры его кожи дышали очарованием, и мне казалось, что через каждую из них я могу проникнуть в его мир. Его ласки не могли утолить мой голод; я была ненасытна. Тело его было прекрасно, оно стало моим тотемом, моим кумиром. Стоило ему прикоснуться ко мне, и ни он, ни я часами не могли разомкнуть объятий, так крепки были узы, связывавшие наши сердца и тела.
В нашей любви все трепетало возвышенностью, поэзией. И он, и я преклонялись друг перед другом. Вольфганг — перед моей красотой, я — перед его гениальностью. Мы не задумывались над словами, которые рвались наружу. Он шептал мне, как он любит мои бедра, грудь, мои тайные недра, и эта греховная литургия продолжалась бесконечно. Огонь любви переплавлял кощунственные слова в божественные.
— Мария, ты моя, — нежно произносил он. — Ты принадлежишь мне и никому больше. Ведь так?
— Да, — так же страстно отвечала я, — да, любовь моя, только тебе и никому больше.
Вольфганг сразу широко раскрывал свои глаза и счастливо смотрел на меня, а я что-то лепетала без устали и лепетала. Он смотрел немигающими глазами на меня, я отвечала тем же и абсолютно ясно ощущала, как меня окутывает лавина тепла, света и любви. Потом мы лежали, словно невесомые, между этим миром и каким-то иным, как невинные дети, потрясенные чудом красоты, беспомощные перед могуществом любви.
Потом Вольфганг пил вино, принесенное в подарок Францу, которого мы с ним предали в эту ночь. Я говорю «предали», ибо условности требуют, чтобы я называла это именно так, но без чувства и осознания вины. Любовь — это святое, любовь — безгрешна.
Когда я вышла замуж за Франца Хофдемеля, я жила в Брюнне и не знала мужчин. И вот нежданная любовь! Моцарт стал для меня неким зеркалом моей красоты, моих мечтаний и даже в некотором роде целебным бальзамом. Я вкушала его восторг, напитанный моею красотой, выпивала его до дна, как будто рейнское вино; и мы наслаждались роскошью общения.
Месяца через три после первой встречи с Вольфгангом я оказалась беременной, уже ждала ребенка. Вольфганг воспринял известие об этом с восторгом. Сейчас я уже не помню, какие мотивы руководили мною в то время. Но я точно знаю, что больше всего на свете я хотела мальчика от Моцарта и уже знала его имя: Вольферль. И если для того чтобы исполнить свою мечту, я совратила Моцарта, значит, я действительно была виновата.
После случившейся в нашей семье трагедии меня называют теперь по-разному. Может, это верно. Женщина должна быть такой, как она есть — полной нежности и страстного желания быть любимой и любить. В сердце своем каждая женщина ищет в мужчине отца своих детей и в то же время самца. Такова жизнь. Только мало кто осмеливается признаться в этом. С Вольфгангом я ощутила свое женское начало с такой силой, что у меня нет слов это описать.
В те последние дни перед смертью Вольфганга мы виделись с ним.
Я смотрела его «Волшебную флейту» — сколько там юмора, острот. Но и были разговоры на лестнице, догадки, сравнения. Кто-то увидел в Моностатосе — Сальери, а Царице Ночи — ее Королевское Величество. А эти сцены с пародией на масонские обряды! Как уж воспринимались братьями по ложе пассажи того же деревенского простака Папагено — уму не постижимо!.. В общем, тут Моцарт был в ударе! И ведь он чувствовал, он знал, что эта опера его последняя, а потому шел va banque (идти ва-банк, напропалую, рискуя всем — фран.), а может и даже больше того.
Именно ужас неотвратимого ухода Моцарта опустошил мое сердце. Мою чувственную нишу, которую заполняла любовь к Вольфгангу, хлынула бесконечная боль по его утрате, готовая во всякий момент выплеснуться на поверхность. Меня грел и успокаивал ребенок — его ребенок, которого я носила под сердцем. Все это помогло выдержать мою скорбь и оттаять сердцу.
Я принадлежала ему и любила его, продолжала бы любить, даже если бы это означало вечное проклятье и адские муки для нас обоих. Несмотря на то, что эта моя любовь ускорила смерть Франца, я и сейчас, спустя столько лет, произношу эти слова с содроганием.
Франц почувствовал мой холод раньше, чем его проинформировали о нашем адюльтере. Возвращаюсь в спальню, ложусь в постель, стараясь его не разбудить. Очень хочется побыть одной, подумать. Только о чем? О том, что я не хочу винить в этом кого-то другого — вы догадываетесь, разумеется, о ком я говорю. Мне жутко вспоминать тот день и час, когда я вернулась с похорон Моцарта.
В тот момент я не узнала Франца — это был кто-то другой. Монстр, чудовище!..
Вот что я хотела рассказать Вам, граф Дейм-Мюллер. Это звание женщина должна носить с гордо поднятой головой. Вы страстный человек, герр Дейм-Мюллер. Это видно из Ваших работ. Когда Вы разминаете глину, то страсть движет Вашими пальцами. Вам знакомо острое желание творца, которым наполняется душа, требуя в жертву честь, добродетель, уверенность в себе; все сгорает в пламени творчества, в огне созидания.
Для кого-то, для постороннего взгляда Вольфганг не был красив. Но всякий раз, окунаясь в его глаза, я чувствовала, как пылает его душа, душа Моцарта, душа великого композитора, Гения. Не такова ли Ваша страсть, как ваятеля, к гипсу, воску и бронзе, герр Дейм-Мюллер?
Вот что еще хочется поведать Вам:
— Наша любовь была волшебством, райским оазисом среди пустынной и холодной обыденности, пронзительной, как осенний ветер. Я преклонялась перед божественной властью Моцарта, сливалась с ней во всей ее беспощадной мужской власти и силе. Место, где мы любили друг друга, стало нашей святыней, храмом, куда вступаешь, оставив за порогом все, чем обладал, чем казался, на что надеялся.
Такова была наши искренние чувства — Моцарта и мои. Нам не было стыдно, зазорно или страшно, а также не было попыток разорвать эти священные узы счастья.
Такой безумной любви хотел Вольфганг, он мечтал об этом с того самого мгновения, когда прикоснулся ко мне впервые.
Я не могла этому противиться. Его желание, его тоска и скорбь, которую он таил в сердце, — все сливалось в наших объятиях. И мы сливались в единое целое, как в священном танце, и трудно было различить, где кончалось его тело и начиналось мое. Но эта волшебная сила, владеющая нами, вселяла в меня трепетный страх: а вдруг это закончится, как сон, как наваждение. Что тогда будет? Да будет ли все это после? Мне хотелось убежать, спрятаться, вернуться в прошлое. Но я не могла. Один только запах его кожи неумолимо ввергал меня в водопад любви, разбивал вдребезги все страхи.
Во мне эхом отзывались такие слова:
— Люби меня, только люби меня.
По-моему, в такие мгновения между нами царил сам Господь Бог, наш друг и утешитель наших сердец. Всевышний направляет и не дает порушить наши души, а значит, и нас. И это целительное действо многолико — для Моцарта им стала музыка, для меня — его музыка, душа и его тело. Такова тайна Господней власти, тайна, которую для человека никогда не откроется.
Нам остается лишь поклоняться и жить по Богу. Стоит человеку свернуть в сторону, как тот превращается в оболочку, растение или в откровенное ничтожество.
Теплит сердце то, что у меня, как «любимой ученицы» Моцарта, осталось два сокровища: самый интимный фортепьянный концерт с посвящением мне, и наш сын Вольфганг. После смерти мужа Франца у меня остался сын — плоть от плоти Моцарта, и сердце мое разрывалось на части, когда я была не с ним.
Такова, дорогой герр Дейм-Мюллер, правда о Марии Покорной — это моя девичья фамилия. Спросите себя: способны ли Вы переварить такую правду? Бывает, что человек — избранник страсти — не может или не хочет принять ее вызов. Такова природа Божественной силы: посмотри ей в лицо, преклоните перед нею колени и примите ее в свои объятия, иначе она уничтожит вас. Вам это известно, я уверена.
Еще раз спасибо за прядь волос Вольфганга Моцарта, которые Вы срезали с покойного, когда снимали посмертную маску. Я буду хранить ее как самую бесценную реликвию. А Вы должны точно так же беречь свой Божественный дар творца.
Молчаливо преданная Вам Мария Магдалена Хофдемель».
«Брюнн, 7 марта 1797 года.
Дорогой герр Дейм-Мюллер, простите за мое долгое молчание в ответ на Ваше последнее письмо, которое пришло, стыжусь сказать, полтора месяца назад. В этой задержке нет ничего преднамеренного. Не было и часа, когда бы я не думала над ответом; но перенести его на бумагу оказалось не так просто. В последние недели я совсем ослабела, и мне теперь трудно выйти из дому даже на полчаса. К счастью, пенсии, выделенной мне Его Величеством, хватает на оплату ренты и еще немного остается на еду и чай. Кофе я больше не могу пить, он слишком возбуждает мою нервную систему. От этой привычки было всего трудней отказаться.
Я много думала о Вас. Вы пишете, что между нами протяну-та невидимая временная нить. Я тоже ощущаю ее. Да и может ли быть иначе, если каждую минуту жизни я вижу перед собой бронзовый слепок с лица Вольфганга Вашей работы и ощущаю его дыхание от Ваших произведений?
Да, дорогой герр Дейм-Мюллер, Вы не единственный, кому знакомо это дыхание. Был такой человек, доктор, с которым я познакомилась, когда мне было двадцать два года, много лет спустя после смерти Вольфганга и незадолго до его собственной кончины. Его звали доктор Николаус Франц Клоссет. Именно он был с Вольфгангом в последние, самые долгие и мучительные для того, месяцы, и именно он сделал все возможное, чтобы поведать мне правду, которую все упорно скрывали.
Николаус Клоссет появился у нас на пороге дома летом 1789 году. Помнится, его все время угнетали какие-то думы. Но, может быть, я была тогда молода, и все воспринималось мной в другом свете и цвете?..
Доктор Клоссет приехал к нам внезапно, как с неба свалился. Я уложила его в постель и заботилась о нем. Он оставался в нашем доме несколько дней, и все это время мы с ним беседовали. Он терзался муками совести, такими глубокими, что не мог поделиться ни с кем. Я старалась облегчить его телесные муки с помощью различных микстур и нежных слов.
Мы с ним мало говорили, однако прекрасно понимали друг друга без слов — такое происходит с людьми в чрезвычайных обстоятельствах, когда мишура условностей слетает сама собой.
Николаус Клоссет был охвачен идеей фикс, очень простой: он стремился успеть записать все, что знал про болезнь и кончину Моцарта. Над ним довлели некие тайные и мрачные силы, гнет которых и побуждал его спешить. Доктор торопился закончить свои праведные труды. Он строчил, как безумный, исписывая страницу за страницей. И оставил их у меня, когда вернулся в Вену. Я спрятала их, и ничего не делала с рукописью, пока он был жив, так как знала: если записи найдут, то их уничтожат; не поздоровится и тому, у кого они были спрятаны.
Так было со всем, что имело отношение к жизни Вольфганга. Я не показывала эти записи ни одной живой душе, и лишь обстоятельства заставили передать их вам. Рукопись была обернута и запечатана в пергамент — точно такой Вы держите в своих руках. Признаюсь Вам, я собиралась предать ее огню, когда судьба постучится в мою дверь. Я уверена в том, что не ошиблась в сроках.
Итак, герр Дейм-Мюллер, вручаю Вам рукопись, которую мне передал Моцарт: партитуру последней масонской кантаты «Громко прославим нашу радость», письма Вольфганга моему мужу Францу и, — не удивляйтесь — подметное письмо на имя Франца, которое я перехватила совершенно случайно, и где есть ответ на трагедию, происшедшую в нашем доме. Разумеется, там нет окончательного ответа. Каждый вправе найти его сам. Но то, что Вы прочтете, подтвердит Вам: тайное всегда станет явным, как бы ни старались люди в «сером», имя которым легион. Мы с вами не одиноки, и нас все равно больше.
До тех пор пока Вы служите творческому огню, пылающему в Вас, пока эти зарницы счастья обжигают изнутри Ваши скульптуры, никто не причинит Вам вреда. Разве не так творили Шиллер, Гете, Моцарт?
Эти строки предназначены Вам, и только Вам. Ибо с ними в Вашу жизнь входит сила, которая сильнее слов. Вы найдете ответ между строк, это обет молчания, который Вы должны принять и который больно ранит тех, кто, не желая или не умея отдаться огню, играет с ним.
Если когда-нибудь в будущем Вы решите разделить этот обет с другим человеком — прошу Вас, дорогой герр Дейм-Мюллер, не ошибитесь в выборе. Христианские святые говорят, что путь любви пролегает через тернии к звездам.
Благословляю Вас.
Мария Магдалена Хофдемель».
«Брюнн, 21 июля 1797 года.
Дорогой герр Дейм-Мюллер!
Вы прислали мне два письма, и я до сих пор не ответила ни на одно из них. Я долго и мучительно размышляла над ответом. Поначалу я надеялась, что бумаги Вольфганга Моцарта и Франца Хофдемеля утолят Ваше любопытство. Но Вы слишком настойчивы, мой герр Дейм-Мюллер. Это тоже объединяет Вас с Вольфгангом. А я? Я слишком мягкосердечна, — или слишком доверчива? — чтобы не внять Вашим просьбам.
Вы спрашиваете, как они — католические князья и сильные мира сего — узнали, что Игнац фон Борн и Моцарт начали работу над сценарием или либретто «Волшебной флейты». Этот вопрос, милый герр Дейм-Мюллер, позабавил меня. Уж кто-кто, а Вы профи в этих делах. Вы так же профессиональны в политике, как и в своем деле. И немудрено: сколь огромен Ваш талант, столь Вы талантливы во всем. В свое время Вы узнаете ответ, и Вам не потребуется никаких объяснений. Пока же я могу сказать только одно: «посвященные» были, есть и будут. У них, как говорят, все схвачено, их коллективный интеллект настолько обширен, мобилен и быстродействующий, что им не составляет труда узнать, что творится в наших сердцах и умах, даже если они не могут схватить нас за горло. Это звучит как необъяснимая страшилка, я знаю. Но успокойтесь: их знание само по себе мало что значит. Но стоит переступить некую незримую черту, как тут же включаются различные механизмы: если прежде все у Вас ладилось, имя Ваше звучало у всех на устах, то теперь все иначе. Вам постоянно вставляют палки в колеса, все идет прахом, катится под откос, Ваше имя погружается в забвение; тогда знайте: впереди смерть, физическая или духовная — что, в принципе, одно и то же. Вот и с Игнацем фон Борном получилось так же: он принял решение, они узнали об этом и направили на него Зюсмайра — связующее звено между миром Моцарта и правящей богемой. Но за всем этим, как мне кажется, стояла зловещая фигура аббата Максимилиана Штадлера.
Что делать, дорогой герр Дейм-Мюллер, я уступаю Вашим просьбам. Я расскажу, только при одном условии: Вы должны хранить молчание. Я не хочу утруждать Вас длиннотами, а Вы, я думаю, в Ваши почтенные годы, способны себе домыслить уже по намекам и нескольким знаковым словам — целиком все здание.
Франц Ксавер Зюсмайр появился в судьбе Констанции после того, как он определился секретарем и учеником у Вольфганга. Как это случилось? До этого любознательный провинциал из верхней Австрии нашел благосклонного учителя в лице Антонио Сальери. На происшедшую метаморфозу Моцарт даже не обратил внимания.
Бесспорно, Зюсмайр, может быть, и любил музыку Моцарта, но его отношения с учителем, держащим его на положении «шута горохового» выглядели довольно странными.
Сначала жена Вольфганга Констанция подружилась с Зюсмайром, а затем у них наступил адюльтер, или любовная связь. Он так напоминал и дополнял Констанцию: беззаботный, легкий на подъем и необязательный — точь-в-точь она. Отношение Франца Зюсмайра к себе Моцарт воспринимал как преданность и искренность. Он видел, что Констанция и Зюсмайр нашли общий язык — какая ирония судьбы! И даже больше: она родила от него ребенка.
Причин к отмщению сильных мира сего было много и одна из них — создание оперы «Волшебная флейта». «Волшебную флейту», «вышнюю песнь» масонства, направленную, по замыслу, на прославление масонской идеи гуманизма, человеческой любви, в которой маэстро в образе Зарастро воздвиг памятник глубоко почитаемому им Игнациусу Эдлеру фон Борну. Заключительные аккорды «Флейты» вызывают слезы на глазах у новой поросли немецких романтиков. И в Австрии, и в Германии, мой милый герр Дейм-Мюллер, наверняка есть представители этой породы. Но для самого Вольфганга эта симфония стала символом начала преображения немецкой оперы.
Все, что предшествует его последней масонской кантате «Громко восславим нашу радость», Вольфганг сочинял, ища спасения от всепоглощающего ужаса, от вечного томления в сердце, пытаясь вырваться из окружающей скудости и серости обыденщины для полета свободной мысли.
С Игнациусом фон Борном Моцарт взялся за сочинение «Волшебной флейты». Как ни терзался Вольфганг, он не мог найти кульминации, которая явилась бы ответом на все его вопросы. Мучительно искал решение финальной части, отражающее ту первобытную тьму, которая определила содержание предшествующих частей, и ту божественную силу человеческого мира, покидающего его. Он-то знал, как волшебна эта сила в соборности и как тщетна и мизерна одна-единственная человеческая душа.
Вольфганг трудился неустанно, но ответ по-прежнему не находился. И все это время рядом с ним был Зюсмайр, который исправно играл роль соратника и преданного друга. Наконец, ему удалось завоевать доверие Вольфганга. И Моцарт в своих поисках и создании «Волшебной флейты» доверился Зюсмайру, не ведая, что тем самым вверяет свое творение Сальери, а значит, властям предержащим или князьям мира сего, которые тайно правят людскими судьбами. И кто знает, что Моцарт, создавая «Флейту», не знал, что работает на свою погибель или, создавая оперу, сознательно возводил себе мавзолей? Во «Флейте» прозвучали вечные вопросы: о стремлении человека к свободе, об обретении Бога в свободной душе. Так Вольфганг закончил свое произведение и в неведении своем передал его прямо в руки «сильных мира сего».
Но Моцарту было уже все равно, более того, он был по настоящему счастлив, хотя его творение попало в лапы тех, кто, прикрывалась идеей «братства», не освобождает человека, но порабощает его.
Зюсмайр, беспрекословно выполнив поручения князей тьмы, стал топтаться подле Констанции, жалобно скуля и вымаливая утешение.
Дорогой герр Дейм-Мюллер, случилось невероятное: однажды ко мне в гости пожаловала сама госпожа Констаниция Моцарт. Это случилось в тот страшный 1791 год. Впрочем, лучше всего поведает Вам об их отношениях исповедь самой Констанции — это гораздо проще и яснее.
Вот ее рассказ:
«Зюсмайр пришел ко мне за год до того, как наступил финал жизни Моцарта, — ты тогда была совсем юной, моя Мария. Он был младше меня на четыре года, но уже являл собой взрослого мужа. И Моцарт нам не препятствовал. Я видела, как мой милый Вольфганг страдает из-за меня — той самой Констанции, которую продолжает любить, но наградой за эту любовь оказывается только гнетущая тоска.
Вначале я не могла представить себе жизнь с Вольфгангом: он был чокнутым на музыке.
Ведь, если у Моцарта не было концерта, то он, как правило, сочинял музыку от пяти до девяти часов в день.
Признаюсь, что решающую роль в этом моем выборе сыграли мои надежды на успех, деньги и беззаботную жизнь, и я согласилась на брак с Моцартом, тем более что наши сексуальные потребности пребывали в идеальном чувственно-эротическом согласии. Мы были близки по духу, вероятно, и в их беспечности и известном легкомыслии, но с одной оговоркой: если Вольфганг все еще следовал внушенным ему правилам хорошего тона, благопристойности и приличий, то я больше чувствовала тягу к богемной, менее скованной условностями, жизни. Моцарту, от природы флегматичному и беззаботному, расточительному, но скромному, это было не в тягость. Еще в свою бытность в Мангейме я убаюкивала его семейной идиллией домашнего очага. Все это подходило Моцарту, так как контрастировало с постылой зальцбургской зашоренной жизнью.
Когда я укладывалась в постель по причине своих частых болезней, или когда рожала, то мой Вольфганг постоянно находился около меня и ухаживал за мной, как отец, или вернее — нянька. По-моему, достаточно одного эпизода, свидетельницей которого была моя сестра Зофи Хайбль. Вот ее повествование:
«Я сидела у ее кровати. Вольфганг тоже: он работал. Ни я, ни он не смели пошевелиться, чтобы не разбудить больную, наконец-то уснувшую после нескольких бессонных ночей. Неожиданно с шумом вошла служанка. Опасаясь, как бы не разбудили жену, и, желая дать понять вошедшей, чтобы она не шумела, Вольфганг сделал неловкое движение, забыв про раскрытый перочинный нож, который держал в руке. Падая, нож вонзился ему в лодыжку, очень глубоко, по самую рукоятку. Вольфганг, такой изнеженный, сдержался, несмотря на боль, и подал мне знак следовать за ним. Моя мать обработала рану и наложила болеутоляющую повязку. Хотя из-за болей Вольфганг несколько дней хромал, он сделал все, чтобы его жена ничего об этом случае не узнала».
Я отдалась на волю волн, живя одним днем. Я и не пыталась ни понять чудесный характер своего Моцарта, ни подняться до уровня его музыкальных талантов или даже гениальности, как мне многие потом говорили. Я обращалась с ним, как с рабом, покорным и счастливым, играла с ним, как с ребенком, которого очень любила, но одновременно и немножко презирала. Все возвышенно-детское в Моцарте, его чистоту, подобную только что выпавшему снегу, кристальную прозрачность я принимала за наивность и глупость. Я устраивала ему смешные сцены, припадки ревности и, как все глуповатые, но красивые и очень требовательные женщины, думала о том, как бы еще больше повязать его своими капризами, которым он охотно потакал. Я прекрасно чувствовала, что он влюблен в меня, да еще как сильно влюблен. Я главенствовала над Вольфгангом в сфере чувств, и он был счастлив отдаваться этой восхитительной тирании Эроса.
Несомненно, между нами была превосходная чувственная совместимость, которая, возможно, заменяла нам все остальное. Денежные заботы постоянно присутствовали в нашем доме, и трудно было разобраться сразу, кто из нас более виновен в этой нужде. Во всяком случае, в 1789 году уклад нашего дома в Вене смахивал больше на житье бедного подмастерья. Будучи свободным художником, Моцарт деньги зарабатывал нерегулярно. Он пристрастился к бильярду, чтобы пополнить наш скудный бюджет. Но, несмотря на это, мы постоянно нуждались. К тому времени на венских подмостках царили такие баловни судьбы, как Глюк и Сальери. И Моцарту, театральному революционеру в душе, даже мечтать о толстом бумажнике было не так-то просто, да он и не мыслил в денежных вопросах ничего. Раньше эти обязанности целиком и полностью лежали на его папочке Леопольде.
Мой Моцарт сочинял неплохие фуги, которые я слушала с таким удовольствием. Может быть, я не стала домовитой женщиной, но я никогда не знала благодати нормальных жизненных условий, унаследованных еще от моей славной матери Цецилии Вебер.
Хотя, что там говорить! Были ведь и вполне урожайные годы, и в полную нищету семья никогда не скатывалась. Я, как мадам Моцарт, презревшая семейную рутину, все-таки делала самое необходимое, и мой супруг, совсем не сказочный принц, недовольным никогда не был.
Теперь можете представить себе, какой хаос временами царил в нашем доме! Что мог предложить мой гениальный выскочка в то время, когда число его противников и кредиторов неуклонно возрастало? Совсем не то, что я воображала еще в Мангейме, когда Моцарт рисовал мне самые фантастические картины нашей будущей жизни. Хорошо еще, что я умела чудесно приспосабливаться к обстоятельствам. В свои двадцать лет я как нельзя лучше вписывалась в беззаботный образ жизни своего мужа. Правда, в первые три года нашей совместной жизни деньги текли к нам ручьем и даже речкой. Когда появлялись деньги, они тут же уплывали на хорошую еду, вино и одежду. Обвинять меня тут нелегко, особенно нас с Вольфгангом — молодых влюбленных людей. Не покажется странным то, что мой Моцарт, жалуясь при случае на мое поведение, ни словом не обмолвился о моей роли как хозяйки дома, хотя я в домашнем хозяйстве не понимала ничего.
Скажу прямо: наша сексуальная жизнь как супругов, по крайней мере, в течение восьми лет — вплоть до 1789 года, протекала удовлетворительно, поскольку я почти постоянно была беременна, родив в общей сложности пятерых детей. Правда, трое младенцев умерли сразу после рождения, в живых остались только двое — Карл Томас и Франц Ксавер. Терезия Констанция, родившаяся в 1787 году, прожила всего год. Разумеется, мне не раз доносили, что у Вольфганга была масса побочных интрижек и связей в последние годы, к тому же он имел множество учениц. И в то же время мой Моцарт нежно любил меня. Доказательства его пламенных чувств ко мне в его письмах, как например в этом:
«Любимейшая женушка!
С радостью получил я Твое милое письмецо. Надеюсь, что и Ты вчера получила от меня 2-ю порцию отвара, мази и муравьиной кислоты. — Завтра поутру в 5 часов я отправляюсь — если бы не радость вновь увидеть Тебя и снова обнять, так я бы еще не выехал, ибо сейчас скоро пойдет «Фигаро», к коему мне надобно сделать несколько изменений и, следовательно, быть на репетициях, — видимо, к 19-му я должен буду вернуться назад, — но до 19-го оставаться без Тебя, это для меня просто невозможно; — дорогая женушка! — хочу сказать совсем откровенно, — Тебе нет нужды печалиться — у Тебя есть муж, который любит Тебя, который сделает для Тебя все, что только можно, — чего Твоя ножка пожелает, наберись только терпения, все будет совершенно определенно хорошо; — меня радует, конечно, ежели Ты весела, только я хотел бы, чтобы Ты не поступала порой столь подло — с N. N. Ты слишком свободна. также с N. N., когда он еще был в Бадене, — подумай только, что N. N. ни с одной бабой, которых они, вероятно, знают лучше, нежели Тебя, не столь грубы, как с Тобой, даже N. N., обычно воспитанный человек и особенно внимательный к женщинам, даже он, должно быть, был сбит с толку, позволив себе в письме отвратительнейшие и грубейшие дерзости, — любая баба всегда должна держаться с достоинством, — иначе ей достанется от злых языков, — моя любовь! — прости, что я столь резок, лишь мой покой и наше обоюдное счастье требует этого — вспомни, как Ты сама согласилась со мной, что Тебе надобно уступать мне, — Тебе известны последствия, — вспомни также обещание, что Ты мне дала. — О Боже! — ну попробуй только, моя любовь! — будь весела и довольна и ласкова со мной — не мучь ни себя, ни меня ненужной ревностью — верь в мою любовь, ведь сколько доказательств оной у Тебя! — и Ты увидишь, какими довольными мы станем, поверь, лишь умное поведение женщины может возложить узы на мужчину. Прощай — завтра я расцелую Тебя от всего сердца. Моцарт».
Вольфганг искусно прятал свой упрек по поводу моих адюльтеров: «любая баба всегда должна держаться с достоинством»
* * *
Я перестал читать текст и подумал, как лицемерна Констанция, как неискренна!.. Действительно, была ли ревность жены Моцарта обоснованной? Как утверждали современники, она была лишена способности любить, ей было незнакомо это высокое чувство. Так же, как и обратная сторона любви — ревность, она была лишена и этого. Зависти и злости — у нее хватало с избытком. Достаточно серьезные связи ее мужа с женщинами из высшего света приводили Констанцию в неописуемое бешенство.
«Овладев» Моцартом, она старалась склонить его к дальнейшей преданности, о чувствах тут и намека не было. Это были очередные мизансцены и даже акты спектакля под именем «Высший свет, он захотел!». Но позже, с выходом на сцену секретаря и ученика Моцарта Франца Зюсмайра и наступившим отчуждением маэстро, все супружеские отношения с Констанцией сошли на нет.
Вольфганг, в конце концов, так и смирился со связью Констанции и Франца Зюсмайра. Это видно невооруженным взглядом в его последнем письме от 14 октября 1791 года: «делай с N. N., что хочешь». А через два месяца моего Моцарта не стало. Но в письме нет и намека на его смертельную болезнь, — вот в чем загадка, точнее — большая тайна.
* * *
«Как бы там ни было, наш брак был счастливым, — такой взгляд, несомненно, разделил бы и сам Моцарт. Разумеется, я так не считала: я совершенно не любила своего мужа. Моцарт боготворил меня, действительно обожал, своеобразно и несмотря на все увлечения на стороне. Сам Моцарт состоял как бы из двух лиц: очень рано в искусстве — муж, во всех других отношениях — настоящий ребенок. Наш брак существовал благодаря сексуальной зависимости Вольфганга от меня.
Я не открою секрета, если скажу, что Моцарт не был отцом моего младшего сына Франца Ксавера. Ну и что! все равно было и есть то, что Вольфганг Ксавер (Франц Ксавер) был сыном знаменитого отца.
Трудно сказать, как у нас с Францем возник роман.
Он, Зюсмайр, прислал мне письмо за день до своего визита, прося разрешения прийти. Он писал, что есть надежда смягчить сердце Вольфганга, что он, Зюсмайр, пытается мне помочь. После стольких лет страданий я хваталась за любую соломинку, за любую самую призрачную надежду избавить моих детей, сына от нищеты и тоски. Отчаявшись сама что-то изменить, я механически приняла у себя помощника мужа.
В то утро, впервые появившись на пороге, Зюсмайр посмотрел мне прямо в глаза. Я никогда не видела такого взгляда. Он был не дурен собою, с гладким простоватым лицом, всего на четыре или пять лет моложе меня. В белесых глазах его застыла безысходность, а кожа была бледна настолько, что казалось, будто из него выпустили много крови. Это был взгляд изгоя, отверженного, проклятого Богом. Тронутая душевными мучениями, которые он натерпелся с детства, я не могла не посочувствовать его страданиям. Слишком уж они напоминали мне мои собственные.
Он ко мне вошел робким юношей, и мы стали говорить. Я скоро поняла, что он пришел не за тем, чтобы помочь моему Моцарту разгрести авгиевы конюшни, но чтобы самому, набравшись музыкальных премудростей у Вольфганга, избавиться от уныния, вызванного насмешками и даже издевательствами моего мужа, и стать в итоге звездой венских подмостков. Да, да — ни больше, ни меньше!..
Он пришел ко мне за советом и помощью. Мне это было глубоко безразлично. Но Зюсмайр оставался со мной целых три часа. Он рассказывал о странных и ужасных страданиях, которые точат его сердце. Но мимоходом не забывал оговариваться, что его ждет звездный час, что сам Сальери хвалил его, когда он был у него в учениках, и предсказывал удачную карьеру музыканта.
Я слушала его, радуясь уже тому, что кто-то пытается разжалобить мое сердце и открыть мою душу.
Он пришел второй раз, затем третий, четвертый.
Потом Зюсмайр признался в своей любви. Это было на водах, в Бадене. Как я любила там бывать, ощущая себя дамой из высшего света. Я не хотела связывать себя с ним, мне хотелось лишь помочь ему, а потом избавиться и от него. Но я помолилась и спросила свое сердце:
«Смогу ли я полюбить этого человека?»
Ответ пришел сразу, и я уступила.
Потом наступила осень 1790 года. Моцарт уехал в Германию. Мы оказались в доме вдвоем: Зюсмайр и я, оба были так одиноки, что вскоре стали страстными любовниками. Странно, но Франц был единственным мужчиной, которого я не желала как мужчину. Даже сейчас я не знаю, почему между нами была эта связь. Возможно, причиной всему были его страстное желание будущего и мое богатое (женское) прошлое.
Наш союз был странным, в нем не было должной пылкости влюбленных сердец. Он Вольфгангу в подметки не годился — Моцарт знал толк в любви, нежности, и то, как разжечь сердце собственной жены. Некая властная сила удерживала нас вместе, но природу ее я не понимала. Зюсмайр часто рассказывал потрясающие вещи: о людях, которые правят миром, и о «великих», которым они служат. А что же я? Я слушала его, ибо где-то в самых тайных уголках моего существа таилось желание. Слишком долго я была одна. Зюсмайр жаждал меня, он даже говорил, что этого требовали от него «великие мира сего».
— Я связан договором, — однажды признался он.
Просто удивительно, каким образом этот «страшный договор» мог мучить и в то же время искушать его. Об этом он не распространялся, а только говорил намеками, называя придворного капельмейстера Сальери, архиепископа Мигацци и другие, более высокие фигуры светских и духовных лиц империи.
Порой мы любили друг друга день и ночь. Так нова была для меня эта чуждая и дерзкая сила, которая влекла меня к нему, что я покорялась ей снова и снова.
Однажды, примерно через месяц после первой нашей встречи, в полнолуние, распростертая под ним, я молча глядела на какую-то гримасу на его лице. Что это означало — выражение муки или страданий — я не знала. Он стал нести какой-то бред, — я так и не поняла.
— Констанция, мы заключили с тобой пленительный договор.
Только ты и я, — отчаянно бормотал он. — Мне дали микстуру, которая не приносит страданий и не означает убийства. Она, и только она разделит нашу с тобой боль, освободит тебя от древнего заклятия.
И ты обретешь славу, богатство и покой.
Зюсмайр любил организовывать какие-то ритуалы, становясь на колени, подставляя ладони, как будто чего-то просил. Я прощала ему все, — он же был сущим ребенком. Мы обнимались, слившись в упоительном поцелуе, и доводили наши любовные игры до экстаза. Правда, я так и не уловила смысла странных речей, которые он вел тогда. Про какую микстуру, и про чье убийство.
Но играть он умел. Артист. Помню, когда он добивался моей любви, то на его глазах блестели настоящие слезы.
— Я странник, я так долго шел к тебе, чтобы обрести законный успех, — туманно говорил Франц. — Теперь ты моя, а значит, с этих пор твоей судьбе предначертаны успех и богатство.
Наш союз освящен высшими силами мира сего.
Неся эту милую чушь, он походил на молодого офицера, который только что вернулся из боевых походов и хотел любви, чтобы было все и сразу.
Я внутренне молила Бога даровать Зюсмайру блистательную карьеру при дворе, а значит, успех и процветание. Ибо он был узником обстоятельств. Он никогда не верил до конца, никому и ничему. Я поняла, что он волшебным образом научился управлять своей энергетикой и пользовался этим в своих целях. Ясными, простыми словами я молила Господа помочь ему в его дерзаниях.
Получив каждый свое, мы блаженно лежали в постели. Нежились в лучах чувственного райского счастья. Когда я открыла глаза, он уже сидел на постели передо мной.
Мы скрепляли наш договор поцелуями и новой серией любви.
И вот исцеление наступило. С лица Зюсмайра исчезло всегдашнее затравленное выражение униженного и оскорбленного «шута горохового». Передо мной был самодостаточный человек. И я, держа его в объятиях, возблагодарила Всемогущего за чудесное возрождение в нем жизни. За что мы, женщины, любим мужчин? Конечно же, за будущее. У Франца Ксавера Зюсмайра теперь было великолепное будущее!..
Правда, тогда я еще не вполне осознавала, что тот, с кем я делила постель, сам находился во власти темных сил, играющих человеческими жизнями, будто пешками на шахматной доске.
Две недели в душе Зюсмайра царил покой. Случалось, что в глазах его вспыхивала прежняя мука изгоя, и тогда страх искажал лицо. Но Франц — все-таки мужчина, и ему было несравненно легче, чем нам, женщинам. А вот со мной начало происходить нечто странное: неведомая доселе сила овладела моим телом и стремилась изгнать из него мою душу. То и дело, чтобы не тронуться умом, я повторяла:
— Помоги мне, Господи, помоги мне, Господи, помоги мне.
Дыхание мое прерывалось, голова кружилась. И наваждение ушло само собой.
Любовный договор связал нас настолько, как будто нас вплели в цепь таинственных событий, слепив из нас одно целое. Единый организм. Я воочию чувствовала, что его физические ощущения стали моими. Когда он пригублял вино, я чувствовала во рту вкус вина; когда курил — дым табака; у Франца Зюсмайра болела голова — и у меня была сильная мигрень.
Моя любовь к этому человеку крепко держала меня в тисках желаний, и тянула в омут преисподней. Тогда я уж точно знала: над Зюсмайром довлеет сила, враждебная окружающей его жизни. Время от времени она переполняла его, стремилась наружу. Зюсмайр, а вместе с ним и я, испытывала невыносимые физические страдания и отвращение к себе. Эта сила, или энергия, держащая его под особым колпаком, была особого рода. Насколько я тогда могла догадываться, по сути своей она направлялась «сильными мира сего», подпитывая все его устремления. Порой мне казалось, что это черная энергия Зла, перетекающая из Зазеркалья.
Этот заряд энергии из преисподней внушал «посвященному» человеку, что он сам по себе — лишь жалкая картофельная балаболка. Но если тот становится частью системы, например, политической или религиозной, — ему внушалась идея-фикс: он может управлять судьбами людей, стран и континентов.
Как я догадалась, сама по себе эта энергия не работает, и ее механизм запускается, благодаря подпитке живыми соками и кровью своих избранников — таких, как Зюсмайр, и всех, кто с ними близок.
Я пыталась спасти Франца и вырвать его из власти темных сил параллельного мира. Я даже молилась за него. И Зюсмайр был очень благодарен мне за то, что я его понимаю. Темные силы были не властны над ним, но лишь тогда, когда он был рядом со мной.
Хорошо еще, что он делился со мной той жуткой правдой, которую знал.
— Они занимаются селекцией людей, отбирая их по способностям — таланту в музыке, истории, литературе, естественных науках, — говорил он, — а потом питаются энергией этих вундеркиндов.
— А что им нужно? — наивно интересовалась я.
— Им нужны жертвы, — ответил Франц Ксавер. — Особенно те, что не поддаются управляемости извне. Они рассылают знаки, предупреждают строптивцев. И если жертва не реагирует и приближается к роковой черте, тут-то они берутся за него всерьез. Неудачи, горе вперемежку со страхом так и сыпятся на человека, терзая его со всех сторон. И, в конце концов, он либо покоряется, либо погибает.
Шло время, и такие моменты душевного просветления стали приходить все реже и реже. Зюсмайр любил меня все лихорадочней, а я? Я боролась с враждебными силами, а по сути, сама с собой, и это подтачивало мою душу и сердце. И настал день, когда я почувствовала, что больше не могу. Зюсмайр яростно отрицал, что он тому причиной. Он стал ревновать меня даже к собственному мужу Вольфгангу. Я же совсем ослабела: постоянное предчувствие близкой смерти Моцарта, и дрожь во всем теле иссушили меня так, что порой я не могла сделать и шагу.
Как-то раз Зюсмайр попросил меня о каком-то пустяке, я же ему отказала. Зюсмайр почувствовал, что он теряет власть надо мной.
Неожиданно Франц заявил, что покончит с собой; затем стал угрожать мне какой-то страшной расправой. Говорил, что есть силы, которые растопчут меня, «поставят на колени». Уничтожат так, что следа не останется.
Еще он грозился разоблачить меня перед светом Вены. Я лишь пожала плечами: большего ущерба, чем нанес моей репутации Моцарт, причинить было невозможно.
Мое сострадание к Зюсмайру победила гораздо более грубая и примитивная сила. Эта сила — инстинкт выживания. Я не желала, не могла отдавать свое тело мужчине, который так мало ценил его святость. Я ясно сказала Зюсмайру: с ним остается мое благословение, но не я. Его гнев невозможно описать.
Угрозы и запугивания длились неделями. На пороге я все время находила подметные письма с угрозами в мой адрес и загадочные знаковые «подарки». Все это время я жила в непреходящем страхе разоблачения. Но боялась я не Зюсмайра, я знала, что он слаб и бессилен и что таким его сделали сильные мира сего, которые наделили его особыми полномочиями.
Нет, что не говори, а я горевала по Зюсмайру, по его любви. Ибо, несмотря на его угрозы и мой ужас, я жалела его, как жалеют больное или убогое животное, в котором видят отражение собственных душевных мук.
Мало-помалу моя рана начала затягиваться. Призрак царства мертвых, где я бродила рука об руку с Зюсмайром, отпустил меня. Дрожь унялась, дыхание восстановилось, а тело и душа снова стали единым целым. Каждую ночь, прежде чем лечь в постель, я молилась за себя, за детей. Наконец, я стала спать спокойно».
Дорогой герр Дейм-Мюллер!
Я вам поведала всю правду о Констанции, ее отношениях с секретарем Францем Зюсмайром. Но это, конечно, далеко не вся правда, всей правды не знали ни Констанция, ни Зюсмайр.
«Сильные мира сего» пытались потушить у Моцарта божественный огонь, который он крепко держал в руках, чтобы с помощью музыки Моцарта управлять миром.
Поначалу они решили «отодвинуть» от него его идейного вдохновителя, по словам самого Франца Ксавера. Они хотели заставить служить великий талант Моцарта своим целям — наставлять людей на путь истинный. Князья мира сего прекрасно знали, как опасны для них те, кто, подобно Вольфгангу, отважно вступают в схватку с тем миропорядком и основами общества, которые заложены тысячи лет назад, невзирая на то, что в душах людей воцарится смятение и хаос. Они боялись Вольфганга, даже мертвого, потому-то и стремились уничтожить все: документы, письма, дневники, все мысли и мечты, которые он в поисках правды доверял бумаге. И даже отказали в христианском погребении — у Моцарта нет могилы; только бы вытравить его имя из людской памяти.
Этим «чистильщиком» стал после смерти Моцарта не кто иной, как аббат Максимилиан Штадлер и в какой-то степени Франц Зюсмайр. Под патронажем этих людей были сожжены тетради, порваны письма, уничтожена даже одежда маэстро. Подчиняясь чьей-то злой воле, эти «гвардейцы тьмы» наводили «порчу» на Моцарта. Последнее, по словам Констанции, причиняло Вольфгангу невыразимые муки, — но все же они, эти безжалостные «силы», шли на это.
По словам Зюсмайра, была подкуплена служанка, которая и подмешивала «отворотное зелье» в еду и питье Вольфганга Моцарта — изо дня в день, медленно, неумолимо. Зюсмайр каялся, что совершил это ради них, ради патриотической идеи существования и благоденствия Австрийской империи, ради христианской нашей веры. Против призрачного «братства» и нового миропорядка, который насаждали тайные общества масонов, как это произошло в несчастной Франции.
Для меня более чем странно, что жена Моцарта была так откровенна во всем этом и открыто признавалась в отравлении маэстро и своего мужа. Скорее всего, она, наверняка, все рассчитала заранее, и то, что я буду устранена со столичной сцены жизни, и готовила заранее трагедию в нашем доме.
Поймите правильно, герр Дейм-Мюллер, Франц Зюсмайр, несмотря на свои нечистоплотные и, в общем-то, богопротивные поступки, не был исчадием ада. Вот другой персонаж этой истории профессор теологии аббат М. Штадлер, верный помощник вдовы Констанции, — вот страшная и загадочная фигура во всем этом действе.
Просто Зюсмайр был слишком труслив и слаб, чтобы распоряжаться собственной судьбой, и был полностью парализован волей «князей мира сего». У этого человека с ничтожной душонкой и жалким воображением была все-таки одна, хоть и крохотная страсть: карьера, слава, которые ему обещал получить с лихвой сам господин Бонбоньери — Сальери. На безрассудную и страстную любовь к женщине он не был способен. Так мать, исступленно любя свое чадо, любой ценой пытается оградить его от всего, что, по ее разумению, может испортить ему жизнь или репутацию.
Пусть Вам не покажется абсурдом, но «чадо» Зюсмайра — это, конечно же, Моцарт. И, как всякая мать, он свято верил в то, что действует во благо своему ребенку.
Что же творилось у него в голове?
Таким, как Зюсмайр, близка натуре весьма своеобразная любовь — любовь-товар, «любовь», которая продается и покупается, «любовь» коллекционеров живописи или золота. Зюсмайр не выносил правды — ее сияние для него было слишком ослепительным. Его влекли два понятия: успех и знаменитость, которые он объединял с существующим миропорядком. А потому он исподволь тянулся к своему настоящему учителю и образцу для подражания — Антонио Сальери, по совету которого он и пустился во все тяжкие, связанные с «выскочкой и масоном» Моцартом. По совету господина Бонбоньери Франц Зюсмайр так и думал, что, присосавшись к своему мнимому другу Моцарту, он лишний раз убедится в правоте своего итальянского наставника.
Гораздо страшнее Зюсмайра, милый мой герр Дейм-Мюллер, были те, кого он называл «великими мира сего». Они именовали себя элитой, высшей верховной властью. Да это и неважно. Такие люди под разными именами существовали и существуют во все эпохи и в каждой стране. Под личиной разума и добродетели всегда скрывается разрушительная сила, замешанная на лжи и страхе, приправленная кастовой самоуверенностью в благородстве собственных помыслов и поступков.
На самом деле, герр Дейм-Мюллер, это — циничные и жестокие монстры, пожирающие плоды трудов и творчества других людей. Они без устали вещают нам о христианстве, о десяти заповедях. А сами всюду снимают «сливки», паразитируя на таланте, профессионализме и бескорыстии простых людей. К сожалению, мой герр Дейм-Мюллер, так примитивно облапошивать себя позволяют почти все.
Люди созданы, чтобы служить Богу, жить по христианским законам. Но человек по натуре своей слаб и боится дать отпор злу., потому-то Зюсмайр и ему подобные парии присасываются к людскому сообществу и живут за их счет.
Заявлено довольно сильно, не правда ли герр Дейм-Мюллер? Теперь Вы знаете правду, хотя правда бывает разной, а истина одна. Может, поэтому правда не стоит того, чтобы ее знать? Далее, как сказано у Шекспира, молчание. Писать об этом грустно, и рука моя утомлена так же, как и мое сердце.
Надеюсь, что Вам хорошо работается.
Ваша Мария Магдалена Хофдемель».
«Брюнн, 29 сентября 1797 года.
Милый герр Дейм-Мюллер!
Это письмо — последнее, мой друг. Мне осталось совсем недолго быть здесь, я уезжаю. Не думайте обо мне плохо. Мой сын Вольфганг уже большой, ему 6 лет. Я знаю только одно, что моему сыну не надобно, как отцу, опасаться завистников, которые могли бы посягнуть на его жизнь. Он не так велик и гениален, как его отец, Вольфганг Моцарт. Я постараюсь ему найти достойное занятие, поскольку люди нашего круга живут другими категориями: не работают, а подыскивают себе занятие по душе.
Ну а те кошмарные события, словно Ивиковы журавли, возвращают мою память к тому ужасному декабрю 1791 года. Просто я чувствую себя, как наш старый кот, который делит со мной весь домашний прозаический быт: я утратила интерес к пище и совсем высохла. Но мне кажется, что внутри я светла и прозрачна, как воздух весенним утром, когда солнце нежно освещает каждую проснувшуюся травинку.
Я была на пятом месяце беременности, ошеломленная и опечаленная внезапной смертью Моцарта, но все-таки пошла на похороны.
Мне сказали, что Констанция больна, и лежит в постели от шока. Я уже потом узнала, что она была совершенно здорова, как мне передали: на лице у нее не было даже признаков печали. Тем самым расчетливая женщина избежала всех хлопот, связанных с погребением Моцарта. Констанция так и не попрощалась с покойным — ни на отпевании, ни на кладбище. Как мне поведали много позже, Моцарта похоронили в общей могиле, 6 декабря 1791 года.
На гражданской панихиде возле собора св. Стефана, показавшейся мне очень странной и даже подозрительной, я почувствовала, что устала от всего, что не в силах больше жить. То была опустошенность от потери горячо любимого мной человека, усталость подкрадывающейся смерти, — ведь беременные женщины читают мысли на расстоянии, разгадывают все головоломки, поставленные жизнью и судьбой.
Какова предыстория трагедии, происшедшей у нас в доме в день похорон Моцарта?..
Франц был страшным ревнивцем, он точно зверь чувствовал, что я больше не принадлежу ему целиком. Не рассудком, но самыми потаенными глубинами своего существа он понял, что распалась та цепь, которая — через мое тело — привязывала его к земле. И он взревел от боли, как загнанный в угол зверь, круша все на своем пути.
Тогда и началась непримиримая тяжба, борьба за меня, за обладанием мной. Но все было напрасно. Франц увидел во мне воплощение зла. Я не винила его за то, что его любовь так быстро обернулась ненавистью. Разве зверь не уничтожает то, что любил больше всего на свете, когда его чрево уже переполнено? Я любила сына, как ни одно живое существо; любила так сильно, что отдала бы его Вольфгангу, если бы верила, что это будет ему — сыну — во благо.
Констанция раздула всю эту историю (либо по собственной инициативе, а скорее — по наущению сверху через известные фамилии: Штадлер — Зюсмайр — Сальери — Вальзегг цу Штуппах — Ван Свитен).
Она была по сути мелочной, самовлюбленной, жадной и примитивной и крайне эгоистичной женщиной. Просто воспользовалась случаем — то ли из-за мстительности, то ли по холод-ному расчету, но встретилась с моим мужем Францем Хофдемелем и по-бабьи эмоционально, в «картинках» проинформировала о «любовной связи» — нашей с Вольфгангом. В трагедии все гениально просто, как это показал в своих шедеврах великий Шекспир.
Вы по-прежнему жадно расспрашиваете меня. Этого следовало ожидать. У умудренных жизнью людей, как Вы, всегда много вопросов, и каждый из них самый важный и неотложный.
Не на все я могу ответить — не из недоверия, а оттого, что времени остается все меньше, а я слабею с каждым часом.
И что же действительно произошло 6 декабря 1791 года в нашем доме № 10 по Грюнангерштрассе, первый этаж которого мы занимали целиком? И почему трагедия нашей семьи, шокировавшая даже императорский дом и становившаяся предметом обсуждения среди венской интеллигенции всякий раз, как только речь заходила о смерти бога музыки, взбудоражила всю Вену и долгое время была окутана тайной? Посудите сами. Кошмар в нашем доме последовал на следующий день после загадочной смерти и не менее странного погребения В. А. Моцарта.
Прав был известный писатель, когда утверждал, что нельзя понять великих, не изучив темных личностей с ними рядом. Итак, по порядку.
Когда я возвратилась из собора св. Стефана, где состоялась панихида по умершему днем раньше Моцарту, муж набросился на меня с ножом в руке с намерением убить. Я была на пятом месяце беременности. Мой крик и крик моего годовалого ребенка спасли нам всем троим жизнь. Потому что наши крики привлекли внимание соседей. Открыть дверь им никак не удавалось. И тогда ее просто выломали. Меня нашли в бессознательном состоянии, с многочисленными кровоточащими ранами на шее, груди, руках; лицо было обезображено. Меня с трудом выходили с помощью двух врачей, но моя внешность — внешность монстра — так и осталась клеймом на всю жизнь.
Франца Хофдемеля обнаружили, только сломав вторую дверь: он лежал на своей кровати с перерезанным горлом, еще сжимая в руке нож, — Франц покончил с собой.
Странности продолжались. Та же «Венская газета» назвала дату смерти Франца Хофдемеля 10 декабря, то есть его день похорон. Разумеется, тоже неслучайно. Судите сами. На Грюнангерштрассе, 10 великий маэстро был частым гостем. Во-первых, они были с Францем братья по масонской ложе, ну, а во-вторых, Вольфганг музицировал, давая мне уроки на клавире. По всему было видно, что Вольфганг души во мне не чаял, преклоняясь перед сочетанием моей неотразимости салонной леди и многогранностью творческой натуры. Из всего этого вылепили примитивный адюльтер.
Потом в одной венской газете от 21 декабря 1791 года сообщалось, что сама ее величество императрица взяла под свое покровительство меня, как вдову самоубийцы, как только миновала угроза жизни, и что меня отправили к отцу в Брюнн, чтобы благополучно разрешиться вторым ребенком.
Хотя, мой дорогой герр Дейм-Мюллер, невооруженным глазом было видно, как королевский двор и лично сам Леопольд II осуществляли строгий патронаж надо мной, чтобы локализовать и скрыть похороны вдруг умершего Моцарта за ширму случившейся у нас трагедии. Высылая в отчий дом меня, кайзер якобы спасал несчастную женщину от назойливых репортеров. В то же время, монарх стремился показать, как он разгневан происшедшим, недвусмысленно намекая на некую нашу «любовную интригу», интригу Магдалены и Моцарта. На это же указывало и то, что император великодушно позволил мне похоронить моего мужа Франца Хофдемеля на кладбище в отдельной могиле, как христианина и добропорядочного католика, а не самоубийцу (ведь, в соответствии с порядком, палач бросал в безвестную яму покончившего с собой, труп которого предварительно зашивали в коровью шкуру).
Совпадение это или нет, но происшедшая наша фамильная трагедия напрочь отодвинула смерть великого Вольфганга Амадея.
Почему смерть Моцарта скрыли, словно позор, вместо того, чтобы обставить торжественно, как кончину великого мастера или вельможи? Ведь в обычаях нашей эпохи, венцы умели хоронить с помпой. А тут фигурирует некая узкая группка лиц, даже не дошедшая до безымянной могилы. В этом-то всеобщем умолчании (похожем скорее на заговор), которое окружало тайну загадочной смерти молодого и знаменитого композитора, а затем последовавшие за этим не менее загадочные похороны и погребение, и зарыта пресловутая собака.
Да, герр Дейм-Мюллер, вопреки той лжи, которую Констанция поведала свету, я дважды виделась с Вольфгангом. Я приходила в квартиру к Моцартам беспрепятственно, вплоть до его смерти. Первая встреча прошла за две недели до кончины великого композитора. Констанция с Зюсмайром были на лечебных водах в Бадене. Моцарт оставался по сути один — служанка Леонора или, как он ее называл, фрау Лорль не в счет. Я только повстречала у Вольфганга доктора Николауса Клоссета, который, оказывается, методично посещал слегшего от недуга маэстро.
Если в июле 1791 года Вольферль жаловался на боли в пояснице, слабость, депрессии, обмороки, крайнюю раздражительность, боязливость и неустойчивость настроения, то в ноябре у него был уже целый букет: рвота, общий отек, дурной запах, жар. Несмотря на это, Моцарт записывал музыку на нотную бумагу и был работоспособен до последнего момента. Эпизодически приходила свояченица Моцарта Зофи Хайбль, она сшила со своей мамашей Цецилией Вебер для Моцарта специальную ночную сорочку, так как он не мог поворачиваться в постели, — его тело, а также руки и ноги опухли.
Я не узнала Вольфганга, он плохо выглядел; лицо маэстро стало совсем бледным; его мучили головные боли. Но по его печальным глазам были видны таящиеся в душе порывы любви, которые с трудом пробивались сквозь измученную болезнью оболочку его несчастного тела.
Какое это было счастье — видеть его. Как я любила его изумленные большие глаза, крупный упрямый нос и пухлые губы. Как я люблю его поныне. Мы провели в той громадной комнате его дома бесконечно короткую ночь. Это был предрассветный час, самый темный в ночи. Я взяла его за руку и погладила лоб. Он улыбнулся, и в этой улыбке я увидела, что происходит, когда страсть вступает в пределы смерти. Она не умирает, она лишь превращается в некую тончайшую субстанцию, полную света жизни.
Он поведал мне о том, чего хотели от него те, кто точно рассчитал час его смерти, — они являлись ему то на улице, то приходили ночью, прямо домой. И именно в те моменты, когда у маэстро начиналась обморочная лихорадка. Они пообещали вернуть ему жизнь и исполнить все его желания, только он должен стать не тем, кто он есть. Вольфганг в гневе выгнал их вон, а потом он рассказывал мне, плача навзрыд, не обращая внимания, что кто-то услышит его. Он мне рассказывал сквозь слезы, стоявшие в глазах, что жизнь начиналась так прекрасно, что он еще недавно был полон новых задач и свершений. Его «Волшебная флейта» открывала совершенно иные горизонты творчества, и вот у истоков этого нового парадиза, роскошества замыслов, была запущена испытанная машина смерти или попросту средневековая аптека, медленно, но верно убивавшая его изнутри, безжалостно руша материальную оболочку, изгоняя его душу вон. Вопрос времени: сколько продержится его бренное тело — несколько дней, неделю или месяц?
— Мария, нам нужно расстаться — прямо сейчас, немедленно, — глядя с любовью в глазах, сказал он мне. — Иначе этот черный вихрь закружит и поглотит тебя.
Не было ни горьких упреков, ни слов прощения. К чему они? Он с мольбой в голосе попросил только:
— Мария, держи язык за зубами и будь подальше. Ты сама сумеешь защитить себя своими достоинствами.
Но тут я решилась и сказала:
— Вольфганг, если у нас будет сын, то я назову его твоим именем.
Он как-то неестественно рассмеялся, затем так светло и тихо проговорил:
— Спасибо, милая Магдалена, ты меня окрылила, я — счастлив, и счастлив навсегда.
Потом умоляюще посмотрел на меня и тихо проговорил:
— Уходи, любовь моя, пожалуйста, а то я буду переживать за тебя и нашего, нашего сына.
Я не пролила ни слезинки. Я только молила Всевышнего, чтобы Он позволил мне быть рядом с ним в его последний час. Я знала, что мои молитвы будут услышаны. Бог не мог отказать мне в этом. Я отправилась домой и стала ждать.
Подле его постели была свояченица Констанции Зофи Хайбл. Это была простая, но искренняя женщина. Мы с ней нашли общий язык. По непонятным мне причинам Констанции не было — она как будто пряталась где-то; иногда появлялся его секретарь Зюсмайр, молчаливый молодой человек, и тут же исчезал.
Уже много позже, перебирая то, что рассказывала мне Констанция у меня дома «на посиделках»: про свое детство, юность, я пришла к неожиданному выводу: она тоже была как-то замешана во всем том, что случилось с Вольфгангом Моцартом и трагедией в нашем доме — смертью моего мужа Франца Хофдемеля. Судите сами, герр Дейм-Мюллер. Таковы мои размышления на сей счет»
* * *
И тут, отвлекшись от писем Марии Магдалены Хофдемель, я сравнил этих двух женщин, сыгравших знаковую роль в жизни и творчестве гениального Моцарта. Жена Констанция умела поддерживать атмосферу очаровательного жеманства. В ранней юности она проводила много времени в театре. Возможно даже, что ее отец и суфлер Фридолин Вебер стал водить ее туда за руку, едва она научилась ходить. Можно представить себе, как она садилась рядом с отцом и смотрела, как по сцене ходили взад и вперед восхитительно одетые мужчины и женщины, странно загримированные, и говорили совсем не так, как обыкновенные люди на улице и дома. И вот с замужеством театральные подмостки перекочевали к ней в дом вместе с Моцартом. Теперь актеры и актрисы вновь появлялись перед нею, приводимые мужем Вольфгангом, сестрой Алоизией или их друзьями и коллегами; и жизнь ее мало отличалась от зингшпилей и опер.
Плохо подготовленная для понимания серьезности и трагического благородства ее бытия рядом с гением, уроками его матери, которая сама была ужасно посредственна сердцем и умом, Констанция, однако, заслуживала благодарности мужа хотя бы за то, что не мешала и не докучала ему в работе.
Что тут еще можно добавить или убавить? Вся жизнь для Констанции была театром, а театр — жизнью. А то, что произошло с великим Моцартом — уже дело техники, о чем приходится размышлять только на лестнице, как говорят французы.
* * *
«Обстановка в доме, где жили Моцарты, позволила мне совершенно открыто быть рядом с умирающим Вольфгангом. Но и нам не пришлось ждать долго, герр Дейм-Мюллер. За час до смерти Вольфганг потерял сознание. Мы думали, что он уснул. Я прикоснулась к его руке, попрощалась мысленно с ним и засобиралась домой. Бог услышал мои молитвы. Он всегда слышит молитвы тех, кто поклоняется Ему за счастье жить на этой Земле.
Наступал новый день.
Я знала: пора. Зофи сказала, что Вольфганг спит и всем пора по домам. День обещает быть нелегким.
Я уехала к себе. Франц не спал и встретил меня несколько отчужденно. Я сказала ему какую-то отговорку-нелепицу, которую он равнодушно выслушал и удалился в апартаменты.
Мне показалось, что у него по работе какие-то трудности.
Я легла спать и сразу же заснула. Проснулась поздно. От внезапного удара в окно, как будто кто-то кинул в стекло камень или палку. Я сильно перепугалась и даже закричала. Душу наполнило чувство ужаса, страх неопределенности.
Тут вошел Франц и, не глядя в глаза, сообщил мне про смерть Моцарта.
Я не удержалась и расплакалась.
— Похороны завтра, 6 декабря, — монотонно добавил Франц и удалился.
Прощание с телом должно было состояться в три часа пополудни в храме св. Стефана — это недалеко от нашего дома, но я решила прийти пораньше.
Как уж я дожила до утра, одному Богу известно.
На другой день, перед моим выходом из дома, произошло странное событие. С улицы раздался зловещий свист, затем ухнуло, — как будто загорелся порох сигнальной ракеты. Потом раздался удар в черепичную крышу нашего дома, и все стихло. Тогда я вспомнила про вчерашний удар в окно моей спальни. Наверняка, это были какие-то знаки, связанные со смертью Вольфганга.
Скоро я была у церкви св. Стефана. Еще никого не было. Ни катафалка с телом Моцарта, ни пришедших проститься с великим композитором. Меня это насторожило.
И вот показались дроги с гробом и небольшая кучка провожающих, среди которых я узнала барона Готфрида Ван Свитена, Антонио Сальери, секретаря Франца Зюсмайра.
Отпевание проходило в Крестовой капелле.
Как был прекрасен мой Вольферль на жутком смертном одре! Исхудалое лицо его стало восковым и напоминало лик святого с древней русской иконы. Вольфганг будто спал глубоким, тяжелым сном. Казалось, вся музыкальная аура проистекла из его оболочки-плоти и рассеялась по комнате.
Мне вдруг показалось, что Вольфганг откроет глаза, увидит меня и, улыбнувшись, скажет:
«Магдалена, иди сюда, хватит валять дурака!».
Но вдруг загудел ветер за дверьми капеллы, раздалась дробь ударов в стекло, что-то ухнуло и со свистом улетело куда-то вверх. Упала мертвая тишина.
«Господи, так это же душа Моцарта!», — подумала я и захотела поделиться с кем-нибудь из пришедших на отпевание.
Я оглянулась вокруг: буквально все кругом было наполнено или чувством горечи, или утраты; тихой грустью веяло от гроба с телом Вольфганга. Я с недоверием подумала, что никогда не зазвучит рояль под пальцами великого композитора. Не послышится его заразительный смех, скорый шаг. Без него в этом мире все будет уже не так, а как-то совершенно по-иному. Я чувствовала это женским нутром, ибо это и есть истинное знание.
То, что я приходила к смертному одру Моцарта в собор св. Стефана, стало известно всей Вене.
Католические князья Мигацци из Вены, Коллоредо из Зальцбурга, а также барон Готфрид Ван Свитен, Антонио Сальери, Вальзегг цу Штуппах, а также аббат Максимилиан Штадлер,
Франц Зюсмайр и все остальные, те, кто плетет тайные сети догляда, чтобы опутать ими нас, поднадзорных, они продают свои души дьяволу в обмен на власть. Они не понимают, что теряют и Бога, и правду, и совесть при этой сделке. Сами того не ведая, они живут в выдуманном, условном мире. Эти бездушные существа плодятся и размножаются, они населяют землю своими потомками, такими же живыми трупами, поклоняющимися фальшивым богам и лживым святыням. Они бесконечно высокомерны и самонадеянны, но те, кто выше их — «великие мира сего», — с легкостью обводят их вокруг пальца. Те же, в свою очередь, дурачат простых людей, отнимая у них все самое ценное. Причем, эти простофили из народа даже не понимают, что именно в них самих заключена божественная сила.
Чтобы свободно жить, человеку не нужно ничье разрешение.
Порою, сидя у окна в предзакатный час, я вижу то, чего ни одна женщина видеть не должна, то, что страшнее самой смерти. Те же видения являются мне и во сне. По улицам прогуливаются не люди, а манекены — женщины и мужчины — с пустыми глазами и со злобой в сердцах.
Кажется, они напрочь забыли как пахнет утро или как первый луч солнца ласкает кожу лица. Главное, что на башмаках у них — ни пылинки, и они с важностью рассуждают о том, об этом — обо всем, упиваясь собственной «мудростью». Земля стала тюрьмою для их душ. То, что смертельное равнодушие выстудило живой человеческий дух, ужаснее всего.
В таком мире, как наш, в мире, который мы сами сотворили собственными руками, сможет выжить, как мне кажется, только художник. Не ремесленник, не фабрикант, не ландскнехт и даже не правитель. Только художник, у которого есть своя мечта, он без колебания вступает в схватку с собственной душой, он отрицает закон толпы и бросает вызов слепящей тьме. И когда молния сжигает его дом, когда пламя пожара опаляет его плоть, когда сгорают все мечты, когда некуда бежать, он благодарит Бога, что остался жив. И в пустоте, на пепелище, он возрождается как Феникс из пепла, воплощая в жизнь свой новый пламенный замысел. Таким был Вольфганг Амадей Моцарт, мой дорогой герр Дейм-Мюллер, и, раз уж вы спросили про сына, то я подтверждаю: при крещении я дала ему имя Вольферль, поскольку Моцарт был его отцом.
На этом, моя сказка-быль заканчивается.
А теперь — Ваша история, граф Дейм-Мюллер. Какова она будет?
Мария Магдалена Хофдемель»
Эпилог
«Гении и есть та продуктивная сила, что дает возникнуть деяниям, которым нет нужды таиться от Бога и природы, а следовательно, они не бесследны и долговечны. Таковы все творения Моцарта. В них заложена животворящая сила, она передается из поколения в поколение, и ее никак не исчерпать, не изничтожить»
«Разговор с Гете» Эккерман, Иоганн ПетерЯ прошу читателя извинить меня за излишнюю нагруженность книги недомолвками, вольными или невольными загадками, таинственными серыми посланцами. Поскольку «тайна сия велика». И вот еще одна, надеюсь, что последняя эстафета.
Наконец-то я смог прочесть все манускрипты целиком. Разительная перемена, произошедшая во мне и моей жизни с того момента, как рукописи попали в руки, убедили меня в том, что сам текст и та сопережевательная миссия, которой он пронизан, не могут не вызвать нравственный «ветер перемен». Возможно, высокое предначертание этой рукописи в том, чтобы избавить человека от отравляющего малодушия и собственного бессилия?
Кто знает, может быть, фабула, сюжет и текст — всего лишь намек к переустройству или преображению окружающего мира? Как, например, те же невидимые законы природы, которые заставляют всех тварей на земле рождаться, расти и гибнуть, а веществу — участвовать в постоянном круговороте на Земле или его взаимному обмену.
Именно это и произошло со мной, когда я прочитал рукопись. Не знаю, в чем тут дело, но заслуживает ли все это вместе таких страданий? Посмотрим.
Что стоило, к примеру, для меня неожиданная смерть моего приятеля Виктора Толмачева — поклонника великого Моцарта, талантливого популяризатора и музковеда, направившего меня к русской графине первой волны Вере Лурье, а, по сути, — в самое сердце Моцартианы? Но это было только начало моего утомительного и жестокого steeplechase.
Из пяти исследователей, с которыми я поддерживал деловые и творческие отношения, в живых остался только один, доктор медицины Гунтер Карл-Хайнц Дуда. Он был участником триумвирата врачей, создавших блестящую россыпь книг о великом композиторе Вольфганге Моцарте. Уроженец Верхней Силезии герр Дуда, прекрасно совмещает деятельность врача-терапевта в Мюнхене с изучением всех перипетий жизни и смерти Моцарта. Этой тайне посвящены многие работы д-ра Дуды, в частности книга «Конечно, мне дали яд».
После выхода в свет обеих книг трех врачей, их авторы продолжали изучение обстоятельств гибели Моцарта, включившись в полемику с апологетами Сальери, в которой приняли также участие музыковеды, врачи и пушкинисты нашей страны. Тема Моцарта нашла в России талантливых последователей великого композитора в лице А. Пушкина и Н. Римского-Корсакова, Г. Чичерина, А. Улыбышева, И. Бэлзы.
2 ноября 1981 года преждевременная смерть оборвала жизненный путь доктора медицины, ведущего патографа Германии Дитера Кернера. Этот замечательный человек, врач и ученый, бесстрашно обращался к сложнейшим проблемам истории вообще и истории культуры, в частности. Врач по образованию, он с участием подлинного гуманиста думал и писал о человеке, его страданиях и завершении жизни, глубоко вникая во все тонкости терапевтического искусства, фармакологии и страшной науки, получившей название от имени неумолимого бога Танатоса и начавшей развиваться благодаря неустрашимой мудрости Леонардо, науки о смерти — танатологии.
Именно участие к страданиям человека породило создание обоих томов «Болезней великих музыкантов» Д. Кернера, и побудило его сосредоточиться на тайне смерти Моцарта и сделать столь весомый вклад в раскрытие этой тайны, волновавшей его буквально до последних дней жизни. Доктор Кернер и его соавторы отлично понимали сложность проблем, связанных не только с раскрытием загадки ХVIII столетия, но упорными попытками скрыть истину, длящимся, как уже говорилось, двести с лишним лет.
Мое участие в этой истории развивалось столь стремительно, что я даже не успевал проститься с тем или иным персонажем этого реального триллера, в сценарий которого его угораздило попасть. Словно могучим торнадо, судьбы вольных или невольных участников этого повествования были вовлечены в этот смертельный вихрь; и провидение внесло в свой мартиролог новые печальные коррективы.
Меня до сих пор тревожит неожиданный уход Дитера Кернера; тело этого талантливого доктора и литератора находят в одном из тупиков коридора в госпитале Майнца. Диагноз: тромб в сердце. Дело мужа продолжила его жена Сильвия Кернер, которая передала мне ряд материалов и рукописей мужа.
И тут новая потеря, о которой сообщил Гунтер Дуда: внезапная кончина доктора филологии Вольфганга Риттера.
Пришел черед и баронессы Веры Лурье, русской лирической поэтессы, эмигрантки первой волны. Следы обрываются. Остаются манускрипты, письма, документы, книги. Все это я взял с собой. Для работы, для исследования, а значит для того, чтобы восторжествовала истина.
Главное во всем хаосе событий и проблем было то, что я смог воочию удостовериться, как много искренних и честных людей оказалось в сфере моих интересов. Доктор Николаус Клоссет, скульптор и художник граф Дейм-Мюллер, очаровательная женщина, любимая ученица Моцарта Мария Магдалина Хофдемель, профессор истории музыки Гвидо Адлер, русский композитор Борис Асафьев, музыковед и композитор Игорь Бэлза, баронесса Вера Лурье, немецкие исследователи Гунтер Дуда, Дитер Кернер, Вольфганг Риттер. Все они — реальные персонажи истории, существовавшие на самом деле и внесшие свою лепту правды в историю жизни и смерти великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Все перипетии, произошедшие со мной, а, главное, тот внутренний переворот в моей жизни с тех дней, как только я коснулся этой темы, я соотношу только с Всевышним. Более того, как только рукописи оказались у меня, я стопроцентно убедился в том, что ничего случайного или хаотичного в нашем мире нет. Закадровый подтекст всех рукописей, документов и реликвий — та душевная боль, та искренняя тревога, которой они пронизаны, а потому не могут не откликнуться в сердцах ныне живущих.
Трудно говорить, чего больше во всем, что случилось со мной. Постижение некого великого смысла или достижение судьбоносной цели, благодаря этим рукописям, этим знаниям?
Наверное, так оно и есть. Стать мудрее, найти свой путь к храму, к вере, чтобы отрава безверия, собственное бессилие не убили в человеке человека. А может быть, написанные тексты — всего лишь знак перемен, перст Божий, приближение долгожданного мига преображения человечества?
Мне тоже пришлось приложить руку к этой рукописи. И я горжусь тем, что внес свою лепту в разгадку истории жизни и смерти великого композитора Моцарта.
Quod erat demonstrandum[17]
«Если живым — уважение, то мертвым — только правду».
ВольтерКо второму письму Марии Магдалены Хофдемель ее корреспондент герр Дейм-Мюллер приложил небольшой белый конверт, на котором чьей-то женской рукой было изящно выведено: «Прядь волос герра В. А. Моцарта, 5 декабря 1791 года». В конверте на кусочке картонки — длинная прядь волос, срезанных герром Деймом-Мюллером сразу же после смерти Моцарта. Белокурые, чуть с рыжеватым отливом волосы, мягкие на ощупь были прикреплены двумя скобками к поверхности прессованной бумаги.
Обнаружив эту реликвию, я несказанно обрадовался: прядь волос самого Вольфганга Моцарта! Это было нечто запредельное, что осталось от маэстро. Наконец-то утихли ожесточенные споры о подлинности черепа Моцарта (он изъят из экспозиции в Моцартеуме Зальцбурга). С посмертной маской получилось иначе: хранители Грааля на родине Моцарта сплотились в дружном неприятии этой реликвии, связанной с великим маэстро, хотя доказательств ее подлинности более чем достаточно.
Как-то встретившись с академиком РАЕН Александром Михайловичем Портновым, мы разговорились об истории вскрытия специальной комиссией Министерства культуры СССР в 1963 году гробницы Ивана Грозного, его сына Ивана Ивановича, якобы убитого царем в 1581 году, а также царя Феодора Ивановича и воеводы Скопина-Шуйского. Анализ останков Ивана Грозного показал, что в них резко повышена концентрация одного из самых ядовитых для человека металлов — ртути! Содержание ртути достигало 13 граммов на тонну, и это притом, что в живом веществе среднее содержание этого металла — всего лишь 5 миллиграммов на тонну, а земной коре — 45 миллиграммов на тонну! Однако даже установленное содержание — 13 граммов на тонну — более чем достаточно для тяжелейшего отравления, изменения психики и генного аппарата. Можно сказать, что ртуть сыграла зловещую роль в истории Древней Руси: она сделала царя сумасшедшим со всеми вытекающими последствиями для внешней и внутренней политики страны, а также привела к вырождению «наследников варяга» — царского рода Рюриковичей.
— К сожалению, при вскрытии гробницы Ивана Грозного волосы его не были изучены, хотя они и сохранились, — добавил Александр Михайлович.
От А. М. Портнова я узнал, что анализ волос для выявления ртути высокочувствительным нейтронно-активационным методом не представляет особых проблем и давно отработан физиками-ядерщиками.
Поскольку у меня оставались хорошие связи, — а я сам работал в атомной энергетике, — то мои интересы сфокусировались на лабораториях того же Государственного научного центра (ГНЦ), где уже 60 лет физики-ядерщики с успехом разрешали многие проблемные задачи атомной энергетики и ее приложений.
Проконсультировавшись у ученых-токсикологов, я выяснил, что волосы превосходно подходят для измерения содержания ртути в человеческом теле, поскольку этот яд, попадая внутрь человека, его организмом выталкивается в волосы.
Итоги расследования, предпринятые мной, могли бы иметь знаменательные последствия.
Если график содержания ртути в волосках из пряди Моцарта даст график с максимумами и минимумами содержания ртути, то подтвердится версия отравления ртутью маэстро, которую выдвинул и обосновал триумвират врачей их Германии: Иоханнес Дальхов, Дитер Кернер и Гунтер Дуда.
Нет необходимости in extenso пересказывать подробную клиническую симптоматику ртутной интоксикации. Если вкратце, то ее проявления таковы: депрессия, бессонница, угнетенное состояние, мания преследования, галлюцинации, бредовые идеи, сумасшествие.
В Средневековье в Европе была известна «болезнь сумасшедшего шляпника». Она была распространена среди мастеров-шляпников, которые использовали ртутные соединения при изготовлении фетра; не случайно Льюис Кэрролл выводит среди персонажей «Алисы в стране чудес» сумасшедшего шляпника, совершающего нелепые поступки. В наше время массовое отравление ртутью произошло в Японии, где на острове Кюсю в городе Минамата работал химический комбинат, сливавший отходы в море. Тысячи японцев отравились и умерли, используя в пищу моллюсков и рыб, выловленных в заливе Минамата.
Итак, вернемся на 200 лет назад, в Вену.
Поскольку дифференциально-диагностические исследования исключают как хроническое заболевание почек, так и сердечную недостаточность, остается только отравление ртутью. При этом речь идет о почти смертельной интоксикации, начавшейся с июля, за которой в середине ноября последовала смертельная доза, после чего Моцарт, успев продирижировать кантатой на 18-ти листах, на 18-й день он умер. Странный вид тела, а также опухоли, выступившие после смерти, дали повод к очень скорому распространению слухов об отравлении» (Кернер), ведь Моцарт не прерывал работу до последнего момента. С июля месяца по 4 декабря 1791 года, кроме Увертюры и Марша жрецов к «Волшебной флейте» и «Titus», он успел закончить еще три крупных сочинения. А все это время его ученик постепенно убивал композитора достойным его звания ядом — Меркурием, идолом муз (то есть ртутью). Мало того, что яд нес символическую нагрузку, он был и редким в применении, так что многие врачи за всю свою практику просто не встречались с ним. Скорее всего, отсюда-то и пошли многочисленные ложные толкования смертельной болезни Моцарта.
Из всех симптомов, дошедших до нас благодаря биографам Немечку и Рохлицу, старшему сыну Карлу Томасу Моцарту, английской чете Новелло и последней рукописи (масонская кантата К. 623), достойны рассмотрения, по мнению Дитера Кернера, следующие: боли в пояснице, слабость, бледность, депрессии, обмороки, раздражительность, страх, неустойчивость настроения, генеральный отек, лихорадка, ясное сознание, способность писать, экзантема, tremor mercuralis, дурной запах, смертельный привкус, опухание тела.
Картина для специалиста вполне понятная. В конечном счете, остается одна лишь «почечная симптоматика». Причем, предстоит определить, умер ли Моцарт в результате ртутного нефроза или в результате инфекционного хронического нефрита, то есть сморщенной почки. Если отбросить в сторону специфические симптомы, — все говорит за нефроз в результате приема сулемы: с одной стороны — предчувствия в отравлении самого Моцарта, которые он открыто высказывал, и с другой — утверждение, что он «уже на языке чувствовал горький привкус смерти», не говоря уже о слухах об отравлении, ходивших по Вене.
Отравление сулемой — HgCl2 — (здесь доза ниже 0,2 г) в продроме сублиматного нефроза внешне проявляется, прежде всего, через депрессии и тремор (mercuralis), симптомы, выявленные у Моцарта однозначно. За это же говорит типичный привкус Liquor mercurii (ртутной настойки, — лечебный препарат, — прим. авт.), ощущавшийся им еще в июне 1791 года. Наконец, при превышении дозировки все это приводит к лихорадке и экзантеме (как в Праге в августе-сентябре 1791 года, когда маэстро периодически терял сознание).
В заключение сублиматный нефроз (если доза все повышается и нефроз хронифицируется) приводит к полиурии, затем к анурии и заканчивается летальной уремией (смертельное отравление мочой). Действие на центральную нервную систему выражается в тошноте, рвоте и судорогах. Все другие (достоверные) симптомы, которые проявились у Моцарта, вписываются в общую картину сублиматного нефроза.
За последние полгода В. Моцарт пережил три приступа острого отравления: август-начало сентября (15.08.1791 г — 07.09.1791 г), середина ноября (15.11.1791 г — 20.11.1791 г), конец ноября — начало декабря (28.11.1791 г — 04.12.1791 г). Первые проявления отравления появились с 15.06.1791 г по 15. 07.1791 г.
Сопоставляя даты приема яда, вычисленные по данным суточного прироста волос, и ежедневные описания признаков болезни последних месяцев жизни В. Моцарта из разных источников, можно будет реконструировать день за днем историю преступления. Невероятно, но тогда можно было представить фактическое доказательство того, как был убит Моцарт. Или же, наоборот, нейтронно-активационный анализ мог опровергнуть эту версию.
Теперь нам не доставало только вещественных улик. Анализ мог показать постоянное содержание ртути в различных сегментах одного и того же волоска; это означало бы, что Моцарт не был преднамеренно отравлен, напротив — ртуть в его организм поступала ежедневно: может быть, из питьевой воды или же из какого-нибудь внешнего источника, например из ковров или портьер в его кабинете. А если содержание ртути в каком-то волосе не будет повышенным, то один из двух тестов произведен на волоске, случайно выпадающем из ряда. Подобные результаты только подорвут версию о намеренном отравлении.
Волосы композитора, доставшиеся нам для исследования, по сути, от герра Дейма-Мюллера, идеально подходили для подобного нейтронно-активационного анализа в одном из известных атомных государственных научных центров (ГНЦ), ибо они были не острижены, а сбриты под корень в день смерти Моцарта. Вот почему их сегментный анализ можно будет провести с точностью до одного дня, что позволит определить даты абсорбции всех доз яда. Известно, что волосы растут с постоянной скоростью 0,35 миллиметров в день, то есть около 1,5 сантиметра в месяц. Следовательно, за 6 или 7 месяцев они вырастут максимум до 9-10 сантиметров (волосы из пряди В. Моцарта как раз были нужной длины: от 9 до 15 сантиметров).
В момент кончины Моцарта его волосы, — а, следовательно, и тело, — должны были содержать «необычно высокую» дозу яда. А сколько точно — можно было узнать с помощью методологии, разработанной и применяемой уже не одни десяток лет физиками-ядерщиками.
Итак, в нашем распоряжении оказались несколько волос из пряди В. А. Моцарта, срезанной в день смерти — 5 декабря 1791 года герром Деймом-Мюллером…
Известно, что волосы превосходно подходили для измерения содержания ртути в человеческом теле, поскольку этот яд, попадая внутрь человека, его организмом выталкивается в волосы. Напомним, что для современного анализа вместо нескольких граммов, то есть примерно до тысячи волос, для исследования нам было достаточно нескольких штук, а можно было ограничиться и всего одним экземпляром.
Объединив усилия и используя нейтронно-активационный метод для выявления концентрации ртути в пряди маэстро, мы протестировали три волоска из его локонов.
Как известно, нейтронно-активационный метод используется для определения содержания интересующего вещества, наличие которого определяется в микрограммах. В данном случае — наличие элемента Hg (ртуть) в волоске маэстро, причем сегментный анализ позволит точно определить даты абсорбции всех доз яда, поскольку известна дата, когда волосок был сбрит. Волос запаивался в кварцевую ампулу, которая в течение необходимого времени помещалась в активную зону реактора ВВР-10 и подвергается бомбардировке потоком ядерных частиц для активации примеси Hg (ртуть). После чего ампула с волосками извлекалась из реактора, волосок делился на пятимиллиметровые сегменты, и проводились стандартные измерения активности.
По ходу этого необычного эксперимента у нас возникла масса вопросов. Может ли ртуть попасть в человеческие волосы из какого-либо внешнего источника? Возможно, Моцарт употреблял какую-нибудь мазь или препараты, содержащие ртуть, для лечения сифилиса? Или же яд мог накопиться естественным образом в волосах за долгие годы, разделяющие смерть Моцарта и нынешнее тестирование пряди волос композитора в том же атомном ГНЦ даст схожую картину?[18]
С этим вопросом мы обратились к академику РАЕН Александру Портнову, и он развеял наши сомнения:
— Нет, это исключено. Впитанная извне ртуть ведет себя совершенно по-иному. В этом случае яд должен отложиться в самом теле волоса, следовательно, проникнет через его корень, то есть обязательно выходит из организма человека. Если отравление происходило постепенно под воздействием среды (например, яд содержался в каком-то предмете, находящемся в комнате отравленного, или в воде, которую тот ежедневно пил), тогда анализ показал бы скорее постоянную долю яда в каждом сегменте волоса, что графически будет отражено прямой линией.
Если же ртуть попадала в организм большими дозами через более или менее равномерные промежутки, диаграмма покажет пики и спады.
Таким образом, если график содержания ртути в волосках из пряди Моцарта даст график с максимумами и минимумами содержания ртути, то подтвердится версия отравления ртутью маэстро, которую выдвинул и обосновал триумвират врачей их Германии: Иоханнес Дальхов, Дитер Кернер и Гунтер Дуда.
Итак, «нейтронщики», получив задание, взялись за дело. Волоски, порезанные на сегменты длиной в полсантиметра, были помещены в кварцевые ампулы и транспортированы в ядерный реактор, где подверглись термическому нейтронному облучению. Эти волоски прошли в общей сложности несколько десятков операций.
Вторичная эмиссия волосков была измерена дозиметрической установкой для последующего определения содержания в них ртути. Протестированные волоски дали великолепную и ожидаемую картину. Полученные результаты для более длинного волоска были отображены графически в виде кривой, пики которой соответствовали содержанию ртути от 30 до 75 граммов на тонну живого веса, то есть в 600 раз выше нормы!
Графическая кривая, вычерченная по этим данным, показывает, что яд, убивший Моцарта, попадал в его организм не из внешнего источника. Перед нами была предельно ясная картина ртутного отравления маэстро, как если бы она была взята из учебника. Не оставалось ни малейшего сомнения в том, что кто-то давал его Моцарту периодически и внушительными, но не смертельными дозами. Именно так должен был действовать убийца, если хотел замести следы, то есть регулярно подсыпать дозы яда, недостаточные, чтобы убить сразу, в надежде, что симптомы, проявляющиеся у жертвы, будут приписаны какой-либо иной причине. Это был классический метод..
Далее. Мы подкрепили свою диаграмму симптомами заболевания Моцарта из разных источников: родных, близких, коллег и знакомых. На ней были отмечены все даты и соответствующие этим датам симптомы, которые наблюдали у Моцарта его жена Констанция, биографы, коллеги, лечащие врачи — Клоссет и Саллаба, а также мнения других очевидцев. Скрепив вместе несколько листов бумаги, мы получили так называемый сводный график, где была добавлена линия-хроника, представляющая шесть последних месяцев жизни великого маэстро.
Мы сравнили высокие и низкие точки сегментной кривой с собственным графиком тех моментов острого отравления и последующей ремиссии, когда яд не давался. Причем моменты острого отравления и ремиссии у маэстро, согласно тестам и данным «классической литературы», были как близнецы-братья.
Например, в октябре 1791 года характер болезни Моцарта несколько меняется, самочувствие композитора — удовлетворительное; об этом он сообщает в письме Констанции, что впервые хорошо выспался и чувствует некоторое улучшение. А 18 ноября он последний раз появляется в обществе, когда продирижировал исполнением своей небольшой масонской кантаты — лебединой песней — на освящении храма. И с 20 ноября по 5 декабря 1791 года наступает агония, которая длится до дня смерти, то есть около двух недель. Тут дозы яда были явно завышены.
Итак, результаты тестирования волос Моцарта совпали с медицинскими показаниями и полностью соответствуют версии об отравлении маэстро.
Все это позволит ответить огнем на огонь, отразить традиционный скепсис астрийских, немецких и английских музыковедов и историков, отвергавших гипотезу об отравлении Моцарта, как абсурдную и не имеющую право на существование.
И еще один вопрос, но иного свойства. Если хотите, этического. Некоторые скептики уже выражали свои сомнения относительно правдоподобности выбранного преступником или преступной группой способа убийства Моцарта. И я адресовал его тоже академику РАЕН А. М. Портнову:
— Почему Вольфганга Моцарта надо было поджаривать на медленном огне? Ведь сильная доза могла бы помочь отделаться от композитора гораздо быстрее. Каждый день жизни композитора давал ему дополнительный шанс — создать очередной музыкальный шедевр, а значит обеспечить дальнейший стремительный взлет его карьеры, а успех самого капельмейстера
А. Сальери свести к бесконечно малым величинам? Зачем преступнику или преступникам было рисковать, оттягивая развязку?
— Вопрос, конечно же, не простой, — согласился Александр Михайлович. — Чтобы понять, как это случилось, надо ответить на другой вопрос: чего в действительности опасались те, кто устранял Моцарта? Взлет Моцарта начался в 1791 году, и, если бы не смерть, это означало стремительную карьеру, что Сальери отлично понимал. Однако он, чаще всего неопределенный в своих намерениях, из-за характера своей личности явно не был непосредственным исполнителем. Ортодоксальный католик и предусмотрительный тактик, он, ненавидевший гениального, но неверующего и беззаботного гения, не мог и не хотел устранять его сам, зато перепоручить свой замысел другому — это в его духе.
В честолюбивом психопате Зюсмайре он нашел то послушное орудие, которому и рискнул довериться. Искусство иносказательного выражения мыслей Сальери нам уже известно. Смотря по обстоятельствам, императорский капельмейстер начинает выражаться более определенно. Как этот разговор протекал у Сальери и его ученика вопрос другой, но вскоре после этого Зюсмайр становится учеником Моцарта. После смерти маэстро он вновь со своим патроном — императорским капельмейстером, и его ждет головокружительный взлет.
Далее. Нашлось достаточное число высокопоставленных лиц, разглядевших в «Волшебной флейте» революционное, безусловно, опасное выступление. Если уже премьера создала у публики впечатление чего-то истинно неповторимого и единственного в своем роде (а Моцарт был убежден в этом), то можно себе представить, с каким воодушевлением работали над оперой и Моцарт, и Шиканедер. Об этом говорят многочисленные свидетельства!
Сальери, видимо, очень рано был информирован об опере «Волшебная флейта» одним из тех, кто «близко стоял» к Моцарту. А это мог быть только Зюсмайр, который (при поддержке Сальери) готовился к собственной карьере и на пути его встал фактически только Моцарт, его наставник. Показные положительные отзывы Сальери о «Волшебной флейте», на премьере которой он присутствовал, — всего лишь дань светскому воспитанию. На душе у него было явно другое, и Сальери, должно быть, почувствовал, что в лице Моцарта перед ним — решительный соперник, который не только приготовился к новому творческому взлету, но и начал представлять серьезную угрозу засилью «итальянской оперы».
Именно поэтому должно показаться более чем странным, что Зюсмайр, будучи учеником Моцарта, этого непримиримого противника Сальери, сохранял с последним дружеские отношения.
Для верующего, очень патриотичного, но в творческом плане чудовищно эгоцентричного придворного капельмейстера в созидательной работе над «Волшебной флейтой» возрождался тот противник, имя которого прежде едва ли было достойно серьезного упоминания в окружении Сальери. Моцарт однозначно встал на его пути! Такое видение ситуации могло объединить и Сальери, и большинство католического духовенства. Он испугался, что выход на арену такого единственного в своем роде гения, как Моцарт, отодвинет его в тень.
Эта борьба развертывалась на конкретном политическом фоне, который не могли не учитывать ни Сальери, ни католическое духовенство. И если Иосиф II масонство терпел, то его наследник, Леопольд II, усмотрел в ложах зародыш революционных ячеек. Так что в то время масонство было актуальной темой для разговоров. С одной стороны, оно достигло своего апогея, с другой — находилось уже в стадии развала. Постановка «Волшебной флейты» отчетливо обозначила этот поворот!
Борьба за власть в то время была на повестке дня. Нельзя не обратить внимания на то, что именно Леопольд фон Зоннляйтнер (император) был одним из первых, кто, находясь вне масонских кругов, увидел в «Волшебной флейте» прославление масонства, а официально заявлено об этом было только спустя два года.
Тогдашний венский архиепископ Мигацци был крайне тщеславным вельможей, расположенным к интригам, который с другими князьями церкви, а это не только Иероним фон Коллоредо из Зальцбурга, но и многие католические высокопоставленные лица, образовывал некий вид «католической мафии». Казалось бы, при чем здесь смерть Моцарта, если бы не тот факт, что в эти круги был вхож и ортодоксально верующий Сальери. И очевидно, что имя Моцарта не раз звучало там.
В какой степени Мигацци, Коллоредо и Сальери обменивались мнениями (и относительно Моцарта), в данном случае несущественно. Тот же Коллоредо был склонен к жесткости и бесчувственному автократизму, к тому же он был человеком неблагодарным и при удобном случае любому давал понять, кто князь, а кто грязь. Сам Сальери относился к этим «деспотам и интриганам» с неизменным раболепием, подчеркивая при этом свой католический фанатизм. Творческое и личное соперничество итальянца по отношению к Моцарту — теперь уже неоспоримый факт. С другой стороны, и Моцарт был не без слабостей и не всегда демонстрировал коллегам добрые чувства. Только так следует объяснить безудержную злобу того же Леопольда Антона Кожелуха из Праги к Вольфгангу Амадею Моцарту, скрытую за чрезвычайной любезностью, не считая уже многочисленных посредственностей, непримиримо ненавидящих Моцарта. Действительно, его острый язык был известен многим, и кое-кто полагал, будто Моцарт был социально прогрессивным лидером, бросившим перчатку аристократии.
Эпилог после эпилога
Месяц назад я принял решение опубликовать рукопись. Я уверен, что это нужно сделать. Потому что весь этот труд не принадлежал ни мне, ни тем, кто помогал. Судьба, если можно так сказать, лишь дала эту рукопись нам всем взаймы. Моцарт, его музыка, а вернее — голос из высших сфер — вот тот светоч, который спас многих, в том числе и меня. От трусости, амбивалентности, закомплексованности. От смерти. Не знаю, сколько я пролежал в сырой тьме своего жалкого существования. Небытия. Несколько часов, дней, а может месяцев или лет? Я потерял ощущение времени, вращаясь как приводной ремень в той колеснице жизни, которая несется вперед без остановки.
И вот словно сработал стоп-кран, раздался скрежет тормозных колодок, и поезд-экспресс остановился. Наступила оглушительная тишина. Холод тесных каменных джунглей мегаполиса больше не вселяет в меня страх, я обрел способность четко мыслить. Страх улетучился. На смену ему пришла неведомая прежде легкость. Симптомы болезни, мучившей меня часами, днями, неделями, тоже исчезли. Теперь я чувствую себя так, словно каждая клеточка моего тела родилась заново. Грязь, сырость, плевки и блевотина окружающей жизни меня больше не трогают. Боль сменилась упоительной радостью. Одиночество закончилось. Я вдруг осознал, что стал частью целого, частью бесконечного процесса рождения и умирания. Та неотвратимая сила рока, что уничтожила меня, преобразила меня заново, и я сам стал частицей этой силы.
Я глубоко вдохнул — и это был мой первый вдох. Кто я? Я был только микрочастицей в океане света. Хотя нет, не так. Я был яркими звездами, далекими галактиками на небосклоне, космическим эфиром, безбрежным океаном, вольным воздухом; и, наконец, — тем перпетуум-мобиле, ежегодно одевающим пустынную землю в зелень деревьев, кустарника и трав. Они были мною, и я был ими; мы были единым целостным организмом.
Мою душу наполнили покой и умиротворенность. Казалось, что меня баюкает в руках древнегреческая богиня бесконечной доброты, терпения и всепрощения.
Аккорды волшебной музыки Вольфганга Моцарта, будто потоки света струились сквозь меня. Я растворился в них.
Я знал, что все те, с кем свела меня судьба: Виктор Толмачев, Вера Лурье, Надежда Науменко, Гунтер Карл-Хайнц фон Дуда, Сильвия Кернер, Эрика Вебер, — несть им числа! И не важно — увижусь я с ними или нет. Главное — я не одни, нас много. Я чувствовал, что это — свои люди, что я принадлежу к ним. И не важно, как их зовут, на каком языке они говорят и каковы их религиозные пристрастия. Важно только, что они искренни, честны перед самими собой и готовы отстаивать то, во что верю я, верят они. И еще. Им достает мужества — твердо стоять на своих ногах, иметь свое мнение, а главное — не перекладывать ответственность за собственную жизнь на политиков, чиновников, магнатов, авторитетов преступного мира.
Теперь я совершенно точно знаю, что такие люди есть в каждой стране, и нас объединяет нечто очень простое, но несравненно большее, чем религия или политическая система.
Мы связаны не жесткими законами и предписаниями, не высокопарными клятвами под знаменем некоего «благородного дела», а свободно и органично, как все живое в природе.
Мы заняты одним и важным: творим «наше дело», став в своем роде посвященными.
Я оказался в центре «моцартианы», благодаря случайному поручению Виктора Толмачева. Но было ли это случайностью? После всего, что со мной произошло, начиная с того дня, когда я познакомился с фрау Лурье, я начал задумываться: бывают ли вообще случайности? Или все мы бьемся в живой сети причин и следствий? И только «имеющий глаз да увидит, имеющий уши да услышит».
Внезапно я осознал, что эта хрупкая женщина из предместья Берлина открыла передо мной совершенно новый мир, непохожий на тот трехмерный застенок, в котором я пребывал до встречи с фрау Лурье. Это был мир поистине без конца и края, мир, в котором нет предела возможности создавать и рушить.
Я брыкался и упирался, когда меня буквально за шиворот затаскивали в этот мир. Я отказывался даже признать, что этот мир существует, — глаза мои были зашорены, а голова набита всякой дрянью.
Вольфганг Амадей, безусловно, знал об этом мире, но это знание превратило его земную жизнь в ад. Фрау Лурье чудесным образом объединяла эти два параллельных мира, она свободно перемещалась туда и обратно. Вот почему она так много знала о вещих снах и пророчествах. Не исключено, что те из нас, кому удастся уцелеть и внести свою лепту в создание действительно свободной жизни, узнают многие скрытые до поры подробности и откровения.
Простые люди на этой земле не ведают, откуда они пришли и не знают, что будет с ними после смерти, а потому вечно ищут вождя, спасителя, командира, наставника, который бы взял их за руку и повел безопасной дорогой по лабиринтам жизни в прекрасное далеко. Этим пользуются те, кто, связан с некими тайными силами (мистическими, эзотерическими, космическими). Есть такое понятие, как тоска по лидеру. Маленький человек чувствует себя сиротой в бесконечной Вселенной и слепо следует за подобным «вождем» вопреки всяким доводам здравого смысла.
Чувство власти — наркотик; став командиром, я, например, сам на себе почувствовал, что это такое, когда люди, затаив дыхание, смотрят на тебя снизу вверх и ловят каждое твое слово. Люди смотрят тебе в рот и видят некое высшее существо. Они верили, что есть кто-то, знающий Истину: кто-то, чья сила, ловкость, удача защитят и спасут их.
Но ведь есть и другая вера — вера в себя! Положись на себя; черпай уверенность, покой и силу в себе самом, а не в партиях, сектах, деньгах, браке или в чем-то там еще. Как же человек должен презирать себя, чтобы пресмыкаться перед фальшивыми богами! Чего мы боимся?
Неправильное или, как мы говорим, девиантное поведение ведет к неприятным, иной раз катастрофическим последствиям. Это мы и изучаем сегодня, чтобы помочь людям правильно, активно реагировать на любую ситуацию. Это ведь важно не только для отдельного человека, но и для общества. Недаром древние римляне говорили: «Спасись сам — и вокруг тебя спасутся тысячи».
Если человек живет в гармонии с окружающим миром, творит добро и борется со злом, всем помогает и никому не вредит, то он пробуждает в окружающих ответную доброжелательность. Люди, животные и даже растения подпитывают его энергией любви. Добрые слова о нем имеют животворную силу и лечат его лучше любых лекарств.
Душа доброго человека как бы возрождается и набирает мощь и силу. Ее можно представить в виде сгустка микрочастиц и одновременно волны — субстанции, подпитывающейся энергией окружающей среды. У человека, которого вспоминают с благодарностью, душа преображается, прирастая потенциалом добрых дел. Тогда никакие атаки и потрясения не смогут поколебать этот феномен природы. Душа приобретает способность проникать в другие миры и измерения и жить вечно.
И наоборот, если человек находится в постоянной конфронтации с окружающим миром, ломает и крушит судьбы людей, других живых существ, то он вызывает к себе ответную негативную реакцию. Злые слова окружающих травмируют его душу и тело, он начинает болеть по непонятным для врачей причинам, которые не способны помочь ему своими лекарствами. Вылечить его могут только духовные средства, которые выражаются в заповедях: возлюби ближнего, помирись с врагом. Даже если тебя обидели, все равно потерпи — потом тебе за это воздастся добром. А главное — ты восстановишь гармонию с окружающим миром, которая дает надежду на жизнь вечную.
Человек, борясь за свободу, сталкивается с двумя ипостасями зла — Люцифером и Ахриманом. Люцифер — «носитель света». Свет также двойственен: божественный и вечный, и искусственный свет, который, по парадоксальному, но точному определению, является тьмой Люцифера. Он соблазняет человека, внушая, что тот не обременен никакими земными делами, что тело его бесполезно, что он — «чистый дух», царь всего живого на Земле. Люцифер вселяет в нас тщеславие, гордыню, фанатизм и пустые, суетные мечтания. Ахриман же продуцирует нам иллюзии совсем иного толка. Он отрицает все духовное. Ахриман — символический представитель разрушительных элементов в космосе, злых страстей и животных инстинктов; его царство — разнузданная похоть. Велика сила Люцифера и Ахримана! Бежит время, с каждым днем оставляя века невежества и суеверий далеко позади, но принося нам взамен лишь столетия всевозрастающего эгоизма и гордыни.
Согласно Библии, Иисуса Христа разочаровала духовная позиция ессеев — некоей эзотерической древнееврейской секты, члены которой вели аскетический образ жизни, проводили дни в медитации и безоглядно подчинялись собственным законам. Они не противостояли ни Ахриману, ни Люциферу и тем лишь увеличивали бремя зла, несомое остальным человечеством. Нельзя, подобно ессеям, избегать Люцифера и Ахримана, с ними нужно бороться. Каждый человек, когда зло встает на его пути, обязан вступить в битву с ним, ибо зло препятствует развитию человека. Борясь со злом, человек становится творцом.
Просвещенная элита, снабдив нас орудиями уничтожения, умывает руки и удовлетворенно откидывается в креслах, наблюдая, как мы истребляем друг друга; а при этом алмазы и золото потоками сыпятся в их казну. Апологеты «посвященных» исказили язык, речь, подменили одни понятия другими — фальшивыми. Эти провозвестники «нового мирового устройства» опутывают человечество сетями лжи и фальши, ловят нас на наживку ложных лозунгов о свободе, равенстве и братстве.
Да кто же они — люди из закулисья: просто «силы Зла», которых как в голливудских фильмах, в конце концов, убьют герои или неузнанные посланцы Добра? Или же они — исчадья ада, создания Ахримана и Люцифера? Все равно, борьба с грозными силами неизбежна, несмотря на их отчаянную ярость и проявленное зло при становлении человека.
Что делать простому незащищенному человеку из толпы? Как и я, как ваш сосед или коллега по работе? Вывод парадоксален и прост: существует некая «эманация страха», выделяемая во время испуга или паники. Она-то и навлекает силы зла. Но как показывает жизнь, человеку, не поддавшегося панике, сохранившего мужество, и самого атакующего исчадие ада — вплоть до ответных атак или угроз, — все нипочем. В организме храброго человека вырабатываются особые вещества, своеобразная «эманация отваги», заставляющая нападающих идти на попятный. От вашей стойкости адепты зла пасуют и отступают прочь. Даже самые отпетые «профессионалы» предпочитают со смельчаками не связываться.
Надо быть и жить в гармонии со всеми мирами: жить в согласии с этим светом, а к мертвым относиться, как к живым, разговаривать с ними, молиться о них. От этого укрепятся их души, они станут долговечнее, и будут молиться о нас. Гармония параллельных миров в наших душах дает нам колоссальную энергетическую подпитку и делает по сути ее бессмертной.
Вот что завещал великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт.
Хронологическая таблица
1732 год. Рождение графа Иеронима фон Коллоредо (умер 1812 год).
1747 год. Женитьба Иоганна Георга Леопольда Моцарта, скрипача княжеской придворной капеллы эальцбуржского архиепископа, на Анне Марии Пертль, родом из Санкт-Гильгена на Вольфгангзее. В браке было семеро детей, которые — кроме Марии Анны и Вольфганга Амадея — умерли в раннем детстве.
1750 год. Рождение Антонио Сальери в Леньяно.
1751 год. 30 июля в Зальцбурге родилась Мария Анна Вальбурга Игнация Моцарт, «Наннерль.
1756 год. 27 января. Рождение в Зальцбурге Вольфганга Амадея Моцарта, седьмого и последнего ребенка Леопольда Моцарта и его жены Анны Марии, урожденной Пертль. Отец скрипач придворной капеллы.
1757 год. Леопольд Моцарт производится в придворные композиторы (кроме того, преподавание музыки и издание «Скрипичной школы»).
1759 год. Леопольд Моцарт составляет нотную тетрадь с упражнениями для своих детей Наннерль и Вольфганга.
1760 год. Вольфганг Амадей Моцарт получает от отца уроки игры на клавире, чтения, писания и математики. Систематическое образование.
1761 год. Первые сочинения пятилетнего Моцарта: Allegro, два минуэта для клавира.
1761 год. 1 сентября. Первое появление на сцене В. А. Моцарта в зальцбуржском спектакле «Сигизмунд, король Венгрии» в качестве танцора.
1762 год. Екатерина II вступает на престол в Санкт-Петербурге после убийства царя Петра III. Моцарт заболевает Erythema nodosum.
Январь: первое мюнхенское путешествие Моцарта. Леопольд Моцарт представляет своих вундеркиндов при дворе курфюрста Максимилиана III.
1762 год. Сентябрь. Первое венское путешествие через Пассау, Линц. Октябрь, 1762 год. Публичный концерт детей Моцарта в Линце. Прибытие в Вену. Леопольд Моцарт посещает постановку глюковского «Орфея». Прием у императора Франца и Марии Терезии. Первое выступление детей Моцарта при императорском дворе.
1763 год. Декабрь. Поездка в Прессбург. Путешествие всей семьей в Париж через Мюнхен, Аугсбург, Людвигсбург, Швецинген, Гейлельберг, Майнц, Франкфурт (здесь его слушал четырнадцатилетний Гете), Кобленц, Аахен, Брюссель. Первые сонаты (для скрипки и клавира). Леопольд Моцарт становится вице-капельмейстером придворной капеллы Архиепископа Зальцбуржского.
1764 год. Новый год: семья Моцартов присутствует на званом обеде в Версале. Вольфганг заболевает ангиной. Март: первый концерт детей в Париже. Отъезд в Лондон. Встреча с Карлом Фридрихом Абелем и Иоганном Кристианом Бахом. Три первые симфонии. Отъезд в Голландию. Моцарт переносит болезнь typhus abdominals.
1766 год. Приезд в Амстердам. После длительного пребывания там путешествие в Париж через Утрехт, Мехелен. Возвращение в Зальцбург через Дижон, Лион, Женеву, Лозанну, Берн, Цюрих, Донауэшинген, Ульм, Мюнхен.
Рождение Франца Ксавера Зюсмайра.
1767 год. Вольфганг Амадей Моцарт развивает плодотворную композиторскую деятельность и с отцом и сестрой едет в Вену. Духовная оратория «Долг первой заповеди» (12 марта, Зальцбург). Латинская комедия «Аполлон и Гиацинт» (13 мая 1767 года, Зальцбург).
Поездка с отцом и Наннерль в Вену. Сочинение по заказу Франца I оперы «Мнимая простушка». Пребывание в Ольмюце. Заболевание оспой.
1768 год. Январь. Семья Моцартов на аудиенции у Марии Терезии и Йосифа в Вене.
1768 год. Июль. В. А. Моцарт заканчивает оперу-буффа «Мнимая простушка». Интриги театрального импресарио Афлиджо против Леопольда Моцарта, которому пришлось подать на него жалобу императору. Леопольд Моцарт продолжает вести каталог всех сочинений своего двенадцатилетнего сына, число которых достигает 139.
1768 год. Октябрь. В доме венского врача Ф. А. Месмера исполняется зингшпиль В. А. Моцарта «Бастьен и Бастьенна».
1768 год. Декабрь. В. А. Моцарт дирижирует Торжественной мессой на освящении новой церкви сиротского дома.
В. А. Моцарт заканчивает симфонию D-dur.
1768 год. Конец декабря. Отъезд в Зальцбург.
1769 год. Май. Исполнение «Мнимой простушки» в эальцбургской резиденции.
Леопольд Моцарт готовит второе издание «Скрипичной школы».
1769 год. Ноябрь. Назначение В. А. Моцарта третьих концертмейстером придворной капеллы. Подготовка к итальянскому путешествию. Декабрь, 1769 год. Отъезд в Италию.
1770 год. Прибытие в Милан. Встреча с Джованни Батиста Саммартини.
Представление в Болонье В. А. Моцарта падре Мартини. Продолжение путешествия через Падую в Рим. Посвящение в кавалеры и вручение ордена Золотой Шпоры папой Климентом XIV. Отъезд в Неаполь. Знакомство с Джованни Паизиелло. Возвращение в Рим, Болонью (принятие в члены Болонской академии); посещение Милана. Опера-сериа «Митридат, царь Понта» (26 декабря 1770 года, Милан).
Первый струнный квартет (К. 80).
1771 год. Январь. В. А. Моцарт — почетный капельмейстер «Accademia Filarmonica» в Вероне. Возвращение в Милан.
1771 год. Март. Остановки в Венеции и Риме. Возвращение домой через Падую, Виченцу, Инсбрук.
1771 год. 28 марта. Возвращение в Зальцбург с заказом «Луция Суллы» для миланского сезона 1772/1773 годов.
1772 год. Драматическая серенада «Il sogno di Scipione» по случаю вступления в должность архиепископа зальцбуржского графа Коллоредо. Назначение на оплачиваемое место концертмейстера.
1772 год. Октябрь. Третье итальянское путешествие с отцом. Постановка музыкальной драмы «Луций Сулла» (26 декабря, Милан).
1773 год. Гастрольная поездка в Вену с отцом. Аудиенция у императрицы Марии Терезии. Струнные квартеты, симфонии, дивертисменты, серенады и первый фортепианный концерт.
1773 год. В декабре — поездка в Мюнхен.
1774 год. Глюк становится императорским и королевским придворным композитором в Вене. Открытие в Вене «немецкой театральной сцены» постановкой драмы Геблера «Тамос, король в Египте» с хорами и музыкальными антрактами В. А. Моцарта.
1774 год. Сентябрь. Музыка к «Мнимой садовнице». Начало декабря: второе путешествие в Мюнхен с отцом.
1775 год. Мюнхенская премьера «Мнимой садовницы». Среди многочисленных сочинений. Короткая месса, церковные сонаты, скрипичный концерт и концерт для фагота.
1776 год. Исполнение в Зальцбурге геблеровского «Тамоса» с музыкой В. А. Моцарта. Моцарт заканчивает следующие сочинения: ноктюрны, 5 скрипичных концертов, 3 фортепианных концерта, серенады, дивертисменты; серенаду для Хаффнера.
1777 год. Архиепископ отклоняет просьбу Леопольда и В. А. Моцарта об отпуске. Моцарт оставляет место концертмейстера в Зальцбурге.
1777 год. Сентябрь. Путешествие в сопровождении матери. Двухнедельная остановка в Мюнхене. Моцарт пытается найти контакты с двором. Безуспешные переговоры о месте работы с графом Зэау, интендантом драматических театров.
1777 год. Октябрь. Гастрольная поездка в Аугсбург и двухнедельная остановка в нем. Продолжение поездки с остановками в Донауверте, Нердлингене, Каннштадте, Брухзале, Швецингене. В Мангейме посещение курфюрста Карла Теодора и барона фон Дальберга, энергичного интенданта мангеймского придворного и национального театра. Встреча с Кр. М. Виландом.
1778 год. 1 января. Карл Теодор становится в Мюнхене преемником умершего курфюрста.
1778 год. Январь-февраль. Знакомство В. А. Моцарта с семейством Веберов. Его сердце покорено Алоизией Вебер. Дружба концертмейстером Каннабихом.
1778 год. 12 марта. Моцарт сочиняет для Алоизии две концертных арии.
1778 год. Середина марта. В. А. Моцарт с матерью отправляется в Париж.
1778 год. 11 июня. Исполнение балета Новерра «Безделушки» с музыкой В. А. Моцарта.
1778 год. Июнь. Болезнь матери Анны Марии Моцарт в Париже.
1778 год. Июль. Смерть матери Моцарта в Париже. В. А. Моцарт гость барона Гримма. Начало сентября 1778 года. Планы В. А. Моцарта обосноваться в Париже рушатся.
1778 год. Сентябрь. Моцарт покидает Париж.
1778 год. Ноябрь. Прибытие в Мангейм. Никаких видов на место в мангеймском придворном и национальном театре.
1778 год. Декабрь. Отъезд из Мангейма. Прибытие в Мюнхен. Моцарт останавливается у Веберов. Ангажемент у графа Зэау Алоизии и Фридолина Веберов.
1779 год. Начало января: отказ Алоизии Вебер Моцарту.
Январь: отъезд из Мюнхена в сопровождении «кузиночки». Прибытие в Зальцбург.
Вторичное поступление на службу к архиепископу в качестве концертмейстера и придворного органиста.
1779 год. Март. Моцарт заканчивает мессу C-dur (К. 317, «Коронационная»). Церковные сонаты, дивертисменты, сонаты.
Лето 1779 года. Концертная симфония для скрипки и альта Es-dur (К. 320 d).
1780 год. Смерть императрицы Марии Терезии. На трон вступает Иосиф II. В сентябре с семьей Моцартов знакомится Шиканедер. Симфония C-dur.
1781 год. Моцарт оставляет службу в Зальцбурге.
Прибытие в Мюнхен Леопольда Моцарта и Наннерль.
Премьера в Мюнхене «Идоменео».
Цецилия отказывает Моцарту в браке.
Ссора с отцом. Сближение с Констанцей Вебер и обручение.
Знакомство с Гайдном. Заболевание пневмонией (под вопросом).
1782 год. В Вене состоялась премьера оперы «Похищение из сераля».
Бракосочетание с Констанцией Вебер (4 августа). Хафнер-симфония. Начало славы Моцарта.
1783 год. Февраль. Встреча с Глюком. Концерты.
1783 год. Март. Супруги Моцарты, Алоизия и Иосиф Ланге в гостях у Глюка.
1783 год. Июнь. Рождение первого ребенка — Раймунда Леопольда.
1783 год. Октябрь. Исполнение в Зальцбурге мессы e-moll с Констанцией Моцарт в партии сопрано соло.
1783 год. Ноябрь. Исполнение Линцской симфонии в Линце. Моцарт работает над новой оперой «Кaирский гусь».
1784 год. Август. Замужество в Зальцбурге Наннерль с И. Б. Берхтольдом фон Зонненбургом.
1784 год. Сентябрь. Рождение сына Карла Томаса Моцарта.
1784 года. Декабрь. Принятие В. А. Моцарта в ложу «Благотворительность».
1785 год. В Баварии выходит строгий запрет на деятельность масонов и других тайных обществ.
Начало января 1785 года. В. А. Моцарт посвящается во 2-й градус. Сентябрь: окончание посвященных И. Гайдну струнных квартетов. Ноябрь, 1785 год. Исполнение нового сочинения Моцарта «Масонская траурная музыка». Работа над «Женитьбой Фигаро». Денежные трудности.
1786 год. Смерть Фридриха П. Его преемник Фридрих Вильгельм II.
Январь — февраль: музыка к комедии «Директор театра» для празднеств в Шенбрунне.
1786 год. Март. Окончание фортепианного концерта A-dur.
1786 год. Май. Премьера «Женитьба Фигаро» в Бургтеатре.
Кульминация соперничества между Моцартом и Сальери.
1787 год. Русско-турецкая война.
Начало января 1787 года. Окончен фортепианный концерт C-dur.
1787 год. Январь. Первая поездка В. А. Моцарта в Прагу.
Заказ на большую оперу для будущего пражского сезона.
22 января 1787 года. Моцарт дирижирует в Пражском национальном театре своим «Фигаро».
Середина февраля 1787 год. Возвращение в Вену. Предполагаемый контракт с Лондономна оперу. Усиливающееся одиночество.
1788 год. Смерть дочери Терезии.
Три последние симфонии Es-dur, g-moll, C-dur («Юпитер»). Камерная музыка.
7 мая 1788 год. Первое исполнение в Вене «Дон-Жуана».
Лето, 17878 год. Увеличение материальных забот. Последний триумф Антонио Сальери.
1789 год. Поездка в Прагу, Дрезден, Лейпциг, Потсдам и Берлин, кроме прочего; прусские квартеты и кларнетовый квинтет; рождение и смерть дочери Анны.
1790 год. После смерти Иосифа II на престол Австрии возводится Леопольд II.
8 июле 1791 года Моцарт начинает работу над «Волшебной флейтой».
Венская премьера оперы «Cosi fan tutte». Фортепианный концерт («Коронационный») и струнные квинтеты. Путешествие во Франкфурте-на-Майне. Возрастающая изоляция и одиночество.
Середина мая 1790 года. Констанция Моцарт в Бадене на лечении. Моцарту вновь обращается за ссудой к Пухбергу.
Сентябрь 1790: поездка во Франкфурт-на-Майне на коронацию Леопольда II.
9 октября 1790 год. Коронация императора Леопольда II происходит без Моцарта.
Начало ноября, 1790 год. Через Мюнхен назад в Вену. Вопрос о лондонском контракте на оперу еще на стадии решения.
Середина декабря 1790 года. Иосиф Гайдн перед отъездом в Лондон дает прощальный обед, Моцарт его гость. Связь Моцарта со своей ученицей, Марией Магдаленой Хофдемель. Творческий кризис Сальери.
1791 год. Середина июля: заказ на коранационную оперу в Праге.
Июль, 1791 года. Рождение сына Франца Ксавера Вольфганга.
Середина июля, 1791 год. Заказ Реквиема, смерть Игнаца фон Борна. Август, 1791 год. Третье пражское путешествие с Констанцией и Зюсмайром для постановки оперы «La Clemenza di Tito».
Сентябрь, 1791 год. Премьера в пражском Национальном театре «La Clemenza di Tito», оперы-сериа В. А. Моцарта (либретто по Метастазио К. Маццолы).
Середина сентября 1791 года. После пражских коронационных торжеств возвращение в Вену.
Конец сентября 1791 года. Опера «Волшебная флейта» закончена.
30 сентября 1791 года. Премьера «Волшебной флейты» во Фрайхауэтеатре Шиканедера. Дирижирует Моцарт.
Октябрь 1791 года. Констанция вновь отправляется на лечение в Баден. 15 ноября 1791 год. Моцарт прерывает работу на Реквиемом и пишет маленькую масонскую кантату «Laut verkiinde unsre Freude».
18 ноября 1791 года. Моцарт дирижирует кантатой на освящении нового храма «Вновь увенчанной надежды».
20 ноября 1791 года. Моцарт слег в постель. Он дает Зюсмайру указания об окончании Реквиема. Констанцию Моцарт консультирует доктор Клоссет. Состояние Моцарта ухудшается в течение последующих девяти дней.
5 декабря 1791 года. Смерть Моцарта около часу ночи.
6 декабря 1791 года. Погребение Моцарта в общей могиле в предместье Вены (кладбище Санкт Марка).
1792 год. Зюсмайр вновь становится учеником Сальери, а вскоре и придворным капельмейстером.
1794 год. Премьера оперы Ф. К. Зюсмайра «Зеркало из Аркадии» (либретто Э. Шиканедера).
1795 год. Запрет лож Францем II.
1798 год. Немечек выдвигает тезис об отравлении. 1803 год. Смерть Ф. К. Зюсмайра, Герхарда ван Свитена и архиепископа Мигацци.
1809 год. Замужество Констанцы с Г. Н Ниссеном.
1812 год. Смерть Иеронима фон Коллоредо и Антона Лайтгеба.
1814 год. Гульденер становится протомедикусом.
1820 год. Констанция переезжает в Зальцбург.
1823 год. Признание Сальери в убийстве Моцарта и попытка самоубийства.
1824 год. Смерть д-ра Клоссета. Свидетельство д-ра Гульденера фон Лобеса о смерти Моцарта. «Карпаниева защита» Сальери.
1825 год. Смерть Сальери и Карпани.
1827 год. Смерть д-ра Гульденера фон Лобеса.
1828 год. Ниссен издает первую биографию Моцарта.
1829 год. Воспоминания Зофи Хайбль для книги второго мужа Констанции Г. Ниссена. Супружеская чета Новелло посещает оставшихся в живых близких Моцарта.
1830 год. Пушкин заканчивает трагедию «Моцарт и Сальери».
1831 год. Смерть аббата Максимилиана Штадлера.
1842 год. Смерть Констанции.
Краткая библиография
1. Аберт Г. В. А. Моцарт /пер. с нем. — М.1987 г.
2. Бэлза И. Моцарт и Сальери — М., 1953 г.
3. Бэлза И. О сюжетной основе пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери» / Известия АН СССР — М., 1964 г. Т. 4 — М; Л. 1962.
4. Улыбышев А. Д. Новая биография Моцарта т.т. — М. 1890–1892.
5. Чичерин Г. Моцарт, — М.1977 г.
6. Эйнштейн А. Моцарт, М. 1977 г. 1–3.
7. Born I. von. Journal fur Freymaurer. Bd. 1. — Wien, 1784 г.
8. Bory R. Mozart. Sein Leben und sein Werk in Bildern. - Genf, 1948 г.
9. Bohme G. Medizinische Portrats beruhmter Komponisten. - Stuttgart / New York, 1979 г.
10. Borner W. Depression und Musik. - Heilbronn, 1982 г.
11. Borner W. Mozart. - Heilbronn, 1983 г.
12. Braun A. Krankheiten und Tod im Schicksal bedeutender Menschen. - Stuttgart, 1940 г.
13. Braunbehrens V. Mozart in Wien. - München, 1986 г.
14. Dalchow J. Mozarts Krarikheiten. - Bergisch-Gladbach, 1955 г.
15. Dalchow J. Leopold Mozart — Sorgen urn ein Wunderkind // “Deutsche Arzteblatt”. 1964 г., S. 1252.
16. Dalchow J. Duda G. Kerner D. W. A. Mozarts Ende // “Die medizinische Welt”. 1966, S. 2690.
17. Dalchow J. Duda G. Kerner D. Mozarts Tod 1791–1971. - Pahl, 1971.
18. Duda G. Gewiss — man hat mir Gift gegeben. - Pahl, 1958.
19. Duda G. Eine ungeloste Frage: Mozarts Totenmaske // Acta Mozartiana.1960 г.
20. Duda G. Bildgewordene Musik. Die Totenmaske W. A. Mozarts // “DieTherapie des Monats”. 1960, S. 237–239.
21. Duda G. Bildgewordene Musik. Die Totenmaske von Wolfgang AmadeusMozart // “Basler Nachrichten”. 1962, 18. Februar.
22. Duda G. W. A. Mozarts gewaltsamer Tod und Prof. Dr. h. с. О. Е. Deutsch //Mensch und Mass. 1966.
23. Duda G. Der Schadelkult — Ein Beitrag zur Klarung des Schadel sproblemsgrofer Menschen // Mensch und Mass. 1965.
24. Duda G. W. A. Mozarts Tod wirklich geklart? // Mensch und Mass. 1982.
25. Duda G. Der Echtheitsstreit um Mozarts Totenmaske. - P8hl, 1985.
26. Eckstein P. Internationale Konferenz uber das Leben und Werk Wolfgang Amadeus Mozarts. - Prag, 1956.
27. Kerner D. Mozart als Patient // “Schweizer medizinische Wochenschrift” 1956, Nr. 86.
28. Kerner D. Starb Mozart eines naturlichen Todes // “Wiener medizinische Wochenschrift” 1956, Nr. 106.
29. Kerner D. W. A. Mozarts Krankheiten und sein Tod // “Neue Zeitschrift fur Musik”. 1958, Nr. 12.
30. Kerner D. Zum Thema: Mozarts Totenmaske // “Neue Zeitschrift fur Musik”. 1958, Nr. 144.
31. Kerner D. Ideologische Embleme auf Osterreiches Mozart-Marken von 1956 // “Der Sarnmler-Dienst”. 1959, S. 719.
32. Kerner D. Mozarts Todeskrankheit // Veroffentlichungen des Internationalen Musiker-Brief-Archivs Berlin. - Berlin-Mainz, 1961.
33. Kerner D. Mozarts Todeskrankheit. Die Briefmarke brachte es an den Tag // “Basler Nachrichten”. 1962, Nr. 116,17/18. Marz.204.
34. Kerner D. Carpanis Verteidigung Salieris // “Neue Zeitschrift fur Musik”. 1966, Nr. 479.
35. Kerner D. Das Mysterium von Mozarts Tod // Materia Therapeutica. 1966, Folge 5, 12. Jg.
36. Kemer D. Der “Anti-Carpani” // “Neue Zeitschrift fur Musik”. 1967, Nr. 497.
37. Kerner D. Eine unbekannte Erwiderung auf Carpanis Verteidigung Salieris // Acta Mozartiana. 1967, Nr. 31.
38. Kerner D. Mozarts Todeskrankheit // ABBOTTEMPO. - Illinois, 1967. Bd. 2.
39. Kerner D. Als Mozart starb // “Kurz und Gut”. 1969, Heft 7. S. 14.
40. Kerner D. Mozarts Tod bei Alexander Puschkin // “Dtsch. med. J.” 1969, Nr. 20.
41. Kerner D. Die Kontroverse um Mozarts Tod (Carpanis Verteidigung Salieris) // “Arzteblatt Rheinland-Pfalz”. 1970, Januar, Marz, Mai, Juli.
42. Ludendorff M. Der ungesuhnte Frevel an Luther, Lessing, Mozartund Schiler. - Munchen, 1928/1936.
43. Ludendorff M. Mozarts Leben und gewaltsamer Tod. - Munchen, Mozart — Dokumente seines Lebens. Hrsg. O. E. Deutsch und J. H. Eibl. 2. Auf. - Munchen, 1981.
44. Mozart W. A. Briefe. - Stuttgart, 1987. Mozarts Basle-Briefe. Hrsg. u. komm. J. H. Eibl und W. Jenn. 2. Auf. - Munchen, 1980.
45. Niemetschek F. X. Leben des к. и. k.” Kapellmeisters Wolfgang GottliebMozart. - Prag, 1798. Nachdruck in L. Staakmans Almanach. - Leipzig, 1941.
46. Nissen G. N. Biographie W. A. Mozarts. - Leipzig, 1828.
47. Paumgartner B. Mozart. - Freiburg-Zurich, 1967.
48. PaumgartnerB. Mozart. - Salzburg, 1966.
49. PaumgartnerB. Erinnerungen. - Salzburg, 1969.
50. Schenk E. Mozart und die Gestalt // “Die Musik”.1941, November, S.62.
51. Schenk E. Mozarts erster Arzt // Sonderdruck a. d. Anzeiger der phil. Hist.Klasse d. osterr. Akademie d. Wissenschaften. - Wien, 1954.
52. Schenk E. W. A. Mozart. - Wien, 1977.
Примечания
1
Благородное происхождение обязывает (фр.)
(обратно)2
Б. В. Асафьев (1884–1949 гг) — русский советский композитор. Гвидо Адлер (1855–1941 гг) — венский историк музыки, судьба его архива и наследства автору неизвестны.
(обратно)3
Кому выгодно (лат.)
(обратно)4
Благородное происхождение обязывает (фр.)
(обратно)5
7 мая 1787 г. Постановка оперы «Дон Жуан» в Вене в Бургтеатре, прошедшая неудачно; газеты упомянули лишь сам факт представления» (Шулер Д. Если бы Моцарт вел дневник. Будапешт: Изд. Корвина, 1963. С. 80).
(обратно)6
Da Pontel. Pamietniki. Krakow: PWM, 1977. S. 155.
(обратно)7
Музыкальный Петербург: Энциклопедический словарь / Сост. Ж. В. Князева, Г. В. Петрова, А. Л. Порфирьева. Кн. 4. СПб.: Композитор, 2001. С. 158–159. Остальные данные о постановках опер Моцарта и Сальери заимствованы также из этого издания.
(обратно)8
Моцарт В. А. Письмо жене от 14 октября 1791 г. //Моцарт В. А. Письма. М.: Аграф, 2000. С. 378–379.
(обратно)9
Бонбоньери — так называли Сальери за любовь к конфетам (фр.)
(обратно)10
«Зовусь я Хопсаса!» — вторая строка первой арии Папагено («Волшебная флейта»)
(обратно)11
У рукописей своя судьба (лат.)
(обратно)12
Розеттский камень — это каменная стела с надписью на трех языках. Сравнительный анализ позволил французскому ученому Шампольону разгадать тайну египетских иероглифов.
(обратно)13
Пока дышу, надеюсь (лат.)
(обратно)14
Медленно и величаво маэстро! (итал.)
(обратно)15
Громко провозгласим нашу радость (нем.)
(обратно)16
Ищите женщину (фран.)
(обратно)17
Что и требовалось доказать! (лат.)
(обратно)18
Результаты эксперимента с волосами Моцарта на ядерном реакторе ГНЦ были опубликованы в «Бюллетене Атомной энергии», № 8, 2007 год в статье «QUOD ERAT DEMONSTRANDUM или как атомная наука помогла раскрыть причину загадочной смерти В. А. Моцарта.» стр.60–63.
(обратно)

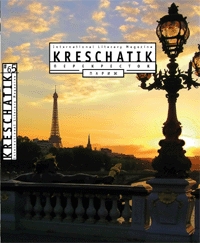
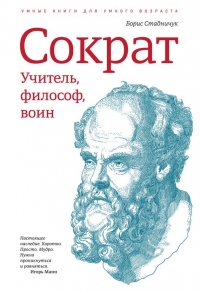



Комментарии к книге «Моцарт. Посланец из иного мира», Геннадий Александрович Смолин
Всего 0 комментариев