Белое движение. Исторические портреты (Том 2)
АДМИРАЛ А. В. КОЛЧАК (Очерк: Николай Кузнецов)
Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября 1874 года[1] в Санкт-Петербурге. Род Колчаков известен в России с первой половины XVIII века. Далёкий предок Александра Васильевича - боснийский серб, принявший мусульманство, Колчак-паша, служил комендантом турецкой крепости Хотин и был взят в плен русскими войсками 19 августа 1739 года, после чего жил в Санкт-Петербурге. Отец будущего адмирала, Василий Иванович Колчак, был потомственным дворянином и профессиональным военным. В 1854 году он окончил Ришельевский лицей в Одессе, принял участие в Крымской войне, был в плену. С 1863 по 1899 год он заведовал одной из мастерских Обуховского завода и вышел в отставку в 1889 году в чине генерал-майора. Мать А.В. Колчака, Ольга Ильинична (урождённая Посохова), происходила из дворян Херсонской губернии. Всю свою жизнь отец будущего адмирала служил России и никогда не думал о погоне за материальными благами, о чём красноречиво говорят строки из послужного списка (1894 год): «Ни за ним, ни за родителями... недвижимого имущества, родового или благоприобретенного, не имеется».
Начальное образование Александр Колчак получил дома, затем обучался в 6-й Петербургской классической гимназии, а с 1888 года - в Морском училище (с 1891 года - Морской кадетский корпус), окончив его в 1894 году вторым по списку с премией адмирала Рикорда. 15 сентября 1894 года был произведён в чин мичмана, затем несколько лет совершенствовался в штурманском деле и 6 августа 1895 года был назначен на броненосный крейсер «Рюрик», отправлявшийся из Кронштадта на Дальний Восток. Уже тогда проявились склонности Александра Васильевича к научным исследованиям - он начал заниматься океанографией и гидрологией. С 1896 по 1899 год Колчак служил на крейсере 2-го ранга «Крейсер» в должности вахтенного начальника, а 6 декабря 1898 года был произведён в лейтенанты. По возвращении в Петербург он попытался принять участие в экспедиции С. О. Макарова на ледоколе «Ермак», но сделать этого ему не удалось «по служебным обстоятельствам» - личный состав экспедиции был к тому времени полностью укомплектован. В сентябре 1899 года Колчак был назначен вахтенным начальником на броненосец «Полтава», но уже через две недели был переведён на ту же должность на броненосец «Петропавловск», которому предстоял переход на Дальний Восток. Однако по пути, в Пирее, Колчак получает приглашение принять участие в северной полярной экспедиции Академии Наук в качестве гидролога.
Естественно, приглашение не было случайным - сказались его научные контакты с адмиралом С. О. Макаровым и организатором экспедиции бароном Э. В. Толлем, обратившим внимание на опубликованные труды Александра Васильевича по океанографии. В январе 1900 года лейтенант Колчак на торговом пароходе прибыл в Санкт-Петербург и 21 января был официально назначен в состав экспедиции. Помимо обязанностей гидролога, он должен был исполнять и обязанности помощника магнитолога. В течение трёх месяцев Александр Васильевич осваивал тонкости этих специальностей, сначала в Главной физической обсерватории в Санкт-Петербурге, а затем - в Пулковской магнитной обсерватории. Побывал А. В. Колчак и в Норвегии, где работал у знаменитого полярного исследователя Ф. Нансена.
В задачи Русской полярной экспедиции входили исследование Новосибирских островов, проход (второй раз в истории мореплавания) Северным Морским путём и поиск легендарной «земли Санникова». Экспедиция на судне «Заря» проходила с июня 1900 по октябрь 1902 года и принесла весьма значительные результаты: были исследованы полуостров Таймыр, Новосибирские острова, остров Котельный. Колчак проводил исследования полярных льдов, открыл ряд географических пунктов. Два из них - островок в Карском море и южный мыс на полуострове Чернышёва (остров Беннета) он назвал именем своей невесты Софии Омировой, причём названия эти сохранены до сих пор. Один из островов в Таймырском заливе барон Толль окрестил в честь самого Колчака. Работы экспедиции были связаны с немалыми трудностями, во время двух зимовок её участникам пришлось перенести многочисленные лишения. Общие обязанности, от которых зависела жизнь каждого члена экспедиции, выполняли все - от начальника и офицеров до последнего матроса и погонщика-каюра. В начале июня 1902 года барон Э. В. Толль вместе с тремя своими спутниками отправился на остров Беннета с целью изучить его геологическое строение. К оговорённому крайнему сроку они не вернулись, и «Заря» пришла в бухту Тикси без них.
Академия Наук решила организовать экспедицию по поиску барона Толля и его спутников. Первоначально к острову Беннета планировали послать ледокол «Ермак», но от этой идеи отказались, решив организовать санно-шлюпочную экспедицию. Возглавил её сам автор этого проекта - лейтенант Колчак. Поисковая экспедиция проходила с 5 мая по 7 декабря 1903 года. В её составе было 17 человек на 12 нартах, запряжённых 160 собаками. Путь их до острова Беннета занял три месяца, и практически каждый метр этого пути был связан с риском для жизни. Постоянно шли обильные снегопады, вельбот приходилось часто стаскивать с мелей, причём были неизбежны «купания» в ледяной воде. 4 августа, добравшись до острова Беннета, члены экспедиции обнаружили там предметы и записку, оставленные бароном Толлем. Из записки следовало, что Толль и его спутники ещё 8 ноября 1902 года ушли на юг, имея запасов провизии лишь на две-три недели. Это означало для них одно - смерть... Обратная дорога Колчака была не менее трудной, но моряки выдержали все испытания и 7 декабря благополучно прибыли в Казачье (конечный пункт экспедиции). За этот подвиг Колчак получил орден Святого Владимира IV-й степени, а позже, в январе 1906 года, Русское Географическое Общество наградило его высшей наградой — большой золотой Константиновской медалью. Арктические экспедиции принесли молодому офицеру славу (неофициально его часто называли «Колчак-Полярный») и авторитет в области гидрографии. По материалам экспедиций он выпустил монографию «Льды Карского и Сибирского морей», быстро переведённую на другие языки.
...Ещё в 1899 году Александр Васильевич познакомился со своей будущей невестой - Софией Фёдоровной Омировой, чьё имя было им увековечено на географической карте. С. Ф. Омирова была родом из Каменец-Подольска, родилась в дворянской семье. Молодые люди нежно любили друг друга (об этом свидетельствуют письма Колчака к Омировой, отправляемые с Севера), но обвенчаться смогли лишь 6 марта 1904 года в Иркутске, после возвращения Колчака из полярной экспедиции. И уже через несколько дней молодожёнам пришлось разъехаться в разные стороны - Колчак должен был следовать в Порт-Артур, в 1-ю Тихоокеанскую эскадру. Начиналась Русско-Японская война...[2]
* * *
По прибытии в Порт-Артур в середине марта Колчак попросил у командующего 1-й Тихоокеанской эскадрой вице-адмирала С. О. Макарова о назначении командиром миноносца, но Макаров определил его вахтенным начальником на крейсер «Аскольд», на котором он сам отдыхал и ночевал после каждого многотрудного дня, проведённого на броненосце «Петропавловск». Этим назначением командующий хотел предоставить лейтенанту возможность отдыха после полярной экспедиции и приблизить его к себе, чтобы познакомиться получше. Но уже 31 марта «Петропавловск» подорвался на японской мине, и Макаров погиб. А. В. Колчак 17 апреля был переведён на минный заградитель «Амур», а ещё через четыре дня вступил в командование миноносцем «Сердитый». В июне он заболел воспалением лёгких и несколько месяцев пролежал в госпитале, а по выздоровлении до 2 ноября продолжал командовать миноносцем. После неудачной попытки прорыва русской эскадры из Порт-Артура 28 июля, в которой, впрочем, «Сердитый» не участвовал, корабли фактически оказались запертыми в гавани. Но и в этих условиях они продолжали причинять японцам ущерб. В частности, миноносец «Сердитый» участвовал в минных постановках, и на одной из «его» минных банок в ночь на 30 ноября подорвался, затонув на другой день, японский бронепалубный крейсер «Такасаго». За действия против неприятеля Колчак был награждён орденом Святой Анны IV-й степени с надписью «За храбрость». 2 ноября лейтенант перешёл на сухопутный фронт, получив в командование батарею 47-мм и 120-мм орудий на северо-восточном участке обороны крепости.
20 декабря Порт-Артур был сдан неприятелю. У Александра Васильевича, который ещё раньше был легко ранен, вдобавок обострился ревматизм - тяжёлое последствие полярных экспедиций, и поэтому он был оставлен в порт-артурском госпитале на положении военнопленного. Оттуда вместе с другими пленными молодой офицер был отправлен в Дальний, а затем - в Нагасаки. В конце апреля 1905 года, отказавшись от предложения японского правительства безвозмездно воспользоваться лечебными учреждениями, Колчак вместе с группой морских офицеров вернулся в Петербург. После возвращения из плена его уволили в шестимесячный отпуск для лечения. А 12 декабря за отличия при обороне Порт-Артура он был награждён Золотой саблей с надписью «За храбрость» и орденом Святого Станислава II-й степени с мечами.
После окончания отпуска лейтенант Колчак был прикомандирован к Академии Наук для завершения обработки результатов Русской полярной экспедиции 1900-1903 годов. Именно тогда он пишет упомянутую выше монографию по гляциологии, выступает с докладами, становится членом Российского Географического Общества. В этот же период он подготовил к печати карты Ледовитого океана.
Сокрушительное морское поражение в Русско-Японской войне выдвинуло на повестку дня восстановление флота. Причём восстанавливать и реформировать его необходимо было с учётом всех ошибок, накопленного опыта, изменившейся ситуации. Это осознавали многие видные военные и политические деятели того времени; осознавал это и лейтенант Колчак. В январе 1906 года он вместе с группой молодых морских офицеров организовал Петербургский военно-морской кружок, став его председателем. По инициативе этого кружка был создан Морской Генеральный Штаб - орган оперативного руководства флотом, и с 1 мая Колчак был к нему прикомандирован. 23 июня Александр Васильевич был зачислен в штат по отделению русской статистики и в течение 1906-1908 годов активно работал над возрождением флота. Он принимал участие в изучении военно-политической обстановки, причём офицеры Морского Генерального Штаба ещё в 1906 году предсказали основной ход будущей войны, которую потом назовут Великой или Первой мировой. Колчак принимал участие в разработке судостроительных программ, нередко выступал в Государственной Думе, отстаивая позиции России и Флота. В декабре 1907 года на очередном заседании Петербургского военно-морского кружка произведённый к тому времени в капитан-лейтенанты Колчак выступил с докладом «Какой нужен России флот», отстаивая необходимость постройки прежде всего линейных кораблей. После этого доклада его имя стало ещё более популярным в морских офицерских кругах. 13 апреля 1908 года Колчак был произведён в капитаны 2-го ранга и назначен на должность заведующего одним из ведущих отделов Морского Генштаба - отдела Балтийского театра. Но вскоре из-за разногласий с новым морским министром С. А. Воеводским Колчак вынужден был оставить Генеральный Штаб.
Несколько месяцев он читает лекции в Николаевской Морской Академии, а затем при содействии начальника Главного Гидрографического Управления А. И. Вилькицкого решает продолжить полярные исследования, приняв участие в готовящейся экспедиции по исследованию Северного Морского пути на ледокольных транспортах «Таймыр» и «Вайгач». Он был назначен командиром «Вайгача» и наблюдал за постройкой судна; в октябре корабли ушли на Дальний Восток через Индийский океан. 3 июля 1910 года они прибыли во Владивосток и до конца навигации совершили плавание к Берингову проливу и в Чукотское море, проведя комплекс научных исследований. В следующую навигацию «Таймыр» и «Вайгач» должны были пройти Северным Морским путём. Эта экспедиция состоялась, и во время неё было совершено крупнейшее географическое открытие XX века - открыта Земля Императора Николая II (впоследствии переименована большевиками в Северную), но Колчаку участвовать в этом уже не удалось: в конце 1910 года его вызвали в Петербург.
В столице Колчак занял ту же должность, что и перед своим отъездом - заведующего отделом Балтийского театра. Занимался он деталями судостроительной программы, разработкой нового типа кораблей, подготовкой флота в целом к будущей войне.
В 1912 году командующий Балтийским флотом, выдающийся моряк, адмирал Н. О. Эссен (Колчак знал его ещё по Порт-Артуру) рекомендовал ему перейти в действующий флот. Сам Колчак рассказывал в 1920 году: «Меня самого очень тяготило пребывание на берегу, я чувствовал себя усталым, и мне хотелось отдохнуть в обычной строевой службе, где всё же было легче». В 1912 году Колчак становится командиром эсминца «Уссуриец», год спустя получает чин капитана 1-го ранга, и Эссен назначает его флаг-капитаном (начальником оперативной части) Штаба Балтийского флота и одновременно командиром эсминца «Пограничник» - посыльного судна адмирала. В начале 1914 года Александр Васильевич занял должность флаг-капитана, на которой его и застала Великая война.
Естественно, что любая война - это трагедия. Но для Колчака как для военного моряка высочайшего класса это была и возможность проверки в действии всего того, над чем он так усиленно работал в мирное время. Именно поэтому, по его словам, «начало войны было одним из самых счастливых и лучших дней моей жизни».
* * *
Активных действий - крупных морских сражений между линкорами и крейсерами - на Балтике не велось: германский флот, основное внимание которого было сосредоточено на английских кораблях в Немецком море, здесь ограничивался лишь пассивным наблюдением. Зато именно на Балтийском театре русские моряки проявили себя как лучшие в мире минёры. Минные постановки начались ещё за день до официального объявления войны, и активное участие в планировании и проведении этих сложнейших операций принимал Колчак. В начале сентября 1915 года он был назначен исполняющим обязанности командующего Минной дивизией Балтийского флота, а с декабря вступил в эту должность на постоянном основании, будучи одновременно командующим морскими силами Рижского залива.
Во многих операциях Балтийского флота Колчак участвовал лично. Так, ещё в феврале 1915 года при его участии силами четырёх эсминцев в чрезвычайно тяжёлых условиях было поставлено минное заграждение в Данцигской бухте.
Осенью 1915 года тяжёлое положение сложилось на правом фланге ХII-й армии, особенно в районе мыса Рагоцен, где находился 20-й драгунский Финляндский полк и две ополченские дружины под командованием князя Меликова. В их распоряжении была лишь одна старая трёхдюймовая батарея и две шестидюймовые пушки Канэ с очень скудным запасом снарядов. Получив по телефону просьбу о помощи, Колчак сразу же, несмотря на неблагоприятные погодные условия и сложность навигационной обстановки в Моонзунде и Рижском заливе, принял решение о немедленном выходе кораблей в море. На поддержку вышли линкор «Слава», 9-й дивизион эсминцев и две канонерские лодки. Корабли подошли к мысу Рагоцен, и уже через три минуты после открытия ими огня князь Меликов сообщал по телефону: «Стрельба блестяща, всё бежит... дороги залиты кровью». А ещё через некоторое время с берега передали, что все назначенные для наступления рубежи заняты без выстрела.
В ночь с 8 на 9 октября был высажен десант у мыса Домеснес, оказавший, впрочем, главным образом моральное воздействие на противника. Долгое время биографы Колчака считали, что он был награждён орденом Святого Георгия IV-й степени именно за организацию этого десанта, однако, по свидетельству старшего лейтенанта Н. Г. Фомина, служившего в 1915-1916 годах в должности старшего флаг-офицера Штаба начальника Минной дивизии, всё обстояло несколько иначе. Высочайшее повеление о награждении Колчака было передано по телефону. Оно гласило: «Мне было приятно узнать из донесений командарма 12[3] о блестящей поддержке, оказанной армии кораблями под Вашим командованием, приведшей к победе наших войск и захвату важных позиций неприятеля. Я давно был осведомлен о доблестной Вашей службе и многих подвигах. Применительно к статье 36 Георгиевского статута (статья о награждении артиллеристов, которые, находясь под сильным огнём наступающего неприятеля, заставят замолчать его артиллерию и будут способствовать переходу наших войск в наступление. - Н. К.), награждаю вас Св. Георгием 4-й степени. Николай. Представьте достойных к награде». Как писал тот же Фомин, «ночью, когда Александр Васильевич заснул, мы взяли его тужурку и пальто и нашили ему Георгиевские ленточки, а утром прибыл из Ревеля миноносец Службы связи, с которым “всеведущий” Непенин (начальник службы связи Балтийского флота. - Н. К.) прислал Колчаку снятый с себя свой Георгий».
В 1915 году Колчак был также удостоен ордена Святого Владимира III-й степени с мечами и подарка из Кабинета Его Императорского Величества, а 10 апреля 1916-го он был произведён в контр- адмиралы. Из операций 1916 года можно отметить набег на Норчепингскую бухту 13 июня, когда в результате атаки Отряда особого назначения в составе крейсеров «Рюрик», «Олег» и «Богатырь» и одиннадцати эсминцев был рассеян немецкий конвой, состоявший из 12-14 транспортов, и потоплен вспомогательной крейсер «Герман». 28 июня, неожиданно для себя, Александр Васильевич Колчак был произведён в вице-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом, заменив на этом посту адмирала А. А. Эбергарда. Случай, когда контр-адмирал с выслугой в два с половиной месяца был произведён в следующий чин, стал уникальным в истории Русского Флота и лишний раз показал, насколько выдающимся офицером был А. В. Колчак.
После получения нового назначения Колчак через Петроград проехал в Могилёв, где находилась Ставка Верховного Главнокомандующего. Адмирал совещался с Начальником Штаба Верховного, генералом М. В. Алексеевым, и самим Верховным Главнокомандующим - Государем Императором Николаем II - о планах войны, роли в ней Черноморского флота, подготовке операции по захвату Босфорского пролива.
В ночь с 6 на 7 июля Александр Васильевич вступил в командование флотом. Уже на рассвете следующего дня, подняв свой флаг на линкоре «Императрица Мария», он вышел в море на перехват германо-турецкого крейсера «Бреслау». Встретив «Бреслау», Колчак вступил с ним в бой и преследовал его до самого Босфора. Это был последний рейд вражеских кораблей на Черном море. Дальнейшая морская война свелась, как и на Балтике, преимущественно к минным постановкам. Во вражеских водах было выставлено более 2 000 мин, на которых подорвался ряд турецких кораблей, а остальной флот противника был блокирован и лишён возможности морских перевозок. Единственной крупной потерей с русской стороны была гибель, при невыясненных до сих пор до конца обстоятельствах, линейного корабля «Императрица Мария», взорвавшегося 7 октября на Севастопольском рейде.
На лето 1917 года намечалась десантная операция, целью которой был захват Босфора и Дарданелл и разрешение ключевой для России геополитической «проблемы проливов». Но этому помешал Февральский переворот и последовавшие за ним события.
* * *
Известие о событиях в столице вице-адмирал Колчак получил в Батуме, во время совещания с Главнокомандующим Кавказским фронтом, Великим Князем Николаем Николаевичем. 2 марта Колчак издал приказ по Черноморскому флоту, который призывал всех чинов флота сохранять спокойствие и выполнять свой долг перед Государем Императором и Родиной. Александр Васильевич не стал посылать Государю телеграмму с предложением отречься от престола, как это сделали Великий Князь Николай Николаевич, остальные Главнокомандующие фронтами и адмирал А. И. Непенин. Однако позже Колчак поставил генерала Алексеева в известность, что предложение командующих фронтами принял безоговорочно. Говоря о своих политических взглядах, адмирал признавал впоследствии, что он «относился к монархии как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменениях строя». Главным для него было - приносить пользу России, находясь на своём посту. Именно поэтому во Временном Правительстве Колчак первоначально увидел силу, способную спасти страну от падения в пропасть. В 1920 году на допросе в Иркутске он сказал: «...После совершившегося переворота [я] стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, что я, в конце концов, служил не той или иной форме правительства, а служу Родине своей, которую ставлю превыше всего».
В апреле А. В. Колчак побывал в Петрограде, где выступил с докладом об оперативной и политической обстановке на Черном море перед председателем Совета министров князем Г. Е. Львовым и приезжавшим в столицу генералом Алексеевым, встречался с военным и морским министром А. И. Гучковым и другими политическими деятелями. Стал он и свидетелем принятия «Декларации прав солдата» - документа, способствовавшего деморализации армии. Поездка дала Колчаку возможность ознакомиться с общей обстановкой в стране и расстановкой политических сил, и по возвращении в Севастополь он 25 апреля выступил с речью перед Офицерским союзом Черноморского флота и собранием делегатов армии, флота и рабочих, стараясь убедить аудиторию, в первую очередь моряков, в невозможности немедленного прекращения войны и необходимости сохранить вооружённые силы - тем более что на фронте к этому времени уже активно шло «братание» с немцами, а по Кронштадту прокатились волной убийства офицеров. До начала июня Черноморский флот, несмотря на активные действия большевицких агитаторов и многочисленные митинги, сохранял боеспособность. Происходило это во многом благодаря личному авторитету адмирала, его влиянию на матросские массы. Немалую поддержку оказывал ему и капитан 1-го ранга М. И. Смирнов - начальник Штаба флота, знавший Колчака ещё со времён обучения в Морском корпусе (он учился в младшей роте), а впоследствии прошедший с ним всю эпопею Белого движения в Сибири в должностях управляющего морским министерством и командующего Речной боевой флотилией. Но после того, как 6 июня Севастопольский Совдеп вынес постановление об отрешении от должностей Колчака и Смирнова и разоружении офицеров, Александр Васильевич счёл для себя невозможным дальше командовать флотом.
Когда же матросы попытались отобрать его Золотое оружие - саблю, полученную за отличия в Русско-Японской войне, - Колчак совершил поступок, вошедший в легенду. По рассказу одного из очевидцев, он собрал команду своего флагманского корабля - линкора «Георгий Победоносец» - и произнёс речь, в которой заявил, что подчиняется решению о сдаче оружия, но считает нужным сообщить, что даже японцы в Порт-Артуре не взяли его заслуженную в боях Георгиевскую саблю. С этими словами адмирал снял своё оружие и бросил его в море. Однако красивая легенда обрастает массой домыслов, например о том, что адмирал якобы переломил саблю через колено или что позже она была выловлена из воды и возвращена Колчаку. Вызывает некоторые сомнения и упоминание о благородстве японцев, противопоставленных Совдепу: ведь наградное оружие Александр Васильевич получил уже после возвращения из плена. Георгиевское Оружие всё же вернулось к нему, но в виде кортика, поднесённого адмиралу Союзом офицеров Армии и Флота при следующем адресе, очень тронувшем Колчака:
«Глубокоуважаемый Александр Васильевич! Пользуясь случаем поднесения Вам от имени союза офицеров армии и флота оружия храбрых, дань наивысшего воинского уважения, просим принять наш искренний привет и выражение чувства глубокого уважения и признательности за Ваш мужественный и истинно гражданский поступок, который должен служить примером для всех воинов нашей дорогой, горячо любимой свободной Родины».
После всего случившегося Колчак послал телеграмму Керенскому, где, вкратце изложив обстановку, сообщил о невозможности продолжать службу в такой обстановке, и передал командование контр-адмиралу В. К. Лукину. В ответной телеграмме министр-председатель А. Ф. Керенский в резких словах отчитал команды кораблей за их «враждебные Революции и Родине» действия и приказал Колчаку и Смирнову прибыть для доклада в Петроград.
Выслушав обоих, члены Временного Правительства отпустили их, не приняв никакого решения. Но для себя А. В. Колчак решил, что командовать флотом он больше не будет. Существуют упоминания о возглавлении им «военного отдела Республиканского национального центра» - контрреволюционной организации, принявшей затем «корниловскую» ориентацию. Но вскоре адмирал получил приглашение от морской группы американской военной миссии в России побывать в Соединённых Штатах с целью обмена опытом в области минного дела и возможного участия в операциях американского флота. Помимо желания ознакомиться с новинками военной техники, у Колчака была и тайная мысль продолжить борьбу на другом фронте, коль скоро его лишили возможности воевать за свою Родину в рядах её солдат.
М. И. Смирнов приступил к формированию «Русской морской комиссии в Американском флоте», как стала называться группа морских офицеров, отправляющихся в Америку. Помимо Колчака и Смирнова в неё вошли капитан 2-го ранга Д. Б. Колечицкий, капитан 2-го ранга В. В. Безуар, лейтенант И. Э. Вуич, лейтенант А. М. Мезенцев, адъютантом адмирала стал лейтенант Вадим Степанович Макаров, сын погибшего в 1904 году адмирала С. О. Макарова. Последнее обстоятельство выглядит весьма символичным, если вспомнить, что почти за полтора десятка лет до этого адмирал Макаров оказал поддержку лейтенанту Колчаку. Комиссия выехала из Петрограда 27 июля. По дороге в Америку она побывала в Лондоне, где Колчак встретился с русским послом К. Д. Набоковым и Первым Лордом Адмиралтейства адмиралом Джеллико, проконсультировав последнего по вопросам применения минного оружия.
В Америке русской комиссии были предоставлены возможности работать в морском министерстве, Морской Академии, участвовать в манёврах флота. Но выступить в войне на стороне Соединённых Штатов адмирал не счёл нужным, убедившись, что «Америка ведёт войну только с чисто своей национальной точки зрения - ради рекламы». После получения из России известий об Октябрьском перевороте члены комиссии решили немедленно ехать на родину; ещё в Америке Александр Васильевич получил и телеграмму с предложением баллотироваться в Учредительное Собрание по списку конституционно-демократической партии, на которое ответил согласием. В первой половине ноября моряки прибыли в Иокогаму, где Колчак распустил комиссию (нужно отметить, что впоследствии большинство её членов встало под знамёна Белого Дела), сам же задержался в Японии для выяснения обстановки.
Естественно, что правительство большевиков он признать не мог, хотя бы за то, что они стремились к заключению сепаратного и невыгодного для России мира. Колчак хотел продолжить войну в рядах британской армии и даже добился назначения на Месопотамский фронт, куда и отправился в начале января 1918 года, однако по дороге, будучи в Шанхае, получил телеграмму от русского посланника в Пекине князя Н. А. Кудашева с просьбой прибыть к нему по очень важному делу. Первоначально адмирал ответил отказом, считая себя связанным обязательствами перед англичанами. Но в начале марта, во время стоянки в Сингапуре, выехать в Пекин Колчаку рекомендовал уже Разведывательный отдел английского Генерального Штаба, и в конце месяца Александр Васильевич встретился с Кудашевым, который предложил ему заняться формированием антибольшевицких вооружённых подразделений в полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги. «Против той анархии, которая возникает в России, - сказал Кудашев адмиралу, - уже собираются вооружённые силы на Юге России, где действуют добровольческие армии генерала Алексеева и генерала Корнилова (тогда ещё не было известно о его смерти). Необходимо начать подготовлять Дальний Восток к тому, чтобы создать здесь вооружённую силу для того, чтобы обеспечить порядок и спокойствие на Дальнем Востоке». На это Колчак сразу же согласился, увидев реальную возможность послужить Родине. Так начался для него крестный путь Белого Воина.
...Но прежде, чем переходить к рассказу об участии А. В. Колчака в Белом движении, необходимо сказать несколько слов о человеке, сыгравшем весьма значительную роль в жизни адмирала - Анне Васильевне Тимиревой. Познакомился с ней Александр Васильевич в начале 1915 года. Анна Васильевна была супругой капитана 1-го ранга С. Н. Тимирева, бывшего в тот период флаг- капитаном по распорядительной части Штаба Балтийского флота. Во время Гражданской войны, с ноября 1918 по июль 1919 года, Тимирев командовал Морскими Силами Дальнего Востока, подчинёнными Верховному Правителю адмиралу Колчаку, а скончался в 1932 году в Шанхае. Его бывшей жене довелось пережить его на 43 года...
Первоначально Колчаки и Тимиревы дружили домами, Анна Васильевна была в хороших отношениях с женой Колчака - Софией Фёдоровной. Позже дружба между Колчаком и Тимиревой переросла в нежную и пламенную любовь, которую оба сохранили до самой смерти. Когда союзники предали Верховного Правителя и он был арестован, Анна Васильевна добровольно пошла в заключение вслед за ним. После того, как Колчак был убит большевиками, она ещё более полугода находилась в заключении, а после недолгого пребывания на свободе, ещё через полгода, была арестована вторично. Начались её хождения по мукам в самом буквальном смысле слова. Реабилитирована Анна Васильевна была лишь в 1960 году, а скончалась она 15 лет спустя в Москве. Вся жизнь этой женщины была принесена в жертву Великой любви к Великому Человеку.
Стоит сделать и немаловажное дополнение к портрету Колчака. По свидетельству одного из сослуживцев, Александр Васильевич был очень верующим, православным человеком; его характер был живой и весёлый (последнее, впрочем, больше относится к дореволюционному периоду его жизни), но с довольно строгим и даже аскетически-монашеским мировоззрением. У него были духовные наставники-монахи, и, будучи командующим Черноморским флотом, он навещал одного старца (имя его, к сожалению, неизвестно), подвизавшегося в Крыму. Вероятно, черты религиозности были заложены в нём матерью, Ольгой Ильиничной, которая была очень набожна.
* * *
Но вернёмся к жизнеописанию адмирала. Построенная в 1887-1903 годах Китайская Восточная железная дорога связывала Сибирь и Забайкалье через Маньчжурию с Владивостоком (Великая Сибирская железнодорожная магистраль была окончательно достроена лишь в 1916 году) и с начала века охранялась подразделениями пограничной стражи в составе Особого Заамурского округа в Маньчжурии. Управление дорогой, расположенное в Харбине, возглавлял генерал Д. Л. Хорват. С приходом к власти большевиков он был отстранён от должности Управляющего, и руководство дорогой было передано Харбинскому Совету рабочих и солдатских депутатов, но уже 25 декабря силами китайских войск большевицкая власть была ликвидирована, большевизированные подразделения высланы в Россию, а управление дорогой - вновь передано Хорвату. Так как правление дороги находилось в Петрограде, для непосредственного решения возникавших вопросов на месте генерал Хорват решил создать «своё» правление КВЖД, в состав которого вошёл и адмирал Колчак, назначенный начальником охраны.
В это же время в полосе отчуждения КВЖД находилось и так называемое Временное Правительство Автономной Сибири во главе с эсером П. Я. Дербером, бежавшее от большевиков из Томска. По словам Колчака, «их деятельность ни в чём не сказывалась, я ни разу с ними не сталкивался ни в какой области... Министерские посты у них все распределены, но они не делали никаких выступлений, а жили как частные лица и, по-видимому, ни во что не вмешивались и никаких претензий ни на что не заявляли».
Достаточно серьёзной силой были отряды под командованием различных казачьих офицеров, наибольшей известностью среди которых пользовались Г. М. Семёнов и И. П. Калмыков. Помимо них, в полосе отчуждения существовали и другие более мелкие подразделения, о которых впоследствии Колчак говорил: «...все эти отряды образовывались стихийно, самостоятельно. Никто определёнными планами не задавался, и поэтому лица, которые стояли во главе таких отрядов, были совершенно независимы и самостоятельны... подчинялись [они] только своим начальникам, а к штабу предъявляли одни только требования в смысле материального снабжения, деньгами и т.д.». Активную поддержку всем этим отрядам оказывали иностранные державы - Англия, Франция и особенно Япония.
В те месяцы адмирал занимался составлением разного рода смет, наблюдал за ремонтом казарм, закупкой фуража, решал другие хозяйственные вопросы. В его ведении находились и вопросы закупки оружия у японцев. Но когда он прибыл с этим списком к генералу Накашиме, возглавлявшему японскую военную миссию в Харбине, тот сообщил Колчаку, что много оружия Япония предоставить не может, а также потребовал за оружие некую компенсацию, намекая на более тесное сотрудничество. «Я вовсе не прошу этого оружия как милости, - ответил возмущённый Колчак, - если у вас есть оружие, то продайте мне; дорога платит за него, потому что я всё равно должен создавать охрану дороги; оно нужно, и дорога вынуждена будет это оружие приобретать». Визит кончился ничем, и это в значительной степени настроило генерала Хорвата против адмирала.
Александр Васильевич вновь обратился к деятельности по укреплению своих вооружённых сил, выведя их из Харбина, попытавшись укрепить контакт с командованием различных мелких отрядов, и начал организовывать флотилию на реке Сунгари. Все эти действия не могли не вызывать недовольства китайцев.
В конце апреля - начале мая в Пекине состоялось совещание членов правления Русско-Азиатского банка и Общества КВЖД. На нём под видом нового правления дороги было образовано русское эмигрантское правительство Хорвата (вскоре генерал открыто провозгласит себя Временным Верховным Правителем России, не имея, впрочем, в своём распоряжении серьёзных сил). Колчак возглавил его «военное ведомство». На совещании адмирал выступил с докладом, в котором говорил о плане вступления с оружием в руках на территорию России, оккупированную большевиками. Эту операцию предполагалось произвести с двух направлений - со стороны Забайкалья и со стороны Приморья, и, по расчётам Колчака, для осуществления этого плана ему необходимо было 17 тысяч штыков и сабель. С таким проектом соглашались и иностранные союзники - Англия, Франция и Япония. Но реализовать его в полной мере не удалось.
Позиция, занятая настроенным на самостоятельные действия Атаманом Семёновым, заставила адмирала сделать вывод о невозможности создать серьёзную военную силу на КВЖД и о том, что единственное место, откуда можно начинать развёртывание, - это Владивосток. Но против этого выступали японцы, которые готовились к интервенции и для которых создание в Приморье русских вооружённых сил было крайне нежелательно. Они настаивали на передаче всех вооружённых сил в распоряжение действовавшего в Забайкалья Семёнова.
В итоге деятельностью Колчака оказались недовольны все: японцы, Атаман Семёнов, да и Хорват, поддерживавший их политику. Кроме того, японские агенты вели подрывную работу в войсках, подчинённых Колчаку, - переманивали солдат и офицеров в отряды Семёнова и Калмыкова, мешали нормальной работе. Нередко речь шла и об угрозе личной безопасности адмирала.
В результате всего этого Колчак, при активном содействии Хорвата, стремившегося избавиться от неугодного ему человека, решил поехать в Токио, дабы решить вопросы о дальнейших совместных действиях с начальником японского Генерального Штаба. Передав командование войсками генералу Б. Р. Хрещатицкому, в начале июля 1918 года Колчак уехал в Японию.
Там Александр Васильевич встретился с помощником начальника Генерального Штаба генералом Танакой. Вместо конкретного ответа на вопрос, можно ли в дальнейшем рассчитывать на помощь Японии в борьбе с большевиками, Танака предложил Колчаку остаться в Японии, поправить здоровье. Поняв, что возвращаться в Харбин бесполезно, тем более, что Хорват уже подписал приказ о его увольнении, Колчак предложение принял.
В Японию вместе с Колчаком отправилась и Анна Васильевна Тимирева. Ранее она приезжала к Колчаку в Харбин, решила было вернуться к мужу во Владивосток, но, не выдержав долгой разлуки с любимым человеком, приняла решение последовать за ним.
Колчак и Тимирева жили в Иокогаме, часто бывая в небольшом курортном местечке Атами, расположенном к юго-западу от города на берегу залива Сагами. Адмирал с большим вниманием следил за развитием событий в России, где полным ходом развивалась активная антибольшевицкая борьба (на Юге сражалась Добровольческая Армия, на Востоке развернулось выступление Чехо-Словацкого корпуса и местных офицерских организаций, на Волге создавалась Народная Армия). Колчак размышлял, где именно он мог бы принести наибольшую пользу Родине, и важную роль для него сыграла встреча с английским генералом А. Ноксом, возглавлявшим «Русский отдел» британского военного министерства. Нокс сообщил адмиралу, что Англия готова оказать помощь в воссоздании русской армии в Сибири, Колчак же, в свою очередь, составил для Нокса подробный доклад, в котором описывал политическую и военную ситуацию на Востоке России. После этого английский генерал написал в одном из докладов в Лондон: «...нет никакого сомнения в том, что он (Колчак. - Н. К.) является лучшим русским для осуществления наших целей на Дальнем Востоке», что стало для различных советских историков поводом утверждать, что с этого момента адмирал стал действовать по указке англичан. Но этому нет никаких реальных доказательств, и речь может идти лишь о видах британской дипломатии на Колчака и взаимовлиянии Колчака и Нокса.
В середине сентября Колчак отправился во Владивосток в компании генерала Нокса и французского посла Реньо. Первоначально Александр Васильевич надеялся пробраться на Юг России, к генералу Алексееву, а также попытаться найти свою семью, остававшуюся в Севастополе.
* * *
К сентябрю территория Сибири полностью находилась под контролем чехословацких и белогвардейских формирований, а на Дальнем Востоке присутствовали и части союзных России держав. Большевики расформировали свои войска и перешли к партизанским формам борьбы. Во Владивостоке в этот момент существовало два правительства, претендующих на верховную власть, - «Временное Правительство Автономной Сибири» Лаврова и Дербера и «Деловой кабинет» Хорвата. Но их репутация как среди русских, так и среди союзников была крайне невысока.
Военные и деловые круги Сибири и Дальнего Востока возлагали всё больше надежд на существовавшее в Омске Временное Сибирское Правительство, считавшее себя верховной властью в Сибири с июня 1918 года. В состав его входили как эсеры, так и представители конституционно-демократических и даже умеренно-монархических кругов. Председателем правительства был П. В. Вологодский, бывший член Государственной Думы, адвокат по профессии, не имевший определённой политической принадлежности. В сентябре в Уфе открылось Государственное совещание, ставившее своей целью создание временной общероссийской власти, однако Вологодский отправился не туда, а во Владивосток, так как считал гораздо более важным добиться поддержки союзников и распространить власть «своего» правительства и на дальневосточные территории. Ему удалось достичь взаимопонимания с Колчаком, Атаманом Семёновым и офицерским корпусом Сибирской и Амурской флотилий. Подчинились Сибирскому Правительству и дальневосточные правительства.
Тогда же Колчак встретился и с одним из видных командиров чешских войск - Р. Гайдой, который сообщил ему, что вся Транссибирская магистраль очищена от большевиков и чехи готовы к продолжению борьбы с большевиками. Охарактеризовав общую обстановку в Сибири, Гайда заявил, что считает наилучшей формой государственного управления военную диктатуру. Колчак же ответил чеху, что диктатура невозможна без наличия мощных вооружённых сил.
3 октября, при содействии офицеров чешского штаба, Колчак отправился в Омск, надеясь затем перебраться на Юг России. 14 октября адмирал вместе с сопровождающими его морскими офицерами прибыл в сибирскую столицу, где нанёс визиты представителям новой «всероссийской власти» - Директории: встретился с Главнокомандующим её войсками генералом В. Г. Болдыревым, пробравшимся с Юга через Москву и Саратов Генерального Штаба полковником Д. А. Лебедевым, членами Директории Авксентьевым, Зензиновым (оба - правые эсеры) и Виноградовым (кадет). С Болдыревым Колчак встречался два раза, причём во второй раз генерал предложил ему принять пост военного и морского министра. Колчак первоначально отказался, но Болдырев настоял на своём, согласившись принять условия Колчака: освобождение от должности в случае, если она не устроит адмирала, и разрешение объехать войска на фронте для выяснения их нужд. Через несколько дней состоялась ещё одна встреча Болдырева и Колчака, на которой присутствовал и генерал Нокс. На встрече обсуждались основные вопросы военного строительства на территории Сибири.
Колчаку приходилось теперь и присутствовать на заседаниях Совета министров, где у него вызывали раздражение два факта: «вмешательство чехов в наши внутренние дела» и то, что в Совете вместо нормальной работы больше всего занимались политической борьбой. После одного из заседаний Александр Васильевич решил снять с себя министерские полномочия, и Авксентьеву удалось уговорить его остаться, лишь пообещав немедленно пересмотреть функции военного и морского министра. На решение Колчака остаться в занимаемой должности повлияло также известие о смерти 8 октября в Екатеринодаре генерала М. В. Алексеева. Кабинет министров Директории был окончательно сформирован лишь 3 ноября.
Вскоре адмирал подготовил обстоятельное письмо генералу А. И. Деникину. В письме он дал характеристику только что образованных Директории и её Совета министров. 8 ноября Колчак выехал на фронт. Его сопровождал только что прибывший в Омск английский Мидлсекский батальон под командованием полковника Дж. Уорда. С военным министром следовали капитан А. А. Пушкин, имевший поручение доставить письмо Деникину и связаться с семьёй Александра Васильевича в Севастополе, и представители союзников. 9 ноября Колчак прибыл в Екатеринбург, где состоялся парад войск, а на другой день посетил штаб Сибирской Армии. Командующий армией генерал Р. Гайда и чешский командующий генерал Я. Сыровой ознакомили его с обстановкой на фронте.
После осеннего наступления Красной Армии русские и чешские войска оказались далеко отброшенными от Волги на восток. На северном участке линия фронта проходила восточнее Перми и Кунгура, на среднем участке - между Уфой и Бугульмой, на южном - западнее Оренбурга и Уральска. В штабе разрабатывалось наступление Сибирской Армии на Пермь, которое являлось частью стратегического плана прорыва красного фронта в направлении Пермь - Вятка - Котлас, на соединение с Белыми и союзными войсками на Севере России. Сторонниками этой идеи были англичане, стремившиеся заменить протяжённый путь снабжения сибирских войск через Владивосток более короткой северной коммуникацией через Архангельск.
Затем Колчак отправился в армейскую группировку генерала А.Н. Пепеляева. Адмирал объезжал прифронтовые части, беседовал с командирами полков, выяснял их потребности в людских резервах, вооружении, снарядах, патронах, охотно поддерживал разговоры офицеров о внутриполитическом положении Сибири и России вообще. При этом большая часть офицеров, в том числе и сам Пепеляев, высказывали недоверие к Директории и мысль о том, что власть должна принадлежать военным. Александр Васильевич побывал на передовых позициях, после чего, оставшись довольным Сибирской Армией, выехал в Челябинск.
В челябинском штабе генерал Сыровой познакомил адмирала со своим начальником штаба, русским генералом М. К. Дитерихсом. Здесь же Колчак нанёс визиты членам Чешского Национального Совета, а затем отправился на фронт под Уфу, находившуюся под угрозой удара войск советской 5-й армии.
Встретившись между Курганом и Петропавловском с поездом генерала Болдырева, Колчак узнал тревожные новости о событиях в Омске. После отъезда адмирала на фронт в городе получила хождение прокламация, содержащая призыв эсеровского ЦК создавать вооружённые партийные отряды на случай необходимости противостоять монархически настроенному офицерству. Призыв, автором которого был один из лидеров социал-революционеров В. М. Чернов, вызвал бурю возмущения у офицеров фронта и тыла, и Болдырев даже собирался арестовать Чернова. Арест отсрочил Авксентьев, понимавший, однако, опасность провокационного призыва. Серьёзно одёрнул эсеров и Нокс, предупредивший, что при такой их тактике Англия откажет им в помощи. Ещё более шатким стало положение Директории, на которую было направлено основное раздражение офицерства. Не прибавил стабильности и инцидент, произошедший 13 ноября в омском гарнизонном собрании. Во время банкета в честь прибывшего французского батальона русские офицеры заказали музыкантам национальный гимн - «Боже, Царя храни». Но в зале нашлось немало людей, протестовавших против его исполнения. Вспыхнул скандал, и войсковой старшина Красильников даже направил на одного из протестующих револьвер, после чего французский посол покинул зал.
15 ноября начальник омской милиции Роговский доложил председателю Совета министров о том, что в городе готовится свержение Директории. Вологодский поставил об этом в известность Главнокомандующего. Болдырев торопился на фронт и не мог обстоятельно разобраться в обстановке, но полагал, что нарушители общественного спокойствия - казаки, а в отношении Красильникова и его собутыльников приказал провести расследование.
На самом деле опасность для Директории была гораздо реальнее. Её политическим противником выступила влиятельная и обладающая в контрреволюционной России реальной силой конституционно-демократическая партия, того же 15 ноября открывшая в Омске свою 2-ю Сибирскую конференцию. На ней присутствовали представители партийных организаций девяти городов России. С докладом выступил председатель только что образованного на конференции Восточного отдела ЦК партии В. Н. Пепеляев - родной брат генерала. По его докладу конференция вынесла постановление: заменить полубольшевицкую, ошибочно созданную в Уфе Директорию военной диктатурой, единственно способной повести войну за национальное возрождение России. Энергичный Пепеляев взял на себя работу по связи с военными заговорщиками и представителями торгово-промышленного капитала. Организация военной акции - ареста эсеровских членов Директории - возлагалась на одного из старших штабных офицеров, полковника А. Д. Сыромятникова. Он действовал в контакте с бывшим начальником Академии Генерального Штаба генералом А. И. Андогским и с непосредственным руководителем ареста эсеров, начальником гарнизона города, полковником В. И. Волковым. Авксентьев потом утверждал, что о заговоре было известно и английским союзникам. Да и вообще о нём знали многие: Омск был буквально наполнен слухами о скором свержении Директории; несомненно, доходили они и до её членов, но сделать те уже ничего не могли. Колчак, как мы видели, не входил в число участников заговора, и до него доходили лишь смутные слухи обо всех этих событиях; в то же время он вполне мог и допускать возможность такого переворота, тем более вспоминая предыдущие разговоры о диктатуре с Гайдой и Пепеляевым.
17 ноября Александр Васильевич вернулся в Омск с фронта. К военному министру тотчас явилась делегация от высшего офицерства и казачества, заявившая, что участь Директории предрешена. Делегаты видели ей замену в единоличной власти и просили Колчака взять на себя диктаторские функции. Колчак ответил, что он не в состоянии принять такое бремя, поскольку единовластие может быть основано лишь на воле и желании армии, и только на неё может опираться лицо, согласившееся принять верховную власть и верховное командование. Закончил Колчак разговор выражением благодарности делегатам за оказанное доверие. Офицеры, в свою очередь, сказали адмиралу, что часы истории пущены и никто уже не в силах их остановить.
Переворот совершился в ночь с воскресенья 17-го на понедельник 18 ноября арестом Авксентьева, Зензинова и Роговского. В 4 часа утра дежурный ординарец поднял Колчака с постели к телефону. Вологодский сообщил об аресте двух членов Директории и их коллеги по партии Аргунова, сказал, что немедленно созывает Совет министров, и просил адмирала прибыть на экстренное заседание.
На заседании Вологодский проинформировал собравшихся, что арест членов Всероссийского Правительства был произведён на квартире Роговского, дом которого был оцеплен усиленным разъездом 1-го Сибирского казачьего полка, партизанским отрядом Красильникова и ещё несколькими конными частями. Боевую дружину Роговского разоружила одна казачья часть, не арестовав никого из дружинников, поскольку они не оказали сопротивления. Неизвестной пока оставалась судьба арестованных.
Развернулись оживлённые прения. Факт свержения Директории был признан всеми. Она оказалась скомпрометированной и ненужной. Страсти разгорелись по вопросу о форме власти: быть ли правительству гражданским или власть должна перейти к диктатору. Вопрос нужно было решать немедленно, так как из-за безвластия в городе могли начаться беспорядки. Большинство присутствующих склонялись к мысли о необходимости диктатуры. Кандидатами в диктаторы были названы генералы Болдырев и Хорват и адмирал Колчак.
Военный министр Колчак сказал, что он видит в роли диктатора скорее Болдырева. После его слов началось обсуждение кандидатур. Адмирала при этом попросили удалиться как единственного из кандидатов, находившегося в Омске в данный момент.
После обсуждения кандидатуры Болдырева и Хорвата были отвергнуты. С последним кандидатом - Колчаком - мало кто из министров общался лично, но мощную поддержку ему оказали присутствующие здесь же морские офицеры, рассказав о его боевых заслугах перед Родиной. В итоге Совет министров объявил адмиралу об избрании его Верховным Правителем России (титул был утверждён тогда же) с назначением его Верховным Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами. Колчак первоначально предложил ограничить свои полномочия лишь исполнением должности Верховного Главнокомандующего, на что ему было замечено, что от него хотят большего - осуществления твёрдой и устойчивой верховной власти.
После короткого обсуждения Совет министров принял постановление в следующей редакции: верховную власть, взятую на себя после распавшейся Директории, Правительство передаёт в руки Александра Васильевича Колчака, именуемого впредь Верховным Правителем России и Верховным Главнокомандующим. Постановление приняли единогласно. После поздравлений Колчак поблагодарил Совет министров и выразил уверенность в том, «что общими дружными усилиями, вместе с нашей доблестной армией мы одолеем врага, возродим нашу матушку-Россию и восстановим в ней законность и порядок».
Затем Верховный Правитель, по просьбе премьер-министра, приказал полковнику Сыромятникову освободить из-под стражи Авксентьева, Зензинова, Роговского и эсеров Аргунова и Ракова и разместить их под строжайшей охраной по квартирам. Потом Колчак направился в Штаб Главнокомандующего, чтобы сделать необходимые распоряжения по войскам, а министрам предложил разработать положение о взаимоотношениях Верховного Правителя и Совета министров.
Во второй половине дня состоялось заседание Совета министров, на котором заявили о своём выходе из состава правительства Вологодский и его помощник Виноградов, причём последний сказал, что не верит в благо, которое может принести новая власть. Его и не стали уговаривать остаться членом кабинета; с большим трудом и во многом благодаря лично Колчаку удалось убедить изменить своё решение Вологодского. Александр Васильевич ознакомил министров со своими первыми распоряжениями по вооружённым силам, потом были коллективно рассмотрены первые наброски к документу о взаимоотношениях Верховного Правителя и Совета министров. Для проведения внешней политики, поддержания постоянной связи с иностранными представителями и решения некоторых других вопросов адмиралу придавался рабочий аппарат из пяти человек, так называемый «совет Верховного Правителя». В конце заседания кабинет министров принял три постановления: о государственном перевороте, об отдаче под суд трёх непосредственных руководителей ареста членов Директории и о производстве вице-адмирала Колчака в адмиралы.
В течение того же дня 18 ноября из Омска во все концы Сибири и Европейской России полетели сообщения с текстом постановления Совета министров: «Ввиду тяжёлого положения государства и необходимости сосредоточить всю полноту верховной власти в одних руках, Совет министров постановил передать временно осуществление верховной государственной власти адмиралу Колчаку, присвоив ему наименование Верховного правителя». В тот же день было опубликовано и обращение Верховного Правителя к населению:
«Всероссийское временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал её мне, Александру Колчаку. Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю, что я не пойду ни по пути ре акции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашаемые по всему свету. Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам.
Верховный Правитель адмирал Колчак. 18 ноября 1918 года.
Город Омск»
* * *
Согласно поступившим из министерства внутренних дел и от омских властей сведениям, ночь в столице прошла спокойно. Прежде всего Колчаку пришлось принимать многочисленных визитёров. В числе первых посетителей были члены конституционно-демократической партии, возглавляемые В. Н. Пепеляевым, депутации «отцов города» и духовенства, представители местной буржуазии, отдельные почётные граждане, главные редакторы городских и некоторых сибирских газет. Все они восторженно встретили приход новой власти, горячо приветствовали и поздравляли адмирала (большинство видело его впервые), желали ему близкой победы над большевиками. После русских «поздравителей» визит Верховному Правителю нанесли дипломатические представители Англии и Франции, помимо поздравлений поинтересовавшиеся дальнейшей судьбой арестованных членов Директории. Колчак ответил, что все четверо находятся под надёжной охраной на квартире Авксентьева, и опасность их жизни не угрожает. Последней поздравить адмирала пришла большая группа морских офицеров во главе с прибывшим из Соединённых Штатов капитаном 1-го ранга М. И. Смирновым, который уже через день был назначен на должность управляющего морским министерством с производством в контр-адмиралы.
Напрасным, однако, было бы думать, что переворот был воспринят восторженно всеми, - нашлись, разумеется, и противники. Сразу же после переворота депутатами действовавшего в Екатеринбурге Съезда членов Учредительного Собрания была принята резолюция-воззвание с призывом устранить «кучку заговорщиков»; подобные же заявления были сделаны и в Уфе членами «Совета Управляющих Ведомствами». В итоге Съезд был разогнан, а часть участников арестована, что положило конец идее Учредительного Собрания первоначального состава, избранного осенью 1917 года. Долго не признавал Верховного Правителя и Атаман Семёнов, вообще стремившийся действовать автономно, и этот конфликт в той или иной форме тянулся около полугода.
Правительства стран Антанты на первых порах недооценивали Колчака, считая, что борьбу с большевиками должны возглавлять их собственные представители. В середине декабря 1918 года в Омск прибыл французский генерал М. Жанен, по решению Верховного Совета Антанты назначенный Главнокомандующим русскими и союзными войсками. Однако Александр Васильевич решительно возразил против такого решения, вполне резонно заметив, что в Гражданской войне командование может осуществлять только русский человек. В итоге под верховное командование Жанена перешли лишь чешские и другие союзные войска.
В целом же с приходом к власти Колчака антибольшевицкие формирования на Востоке консолидировались. Он был признан правительством Всевеликого Войска Донского, приславшим в Омск генерала К. И. Сычева. Власть Колчака вскоре признали и руководители Белых формирований на Севере и Северо-Западе России. В конце мая 1919 года его de jure признал и генерал А. И. Деникин, которого Колчак назначил своим заместителем. Но полноценного взаимодействия между силами, непосредственно подчинявшимися адмиралу Колчаку, и войсками других антибольшевицких фронтов так достигнуто и не было.
В конце декабря Колчак получил телеграмму от бывшего министра иностранных дел С. Д. Сазонова, ставшего теперь послом Омска в Париже. От имени «Русского политического совещания» в Париже, объединявшего бывших русских послов, членов «Национального центра» и «Союза возрождения» (коалиционные правоцентристские политические организации), видных представителей политических и деловых кругов дореволюционной России, в ней сообщалось: «Признаем верховную власть, принятую Вашим превосходительством, в уверенности, что Вы солидарны с основными началами политической и военной программы Добровольческой армии».
В первые же дни после своего вступления в должность Верховному Правителю необходимо было решить два вопроса: как наказать участников переворота - казаков - и что делать с арестованными членами Директории. В итоге «переворотчики» были секретным приказом произведены в следующий чин: полковник Волков стал генерал-майором, а войсковые старшины Красильников и Катанаев - полковниками. Назначенный над ними суд, состоявшийся 21 ноября, полностью оправдал их, вскрыв при этом массу неприглядных фактов, связанных с деятельностью Директории. Те же из членов последней, кто не признал власть Колчака, были отправлены под английским конвоем во Владивосток, откуда они затем уехали за границу. Предварительно каждому из них было выдано по 75-100 тысяч рублей.
Отбитый у большевиков чехами и белогвардейцами ещё в августе 1918 года в Казани золотой запас Российской Империи позволял Колчаку осуществлять крупные закупки оружия и военного снаряжения у союзников. Генерал Нокс, руководивший по поручению стран Антанты военным снабжением русских войск в Сибири, в это время находился во Владивостоке, обеспечивая приёмку прибывающих военных грузов и доставку их по назначению. Заботясь о первоочередном снабжении частей Екатеринбургского фронта, Колчак пытался связаться по прямому проводу с Ноксом, чтобы тот ускорил доставку снарядов и патронов. Но связь была прервана, и подозрение пало на Атамана Семёнова, что ещё больше обострило упомянутый выше конфликт (связь, впрочем, вскоре была восстановлена, а вину Атамана так и не смогли доказать даже его недоброжелатели).
27 ноября генерал Болдырев, по собственному прошению, был освобождён от должности Верховного Главнокомандующего. Колчак предлагал ему на выбор любую должность, кроме Верховного Главнокомандующего, но тот отказался и через несколько дней выехал в Японию. Теперь адмирал окончательно принял на себя и верховное командование войсками.
Достигнутые в декабре 1918 года первые боевые успехи на Урале окрылили омское Правительство и его союзников, вселили надежду на осуществление далеко идущих замыслов. Но оставалась и масса проблем - в первую очередь материально-техническое обеспечение действующих войск и подготовка для них армейских резервов, причём особенно остро ощущалась нехватка патронов и снарядов. Несмотря на старания Нокса, грузы из Европы из-за дальности расстояния продвигались крайне медленно. Колчаковское правительство по дипломатическим каналам обратилось с заказом на снаряды и патроны к Японии. Непростой оказалась и подготовка людских резервов для фронта, необходимость в которых возрастала по мере потери чехословацкими частями боеспособности. Началась ускоренная подготовка офицерских кадров на Русском острове близ Владивостока, в чём немалую помощь оказали английские инструкторы (так называемая «школа Нокса»).
Круг забот Верховного Правителя, конечно, не ограничивался военными проблемами. Гражданское управление ложилось на десять министров, объединённых в Совет во главе с председателем Вологодским (генерал Жанен записывал в дневнике: «Любопытная вещь - перманентность министров: они работали с Директорией, работают с адмиралом, который опрокинул Директорию»). Колчак, однако, не только утверждал все важные постановления Совета министров, но нередко и сам принимал участие в законотворчестве.
В одном из писем Александр Васильевич писал: «Моя цель первая и основная - стереть большевизм и всё с ним связанное с лица России, истребить и уничтожить его. В сущности говоря, всё остальное, что я делаю, подчиняется этому положению». Слова эти подразумевали прежде всего разгром советской системы, коммунистической партии. А сделать это можно было, помимо чисто военных мероприятий, прежде всего путём проведения последовательных реформ, которые позволили бы решить основные внутриполитические вопросы. Как же они решались в период существования Всероссийского Правительства Колчака?
Прежде всего адмирал стремился установить закон и порядок. Были восстановлены и совершенствовались административные и судебные органы, в том числе Правительствующий Сенат. Во главе губерний (областей) стояли управляющие. На Урале был введён институт главных начальников края. Возрождались и местные органы самоуправления - городские думы, их управы, сеть земств, впервые появившихся в Сибири в 1917 году. Но при этом государственные структуры воссоздавались в довоенном, имперском масштабе, а ведь чем более громоздким становился государственный аппарат, тем меньше была его эффективность.
Воссозданы были и внешние атрибуты государства - двуглавый орёл (короны заменили сияющим Крестом, а скипетр - мечом), трёхцветный бело-сине-красный флаг и принятый после Февраля гимн («Коль славен» на музыку Д. С. Бортнянского).
Одним из самых важных хозяйственно-экономических вопросов стал аграрный. От умонастроения крестьянства, составлявшего значительный процент солдат и младшего офицерства армии Верховного Правителя, зависело очень многое. Правительство Колчака отменило принятый Временным Сибирским Правительством закон о возвращении прежним владельцам их имений вместе с инвентарём. С 10 декабря было отменено и постановление о государственном регулировании хлебной, мясной и масляной торговли, разрешена свободная торговля этими продуктами «по вольным ценам». В аграрной политике омское Правительство ориентировалось на использование опыта преобразований П. А. Столыпина, создание крепкого индивидуального хозяйства и ликвидацию помещичьего землевладения. Земли, изъятые у крупных землевладельцев большевиками, подлежали продаже через Земельный банк «трудовому собственнику». 8 апреля 1919 года была опубликована «Грамота Верховного Правителя о земле», в которой кардинальное решение аграрного вопроса предполагалось передать «Национальному Российскому Собранию» после победы над большевиками, пока же устанавливалось, что на всех землях урожай мог собирать и использовать тот, кто обрабатывал и засевал поле.
Не менее важным было и решение рабочего вопроса. Министерство труда, возглавляемое социал-демократом меньшевиком Л. И. Шумиловским, в основном руководствовалось законодательством Временного Правительства. Проводился курс на упорядочение взаимоотношений между рабочими и работодателями - «между трудом и капиталом». Были восстановлены биржи труда, больничные кассы (органы социального страхования рабочих); сохранялись и профессиональные союзы, которых к концу 1918 года насчитывалось 184. Впрочем, взаимоотношения властей и профсоюзов были сложными, последние часто и далеко небезосновательно обвинялись в антиправительственной деятельности. В связи с военной обстановкой уровень жизни населения значительно ухудшился. В городах и рабочих посёлках, ввиду роста цен на продовольственные товары, реальная зарплата стала не успевать за прожиточным минимумом, ухудшились условия труда на заводах, фабриках и в железнодорожных мастерских. Предприниматели, в отсутствие закона о восьмичасовом рабочем дне, при попустительстве властей сами устанавливали режим работы на своих предприятиях, несмотря на существование советов бирж труда, сами решали вопросы найма и увольнения, систематически снижали принятые по закону обязательные отчисления в больничные кассы рабочих.
Постановлением Совета министров от 18 февраля 1919 года был образован специальный орган - Комитет по выработке экономической политики, который должен был обобщить предложения отдельных министерств и составить общий план действий в социально-экономической области. В основу экономической политики возрождаемой России был положен принцип частного хозяйства. Крепкое и нормально функционирующее хозяйство было немыслимо без создания и развития отечественной промышленности. Наибольшее внимание необходимо было обратить на развитие крупной индустрии, как наиболее стойкой к различным потрясениям, но при этом государство не должно было отказывать в поддержке мелкой и кустарной промышленности. Первоочередное внимание предстояло обратить на привлечение капитала в топливную, лесную, металлургическую, металлообрабатывающую и горнодобывающую отрасли. Допускалось и приветствовалось присутствие иностранного капитала, но при этом его права должны были быть чётко зафиксированы. Отечественная промышленность защищалась таможенными барьерами.
В области торговли объявлялся принцип свободной частной торговой инициативы. Но при имевшемся товарном дефиците государство должно было найти формы по возможности безболезненного воздействия на заготовку и распределение самых необходимых продуктов. Государство же должно было регулировать и внешнюю торговлю.
Для осуществления экономических преобразований необходимо было улучшение внутренней финансовой системы. В связи с этим поддержку от государства получал частный банковский аппарат. Главными источниками денежных поступлений становились налоги и... печатный станок.
В области путей сообщения заявлялось о всемерном стремлении к восстановлению и улучшению существующих транспортных коммуникаций, увеличению объёма грузоперевозок. Предполагалось восстановление и широкое использование железнодорожного и водного транспорта, причём для восстановления железных дорог широко привлекались иностранные специалисты (в основном - американцы, меньше - японцы), которые занимались обследованием их состояния, выдвигали различные предложения по улучшению условий эксплуатации. Быстрыми темпами проводилась денационализация водного транспорта. Решить проблему коммуникаций между территорией, находившейся под управлением Всероссийского Правительства, и Северным регионом, пытались воссозданием Северного Екатерининского канала между Чердынью (притоком Камы) и Северной Двиной. Канал этот начали строить в XVIII веке, но вскоре забросили. Естественно, что попытка восстановить его в силу трудных обстоятельств военного времени была обречена на провал. Но сам факт этот свидетельствует о том, что поиск решения насущных экономических проблем вёлся постоянно.
Торгово-промышленные компании Англии, Франции, США и Японии с конца 1918 года начали устанавливать выгодные экономические связи с сибирскими кооператорами и предпринимателями. Иностранцев интересовали сибирские богатства: золото, редкие металлы, пушнина, лес; сибиряки нуждались в сельскохозяйственных машинах и промышленных товарах.
Летом 1919 года развернули свою деятельность английские «Компания по снабжению Сибири» и акционерное общество «Лена Голдфилс». Англичане разрабатывали и проект международного консорциума «Российская и Сибирская торговая и финансовая корпорация» в составе крупнейших промышленных и банковских фирм Англии, Франции, США и Японии с расчётом обеспечения преимущественного положения в корпорации британским монополиям. Выдвигались и планы реконструкции российской экономики.
В порядке развития экономических связей между Западом и освобождённой от большевиков Россией на лето 1919 года намечалась Карская морская товарообменная экспедиция. Иностранцы запрашивали Архангельск и Омск об особенностях плавания карским путём, уточняли характер и объем сибирского экспорта и условия товарообмена. Американцы и англичане намеревались направить в устья западно-сибирских рек по пять своих судов с грузом смазочного масла, необходимого для военной техники, военные грузы и части войск. В обмен на машинное масло надеялись получить от сибирских купцов масло сливочное и другие сельскохозяйственные товары. Экспедиция была осуществлена летом — осенью 1919 года, причём с точки зрения мореплавания это было весьма значительное мероприятие. Но в силу того, что положение отступающих колчаковских войск в сентябре - октябре было весьма неблагополучно, поддержку с берега экспедиции оказать не удалось, и она попала в руки красных. О роли Карской экспедиции в развитии мореплавания и торговли можно судить по тому, что уже при Советской власти по её маршруту было проведено пять подобных экспедиций.
На Дальнем Востоке безнаказанно хозяйничали японцы. С разрешения Хорвата они совершали каботажные плавания у русских берегов, при этом часто на захваченных русских же судах. Японцы монополизировали торговлю с местным населением, скупая у него за бесценок пушнину, сельскохозяйственные продукты, рыбу; в то же время на чужой земле добывали золото и другие полезные ископаемые, заготовляли и вывозили лес, в русских водах промышляли ценные породы рыб. С другой стороны, следует сказать, что присланные в Забайкалье и на Дальний Восток японские дивизии были едва ли не единственными из союзников, кто принимал активное участие в боевых действиях против красных партизан.
Разумеется, осуществить в полной мере все заявленные экономические преобразования Всероссийское Правительство не смогло. Главной причиной стала, конечно, война, во время которой вообще затруднительно реализовать какие-либо реформы. Налицо было и «пробуксовывание» чрезвычайно громоздкого аппарата управления промышленностью, инфляция, а также множество других причин.
* * *
Кроме того, политическому режиму Колчака существовало весьма значительное сопротивление. Ушедшие в подполье большевики создавали партизанские отряды, организовывали восстания. Одним из первых стало декабрьское восстание в Омске. 21 декабря произведённый в генерал-майоры видный участник ноябрьского переворота Д. А. Лебедев доложил адмиралу, что в городе раскрыта нелегальная квартира и арестован большевицкий подпольный штаб, готовивший мятеж. Однако контрразведке удалось раскрыть лишь штаб 2-го городского района, причём некоторые из арестованных подпольщиков были самовольно расстреляны на месте. Всего же Омским подпольным комитетом большевиков было организовано четыре таких штаба соответственно в четырёх городских районах; на предприятиях и в железнодорожных мастерских готовились рабочие боевые отряды, была установлена связь с солдатами дислоцированного в Омске 20-го Сибирского стрелкового полка.
Провал одного из штабов вынудил большевицких руководителей отложить восстание, намеченное на 2 часа ночи 22 декабря. Но не предупреждённые об этом вовремя из-за плохой связи штабы других районов дали команду на выступление своих отрядов. В 1-м районе рабочие и солдаты 20-го полка захватили тюрьму и освободили около двухсот заключённых, вооружённые рабочие 3-го района разоружили до четырёхсот солдат, пригород Омска - Куломзино (4-й район) - полностью перешёл в руки восставших.
За Куломзино всю ночь шёл бой, была прервана телеграфно-телефонная связь с фронтом, у мятежников обнаружились пулемёты. Лишь вечером с помощью артиллерии сопротивление повстанцев там было подавлено.
Верховный Правитель тут же повелел подготовить приказ: всех принимавших участие в беспорядках или причастных к ним лиц предать военно-полевому суду, а всем освобождённым арестованным добровольно явиться к караульному начальнику областной тюрьмы, коменданту города или в милицию. Большинство, в том числе почти все арестованные эсеры, действительно вернулись в тюремные камеры. Наиболее активные мятежники были расстреляны, остальные подверглись тюремному заключению. Общее число жертв этого восстания по одним данным превышало 1 000, по другим - доходило до 2 000 человек. Со стороны правительственных войск потери не превышали 20-25 солдат и офицеров; среди них оказалось 3 или 4 чеха.
Поздно вечером того же дня Колчак получил от Вологодского записку, в которой сообщалось о предании военно-полевому суду членов Учредительного Собрания, не имевших никакого отношения к восстанию, если не считать их временной отлучки из открытой мятежниками тюрьмы. Адмирал тут же дал по телефону распоряжение начальнику гарнизона, чтобы этих людей под суд не отдавать.
Утром выяснилось, что шестнадцать «учредиловцев», половину из которых составляли социалисты, всё же ночью были расстреляны. Двоих из них, эсера Девятова и меньшевика Кириенко, присоединили к сорока четырём подлежащим военно-полевому суду большевикам, и всех ликвидировал сопровождавший их офицерский конвой. Офицеры - участники расстрела - были преданы суду, но часть их была по суду оправдана, часть же понесла наказание условно.
Впоследствии адмиралу очень активно вменяли в вину этот эпизод члены Чрезвычайной Следственной Комиссии при эсеро-меньшевицком Иркутском Политцентре, тем более что один из них - К. Попов - едва не оказался в числе расстрелянных. Колчак вполне резонно отвечал, что данное дело не входило в его личную компетенцию: «Это дело следствия, а я сам не давал каких-либо распоряжений по этому поводу. Каким образом я мог приказать следователю арестовать то или иное лицо? » Запрещал Колчак и телесные наказания, но, несмотря на это, следствие в Иркутске стремилось обвинить его во множестве конкретных, возможно даже реальных правонарушений, к которым лично Верховный Правитель отношения не имел.
Вслед за омским восстанием 26 декабря выступили канские рабочие и присоединившиеся к ним четыре роты солдат. Они захватили управления военного начальника и полиции Канска, почту, вокзал и склад с оружием, разоружили железнодорожную охрану. 27 декабря железнодорожники захватили станцию Иланскую к востоку от Красноярска и разоружили роту, посланную на подавление мятежа. 6 февраля рабочие Енисейска и местные солдаты заняли правительственные учреждения, арестовав чиновников города, прервали работу почты и телеграфа, освободили из тюрьмы политических заключённых. Потерпев поражение, канские, иланские и енисейские повстанцы ушли в тайгу, к партизанам (активное партизанское движение в крае началось ещё в ноябре 1918 года). По словам одного из белых офицеров, «вся Енисейская губерния и часть Иркутской буквально горели в огне партизанщины». Местами наиболее активного партизанского движения стала территория между реками Енисей и Кан, объявленная Степно-Баджейской партизанской республикой со своей «партизанской армией» под командованием А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина, и окрестности села Тасеево - богатый хлебный район, связанный с рабочими золотых приисков енисейской тайги. Здесь была организована Тасеевская партизанская республика.
Уже в конце января 1919 года в Омске вновь была пресечена попытка вооружённого восстания. Все эти мятежи отвлекали войска с фронта, и зачастую для их подавления приходилось обращаться к иностранным подразделениям. Кроме того, карательные экспедиции (так назывались они и в официальных колчаковских документах) нередко действовали не только против партизан, но и против мирного населения, что лишь настраивало крестьян против власти Верховного Правителя и способствовало усилению влияния большевиков. Хотя необходимо отметить, что и партизаны действовали не только против войсковых соединений, а зачастую вели себя как разбойники, грабя и убивая мирных жителей, пуская под откос пассажирские поезда.
Помимо восстаний, огромный вред приносила и инертность значительной части населения, равнодушно смотревшей на происходящее и стремившейся жить по принципу «моя хата с краю». До прихода к власти Колчака сибирский и, отчасти, уральский крестьянин не познали ещё, что такое аграрная политика большевиков. Не испытав прелестей продразвёрстки и других форм грабежа, сибиряк искренне полагал, что большевики отдадут землю именно ему. Именно поэтому многие крестьяне не хотели защищать колчаковский режим, так до конца и не поняв сути его аграрной политики и считая Всероссийское Правительство лишь «реставратором старых порядков».
Охарактеризовав внутриполитическую ситуацию, попытаемся рассмотреть, как влияли на неё личные качества Верховного Правителя. На всю его деятельность прежде всего накладывало отпечаток то, что он был человеком военным. Пути борьбы с недостатками в работе аппарата управления в целом Колчак видел в постепенном сосредоточении всех важнейших направлений работы в собственных руках. Для этого при Ставке Главнокомандующего стали создаваться всё новые и новые службы, что, естественно, упорядочению работы не способствовало. Как писал Управляющий делами Совета министров Г. К. Гинс, «адмирал - Верховный Главнокомандующий поглотил адмирала - Верховного Правителя, вместе с его Советом министров...» Впрочем, нужно отметить, что такая ситуация возникла далеко не сразу, первоначально Колчак был более тесно связан с Советом министров, больше опирался на него.
Одним из самых важных вопросов для Всероссийского Правительства было его международное признание. На Парижской мирной конференции 7 мая 1919 года глава британского кабинета Д. Ллойд-Джордж выразил надежду, что скоро правительство Колчака переберётся в Москву. Считая своевременным признание новой всероссийской власти, английский премьер тем не менее хотел выговорить у Верховного Правителя ряд условий и получил в этом поддержку президента США В. Вильсона, добавившего, что от омского Правительства надо потребовать принятия и проведения программы демократических реформ. Настроения в пользу признания Колчака поддерживались даже некоторыми бывшими руководителями свергнутой Директории: так, Авксентьев выражал готовность служить адмиралу, который, естественно, приветствовал такое решение. В то же время без «условий» не обошлось и здесь: вместе с лидером «Лиги Республиканской России» А. Ф. Керенским эти политические банкроты просили Вильсона потребовать демократизации режима Колчака.
3 июня в Омск поступила обширная телеграфная нота из Парижа за подписью глав пяти союзных держав. В ноте говорилось о непримиримом отношении союзников к Советской власти, обещались материальная поддержка омскому Правительству и содействие реальному превращению его во всероссийское в том случае, если оно возьмёт на себя ряд обязательств: созыв после взятия Москвы Учредительного Собрания, избранного на демократических основаниях, а при невозможности проведения свободных выборов - оставление прежнего (на 1917 год) его состава; обеспечение в Сибири гражданских свобод (свободного избрания муниципалитетов, земств и других общественных организаций, свободы вероисповедания); невосстановление помещичьего землевладения и сословных привилегий; признание независимости Финляндии и Польши, урегулирование отношений с прибалтийскими государствами, Закавказьем и Закаспийской областью и признание их de facto; признание прежних русских долгов. Фактически эти требования были ничей иным, как вмешательством во внутренние дела России. Но выхода у Всероссийского Правительства в тот момент не было. В ответ, подготовленный министром иностранных дел И. И. Сукиным, адмирал внёс две поправки: во-первых, отразить в письме несогласие с восстановлением в правах Учредительного Собрания 1917 года, поскольку в его состав входили большевики, и, во-вторых, - разъяснить, что он не останется на своём посту ни на один день позже, «чем того требуют интересы России». Ни присланную союзническую ноту, ни ответ на неё Верховный Правитель не счёл необходимым довести до сведения Совета министров, почитая своё решение по этому вопросу исчерпывающим и окончательным.
Несмотря на некоторые недомолвки и неясности в ответе, он вполне удовлетворил «дружественные державы», обещавшие по-прежнему оказывать союзническую помощь. Единственное пожелание с их стороны состояло в том, чтобы Колчак, Вологодский и другие члены правительства почаще выступали в печати с рекламой своей «демократической» программы. Однако подлинного единодушия на Западе не было. Консервативные круги считали необходимым не только оказывать материальную поддержку омскому Правительству, но и признать его de facto и de jure; напротив, среди либеральной общественности, встревоженной «чинимыми в Сибири актами беззакония и произвола», господствовала противоположная точка зрения. В Англии её разделяли лейбористы, требовавшие разрыва отношений с Омском. Учитывая серьёзные выступления против поддержки Колчака, правительства стран Антанты стали скрывать истинные размеры оказываемой ему военной помощи. Главным же, что требовалось для признания сибирского Правительства, были победы его армий.
Омская дипломатия добивается военной помощи и на Востоке - от Японии. Улучшению отношений японцев к Колчаку способствовали боевые успехи его войск, а также относительная реабилитация Семёнова и назначение Атамана помощником командующего Приамурским военным округом. О переориентации японской политики свидетельствовала и отставка ещё в январе бывшего харбинского недоброжелателя Колчака, генерала Накашимы. Для признания Всероссийского Правительства, Японии было достаточно лишь подтверждения им всех долгов и международных обязательств прежних правительств. Получив необходимые заверения, японцы стали торопить западных партнёров с признанием адмирала.
Близкими союзниками до недавнего времени были чехословаки, и Верховный Правитель даже предоставил им ряд льгот, в том числе право приобретать недвижимость в Туркестанском крае вопреки запрету на такого рода привилегии для других иностранцев. Первые разочарования в чехословацких легионерах появились у Колчака после самовольного оставления ими боевых позиций; далее его всё больше раздражало нежелание чехов воевать, склонность их начальства к сближению с эсерами и меньшевиками, вызывающее всеобщее возмущение мародёрство войск.
Наибольшую неприязнь Колчака вызывали два высших представителя Чехословакии в Сибири - генерал Я. Сыровой и гражданский комиссар Б. Павлу. А тут ещё неожиданно разгневал Верховного Главнокомандующего и Гайда, выступивший с резкой критикой действий Ставки. Первый конфликт закончился примирением, но вскоре командующий Сибирской Армией был устранён со службы.
Говоря о союзнической помощи, нельзя не отметить, что оказывалась она далеко не безвозмездно. Она осуществлялась через займы или непосредственно под залог части золотого запаса Российской Империи, оказавшегося в руках Всероссийского Правительства. Общая номинальная стоимость запаса превышала 650 миллионов рублей, а на оплату поставок из-за рубежа Правительством было израсходовано около 242 миллионов.
Но, конечно, самым главным фактором, определявшим и внутреннюю, и внешнюю политику адмирала Колчака, оставалась непрекращающаяся война.
* * *
А дела на фронте шли с переменным успехом. Данные о численности армий Верховного Правителя в 1919 году несколько различаются между собой, совпадая лишь в указаниях на огромную разницу между числом бойцов и общей численностью едоков. Связано это было с тем, что в результате мобилизаций чрезвычайно разбухли тыловые учреждения и части. В декабре 1918 года численность боевого состава армий, по разным подсчётам, колебалась в пределах 100-120 тысяч человек, а к марту 1919-го она увеличилась до 150-170 тысяч. Помимо этого, в Сибири и на Дальнем Востоке находилось до 25 тысяч чехословаков, 36 тысяч японцев, 4-5 тысяч американцев, 1-2 тысячи англичан и канадцев, более 1 тысячи французов, а также формирования поляков, сербов, итальянцев, румын. Но практически все иностранцы находились в тылу, не принимая активного участия в боевых действиях.
Поскольку Колчак всегда продолжал чувствовать себя военным моряком, он, естественно, не мог не думать и о создании военно-морских сил, тем более что в его распоряжении было значительное количество морских офицеров, оказавшихся в Сибири после революции и развала флота. В течение 1918-1919 годов были сформированы три речные боевые флотилии - Камская, Обь-Иртышская и Енисейская, которые успешно взаимодействовали с сухопутными войсками, вели борьбу с флотилиями противника. Было сформировано также два подразделения морской пехоты - Отдельная бригада морских стрелков и Морской учебный батальон.
Противник же в декабре 1918 года имел в строю на Восточном фронте 750 тысяч человек, а к лету 1919 года - около одного миллиона.
В конце декабря 1918 года войска адмирала Колчака одержали крупную победу под Пермью, взятой на Рождество. Эта победа, принёсшая значительные трофеи, имела и огромное моральное значение; не могли омрачить её даже последующие неудачи на западном и южном участках фронта - оставление Уфы, Бирска, Оренбурга. «За разгром армий противника Русскими Армиями под управлением Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего адмирала А. В. Колчака, на основании параграфа 1 статьи 8-ой Георгиевского статута», Георгиевская Дума при Штабе Сибирской Армии поднесла адмиралу орден Святого Георгия III-й степени. «Принимая эту высокую воинскую награду, - писал Александр Васильевич в приказе, - я уверен, что доблестная возрождённая Русская армия не ослабеет в своём порыве и до конца доведёт дело освобождения России от врагов и поможет ей снова стать могучей и сильной в среде великих держав мира».
Ещё в те годы было сломано немало копий вокруг вопроса, правомерны ли награждения орденом Святого Георгия, практиковавшиеся на Востоке и Севере России, за отличия в Гражданской войне. На наш взгляд, для А. В. Колчака и многих, очень многих офицеров и солдат Белых Армий эта война вовсе не была междоусобной, а считалась продолжением Великой войны, поскольку большевики расценивались как ставленники немцев. В силу этого награждение Георгиевскими наградами в Гражданскую войну было для Верховного Правителя вполне правомерным.
Военные успехи зимой 1918/1919 года и весной 1919-го стали пиком успехов армии Колчака, причём они непосредственно связывались с личностью адмирала, четыре раза выезжавшего на фронт и во время продолжительных пребываний там стремившегося вникать в нужды офицеров и солдат. Конечно, это ещё больше укрепляло его авторитет.
В начале января 1919 года к Верховному Правителю приехал священник, посланный Святителем Тихоном, Патриархом Московским и всея России. Священник привёз миниатюрную фотографию образа Святителя Николая Чудотворца с Никольских ворот Московского Кремля и благословение Патриарха «на борьбу с атеистической временной властью над страдающим народом Руси». По свидетельству личного адъютанта адмирала, Колчак сказал тогда: «Я знаю, что есть меч государства, пинцет хирурга, нож бандита... А теперь я знаю, я чувствую, что самый сильный - меч духовный, который и будет непобедимой силой в Крестовом походе против чудовищного насилия!»
После крупных успехов белых под Пермью и неудач под Уфой и Оренбургом положение на фронте стабилизировалось. Та и другая стороны готовились к решительному удару. И в начале марта 1919 года войска Колчака, упредив красных, перешли в наступление и стали быстро продвигаться к Волге. Но уже к концу апреля наступательный потенциал был исчерпан, а большевики под руководством М. В. Фрунзе начали энергичное контрнаступление. Изменение стратегической обстановки и отход белых на новые рубежи были связаны с неустойчивостью и прямым предательством некоторых частей, в том числе печально известного Украинского «куреня» имени Тараса Шевченко. Почти всё лето армии Верховного Правителя терпят неудачи, они несут значительные людские и материальные потери.
19 июля по приказу Верховного Главнокомандующего войска перешли на продовольственное и фуражное самообеспечение за счёт местных ресурсов, оплачиваемых из казённых средств. Однако приказ платить за всё, приобретённое или изъятое у населения, выполнялся не всегда, что, естественно, вызывало озлобление.
Отступление продолжалось. Оказались израсходованными последние стратегические резервы. Только снятие большого количества красных полков и дивизий с Восточного на Южный и Петроградский фронты и срочные меры, предпринятые Колчаком и его сотрудниками, позволили задержать красных в сентябре - октябре во время боев на реке Тобол. На отдельных участках фронта колчаковским войскам удавалось достигать временных успехов, но с конца октября стремительное отступление возобновляется. 4 ноября противником был захвачен Ишим, 14 ноября - Омск, 22 декабря - Томск.
* * *
Колчак выехал из своей столицы 12 ноября, за два дня до её падения. Во время отступления между ним и командованием чехословацких частей, за которыми стоял французский генерал Жанен, произошёл конфликт, вызванный захватом бывшими союзниками двадцати тысяч железнодорожных вагонов. Помимо личного состава и имущества Чехо-Словацкого корпуса, вывозилось огромное количество «военной добычи», награбленной в России. Эти эшелоны забивали, железнодорожные пути, замедляя или совсем останавливая эвакуацию русских беженцев и войск. Зачастую же чехи просто отбирали паровозы у санитарных и беженских эшелонов.
8 декабря на станции Тайга братья Пепеляевы - командующий 1-й армией (из войск переформированной Сибирской) генерал А. Н. Пепеляев и сменивший Вологодского на посту председателя Совета министров В. Н. Пепеляев - потребовали у Колчака срочного созыва Земского Собора и кадровых перестановок в военном и морском ведомствах, угрожая Верховному Правителю арестом. На следующий день братьями был предъявлен ультиматум, согласно которому адмирал должен был объявить о созыве Сибирского Земского Собора в срок до 24 часов 9 декабря. Однако ультиматум выполнен не был. Относительной нормализации обстановки способствовало назначение Главнокомандующим войсками фронта генерала В. О. Каппеля. Генерал М. К. Дитерихс на аналогичное предложение ответил, что вступит в командование только в случае, если Колчак уедет за границу...
14 декабря после упорных боев был оставлен Ново-Николаевск, а вскоре, в результате измены, потерян Красноярск. Положение отступающих войск, а вместе с ними и Верховного Правителя, становилось просто катастрофическим.
27 декабря два поезда Верховного Правителя (его собственный и поезд с золотым запасом) были задержаны чехами в Нижнеудинске, за Красноярском. Под видом охраны от нападения «союзники» фактически взяли Верховного Правителя в заложники. Колчаку была вручена телеграмма генерала Жанена с требованием оставаться на месте до выяснения обстановки. К тому времени вспыхнуло восстание в Черемхове, на пути к Иркутску, а за ним и в самом Иркутске.
Мятежники требовали от чехов выдачи Колчака, В. Н. Пепеляева (который находился с ним в одном эшелоне) и золотого запаса взамен предоставления возможности свободной эвакуации из Сибири. В это же время шли переговоры между возглавившим иркутское восстание «Политическим Центром» (коалиция эсеров и социал-демократов при негласном участии большевиков), Жаненом и Советом министров о сдаче последним власти Политцентру. 3 января 1920 года Совет министров посылает Колчаку телеграмму с требованием об отречении от власти и передаче её А. И. Деникину. Адмиралу ничего не оставалось, как выполнить это требование, издав на следующий день свой последний указ.
Теперь речь шла только о спасении жизни, что дало бы возможность продолжать борьбу. Рассматривался вариант отступления в Монголию. Колчак счёл этот план приемлемым только при добровольном согласии солдат конвоя, но те покинули адмирала. Неожиданная измена конвоя так потрясла его, что он поседел за одну ночь. Фактически предали своего Верховного Главнокомандующего, отказав ему в помощи, и приближённые офицеры... Ещё раньше союзники предложили вывезти в своём эшелоне одного Колчака, без сопровождающих лиц. Но от этого предложения категорически отказался уже адмирал.
И генерал Жанен просто-напросто предал Александра Васильевича, заявив: «Мы психологически не можем принять на себя ответственность за безопасность следования адмирала... После того, как я предлагал ему передать золотой запас под мою личную ответственность и он отказал мне в доверии, я ничего уже не могу сделать».
Эшелон Верховного, разукрашенный флагами союзных держав, приближался к Иркутску. На станции Черемхово к охранявшим Колчака чехам присоединилась охрана из революционных рабочих. Вечером 15 января поезд прибыл в Иркутск, где Колчак, Пепеляев, Тимирева и 113 человек, ещё остававшихся в эшелоне, были заключены в Иркутскую губернскую тюрьму.
С 21 января по 6 февраля Колчака допрашивали члены следственной комиссии, назначенной Политцентром. Всего прошло девять заседаний. Реальных обвинений Колчаку члены комиссии выдвинуть не могли, и значительная часть протоколов посвящена выяснению обстоятельств дореволюционной биографии Колчака; лишь в самом конце вопросы стали касаться карательных операций и репрессий, проводившихся в период возглавления им Всероссийского Правительства. Опубликованные в СССР в 1925 году протоколы допроса, уже начиная с 1930-х годов, стали изыматься из библиотек и оказались практически недоступными читателям: даже «отредактированные» и, как доказано сейчас, искажённые - они не могли скрыть благородный облик адмирала, невольно показывая его вовсе не таким, как требовала советская пропаганда и верно служившая ей историография.
По самой распространённой версии, 7 февраля адмирал Александр Васильевич Колчак и Виктор Николаевич Пепеляев были убиты около устья реки Ушаковки при впадении её в Ангару. Существуют, впрочем, и свидетельства в пользу того, что убийство было совершено либо в тюремных камерах, либо во дворе тюрьмы. Когда председатель следственной комиссии С. И. Чудновский, войдя в камеру Колчака, объявил ему «приговор» - постановление Иркутского Военно-Революционного Комитета, адмирал якобы не смог сдержать восклицания: «Как! Без суда? » Для него - цивилизованного человека - было непостижимо, как можно отправлять на смерть без какого-либо разбирательства и без доказательства вины. В бытность свою Верховным Правителем он сам старался не допускать ничего подобного и сурово наказывал виновных. Чудновский отказал Колчаку в последней просьбе - проститься с А. В. Тимиревой. На просьбу же передать супруге, которая уже находилась в Париже, что он благословляет своего сына, Чудновский ответил только: «Если не забуду — сообщим». Можно только представить себе, как звучало бы благословение, переданное палачом-чекистом...
Перед смертью Колчак вёл себя мужественно, не позволил завязать себе глаза. Тела убитых были опущены в вырубленную во льду Ангары прорубь напротив Знаменского монастыря. 21 ноября 1999 года на месте гибели А. В. Колчака и В. Н. Пепеляева установлен памятный крест.
В наши дни среди местных краеведов возникла версия о том, что в апреле, после вскрытия льда на Ангаре, тело Колчака всплыло близ посёлка Усть-Куда, где его нашёл и похоронил местный крестьянин, и, хотя переоценивать её правдоподобия нельзя, сейчас предполагается провести экспертизу останков с целью установить, действительно ли они принадлежат Александру Васильевичу.
Долгое время считалось, что вопрос об убийстве Колчака был в спешном порядке решён Иркутским Ревкомом, так как к Иркутску в тот момент приближались белые войска под командованием сменившего Каппеля генерала С. Н. Войцеховского. Но сегодня можно считать практически доказанным, что убит без суда Колчак был по распоряжению лично Ленина, который в записке заместителю Председателя Реввоенсовета Республики Э. М. Склянскому распорядился послать председателю Реввоенсовета 5-й армии И. Н. Смирнову шифровку следующего содержания: «Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму, что местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске». Записка эта не имеет даты, однако сопоставление её текста с текстами других документов и с биографической хроникой жизни Ленина позволило датировать её двадцатыми числами января.
* * *
Подводя итоги жизни и деятельности Александра Васильевича Колчака, можно сказать, что для него всегда на первом месте находились интересы Отчизны. Так было и во время его полярных исследований, и в Порт-Артуре, и во время Великой войны. Принимая на себя верховную власть в 1918 году, адмирал вполне осознавал, сколь тяжёл этот крест, и нёс его до конца своей жизни. Закончить же рассказ об этом человеке лучше всего словами его друга и соратника М. И. Смирнова:
«Вождей Гражданской войны принято называть “белыми вождями”. Белый цвет есть признак чистоты намерений, честности жизни, искренности души. Ни к кому другому так не подходит название “белый вождь”, как к Адмиралу Колчаку».
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ Р. ГАЙДА (Очерк: Александр Петров)
Чешский и русский генерал Радола Гайда - один из самых знаменитых авантюристов Гражданской войны на Востоке России. При рождении он звался по-немецки Рудольф Гейдель, отец его был наполовину немец, наполовину чех, а мать - итальянка из Далмации. Позднее он исправил своё имя и фамилию на чешский манер - Радола Гайда, а в России подчас именовался Родионом Родионовичем или Родионом Ивановичем, по некоторым данным он даже перешёл в Православие. Добавим, что сам Гайда очень любил приукрашивать свою биографию, так что многие факты и события его жизни не выяснены досконально и до сих пор.
Гайда вполне мог бы найти своё место в качестве военачальника во многих государствах, образовавшихся на развалинах Австро-Венгерской Империи после Первой мировой войны; он мог бы считать себя австрийцем, итальянцем, хорватом, мог бы при иных обстоятельствах навсегда остаться в России. Поэтому до известной степени случайностью является то, что он связал свою судьбу именно с чехословацкой армией. По своим же личным качествам он был из тех людей, которые вряд ли способны сделать карьеру в спокойное, мирное время, но неизменно выдвигаются на первый план в эпохи катастроф и социальных катаклизмов.
* * *
Рудольф Гейдель родился 14 февраля 1892 года в порту Котор (современный город Катарро в Далмации). Его отец, моравский немец, служил в австро-венгерской армии фельдфебелем административной службы, исполняя обязанности военного бухгалтера. Вскоре после рождения сына Гейдель-отец вышел в отставку и получил должность чиновника уездного управления в Чехии, в городе Кийов на Мораве, куда и переехала семья. С 1904 по 1908 год мальчик учился в местной гимназии, но сумел окончить лишь три класса - на экзамене за четвёртый класс он провалился. Это совпало с переездом семьи обратно в Котор. Там строгий отец заставил Рудольфа одновременно с посещением старших классов хорватской гимназии учиться аптекарскому делу. Через два года пришла пора идти на военную службу: 1 октября 1910 года Рудольф Гейдель поступил вольноопределяющимся в 30-ю роту 5-го артиллерийского полка Императорско-Королевской Австро-Венгерской Армии, входившую в состав гарнизона порта Котор. Отслужив год вольноопределяющимся, Рудольф решил остаться на сверхсрочную службу в армии, и ему было присвоено звание унтер-офицера административной службы. Два года спустя, в 1913 году, он вышел в отставку и переехал в город Шкодер (современный Скутари в Албании), где женился на дочери аптекаря Тирона и открыл собственный аптекарский магазин с косметическим салоном. Здесь Рудольфа и застало в 1914 году начало Первой мировой войны.
Призванный по мобилизации 28 июля 1914 года, он в чине прапорщика был направлен в войска, действовавшие против Черногории, и получил в боях чины лейтенанта и обер-лейтенанта. В сентябре 1915 года в одном из боев Рудольф попал в плен к черногорцам (по другим же данным - добровольно перешёл на их сторону) и немедленно поступил в черногорскую армию, но уже в качестве военного врача, получив чин капитана медицинской службы. Тогда-то Гейдель и переименовал себя в доктора медицины Радолу Гайду, утверждая, что в мирное время, по выходе в запас в офицерском чине, два года учился во врачебно-фармацевтической школе и год слушал курс медицинской химии, однако все документы об этом пропали. Несмотря на отсутствие систематического медицинского образования, Гайда, по-видимому, достаточно неплохо справлялся со своими обязанностями. Но ему не суждено было задержаться здесь надолго.
6 октября 1915 года австро-германские войска начали общее наступление на Балканском фронте. Спустя восемь дней без объявления войны в Сербию вторглись также две болгарские армии. Они наносили удар по Македонии, отрезая сербам кратчайший путь к греческому порту Салоники. Союзники, обеспокоенные таким развитием событий, 18 октября высадили в Салониках свои войска, но помощь запоздала: болгарам уже удалось перерезать железную дорогу, связывающую этот порт с Сербией. Превосходство врага было слишком велико, и сербской армии пришлось начать тяжелейшее отступление по горным дорогам через Албанию и Черногорию к побережью Адриатики. Лишь в декабре 1915 года колонны сербов вышли к портам Скутари, Дураццо и Сан-Джованни ди Медуа. Туда дошло около 149 000 солдат и беженцев, 72 000 человек погибло в пути.
Вслед за сербами удару подверглась и черногорская армия: 8 января 1916 года австрийцы прорвали фронт, что повлекло оставление столицы Черногории Цетинье, и 19 января Король Николай Черногорский бежал из страны, отдав своим войскам приказ сложить оружие. Черногорская армия сдалась, а сербскую, находившуюся в самом бедственном положении, союзники в январе - феврале вывезли на остров Корфу. Здесь, на Корфу, сербская армия была реорганизована и в конце мая того же года была переброшена для продолжения борьбы на Салоникский фронт.
Вовлечённый вместе со всеми в поток отступления, Гайда по пути сумел присоединиться к Русской миссии Красного Креста. Ему удалось войти в доверие к руководителям миссии, и в результате весной 1916 года вместе с ней, получив документы члена миссии, он через Францию прибыл в Россию. В России Гайда первоначально избрал себе сербскую службу - он поступил в качестве военного врача в Сербский Добровольческий корпус, который формировался в Одессе в основном из пленных-югославян[4], хотя в небольшом количестве в него также попали и чехи со словаками. Но вскоре разразился скандал: сербы усомнились в квалификации Гайды как врача и потребовали предоставления соответствующих документов или переосвидетельствования. Тогда Гайда воспользовался общим стремлением чешских добровольцев выделиться в собственную национальную воинскую часть. 25 декабря 1916 года он ушёл от сербов, 30 января 1917-го поступил во 2-й Чешско-Словацкий стрелковый полк, уже в качестве строевого офицера, а 26 марта был назначен командиром 12-й роты.
Первые чехословацкие воинские формирования появились в России с самого начала войны. Ещё в августе 1914 года в Киеве была создана Чешская дружина (в составе четырёх рот, примерно 1 000 человек) из чехов-добровольцев, австрийских подданных, застигнутых войной в России. Уже 9 октября 1914 года дружина выступила на фронт, где отдельные её полуроты были прикомандированы к различным дивизиям III-й армии (Юго-Западный фронт) в качестве разведчиков. Чехи оказались подготовлены к такой службе как нельзя лучше. Пользуясь своим знанием чешского и немецкого языков, а также порядков, принятых в австро-венгерской армии, в которой многие из них прошли службу в мирное время, чешские добровольцы, переодевшись в австрийскую форму, по нескольку дней свободно бродили в ближайшем тылу противника, выдавая себя за отставших и добывая ценные сведения. Всё это не могло не вызывать ярость австрийского командования, зато русские командиры корпусов и дивизий не раз отмечали в своих приказах доблестную работу чешских разведчиков.
Одновременно у чехов появлялись и собственные офицерские кадры. Так, в 1915 году получили чин прапорщика добровольцы Я. Сыровой, С. Чечек и И. Швец, служившие в дружине с первых дней её образования. Одновременно, уже с конца 1914 года, в дружину начали поступать и военнопленные. 31 ноября 1915 года она была переименована в 1-й Чешско-Словацкий стрелковый полк, а 5 мая 1916 года полк был развернут в двухполковую бригаду; тогда же в Киеве был создан Запасный батальон, в который поступало добровольцами много бывших пленных чехов, в том числе офицеры.
Между тем в 1915 году в Париже был создан и политический орган, призванный возглавить борьбу за независимость Чехии и Словакии, - Чешско-Словацкий Национальный Совет (ЧСНС). Председателем его стал профессор философии Пражского университета Т. Г. Масарик. Совет взял на себя представительство интересов всех чехов и словаков перед странами Антанты.
Февральская революция 1917 года открыла перед чехословацким национальным движением новые перспективы. Если ранее Императорское Правительство России относилось к идее обретения Чехией государственной независимости достаточно настороженно, то теперь Временное Правительство безоговорочно признало «братское революционное движение чехов против империализма Габсбургов». В России было создано Отделение ЧСНС, а 16 мая из Франции в Петроград приехал профессор Масарик. Положительно был решён и вопрос о новых чешских формированиях. В апреле 1917 года в составе бригады был создан 3-й Чешско-Словацкий стрелковый полк и началось формирование 4-го.
Между тем бурный рост чехословацких частей или, как их называли неофициально, «легионов», происходил на фоне прогрессирующего развала русской армии. Временное Правительство готовилось начать в июле общее наступление, надеясь, что громкая победа оздоровит обстановку. При этом Чешско-Словацкой бригаде, вместе с русскими ударными батальонами, отводилась особая роль. Командование надеялось, что они своим порывом сумеют увлечь колеблющиеся и малонадёжные русские пехотные части.
2 июня части Чешско-Словацкой бригады были переданы в распоряжение командира XLIX-го армейского корпуса генерала В.И. Селивачёва. Бригада ещё не успела закончить формирование и имела в своих трёх полках всего 3 530 штыков. Но дух чешских добровольцев был очень высок: их поддерживала мысль, что впервые со времён сражения на Белой горе в 1620 году они пойдут отдельной национальной частью в открытый бой за освобождение своей родины. И атака 19 июня 1917 года стала настоящим триумфом чешского оружия. Это сражение получило впоследствии в чешской истории наименование «Битва под Зборовом».
В 9 часов утра 19 июня все части бригады разом выскочили из окопов и бросились вперёд. Натиск чехов был таким дружным и стремительным, что противостоящие им австрийцы несколько замешкались, и это решило дело. Через 10 минут вся первая линия вражеских окопов была уже в руках чехов. Не останавливаясь, они немедленно атаковали вторую и третью линии и, наконец, ворвались и на позиции артиллерии. Через полчаса позиции австрийских войск были полностью прорваны, и начальники участков тщетно выпрашивали у командиров соседних русских частей резервы для развития этого ошеломляющего успеха. Русские войска пошли вперёд с большой неохотой, и тактический успех не удалось превратить в настоящую победу. Уже изрядно потрёпанным чешским ротам пришлось закрепляться на достигнутых позициях и отражать вражеские контратаки. И всё же трофеями чехов в этот день стали 15 неприятельских орудий и 3 150 пленных; часть пленных, оказавшихся их земляками, немедленно изъявила желание вступить в ряды победоносных чешских полков. Потери бригады - до 1 000 человек выбывшими из строя, из них 190 убитых и умерших от ран.
В этот день Гайда всё время был в гуще боя, находясь в первых рядах атакующих. Ещё при выдвижении на позицию, 15 июня, он был назначен временно командующим 1-м батальоном 2-го Чешско-Словацкого полка, а когда в ходе атаки части перемешались, он по собственной инициативе принял командование всем 2-м Чешско-Словацким полком и своими умелыми действиями во многом способствовал успеху. За этот бой Гайда был награждён орденом Святого Георгия IV-й степени, а солдаты присудили ему дополнительно популярную в это время награду: Георгиевский Крест с лавровой ветвью на ленте. После Зборова Гайда стал признанным героем Чешских легионов. 30 июня 1917 года он был официально назначен временно командующим 2-м Чешско-Словацким стрелковым полком.
Однако вскоре разразился скандал: в штаб Чешской бригады из Сербского корпуса прибыли бумаги, в которых Гайда обвинялся в самозванном присвоении чина капитана и звания военного врача. В результате он был снят с командования полком и некоторое время находился под следствием. Гайда всё отрицал, заявляя, что нужные документы просто утеряны. Начальство склонно было не придавать этому делу слишком большого значения, однако властный характер Гайды, его неуживчивость и крайний индивидуализм успели создать ему в рядах легионов немало врагов, которые теперь с готовностью ухватились за эти обвинения. Вообще ситуация, когда за громким подвигом следовал не менее громкий конфликт с начальством и уход со всех заслуженных постов, не раз потом повторялась в жизни Гайды. Лишь 3 ноября 1917 года дело было прекращено с официальным заявлением, что в действиях Гайды не усматривается корыстных мотивов. Фактически скандал просто замяли.
* * *
Блестящая победа у Зборова побудила русское командование ускорить дальнейшее формирование чехословацких частей. Собственно, принципиальное согласие на это Ставка дала ещё 5 мая, теперь эти планы стали обретать реальность. Во всех лагерях военнопленных была развёрнута усиленная агитация; на волне национального подъёма пленные чехи и словаки тысячами записывались в новые части. В результате уже существующая бригада, в которую добавили новосформированный 4-й полк, была преобразована в 1-ю Чешско-Словацкую «Гуситскую» стрелковую дивизию. Затем приступили к формированию 2-й дивизии - создавались кадры ещё четырёх полков, а также две отдельные инженерные роты, две артиллерийские и запасная бригады. Причём задачу формирования и руководства - политического, а вскоре и военного - чехословацкими частями всё более брало в свои руки «Отделение ЧСНС в России», которое чехи часто называли просто «Отбочка» (отделение). Русская Ставка, заметно терявшая реальную власть в войсках, чаще всего без возражений выполняла рекомендации «Отбочки», а русский командный состав постепенно становился не более чем техническим исполнителем решений.
Наконец, 26 сентября 1917 года начальник Штаба Верховного Главнокомандующего генерал Н. Н. Духонин официально объявил о создании Чешско-Словацкого корпуса. 15 октября командующим корпусом был назначен генерал В. Н. Шокоров. Общая численность корпуса достигала уже 30 000 человек, его Штаб располагался в Киеве.
Командование корпуса и Отделение ЧСНС не собиралось останавливаться на этом, планировалось развёртывание 3-й дивизии. Но все планы нарушил большевицкий переворот. Придя к власти, большевики тут же запретили новые национальные формирования, резонно видя в них потенциально враждебную для себя силу. Перед Масариком встали насущные вопросы: как выбраться из России самому и как вывезти отсюда уже сформированные части. Оберегая корпус от развала, Отделение ЧСНС 15 января 1918 года объявило его «составной частью чехословацкого войска, состоящего в ведении Верховного Главнокомандования Франции». Масарику удалось договориться с представителями Франции, что корпус полностью переходит на содержание союзников. Одновременно Масарик объявил о строгом нейтралитете чехословаков в разгорающейся Гражданской войне и полном невмешательстве их в русские дела. В частности, он отклонил все предложения генерала М. В. Алексеева об участии чешских частей в любых акциях против захвативших власть большевиков.
18 февраля Масарик заявил членам «Отбочки», что принципиально решён вопрос о переброске чешского корпуса на Западный фронт. Путь для этого был избран через всю Сибирь и Владивосток, поскольку Архангельский порт замёрз до мая. Считая на этом свою миссию выполненной (а также, по-видимому, опасаясь за свою безопасность), Масарик в начале марта поспешил уехать из России в США.
Между тем, 8 февраля в Киев вступили большевицкие войска под командованием бывшего подполковника М. А. Муравьева, выбив из города части Украинской Центральной Рады. Чехи оставались безучастными зрителями этих боев.
Но 3 марта в Брест-Литовске был подписан мирный договор, и в соответствии с его условиями, под предлогом поддержки Центральной Рады, на Украину хлынули немецкие войска. Многочисленные красногвардейские отряды, возглавляемые теперь В. А. Антоновым-Овсеенко, были практически небоеспособны и не могли оказать наступающим никакого сопротивления. Чехи, таким образом, попали из огня да в полымя. Их дивизиям, в конце февраля пешим порядком выступившим из Киева, надо было срочно добывать себе железнодорожные составы, при этом особое значение для них приобретал железнодорожный узел Бахмач. В результате, чтобы не попасть в руки к немцам, частям корпуса пришлось совместно с Красной Гвардией (а это было очень сомнительным подспорьем) принимать арьергардный бой. Сражение у Бахмача продолжалось с 7 по 13 марта 1918 года. Со стороны чехов в этих боях приняли участие части 4-го, 6-го и 7-го полков, и им удалось приостановить продвижение передовых частей врага. Для немцев такое внезапное организованное сопротивление оказалось неприятной неожиданностью, и они поспешили заключить с чехами перемирие на три дня.
Теперь перед чешским командованием вставала задача всеми правдами и неправдами добыть за эти дни подвижной состав. «Врагами» на этот раз оказались не немцы, а красные командиры всех уровней, которые, разумеется, мечтали, чтобы чехи и дальше проливали свою кровь, прикрывая беспорядочное бегство их отрядов. И с новой задачей чешским командирам вполне удалось справиться, причём особенным хладнокровием и дипломатическими способностями отличился недавно присоединившийся к корпусу Генерального Штаба подполковник Б. Ф. Ушаков, вскоре получивший должность начальника Штаба 2-й Чешско-Словацкой дивизии.
Вечером 13 марта последние чешские части погрузились в вагоны, и их эшелоны под видом составов с ранеными немедленно двинулись в сторону Курска. Антонов-Овсеенко рвал и метал, обвиняя чехов в предательстве, но поделать ничего не мог. Гайда не принимал участия в этих боях, вплоть до марта 1918 года он был прикомандирован к штабу 2-й дивизии, оставаясь фактически без должности.
После того, как эшелоны пересекли границу Украины с РСФСР, руководство Отделения ЧСНС в России немедленно обратилось к Совету Народных Комиссаров с просьбой разрешить частям корпуса проезд во Францию. Для переговоров Совнарком делегировал И. В. Сталина. После долгих дебатов 27 марта было заключено соглашение, по которому частям корпуса был разрешён проезд во Владивосток. При этом изначальным требованием большевиков являлось полное разоружение и роспуск корпуса, но от этого им пока что пришлось отказаться. Однако и делегаты «От- бочки» пошли на серьёзные уступки: они согласились с формулировкой, что «чехословаки продвигаются не как боевая единица, а как группа свободных граждан, везущих с собой известное количество оружия для защиты от покушений со стороны контрреволюционеров». Соответственно корпус должен был разоружиться, оставив только по 100 винтовок и 1 пулемёту на эшелон (примерно на 1 000 человек).
Эти условия вызвали резкое недовольство в рядах легионеров. Часть офицеров пыталась протестовать. Тогда большевики потребовали изгнать «представителей реакционного командного состава», на что члены «Отбочки» с лёгкостью согласились. В результате среди русских офицеров корпуса была проведена жёсткая чистка. Многие вынуждены были уйти, а большинство оставшихся, ощущая шаткость своего положения, предпочитало сохранять сугубую лояльность политическому руководству во всех случаях, порой - вопреки здравому смыслу. Исход русских офицеров обернулся личной удачей для Гайды, 28 марта 1918 года он принял командование 7-м Чешско-Словацким Татранским стрелковым полком после ухода прежнего командира полка полковника Смуглова.
Итак, чехам пришлось подчиниться условиям соглашения. Всё тяжёлое оружие, боеприпасы и запасы снаряжения были сданы. Винтовки и пулемёты полки сдавали по мере проезда эшелонов через Пензу, и только после этого корпусу, насчитывавшему в своём составе 35 300 человек, в 63 эшелонах было разрешено ехать далее в Сибирь. Чехи расставались с оружием очень неохотно, что, учитывая полное бесправие, воцарившееся в стране, было вполне понятно. Многие эшелоны утаивали часть винтовок сверх положенного лимита, но в любом случае - подавляющее большинство людей в эшелонах ехали безоружными. К маю первые двенадцать эшелонов уже прибыли во Владивосток, но все остальные растянулись на огромном пространстве в 7 000 км от Ртищева (под Пензой) до Иркутска. Не подлежит сомнению, что на тот момент чехословаки, причём как руководство корпуса, так и простые легионеры, хотели только одного: как можно скорее покинуть сошедшую с ума Россию и перебраться во Францию, где в боях завершавшейся мировой войны завоевать для своей родины право на независимость.
Однако движение их поездов по Сибири всё замедлялось и; наконец, к маю практически совсем остановилось. И одновременно Совет Народных Комиссаров предложил Отделению ЧСНС в России отправить все эшелоны вместо Владивостока северным путём через Архангельск и Мурманск.
Растерявшаяся «Отбочка» не нашла ничего лучше, как выслать 9 мая в Москву делегатов, чтобы добиться согласия Советского правительства отправить через Владивосток хотя бы те поезда, которые к этому времени находились уже восточнее Омска, а северным путём - те, что стояли западнее Омска. При этом мнения простых чешских легионеров никто не спрашивал. А они сами отнеслись к этому новому проекту резко отрицательно. Чехи не доверяли Советской власти и видели в этих непрекращающихся нарушениях достигнутых соглашений одну только цель - уничтожить корпус как единое целое, а затем всех его бойцов поодиночке выдать на расправу немцам. Более того, рядовые бойцы не доверяли уже и своим политическим представителям, шедшим на всё новые и новые уступки, причём за их счёт. Одновременно ухудшались отношения и с Советами на местах: все они в больших городах по Транссибирской железной дороге требовали от чешских эшелонов только одного - вопреки всем прежним договорённостям полностью сдать оружие.
И одновременно этим оружием в Самаре, Челябинске, Петропавловске, Омске, Красноярске и Иркутске местные Советы поспешно вооружали... немцев и венгров, выпущенных из лагерей для военнопленных по всей Сибири и принятых в ряды Красной Гвардии в качестве «интернационалистов».
Многие из этих последних вовсе не разделяли коммунистических идей, но несмотря на это в Красную Гвардию шли охотно. Привыкшие видеть в русских своих врагов, они вступали в интернациональные отряды, чтобы почувствовать себя хозяевами в тех самых городах, где прежде в течение нескольких лет находились в униженном положении военнопленных. Уклад жизни русских людей был для них чуждым, и у них не вызывало внутреннего протеста участие в систематическом уничтожении всего самого святого для русского человека. По окончании Гражданской войны подавляющее большинство из тех, кому посчастливилось остаться в живых, вернулись к себе на родину, стали нормальными законопослушными обывателями, и их не мучила совесть по поводу совершенных ими злодеяний в далёкой и чужой для них России. В конце концов, эта новая борьба была для них не более чем продолжением их прежней борьбы против Российской Империи в мировую войну. И это как нельзя более устраивало их нынешних хозяев - большевиков, которым гораздо сподручнее было опираться именно на иностранные штыки, поручая немцам и венграм (а ещё лучше - китайским наёмным рабочим-кули) массовые расправы над русским народом.
Год назад, в 1917 году, русские солдаты, тысячами дезертируя с фронта, как известно, нагло заявляли своим офицерам: «Да мы - Тамбовские, до нас Немец не дойдёт»... Ошиблись! «Немец» дошёл, и не то что до Тамбова, а и до Омска с Иркутском. Весной и летом 1918 года жители сибирских станций и городов могли видеть, как по их улицам шли многочисленные отряды вооружённых до зубов солдат, зачастую в своей прежней немецкой и австро-венгерской форме, со своими собственными начальниками, как раздавались команды на чужом языке, как важнейшие посты в городах занимались этими чужеземцами. Возникал естественный вопрос: кто же эти люди, недавние поверженные враги, ставшие в одночасье «хозяевами жизни»? Интернационалисты? Или уже оккупанты?
Но если иностранные «интернационалисты» были ненавистны простым жителям Сибири, то ещё большую ярость вызывал их вид у чешских легионеров. Чехи видели в них своих исконных и естественных врагов, угнетателей своей родины, теперь с высоты своего положения только и ждущих случая, чтобы разделаться с ними. Для немцев, в свою очередь, чешские добровольцы были «предателями», нарушившими присягу и изменившими своему Императору Францу-Иосифу, так что ненависть их действительно была взаимной. Таким образом, противостояние в Сибири дополнительно приобретало ярко выраженный национальный характер, став продолжением старой чешско-немецкой и чешско-мадьярской борьбы.
Обстановка напоминала пороховую бочку, и было достаточно одной искры, чтобы прогремел взрыв. Этой искрой стал так называемый «Челябинский инцидент».
* * *
14 мая 1918 года на вокзале Челябинска из проходившего поезда с бывшими австро-венгерскими военнопленными в чехов, работавших на платформе, была брошена чугунная ножка от печки. Она попала в голову рядового Духачека, который упал тяжело раненным и потерял сознание. В ответ чехословацкие солдаты остановили эшелон, из которого была брошена ножка, выявили виновника и немедленно расправились с ним. Челябинский Совет, в состав которого также входили венгры-интернационалисты, 17 мая вызвал десять чешских солдат в качестве свидетелей, но при разборе этого инцидента объявил их единственными виновниками всего происшедшего и арестовал. В Совет была отправлена новая чешская делегация с требованием освободить арестованных, но она также была задержана. Тогда в 6 часов вечера по приказу командира 3-го Чешско-Словацкого полка подполковника С. Н. Войцеховского город был занят его солдатами, освободившими своих товарищей. Растерявшийся Совет не сумел оказать никакого сопротивления, часть местных комиссаров попала в плен, остальные разбежались, а все имевшиеся в городе запасы оружия - 2 800 винтовок и артиллерийская батарея - перешли в руки чешских легионеров.
На тот момент инцидент удалось уладить миром: арестованные комиссары были освобождены, большая часть оружия возвращена обратно, чехи и местный Совет вступили в переговоры о пропуске эшелонов далее на восток. Но напряжённость осталась.
Между тем, 20 мая в Челябинске открылся Съезд представителей Чешско-Словацкого корпуса. Готовился он уже давно, и теперь на него съехались представители от всех частей корпуса, а среди них и капитан Гайда. Съезд первоначально призван был решить вопросы внутренней реорганизации, но перед лицом надвигающихся событий вопросы эти, несомненно, должны были уступить место другим, куда более насущным и неотложным. И в этот момент пришло известие, что в Москве в ночь на 21 мая арестованы делегированные туда члены Отделения ЧСНС Макса и Чермак. Под давлением большевиков они, находясь под арестом, подписали приказ частям корпуса сдать местным Советам всё оружие «безо всякого исключения».
Этим шагом Совнарком рассчитывал окончательно сломить сопротивление чехов. Но он просчитался. Арестованные делегаты «Отбочки» были известны именно как сторонники компромисса любой ценой. Их арест возмутил всех легионеров, показал, как мало Советское правительство считается с принятыми на себя обязательствами, и укрепил позиции оставшихся на свободе сторонников куда более твёрдого курса. В ответ на окрики и угрозы из Москвы Съезд заявил, что он «лишает Отделение ЧСНС права руководства передвижением армии, находящейся на пути во Владивосток, и передаёт его Временному Исполнительному комитету, избранному и уполномоченному съездом, без ведома которого никто не имеет права отдавать никаких приказов, касающихся передвижения». Было единодушно принято решение ни одного эшелона на Архангельск не поворачивать, оружия не сдавать и в случае необходимости прорываться во Владивосток с боем.
Для руководства действиями чешских войск был избран Временный Исполнительный Комитет под председательством доктора Б. Павлу. В него вошли четыре прежних члена Отделения ЧСНС, четыре рядовых солдата и три командира полков: 4-го – поручик С. Чечек, 3-го - подполковник С. Н. Войцеховский и 7-го - капитан Р. Гайда. Последние три офицера составили «Военную Коллегию», которой съезд поручил разработать планы на случай открытого конфликта с большевиками и, если дело дойдёт до этого, - возглавить борьбу. Делегатам предписывалось немедленно разъехаться по своим частям, чтобы довести до всех решения съезда. На случай новой провокации большевиков предполагалось к 27 мая привести части корпуса в боевую готовность.
На тот момент части Чешско-Словацкого корпуса располагались следующим образом: первые 14 000 человек уже достигли Владивостока; в районе Тамбов - Пенза всё ещё оставалось около 8 000 человек (эта Пензенская группа состояла из 1-го и 4-го полков, 1-го запасного полка и 1-й артиллерийской бригады); вокруг Челябинска находились эшелоны 2-го и 3-го полков, двух батальонов 6-го полка, части запасного полка и одной роты Ударного батальона - всего около 8 800 человек; наконец, около 4 500 человек из состава 6-го, 7-го и 8-го полков, Ударного батальона, 2-го запасного полка и 2-й артиллерийской бригады были растянуты на протяжении около трёх тысяч вёрст между Курганом и Иркутском. Соответственно, съезд поручил Чечеку возглавить Пензенскую группу войск, Войцеховскому - все части, оперирующие вокруг Челябинска, а Гайде - эшелоны, двигающиеся по Сибири от Омска до Иркутска.
Гайда вернулся к своему полку в Ново-Николаевск утром 25 мая, и прямо на станции ему подали перехваченную телеграмму следующего содержания:
«Из Москвы, 25 мая. 23 часа. Самара, ж/д.
Всем совдепам по ж/д линии от Пензы до Омска.
Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооружённым по линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте, каждый эшелон, в котором окажется хоть один вооружённый, должен быть выгружен из вагонов и отправлен в лагерь для военнопленных. Местные военные комиссары обязуются немедленно выполнить этот приказ, всякое промедление которого равносильно бесчестной измене и обрушит на виновного суровую кару. Одновременно посылаются в тыл чехословакам надёжные части, которым поручено проучить неповинующихся.
С честными чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, поступать как с братьями и оказывать им всяческое содействие. Им пойдём всевозможно навстречу. Всех железнодорожников поставить в известность, что ни один вагон с чехословаками не должен продвинуться дальше на восток. Кто уступит насилию и будет содействовать чехословакам в их продвижении, будет строго наказан.
Настоящий приказ прочесть всем чехословацким эшелонам и сообщить всем железнодорожникам по месту нахождения чехословаков. Каждый военный комиссар должен об исполнении донести.
№ 377. Народный Комиссар по Военным Делам Л. Троцкий»
Вряд ли эту телеграмму можно было расценивать иначе как объявление войны. И ответ последовал незамедлительно. В 2 часа дня капитан Кадлец занял Мариинск, в ночь на 26 мая сам Гайда - Ново-Николаевск, в ночь на 27-е Войцеховский вторично занял Челябинск, наконец, 29 мая Чечек в упорном сражении захватил Пензу. Началось то, что советские историки впоследствии назвали «мятежом Чехословацкого корпуса». Излишне говорить, что реальные события совершенно не соответствовали этому названию: действия чехов были спровоцированы большевицким руководством, которое, как это явственно следует из приведённой телеграммы, планировало одновременный предательский удар по всем их эшелонам.
Впрочем, мятеж действительно имел место. Только это был мятеж молодых чешских офицеров, таких как Гайда, Кадлец и Чечек, против собственного политического руководства, готового выдать их с потрохами большевикам, против командующего корпусом генерала Шокорова, сохранявшего лояльность Отделению ЧСНС и пытавшегося помешать выступлению, наконец, против «хозяев и нанимателей» - представителей Антанты, которые, предложив своё посредничество в улаживании конфликта, не задумываясь о последствиях, настаивали при этом на полном разоружении чешских эшелонов. К тому же у этого «мятежа» была ещё одна странная особенность: поднявшие его люди стремились не свергнуть власть, а поскорее покинуть страну; «мятежные эшелоны» прорывались не на Москву, а на Владивосток...
Моря чернил изведены советскими историками, чтобы доказать, что чешское руководство давно уже вынашивало коварные планы. Мол, «эшелоны заранее были растянуты по всей Транссибирской железной дороге, чтобы в один и тот же день захватить власть во всех городах и на станциях». Но ведь это делалось по приказу из Москвы, чтобы практически безоружные эшелоны чехов были разделены между собой и в момент, когда они будут блокированы местной Красной Гвардией, ни один из эшелонов не смог бы придти на помощь соседнему.
«Но чехи обладают подавляющим численным превосходством!» Приводится обычно даже официальная цифра: по состоянию на 21 мая в пяти военных округах (Восточно-Сибирском, Средне-Сибирском, Западно-Сибирском, Приуральском и Приволжском) у Советов якобы числилось лишь 4 539 бойцов. Лукавая цифра! Ведь этот подсчёт совершенно не учитывает поголовно вооружённые коммунистические ячейки, органы и отряды ЧК, то, что именно в эти дни по всем станциям и городам развернулась широчайшая мобилизация в Красную Гвардию военнопленных немцев и мадьяр, наконец, тот факт, что в руках местных Советов имелись значительные запасы оружия (в том числе и отобранного у чехословаков). А с другой стороны? Из общего числа примерно в 35 тысяч человек, владивостокская группа чехов в 14 тысяч первоначально в выступлении не участвовала. Остаётся 21 тысяча. Но по договору они имели на всех лишь 2 100 винтовок и 21 пулемёт! Да, указывают, что «огромное количество» оружия чехи везли незаконно, сверх оговорённой нормы. Однако следует учесть, что это могло касаться только винтовок; пулемётов (которые якобы были спрятаны между стенками вагонов в разобранном виде) можно было утаить не более одного-двух десятков. Орудий же во всём корпусе не было ни одного! Это ли те преимущества, о которых нам постоянно твердят?
«Но у чехов, - говорят нам, - были сильные, сколоченные части, обладающие опытом мировой войны». Разберёмся и в этом. В сражении под Зборовом приняли участие три с половиной тысячи чешских легионеров, и примерно столько же ещё - в боях под Бахмачом. Если же говорить о «сколоченности» частей, то девять десятых из них были созданы осенью 1917 года и «сколачивались» уже в эшелонах, идущих на восток, в обстановке, мягко говоря, не слишком способствующей проведению регулярных занятий и оттачиванию боевых навыков. Но ведь чехи, бывшие военнопленные, имели опыт боев ещё в составе австро-венгерской армии? Да, в точности такой же, как и «интернационалисты» немцы и венгры из красных отрядов! Так что, как видим, у большевиков при внезапном одновременном ударе были все основания рассчитывать на быструю и относительно лёгкую победу над «мятежниками» (особенно в случае, если те не сразу догадаются, что находятся уже в состоянии «мятежа»).
Но как же тогда получилось, что события, которые подготавливались красными как лёгкая военная прогулка, обернулись для них столь сокрушительной катастрофой? Прямо скажем, большевики переоценили свои силы. Скорее всего, расчёт делался на то, что до боев дело не дойдёт и корпус прекратит существование по приказу сверху, со стороны податливых членов «Отбочки». Утерян был и фактор внезапности, местные Советы «спугнули» чехов преждевременными грубыми действиями. Огромным преимуществом чехов был их командный состав. Занявшие должности командиров полков чешские младшие офицеры с 1914 года прошли отличную боевую школу в качестве разведчиков, они-то 25 мая и повели за собой доверявших им солдат. Конечно, подавляющая часть младших офицеров не имела достаточных знаний для командования полками и дивизиями, но они привыкли принимать самостоятельные ответственные решения и были как нельзя лучше подготовлены для полупартизанских действий, которые и развернулись по всей железнодорожной магистрали. К тому же, несмотря на травлю русского командного состава, в рядах чехов оставались ещё такие блестящие русские офицеры, как подполковники Войцеховский и Ушаков.
Но главное, чего не учли красные - это той степени ненависти, которую питало к ним население Сибири. Ещё до появления чехов по всем городам создавались подпольные офицерские организации. Они были слишком малочисленными, чтобы суметь самостоятельно свергнуть Советскую власть, но с первого же дня выступления примкнули к чешским частям, сразу же удвоив их силы. Остальное же население, хотя и настроенное не столь решительно, в подавляющем большинстве проявляло откровенные симпатии скорее к иностранцам-чехам, нежели к «своим» большевикам. Ярчайшее свидетельство тому - помощь железнодорожных рабочих и служащих, благодаря которым пресловутая телеграмма Троцкого по большей части попала не в руки местных комиссаров, а к Чечеку, Войцеховскому, Гайде и другим командирам чешских эшелонов...
Но вернёмся к тому моменту, когда утром 25 мая Гайда получил на вокзале Ново-Николаевска роковую телеграмму. Как вспоминал сам Гайда, он ни на минуту не сомневался, что это означает войну, и решил немедленно выступать на свой страх и риск, не дожидаясь условленной даты 27 мая. Несомненно, это было самое важное решение в его жизни.
Первым делом он собрал подальше от посторонних глаз, за водокачкой, импровизированное совещание офицеров своего полка и разъяснил им своё решение: всем эшелонам свергать Советскую власть на местах и стараться как можно скорее соединиться друг с другом. Офицеры поддержали его единогласно. Теперь необходимо было довести решение до сведения командиров остальных подчинённых ему эшелонов.
В группу Гайды входили: одиннадцать рот 6-го и 7-го стрелковых полков и три артиллерийских батареи (без орудий), а также группа подполковника Ушакова (три роты Ударного батальона, эшелон 2-го запасного полка и эшелон Штаба и обоза 2-й дивизии). В общей сложности это составляло около 4 000 человек. Кроме того, три эшелона чехов находились на станциях вокруг Иркутска, но распоряжения Гайды до них не дошли: утром 26 мая эти эшелоны подверглись внезапному нападению со стороны Красной Гвардии. Чехи отразили атаку, но затем под давлением вмешавшихся французского и американского консулов сдали оружие и были немедленно отправлены во Владивосток, выбыв таким образом из игры.
Ещё уезжая из Челябинска, Гайда заранее договорился со своим заместителем капитаном Кадлецем об условных телеграммах, которыми они могли бы обмениваться. Так, телеграмма «Отдайте письмо Комиссару» означала приказ — «Займите город». Именно она и была теперь послана Кадлецу в Мариинск. В 2 часа дня оттуда пришёл краткий ответ: «Письмо отдано» - это означало, что Мариинский Совдеп прекратил своё существование.
Тем временем Гайда в Ново-Николаевске успел связаться с местной офицерской организацией поручика Лукина. Само выступление решили отложить до темноты. В час ночи 26 мая над вокзалом взлетела красная ракета - и почти одновременно в районе красногвардейских казарм и здания Совета загремели взрывы ручных гранат. Сопротивление было сломлено в течение сорока минут, чехи потеряли при этом лишь двух убитых и трёх раненых.
Утром в городе шла уже обычная жизнь, и лишь на улицах стояли кое-где часовые с бело-зелёными повязками на рукавах. Это были бойцы вновь созданной Сибирской Народной Дружины, послужившей впоследствии основой при формировании 1-го Ново-Николаевского стрелкового полка - первого полка Сибирской Армии, избравшей бело-зелёные цвета как символ снегов и лесов Сибири. Власть в городе перешла в руки восстановленной городской думы.
Независимо от желания чехов, они стали катализатором для выступления всех антибольшевицких сил в Сибири. С первых же дней стихийно образовавшиеся небольшие русские добровольческие отряды взяли на себя обязанности разведчиков, наступавших впереди чешских эшелонов. Одновременно русские части выделяли кадры, которые поддерживали порядок в освобождённых городах и формировали новые добровольческие полки. По мере развития событий русские отряды играли всё большую и большую роль.
Тем временем выступил в Канске и подполковник Ушаков. Получив известие о том, что на следующий день назначено разоружение его частей, он решил нанести упреждающий удар и в ночь на 29 мая занял Канск, а следом за ним и Нижнеудинск.
* * *
Теперь перед Гайдой встала чрезвычайно сложная задача. На западе его отделяла от Челябинской группы Войцеховского сильная группировка красных в Омске. Между занятым Ново-Николаевском и Мариинском, освобождённым Кадлецем, находились мощные силы красных в районе Томск — станция Тайга. Наконец, Ушаков в Канске был отрезан от Кадлеца большевицкими отрядами Красноярска. При малейшем промедлении все эти силы грозили раздавить чехов.
Первым делом следовало соединиться с группой Кадлеца. 30 мая Гайда начал наступление на узловую станцию Тайга. Все ожидали ожесточённого сопротивления, но, к общему удивлению, после первой же стычки большевики бежали в полном беспорядке. Как вскоре выяснилось, в тылу у них восстала Томская подпольная организация. Её преждевременное выступление закончилось неудачей, но напуганный большевицкий Совет в Томске через день сам бежал из города. Члены военной организации, выйдя из подполья, немедленно образовали Добровольческий батальон в 500 штыков. Вскоре все Томские формирования возглавил подполковник А. Н. Пепеляев.
Вечером 31 мая Гайда прибыл в город со штабом и одной ротой, торжественно встреченный почётным караулом во главе с Пепеляевым. Здесь же, в Томске, Гайда получил два тяжёлых и два лёгких полевых орудия с минимальным запасом снарядов - они стали первыми орудиями в его группе.
Но надо было спешить дальше, к Мариинску. В ночь на 1 июня головной эшелон поручика Гусарека исправил подорванное железнодорожное полотно и занял станции Анжерскую и Судженскую. Отряду Кадлеца тем временем пришлось в течение 1 июня выдержать яростный натиск со стороны сильного отряда анжеро-судженских большевиков. Лишь к вечеру удалось вырвать у них победу, а в сумерках поезд красных, отступающий на запад, столкнулся со встречным эшелоном, отходящим под напором отряда Гусарека. Оба поезда сошли с рельсов, а немногие уцелевшие красногвардейцы разбежались по тайге. Таким образом, головные части Гайды и Кадлеца, наконец, благополучно соединились.
Противником Гайды в этих боях являлись вооружённые силы «Центросибири» - Центрального Исполнительного Комитета Советов Сибири. Центросибирь была создана ещё в конце 1917 года и претендовала на координацию деятельности всех Советов Западной и Восточной Сибири, а также Дальневосточного края, хотя фактически её власть распространялась лишь на территорию Восточной Сибири от Красноярска до Читы. Теперь, оказавшись отрезанными от Москвы, представители Центросибири запросили у Гайды перемирия, с тем чтобы связаться со столицей и попытаться разрешить конфликт мирным путём. Гайда совершенно не верил в такую возможность, однако перемирие было ему выгодно с тактической точки зрения, и оно было заключено до 16 июня, причём распространялось и на отряд Ушакова в Канске. Теперь, обезопасив себя на время с востока, Гайда мог нанести следующий удар уже на запад, в сторону Омска. 15 июня пал Барнаул, а следом за ним были заняты Бийск и Семипалатинск.
Помощь подходила и с запада, со стороны Челябинской группы. Решающий бой здесь произошёл 7 июня на станции Марьянов- ка: омские красногвардейцы были в нём наголову разбиты, и в тот же день Омск был освобождён с помощью выступившей местной подпольной организации. Вскоре в Омске было сформировано Временное Сибирское Правительство, и этот город окончательно превратился в столицу Белой Сибири. 8 июня на станции Татарская произошло соединение частей Гайды с западным отрядом поручика Сырового. Таким образом, путь до Челябинска был открыт, и Гайда вновь мог заняться восточным направлением.
Тем временем 12 июня из войск Временного Сибирского Правительства было образовано два корпуса: 1-й Средне-Сибирский, под командой подполковника А. Н. Пепеляева, и 2-й Степной Сибирский, под командой полковника П. П. Иванова-Ринова. Средне-Сибирский корпус должен был наступать на восток, совместно с группой Гайды. Его составили добровольческие отряды из Средней Сибири: Томск дал четыре полка, Ново-Николаевск - два, Барнаул и Красноярск по одному. Эти полки насчитывали пока не более чем по 300-400 штыков при нескольких пулемётах, во всём корпусе было всего 8 орудий, но части были сформированы исключительно из добровольцев, и их боевой дух был очень высок. В свою очередь, и Гайда для пополнения своих частей 21 июня объявил по всем лагерям военнопленных на освобождённой территории мобилизацию чехов и словаков.
Перемирие с Центросибирью заканчивалось вечером 15 июня. На следующий же день у Мариинска разгорелся ожесточённый бой. Гайда нанёс удар с фронта и тыла, причём лично возглавил обходную колонну, и красные в панике бежали к Красноярску. Одновременно 16 июня Ушаков наступал на станцию Клюквенная, и это решило судьбу Красноярска. 19-го в городе произошло восстание, местный Совет поспешно бежал на пароходах по Енисею, а на следующий день в город уже вступала с востока ударная рота из отряда Ушакова, а с запада - самодельный бронепоезд Гайды. После соединения отрядов подполковник Ушаков принял должность начальника Штаба в объединённом отряде Гайды. Своими знаниями, энергией и блестящим талантом тактика Ушаков чрезвычайно способствовал всем дальнейшим успехам «Восточного отряда Чехо-войск» вплоть до своей трагической гибели. Гайда очень уважал и любил его.
Между тем войска Центросибири со стороны Иркутска, сосредоточив 5 000 человек, нанесли удар по Нижнеудинску, но в упорном трёхдневном бою 24-26 июня эта группировка была наголову разбита. Красные бежали столь стремительно, что преследование их замедлялось лишь постоянной необходимостью чинить повреждённое полотно железной дороги и взорванные мосты. Центросибирь поспешно переехала в Верхнеудинск, за ней последовали и деморализованные красные отряды. 11 июля войска группы Гайды освободили Иркутск. Там 1-й Средне-Сибирский корпус Пепеляева был разделён на две дивизии, а все русские и чешские войска, оперирующие в этом районе, объединены в Восточный фронт, который возглавил произведённый в полковники Гайда.
Однако борьба ещё далеко не была закончена. Необходимо было как можно скорее, не останавливаясь, захватить тоннели на Круго-Байкальской магистрали и предотвратить подрыв их большевиками. Первые 38 тоннелей удалось спасти, и всё же около 5 часов вечера 19 июля, когда чехо-русские отряды, развивая успех, занимали станцию Слюдянка, невдалеке прогремел мощный взрыв: красные взорвали восточный выход из последнего тоннеля - № 39. Это задержало дальнейшее наступление почти на две недели; лишь 31 июля там можно было начать ремонтные работы. Красные между тем получили уникальную возможность собраться с силами и самим перейти в контрнаступление.
Для предстоящего сражения они сконцентрировали все свои силы. Их руководство старалось пополнять ряды всеми возможными и невозможными способами: так, командир отряда анархистов Лавров вывез из лагерей военнопленных до 1 000 человек немцев и венгров, окружил их пулемётами и предложил на выбор: вступить в Красную Гвардию или быть расстрелянными на месте. Значительные силы были сняты с Забайкальского фронта, оперирующего против Атамана Семёнова. В результате численность красных возросла до 15 000 человек. В ударную группу входило также несколько бронепоездов, а на озере Байкал красные вооружили огромный железнодорожный паром «Байкал» и мощный ледокол «Ангара»; эти корабли господствовали на озере, постоянно обстреливая артиллерийским огнём расположение белых. Все силы, сведённые в Прибайкальский красный фронт, превосходили противника по меньшей мере втрое, поскольку восточнее подорванного тоннеля могли действовать лишь авангардные части чехов и белых с самой незначительной артиллерией, причём снабжение их продовольствием и боеприпасами могло осуществляться лишь по труднодоступным горным тропам. Таким образом, все преимущества были на стороне красных, и те не замедлили ими воспользоваться.
29 июля войска Центросибири перешли в наступление и обрушились на отряд Пепеляева, потеснив его. Стало ясно, что без какого-либо манёвра позиции просто не удержать. Тогда Пепеляев предложил дерзкий план: симулировать отступление, а тем временем четыре полка из его корпуса скрытно оставить в засаде в сопках. Действительно, красная ударная группировка втянулась в приготовленный «мешок», и по установленному сигналу фронтальные части Гайды перешли в наступление, в то время как Сибиряки Пепеляева подорвали железную дорогу и заняли господствующую позицию на путях отхода красных у разъезда Салзан. В течение всего дня 6 августа им пришлось выдерживать бешеный натиск красных, но к 5 часам вечера стало ясно, что враг сломлен. С запада приближались цепи Гайды, и Сибирские добровольцы уже явственно слышали чешские рожки, выпевавшие полковой сигнал 7-го Татранского полка «Поспешим дальше!». Красным пришлось бросить поезда, и они пытались пешком добраться до своих по узкой открытой полосе между железной дорогой и берегом озера, но огонь Сибиряков коеил их массами. Победа была полной: Гайде в качестве трофеев достались два бронепоезда, семь эшелонов, четыре орудия, пятнадцать пулемётов и много другого снаряжения. Пленных было до 2 500 человек, только на полотне железной дороги было подобрано потом до 700 трупов. Общие же потери в отряде Пепеляева и у чехов - чуть более 300 человек. Боевой дух красных был надломлен этим поражением, но одержанную победу надо было ещё закрепить.
Через несколько дней тоннель № 39 был наконец восстановлен, и встал вопрос о дальнейшем наступлении. Новые фронтальные прорывы красных позиций в глубоких, едва проходимых ущельях, по которым проходило полотно железной дороги, и по склонам сопок, сплошь поросших тайгой, могли затянуть ликвидацию красной группы ещё на месяцы. Поэтому Гайда после долгих раздумий решился на ещё одну безумно смелую и рискованную операцию - высадить десант с озера глубоко в тыл красных войск.
В десант было назначено 1 075 штыков, 75 сабель и 6 орудий, и возглавил его начальник Штаба Гайды подполковник Ушаков. Предприятие это выглядело тем более безумным, что в распоряжении десантного отряда было три прогулочных пассажирских колёсных пароходика «Бурят», «Феодосия» и «Сибиряк», предназначенных лишь для плавания по реке Ангаре. Если бы на озере Байкал разразилась буря, что было обычным явлением для этого времени года, хрупкие судёнышки десанта могли просто затонуть, не говоря уже об опасности столкновения с гораздо более мощными «Байкалом» и «Ангарой». Несмотря на это, Ушаков был полон решимости и неустанно подбадривал своих людей. 14 августа первый транспорт с десантом отошёл от пристани Лиственичная, а утром 16-го все транспорты благополучно пристали к берегу в тылу у красных, близ деревни Посольская.
Части высадились на берег, где по приказу Ушакова солдаты сняли с себя все отличительные знаки, чтобы походить на красногвардейцев, после чего отряд двумя колоннами двинулся на станцию. Большевицкая охрана на станции Посольская была застигнута врасплох и не оказала ни малейшего сопротивления. Ушаков связался по телеграфу с Верхнеудинском и, выдав себя за командира мадьярского отряда, потребовал немедленно прислать на станцию поезд с артиллерийскими снарядами. Поезд был выслан; не доезжая до станции Посольская он был встречен белой засадой и спущен под откос, частью вагонов прочно закупорив путь.
Тем временем со стороны озера внезапно раздалась артиллерийская канонада. Это пароходы «Сибиряк» и «Феодосия» заметили у Мысовой корабли красной военной флотилии и решили, не считаясь с неравенством сил, атаковать их. «Байкал» начал отвечать им. Разгорелась артиллерийская дуэль. Известно, что смелым сопутствует удача: меткий снаряд с «Сибиряка» вскоре поджёг надстройки на «Байкале». Огонь быстро добрался до запасов топлива и боеприпасов, раздался взрыв, и огромный паром выгорел дотла. Остальные красные пароходы, не принимая боя, поспешно ретировались. «Сибиряк» перенёс огонь на пристань и станцию; на берегу началась паника. На станции Мысовая в это время располагался Штаб и тылы красного Прибайкальского фронта, и теперь они начали поспешную эвакуацию, перешедшую в беспорядочное бегство. Таким образом, первое (и последнее) в чехословацкой истории «морское сражение» завершилось полной победой.
Фронтальные части Пепеляева перешли в наступление на рассвете 15 августа. Красные войска оборонялись с большим упорством в течение суток, пока в тылу у них, у Мысовой, не раздалась артиллерийская стрельба. Тогда паника перекинулась на обороняющиеся части, и они покатились назад. К полудню 16 августа станция Танхой была освобождена, а утром 17 августа чехи и Сибиряки вошли в Мысовую, но оказались всё равно слишком далеко, чтобы вовремя придти на помощь десантному отряду у Посольской.
Ушаков переоценил свои возможности — он не учёл, что его отряд оказался на пути настоящей лавины людей, пытающихся любой ценой спасти свою жизнь и готовых на всё ради этого. Небольшой заслон белых был оттеснён в сторону; не знавший об этом Ушаков взял на станции паровоз и поехал проверить заставу.
Когда паровоз был внезапно обстрелян, Ушаков решил, что это просто недоразумение, ведь все знаки различия были заранее сняты. Теперь собственная предосторожность обернулась для него трагедией. Всё ещё находясь в заблуждении, он решительно спрыгнул с паровоза и крикнул нападавшим: «Братцы, не стреляйте, это я, подполковник Ушаков». Мгновение спустя он понял свою ошибку, но было уже поздно: подполковник со своим адъютантом были окружены противником. Когда об этом стало известно на станции, ударники все как один бросились выручать своего любимого командира, но три их роты столкнулись с контратакой трёхтысячной массы красных. К ночи ударники были отброшены со станции, отряд был разъединён, и частям его пришлось окольными путями идти на соединение со своими. Но и красные при прорыве должны были бросить все бронепоезда и эшелоны; также было окончательно нарушено управление их войсками.
Лишь вечером 18 августа части Пепеляева и Гайды, наступая с фронта, вновь заняли станцию Посольская, где было взято 59 поездов и несколько тысяч пленных. Потери, как это ни странно, были невелики: 22 убитых и 30 раненых у чехов, около 100 убитых и 300 раненых у Сибиряков. Но праздничное настроение от победы было омрачено гибелью подполковника Ушакова.
Тела подполковника и его адъютанта были найдены в перелеске у железнодорожной линии. Оба были ужасно изуродованы: глаза выколоты штыком, нос и уши отрезаны, на всём теле - десятки штыковых ран. Не было сомнения: они оказались в руках изуверов, потерявших всякий человеческий облик.
Ярости однополчан, нашедших тела, не было предела. Один доброволец вспоминал, что в тот момент, когда Гайда впервые увидел своего ближайшего помощника и друга, ему как раз докладывали о прибытии партии пленных мадьяр. «Гайда, не оборачиваясь, резко и твёрдо сказал с характерным для него чехословацким акцентом: “Под пулемёт!”» - и вся партия пленных была расстреляна.
Посольская стала последним крупным сражением «Восточного похода». Все остальные станции сдавались после самых незначительных стычек, красные отряды бежали, не оказывая сопротивления, или рассеивались по тайге. 26 августа чехи и Сибиряки вошли в Читу, а 31 августа на станции Оловянной произошло соединение группы Гайды с передовыми разъездами Атамана Семёнова. Через три дня, 2 сентября, Гайда получил извещение, что решением Отделения ЧСНС он производится в генерал-майоры. Почти одновременно в генералы был произведён и Пепеляев. Наконец, несколько позднее постановлением Георгиевской Думы Восточного фронта за успешное руководство войсками в описанных выше боях оба были представлены к награждению орденом Святого Георгия III-й степени.
7 сентября 1918 года на станции Урульга красное командование приняло решение о прекращении организованной борьбы и переходе к чисто партизанским действиям. Таким образом, Гайда с честью выполнил свою задачу и совершил подвиг, равный которому трудно себе представить: всего за три с половиной месяца он «пробил» Транссибирскую магистраль и полностью очистил её от красных.
* * *
Затем Гайда отправился во Владивосток. Имея мандат Челябинского съезда на руководство всеми чешскими войсками в Сибири, а также опираясь на соглашение о подчинении ему частей Сибирской Армии на Восточном фронте, он считал себя Главнокомандующим всеми чешскими и русскими войсками на Дальнем Востоке и, соответственно, рассматривал свою поездку как инспекционную. Но очень скоро ему пришлось убедиться, что это не так. Владивосток фактически находился под управлением представителей союзников, а кроме того, в нём обретались целых два русских «правительства»: П. Я. Дербера и генерала Д. Л. Хорвата, которые не столько управляли Приморьем (так как союзники не допускали этого), сколько боролись между собой, да к тому же оба не признавали власти Сибирского Правительства в Омске. Наибольшим весом обладали японцы, но им приходилось действовать с постоянной оглядкой на других союзников по Антанте.
И вот в эту атмосферу политических интриг новоиспечённый генерал Гайда ворвался с напором и грацией слона в посудной лавке. В течение нескольких дней он успел перессориться с японцами, Атаманом Семёновым, Хорватом и русским комендантом Владивостока полковником Бутенко. Вскоре японцы объявили, что для них Гайда как Главнокомандующий не существует, и во избежание международного конфликта чешское руководство поспешило отправить того обратно на фронт, назначив 26 сентября 1918 года начальником 2-й Чешско-Словацкой стрелковой дивизии, которая должна была как можно скорее сосредоточиться в районе Екатеринбурга. Во второй половине сентября полки дивизии двинулись по железной дороге на запад, а вскоре за ними последовал и Гайда. Напоследок он ещё раз успел «учудить», назначив своего заместителя полковника Кадлеца командующим всеми войсками на линии КВЖД и оставив в его распоряжении сильный чешский отряд. На этот раз обиженными оказались также местные китайские власти, а проживавший в это время в Харбине генерал барон А. П. Будберг занёс в свой дневник следующие ехидные замечания:
«27 сентября. Гайда умчался на запад, назначив полковника Кадлеца главнокомандующим в полосе отчуждения, то есть смешав этим и без того сумбурное здесь положение до последних пре делов. Ни китайцы, ни японцы этого назначения никогда не при знают, и все шишки будут валиться на головы несчастных русских. Гайда неистовствует, очевидно, понимая, что чехи нужны до зарезу Омскому Правительству, и последнее готово всё претерпеть, чтобы с ними не ссориться. Плохо было без приятелей, а с ними, кажется, ещё хуже...
28 сентября. Гайда не унимается и издал приказ о назначении Кадлеца Главноначальствующим над всем русским Дальним Вое током; надвигается какое-то чешское пленение; осмелевшие австрийские дезертиры и наши бывшие пленные почуяли свою силу и садятся на наши шеи самым бесцеремонным образом, при пол ном молчании и бездействии союзников...»
Рассказывает Будберг и о том, как Гайда, «всюду ищущий популярности», приказал прицепить к своему поезду два вагона специально для местной молодёжи, едущей поступать в Томский университет, - а в результате вагоны на три четверти оказались заполнены спекулянтами... Подобные сплетни будут потом преследовать Гайду на протяжении всего его пребывания в Сибири. Скажем прямо: первое выступление Гайды в качестве политического деятеля завершилось полным фиаско.
Но здесь же, во Владивостоке, Гайда впервые встретился с адмиралом Колчаком, только что вернувшимся из Японии и ищущим возможности принести пользу Родине. Гайда и Колчак тогда лишь обменялись мыслями о желательности для скорейшей победы над большевизмом сосредоточить всю полноту власти в одних руках - то есть о необходимости военной диктатуры. В этом отношении оба они мыслили совершенно одинаково, и для Гайды эта встреча имела огромные последствия.
6 октября генерал Гайда прибыл в Екатеринбург. Вот каким увидел его в эти дни современник: «Очень молодое длинное лицо, похожее на маску, почти бесцветные глаза с твёрдым выражением крупной, хищной воли и две глубоких упрямых складки по сторонам большого рта. Форма русского генерала, только без погон, снятых в угоду чешским политиканам. Голос его тихий, размеренный, почти нежный, но с упрямыми нотками и с лёгким акцентом; короткие отрывистые фразы с неправильными русскими оборотами». Чрезвычайно точное описание, добавить можно разве что высокий рост и очень крупный нос. По этим характерным чертам его можно сразу узнать на фотографиях, на одной из которых он действительно одет в русскую генеральскую шинель с широкими красными отворотами и чешским нарукавным знаком.
12 октября 1918 года Гайда вступил в командование Екатеринбургской группой войск. Эта группа называлась ранее Северо-Уральским фронтом, и ею руководил произведённый в генералы Войцеховский, который теперь был направлен спасать ситуацию на Самарское направление. Противостоявшая советская 3-я армия М. М. Лашевича уже несколько оправилась от недавних поражений под Екатеринбургом и всё время порывалась перейти в наступление, что вылилось в ряд встречных боев, носивших весьма ожесточённый характер.
В состав Екатеринбургской группы входили как чешские, так и русские части. Последние образовались прямо на фронте, в ходе боев, из местных добровольческих и повстанческих отрядов, они были пока малочисленны и не слишком хорошо вооружены, но отличались твёрдым духом и прекрасными боевыми качествами. Этого уже нельзя было сказать о чехах: все их столь прославленные ранее полки к октябрю явно упали духом (как тогда говорили - «потеряли сердце»). Ведь против них были уже не прежние разнузданные красногвардейские отряды - Троцкий вводил в Красной Армии дисциплину, не останавливаясь перед самыми жестокими мерами. Время лёгких побед кончилось, теперь за любой успех приходилось платить, порой значительную цену. Чехи были к этому не готовы. К тому же, пока они двигались во Владивосток, они знали, что пробивают себе дорогу домой; теперь же они, выполнив свою задачу, мечтали о заслуженном отдыхе - а их вдруг поворачивают обратно на Урал! Сказались и поражения на Волге, где 8 октября была оставлена Самара. В результате по всем частям «Чехокорпуса» слышалось одно и то же требование - скорейшего отвода в тыл.
Что же касается самого Гайды, то он, в отличие от своих соотечественников, был настроен на решительную и непримиримую борьбу с красными до конца. Дело было не только в том, что, овеянный громкой славой «Освободителя Сибири», генерал рвался подтвердить свою репутацию новыми победами. Гайда вообще всё больше ощущал свою общность с Россией, верил, что ему суждено будет сыграть важнейшую роль в её освобождении от красного ига. Его амбиции в этом смысле были очень велики, ему явно была уже слишком тесна роль одного из чешских генералов, он всё более мыслил и действовал как русский Белый военачальник.
Поэтому неудивительно, что значительную роль довелось сыграть Гайде в заговоре, 18 ноября 1918 года приведшем к Верховной власти адмирала Колчака. В начале ноября к Гайде в Екатеринбург из Омска приехал Генерального Штаба полковник Д. А. Лебедев и в откровенной беседе задал вопрос, как отнёсся бы тот к установлению единоличной твёрдой власти. При этом в качестве возможных кандидатов были названы фамилии генералов Болдырева, Иванова-Ринова, Дутова, Дитерихса, а также Атамана Семёнова и адмирала Колчака. По словам Гайды, он сразу назвал фамилию Колчака как наиболее приемлемого из всех. Одновременно он изложил своё политическое кредо, что «только диктатура может спасти страну, но диктатура временная, пока неприятель не будет окончательно разбит». Диктатор же должен быть человеком популярным, широких, достаточно либеральных взглядов, чтобы он мог сплотить вокруг себя нацию и железной рукой проводить среднюю, демократическую линию, не давая перевеса реставраторским кругам. Именно эти идеи и были выдвинуты затем во время переворота 18 ноября. Генерал Гайда, наверное, в мечтах представлял на посту верховного диктатора и спасителя России именно себя, но был достаточно здравомыслящим человеком, чтобы понимать - его кандидатура не пройдёт; в Колчаке же он видел своего единомышленника и надеялся на самое плодотворное сотрудничество с ним.
Через несколько дней в штаб Гайды с инспекционной поездкой прибыл и сам Колчак, тогда военный министр Всероссийского Правительства. По словам Гайды, они проговорили тогда целую ночь, и Гайда убеждал его принять пост Верховного Правителя, в случае, если тот ему будет предложен. Похоже, именно этот разговор окончательно убедил Колчака принять предлагаемую ему власть как свой великий Крест, как предназначение его жизни.
Со своей стороны Гайда заявил, что он не будет принимать непосредственного участия в перевороте, а впоследствии в воспоминаниях так излагал свою тогдашнюю позицию: «Я чехословацкий генерал, - сказал я. - И потому я не имею права вмешиваться во внутренние дела страны, но что касается подчинённых мне русских войск, то обещаю вам, что вся моя армия останется нейтральной... Я в её пределах не допущу вести агитацию ни за диктатуру, ни против. Моя поддержка будет заключаться в том, что я не буду препятствовать офицерам и солдатам признать вас диктатором...»
Именно такая позиция доброжелательного нейтралитета на фронте была необходима для свершения переворота. В этом отношении обещание Гайды стоило очень дорого, и Колчак, придя к власти, сполна расплатился за это.
Дело в том, что положение самого Гайды в этот момент было весьма шатким. Его наступательный агрессивный настрой шёл совершенно вразрез с тенденциями командного и рядового состава чешского корпуса. В это же время политическое руководство из Отделения ЧСНС в России вновь прибирало к рукам власть в корпусе, активно используя распространявшиеся среди легионеров упадочнические настроения. И мятежный Гайда в этом отношении был для политиков из «Отбочки», как кость в горле.
Особенно же активизировались все интриги в конце ноября, когда пришли известия о том, что мировая война закончилась и Чехословакия получила долгожданную независимость. В Сибирь прибыл военный министр новой Чехо-Словацкой Республики генерал М. Штефанек. 5 декабря он приехал в Челябинск, и среди многих организационных вопросов, немедленно вставших перед министром, был и вопрос о Гайде. Стало ясно, что конфликт зашёл уже слишком далеко и места для Гайды среди командования корпуса больше нет. И Штефанек, под давлением политического руководства корпуса, решил убрать Гайду из Сибири, предложив ему «почётную командировку» в Париж, - а это Гайду совершенно не устраивало.
Вот тут и вмешался адмирал Колчак. Ему удалось уговорить Штефанека разрешить Гайде перейти временно в Русскую Армию тем же чином, оставляя его в прежней должности. Впрочем, у Колчака была веская причина, чтобы добиваться сохранения Гайды в роли одного из ведущих своих полководцев: в эти дни войска Екатеринбургской группы одержали блистательную победу - освободили город Пермь.
Идея Пермской операции зародилась у Гайды после получения известий о скором прибытии существенных подкреплений - 1-го Средне-Сибирского корпуса генерала Пепеляева. Части корпуса, первые из которых прибыли на фронт к 28 октября, представляли собой внушительную силу и обладали прекрасными боевыми качествами, так что, естественно, Гайда решил сосредоточить их все на одном направлении и использовать для мощного наступления с решающими целями. Операция началась 27 ноября. В тяжёлых боях, передвигаясь на лыжах или по колено в снегу, войска генералов Пепеляева, Вержбицкого, Голицына при содействии 2-й Чешско-Словацкой дивизии (от которой, благодаря усиленной агитации, было получено торжественное обещание участвовать в общем наступлении вплоть до Кунгура, после чего она немедленно выводилась в тыл) не только выполнили первоначальную задачу по освобождению Кунгура и Кушвы, но, развивая успех, на Рождество 1918 года взяли Пермь. Защитники города были деморализованы выступлениями нескольких офицерских организаций, сдававших белым целые войсковые части с артиллерией и окончательно разрушивших красный фронт.
Добыча, попавшая в руки победителей, была огромна. Только в одной Перми были взяты: 21 000 пленных, 5 000 вагонов, 60 орудий, 100 пулемётов, несколько бронепоездов, вмерзшие в лёд у пристани корабли красной военной флотилии и масса другого военного снаряжения. Главные герои наступления - корпус генерала Пепеляева - потеряли при этом убитыми, ранеными и обмороженными 494 офицера и до 5 000 солдат. Но результаты операции окупали эти потери сторицей: советская 3-я армия была полностью разгромлена, и для её восстановления собирались резервы со всей Советской Республики. Одновременно в Штаб армии срочно прибыла комиссия ЦК РКП (б) во главе со Сталиным и Дзержинским, чтобы вскрыть причины падения Перми и, как водится, жестоко покарать виновных или тех, кто будет сочтён ими. А тем временем части Гайды, не задерживаясь, выдвинулись вперёд на 50 вёрст от города и закрепились на достигнутых позициях. И только тут красное командование, несколько опомнившись, предприняло отчаянные попытки перейти в наступление и вернуть Пермь обратно. Кровопролитные бои с превосходящим противником длились весь январь и февраль и завершились лишь тем, что красные положили зазря все свои резервы, не добившись серьёзного успеха.
24 декабря 1918 года Екатеринбургская группа в ходе общей реорганизации вооружённых сил была переименована в Сибирскую Армию (второго состава), и Гайда возглавил её, уже как генерал русской службы. За победу под Пермью Гайда и Пепеляев были произведены в генерал-лейтенанты.
* * *
Победа под Пермью создала благоприятные предпосылки для перехода в общее наступление всех армий адмирала Колчака. И это наступление тщательно подготавливалось в организационном плане. Части, не прекращая ежедневных текущих боев, активно пополнялись, переформировывались и перегруппировывались.
Наступление Сибирской Армии началось 4 марта, и первый удар пришёлся по уже изрядно потрёпанной 3-й армии. Первую неделю наступление развивалось успешно, но дальнейшее продвижение на всех направлениях было приостановлено до конца марта яростными контратаками красных резервов. Впрочем, 24 марта специальный отряд, шедший на крайнем правом фланге Сибирской Армии, соединился в верховьях реки Печоры с левофланговым отрядом войск генерала Е. К. Миллера, действовавших со стороны Архангельска, но последнее обстоятельство имело чисто символическое значение: в условиях тундры и полного бездорожья наладить настоящую регулярную связь и взаимодействие с северянами так и не удалось.
Тогда 30 марта перешёл в наступление уже левый фланг: группа генерала Вержбицкого нанесла удар по частям 2-й армии противника. И 7 апреля (25 марта по Православному календарю), в день Благовещения, победа осенила знамёна Сибирской Армии: были освобождены Рождественский и Боткинский заводы. Для противника этот прорыв был настолько неожиданным, что в руки белых в Воткинске попала часть Штаба советской 21-й стрелковой дивизии, 2 000 пленных, 7 орудий, много пулемётов, подвижной состав и огромные склады военного снаряжения. Два дня спустя Иркутская дивизия генерала Гривина ударом с юга освободила город Сарапул, также взяв в нём несметные трофеи. Ещё южнее развивалось наступление на Елабугу. И, наконец, 13 апреля был освобождён Ижевский завод. Рабочие заводов встречали своих освободителей как родных, в буквальном смысле слова со слезами на глазах. Ещё летом 1918 года Ижевск и Воткинск восстали против большевиков, но после четырёх месяцев неравной борьбы Народные Армии Прикамья вынуждены были оставить заводы и уйти за Каму. И теперь, возвращаясь домой, бывшие повстанцы узнавали чёрные вести о том, что сотни, если не тысячи, их близких расстреляны карателями и ЧК.
2-я армия красных была разгромлена и безостановочно отступала, но вскоре её преследование пришлось прервать - началась весенняя распутица и таяние снегов. Мартовское наступление адмирала Колчака и получилось таким стремительным именно из-за того, что земля ещё лежала под снегом, а все реки были скованы льдом. Соответственно, некоторые части были поставлены на лыжи, все обозы и большая часть пехоты передвигались на санях, а под пушки приладили полозья. Поэтому дивизии могли делать огромные переходы, совершать стремительные манёвры, проходить практически по любой местности. Теперь с половодьем этому раздолью пришёл конец. Войска застряли в грязи, подвоз был затруднён до крайности.
Успешно действовала и Западная Армия генерала М. В. Ханжина, но в то же время всё яснее выявлялась порочность разделения войск на отдельные армии. Гайда и Ханжин разрабатывали каждый свои собственные планы. Колчак же, будучи моряком, плохо разбирался в сухопутных операциях, он считал, что может доверять своим ближайшим помощникам, и именно таковыми он и почитал обоих командующих Армиями. Начальником же Штаба Верховного Главнокомандующего был Д. А. Лебедев, произведённый из полковников в генералы и назначенный на столь высокий пост лишь после переворота 18 ноября, одним из видных организаторов которого он являлся. Он не обладал ни достаточным опытом, ни достаточным авторитетом, чтобы твёрдой рукой наладить взаимодействие Армий.
В результате Ханжин имел своей целью выход на линию Волги, а Гайда, намечая основной удар на Казань, в то же время не желал отказаться и от вспомогательного направления - на Вятку, надеясь соединиться там с войсками Миллера и получать дальше помощь от англичан прямиком из Архангельска. Вопреки расхожему мнению, «северное направление» вовсе не было направлением главного удара всего весеннего наступления армий Колчака в 1919 году, но всё равно, отвлечение туда сил и средств не могло не сказаться на выполнении главной задачи.
Поскольку перед войсками Гайды ясно выявились теперь два основных стратегических направления, 14 апреля Сибирская Армия была разделена на две группы: Северную (генерала Пепеляева, цель наступления - Вятка) и Южную (генерала Вержбицкого, цель наступления - Казань).
Увы, соперничество Ханжина и Гайды привело к тому, что ни тот, ни другой не желали оказывать помощь соседу, а потому на стык своих Армий старались выделить минимум средств. Но если Гайда, по крайней мере, вёл энергичное наступление по правому берегу реки Камы, то у Ханжина огромный разрыв между Камой и Волго-Бугульминской железной дорогой вообще прикрывал (а скорее - лишь «наблюдал») всего один 32-й Прикамский полк! Этот опасный разрыв не мог не сыграть роковой роли в случае перехода красных в контрнаступление.
Оно не заставило себя ждать. За время половодья красные успели сосредоточить против левого фланга Западной “Армии свою ударную группу под руководством М. В. Фрунзе, и 28 апреля она перешла в наступление, которое Ханжину парировать оказалось уже нечем. В результате Западная Армия быстро покатилась назад. Логично было бы ожидать, чтобы помощь соседям оказала победоносная Сибирская Армия, причём как можно скорее. Но Гай да и не думал об этом.
Он, к сожалению, в этот момент откровенно радовался неудачам соперника и, не обращая внимания на угрозу с юга, спокойно продолжал своё собственное наступление. К 10 мая войска Сибирской Армии вышли на линию рек Вятка, Вала и Чепца и подступы к городу Глазову.
Гайда в это время находился на вершине своего могущества. А поскольку его гипертрофированное честолюбие искало, в том числе и чисто внешнего, выхода (Гайде всегда была свойственна изрядная доля позёрства), то порой складывались довольно комичные ситуации, зафиксированные очевидцами. Так, уже упоминавшийся барон Будберг и генерал Сахаров, прибывшие в свите Колчака в Екатеринбург 8 мая, вспоминали о встретившем их почётном карауле из «Бессмертного батальона имени генерала Гайды», с вензелями «ББИГГ» на погонах, и личного конвоя генерала «в фантастической форме, что-то среднее между черкеской и кафтаном полковых певчих». О последних генерал К. В. Сахаров, по его словам, имел с Гайдой следующий примечательный диалог:
«— “Что это за часть, генерал?” - спросил я, показывая на всадников в коричневых кафтанах, расшитых галунами.
- “То мой конвой”.
- “Что за оригинальная форма на них. Сами придумали?”
- “Нет, та форма, генерал, исторична”.
- ?!
- “Ибо всегда в Руссии все великие люди, ваш Император и Николай Николаевич[5], все имели коуказский конвой. Я думаю, что если войти в Москву, то надо иметь тоже такой конвой”.
- “Что же, они у вас с Кавказа набраны, коуказские люди?”
- “Нет, мы берём здесь, только тип чтобы близко подходил к коуказскому”».
А Будберг вспоминал ещё и «Гайдовские гербы с тремя поверженными императорскими и королевскими орлами». Всё это свидетельствовало уже о поистине «царских» амбициях, которые мирно уживались в душе Гайды с «демократическими взглядами». Колчак, по-видимому, относился достаточно спокойно к этим выходкам, которые так шокировали других. Вспоминали также, что Гайда раздачей продуктов, материалов и пособий снискал себе немалую популярность среди жителей Екатеринбурга, а также о том, что он в это время был уже довольно близок с эсерами. К сожалению, последнее тоже было правдой.
Гайда показал Колчаку на параде части Ударного корпуса, только что сформированные и совершенно сырые. Они, по мнению Будберга, были способны пройти церемониальным маршем перед Верховным Правителем, но не встретить удар превосходящих сил красных, а ведь это был последний резерв Сибирской Армии. Но, несмотря на это, Гайде удалось на следующий день на совещании уговорить Колчака разрешить ему предпринять наступление на Глазов. Затевать его, когда за Камой быстро собирались красные резервы, было непростительной ошибкой, и вина за неё целиком ложится на Гайду. Он, несомненно, надеялся, что своей новой победой и взятием Вятки отвлечёт на себя все резервы большевиков. Но направление на Вятку уводило лучшие войска далеко к северу, одновременно подставляя их тыл удару со стороны Камы.
Именно так и поступил командующий советской 2-й армией В. И. Шорин, 25 мая перешедший в контрнаступление. 2 июня пал Сарапул, 7-го был оставлен Ижевск, а 11-го - Воткинск. Южная группа Вержбицкого была вновь отброшена за Каму. С нею вместе уходили десятки тысяч беженцев, пополнивших вскоре ряды Ижевской бригады и Боткинской дивизии. В резерве же у Гайды оставались лишь недоформированные части Ударного корпуса. В конце мая они были выдвинуты на фронт, чтобы прикрыть разрыв с Западной армией, но, как это и можно было ожидать, в первых же боях потерпели поражение и в беспорядке отошли за реку Белая. На Вятском направлении продолжались ожесточённые бои; 2 июня был освобождён город Глазов, но это не могло уже оказать никакого влияния на общее развитие обстановки. 13 июня город был опять оставлен. Общее отступление захлестнуло Сибирскую Армию.
На его фоне развернулся конфликт между Гайдой и начальником Штаба Верховного Главнокомандующего генералом Лебедевым. 26 мая Гайда направил в Омск ультиматум с требованием снять Лебедева, обвиняя того в глупых и вредных распоряжениях, мешающих управлять войсками. Требование это было справедливо по существу: действительно, Лебедев, вследствие своего малого опыта, нередко через голову Гайды отдавал приказы его подчинённым, что только мешало делу. Но заявление было сделано Гайдой в самой недопустимой форме, на грани открытого бунта. В ночь на 30 мая вразумлять Гайду отправился сам адмирал Колчак.
Прибыв в Пермь, адмирал вызвал к себе Гайду и твёрдо объявил ему, что отрешает его от командования Армией за неповиновение приказам. Гайда не ожидал такого поворота, он побледнел и, заметно волнуясь, начал горячо оправдываться, заявляя, в частности, что если его убрать, то вся Армия немедленно побежит. Колчак был непреклонен. Гайде пришлось идти на попятную, он дал слово, что выполнит любой приказ. В свою очередь Колчак склонился к компромиссу: для рассмотрения дела была назначена специальная комиссия под председательством генерала М. К. Дитерихса; на время следствия генерал Лебедев был отстранён от исполнения должности. 4 июня Колчак вместе с Гайдой вернулся в Омск.
Инцидент с Гайдой натолкнул Колчака на мысль о необходимости назначения командующего фронтом, который объединил бы действия всех армий, имея всю полноту власти и полноту ответственности. 11 июня он даже попробовал подчинить Гайде Западную Армию в оперативном отношении, но Гайда, желая «подтянуть» своих новых подчинённых, отдал приказ, в котором пригрозил дисциплинарными взысканиями в случае грабежей и рукоприкладства, чем грубо оскорбил офицеров. Это вызвало всеобщее возмущение, и приказ о подчинении Западной Армии Гайде был отменен.
Теперь оскорбился уже Гайда. К сожалению, он, закусив удила, ударился в политику и представил Колчаку меморандум, озаглавленный «Резюме о военном наступлении». Меморандум этот на самом деле был написан начальником информационного отделения Сибирской Армии штабс-капитаном Калашниковым, эсером, впоследствии поднявшим в декабре 1919 года мятеж в Иркутске. Меморандум требовал как можно скорее собрать Сибирский парламент; объявить о немедленной национализации земли и передаче её крестьянам; призвать на военную службу всю интеллигенцию, отменив существующие для них льготы, а для всех, не состоящих в рядах армии, ввести рабочую повинность и взимать с них особый налог на военные нужды. Были и чисто военные требования - ввести должность командующего фронтом, строго расследовать причины неудач и наказать виновных, а также увеличить жалованье военнослужащим и пенсии их семьям.
Как видим, большинство требований были вполне разумными, но эсеры, как водится, настаивали на немедленном проведении их в жизнь, не учитывая всех сложностей, могущих возникнуть при исполнении требований, иные из которых носили откровенно популистский характер. И вот рупором этих политических кругов теперь оказался генерал Гайда, что не могло не возмутить Колчака.
Решительное объяснение между ними произошло 19 июня 1919 года, во время очередного приезда генерала в Омск. По словам Гайды, он не в силах был терпеть далее такое отношение к себе и сам подал прошение об отставке, а Колчак долго не хотел её принимать, но это маловероятно. Известно, что в результате Колчак дал Гайде годичный отпуск с правом отъезда за границу, чтобы, как он выразился, Гайда мог там «вылечиться от эсеровщины».
20 июня адмирал подчинил Сибирскую и Западную Армии генералу М. К. Дитерихсу. Некоторое время Гайда ещё руководил войсками, но 7 июля Колчак вместе с Дитерихсом прибыли в Екатеринбург с тем, чтобы Гайда сдал командование. Тогда же состоялся и последний разговор Гайды с адмиралом Колчаком. Сам Гайда описывал его потом так:
«Я предупредил его, что по моему мнению в силу последнего оперативного приказа Ставки большевики приблизительно через неделю возьмут Екатеринбург. Адмирал прямо-таки дрожал от ярости и объяснял мне о каком-то изменении методов войны, на что я ему ответил: “Могу Вас заверить, что вы не только не удержите большевиков в Екатеринбурге, но потеряете Челябинск, Тюмень, Омск и всю Сибирь, если в корне не измените правительственной системы и политики, которой вы губите, вернее, уже погубили всё то, что было достигнуто с большими жертвами. Армия у Вас распадается, а в тылу господствует произвол и анархия...” Колчак не дал мне договорить: “Я сам хорошо знаю, как мне поступать. Предоставьте мне позаботиться о том, как мне справиться с большевиками и всеми теми, кто против меня. В конце концов, от Вас этого нельзя и требовать, ведь Вы сами знаете, что у Вас нет высшего военного образования для того, чтобы, быть Командующим Армией”. Всё это было сказано в ироническом тоне.
“На это я должен Вам сказать, Ваше Превосходительство, — ответил я, — что если у меня нет высшего военного образования, то зато я практически прошёл ступень за ступенью все должности от солдата и командира взвода до Командующего Армией. Я удивляюсь, что, зная об этом и раньше, Вы всё-таки так упорно настаивали перед генералом Штефанеком на том, чтобы мне было разрешено взять на себя командование Вашей армией. По такому же праву я мог бы сказать, что Ваше образование исключительно морское, а не сухопутное. Следовательно, у Вас тоже нет теоретического образования для командования Армиями и для управления целым Государством, так как между командованием несколькими кораблями и управлением целым государством и армиями - большая разница”.
Адмирал был в исступлении, угрожая мне расстрелом. Я сказал ему, что это не так просто сделать, и что если он меня хочет в чём-либо обвинить, то чтобы он сделал это немедленно, а не тогда, когда я уеду. Он ответил мне: “Можете спокойно уезжать. Я ничего против Вас не имею и ни в чём Вас не обвиняю”».
Трудно ручаться за достоверность этого рассказа, но при взрывном характере обоих вполне возможно, что нечто подобное действительно было сказано. Понятно, что после такого разговора они больше никогда не встречались.
Вечером 9 июля Гайда сдал командование и выехал из Екатеринбурга. На собственном поезде с чешской частью своего конвоя и с личным штабом он через всю Сибирь отправился во Владивосток, чтобы оттуда морем уехать в Чехословакию.
* * *
Опальный генерал прибыл во Владивосток 12 августа 1919 года. Вначале он действительно хотел немедленно ехать дальше, но, немного осмотревшись, решил задержаться. Он не желал признавать себя побеждённым и обдумывал варианты мести. Это и толкнуло его в конце концов на авантюру - возглавить заговор с целью свержения адмирала Колчака. При безграничном честолюбии Гайды вполне можно допустить, что в глубине души он сам метил на пост диктатора России и считал себя вполне подходящим для этой роли. В качестве союзников генерал избрал местных эсеров, которые и сами сразу же проявили к нему интерес. Уже через три дня после приезда Гайды во Владивосток эсеры начали зондировать почву о возможности участия генерала в антиколчаковском заговоре.
К 20 августа уже был сформирован тайный эсеровский «Комитет по созыву Земского Собора» под председательством И. Якушева. Его члены предложили Гайде возглавить свои вооружённые силы, и тот согласился. При этом заговор с самого начала рассматривался не как только местный приморский - он должен был охватить собою все крупнейшие города Сибири и воинские части на фронте и в тылу. 5 сентября Якушевым была составлена «Грамота» о созыве Земского Собора во Владивостоке. Её немедленно вручили представителям союзников (воспринявшим опус благосклонно) и разослали по другим городам Сибири для направления действий сибирской «общественности».
Основная идея заговора была проста и незатейлива: подождать, пока положение колчаковских армий ухудшится, а затем в удобный момент нанести удар в спину истекающей кровью Русской Армии, свергнуть власть Колчака, а наступавшей Красной Армии предложить мир на основе взаимных уступок с сохранением власти эсеров на оставшейся части Сибири, причём в случае несогласия красных предполагалось остановить их наступление теми же самыми Белыми войсками. Почему-то считалось, что последние, забыв о присяге, с радостью перейдут на сторону восставших и при этом не развалятся и не разбегутся по домам.
Забегая вперёд, скажем, что этот план сработал позднее в виде восстаний в Ново-Николаевске, Томске, Иркутске и, наконец, в Красноярске. Эти удары действительно помогли погубить три четверти отступающей Русской Армии, только вот остановить Красную Армию эсеры не смогли (да, по большом счету, и не пытались). Оставив несчастное мирное население на расправу красным, главари, как это всегда бывает, вовремя удрали.
Но что же произошло во Владивостоке?
Переворот, по мысли эсеров, должен был стать «чисто русским делом», поэтому Гайда и чины его штаба не принимали непосредственного участия в подготовке к восстанию. Они лишь держали постоянную связь с членами Комитета, а членам Военной организации эсеров было предоставлено убежище в личном поезде генерала, стоявшем на запасных путях у Владивостокского вокзала и, по словам современников, «пользовавшемся волшебной неприкосновенностью». Там совершенно открыто готовился заговор против адмирала Колчака, а Главнокомандующий русскими войсками в Приморье генерал С. Н. Розанов был бессилен что-либо предпринять. Единственным ответом на сложившееся положение вещей стал приказ Верховного Правителя о лишении Гайды чина генерал-лейтенанта Русской Армии и всех наград, но этот шаг лишь ещё больше озлобил его и утвердил в уже принятом решении.
Главным «переворотчиком» от эсеров, членом их Военной организации, являлся капитан Калашников, который вскоре уехал в Иркутск, где позже и поднял мятеж, а вместо него общее руководство организацией принял подполковник Краковецкий; видную роль играл также подполковник Солодовников, занявший в ходе переворота должность начальника штаба Гайды.
Все они, хотя и носили офицерские погоны (Краковецкий и Солодовников были произведены в 1917 году из подпоручиков сразу в подполковники Керенским, из уважения к их революционным заслугам), на деле были совершенно чужды и даже враждебны духу русского офицерства. Находясь некоторое время в рядах белых, они были на деле «политическими офицерами»: не слишком стремились занять место на передовой, предпочитая борьбу «за демократию и за права народа» из штабов, и не считали себя при этом связанными присягой. Между ними и Гайдой, действительно дравшимся против большевиков на фронте, внутренне всегда осознававшим необходимость этой борьбы и по праву гордившимся своими заслугами в ней, - пролегала глубокая пропасть.
Солодовников впоследствии с иронией описывал Гайду, каким увидел его впервые: «в золотых погонах и красных лампасах, с целым иконостасом орденов на груди, из которых некоторые были за участие в Гражданской войне». Но генералу и на самом деле было чем гордиться: свой чин и ордена он получил не даром. Гайда не осознавал, что всё, остававшееся для него дорогим, было ненужным и даже позорным в глазах его случайных «попутчиков». Решившись на эту авантюру, он вряд ли ясно представлял себе их подлинный облик - по крайней мере, почти до самого конца не догадывался, что «помощники» ведут у него за спиной двойную игру и далеко не обо всём, что делают, докладывают ему.
Главным козырем Гайды были его широкие связи среди руководства интервентов, являвшихся, по существу, истинными хозяевами Владивостока. Русская власть в лице генерала Розанова должна была постоянно учитывать их желания и интересы. Чешским гарнизоном во Владивостоке руководил старый друг Гайды генерал Чечек, который использовал все свои возможности, чтобы поддерживать Гайду и связанных с ним заговорщиков. В данном случае поведение Чечека, бывшего командующего Поволжским фронтом, героя Пензы и Самары, в отношении своих бывших товарищей по оружию представляется гораздо худшим поступком, чем заговор самого Гайды: предательство Чечека было холодным и расчётливым, к тому же в случае неудачи он, в отличие от Гайды, ничем не рисковал. На одном из совещаний с заговорщиками Чечек прямо обещал оказывать повстанцам полное содействие.
В результате перед Гайдой открывалась уникальная возможность взять власть во Владивостоке без борьбы. Позиция японцев была ему известна: хотя их политика (в отличие от чехов и американцев) и не была прямо нацелена на удар в спину Колчаку, они намеревались вмешаться только в том случае, если в городе возникнут беспорядки и начнётся кровопролитие. И это как нельзя более устраивало Гайду, поскольку он рассчитывал при поддержке Чечека и американцев «уговорить» Розанова уступить ему власть без боя.
Развитие событий ускорили два обстоятельства: известие о падении 14 ноября 1919 года Омска и одновременно с этим опубликование в газетах Иркутска и Владивостока чешского «Меморандума», а правильнее сказать — ультиматума о том, что чехи начинают эвакуацию, не считаясь со своими русскими союзниками. Заговорщики однозначно восприняли его опубликование как выражение полной поддержки со стороны чехов и призыв к немедленным действиям.
В этой обстановке Гайда предпочитал не спешить с началом выступления и вёл интенсивные переговоры с генералом Розановым. По некоторым источникам, Розанов колебался и склонялся уже к тому, чтобы перейти на сторону Гайды (впоследствии, во время открытого мятежа, Розанов проявил поразительную нерешительность и фактически устранился от непосредственного руководства войсками).
Но именно этот сценарий не устраивал эсеров. Втайне от Гайды, прикрываясь им как ширмой, они пошли на союз с большевицким подпольем и взяли курс на немедленное вооружённое восстание. Большевики обещали поднять сочувствующих им железнодорожных рабочих, грузчиков и моряков Добровольного флота. Для подготовки восстания была мобилизована подпольная партийная организация Владивостока. В поезд Гайды (без его ведома) были посланы для связи большевики Раев, Сакович и Абрамов, причём Сакович даже принял обязанности начальника оперативного отдела. Обмундирование, оружие и патроны были в избытке доставлены Чечеком. Деньги были даны кооператорами. В воинских частях проводилась активная агитация, и большинство из них были ненадёжны: по-настоящему Розанов мог рассчитывать лишь на Учебно-инструкторскую школу (так называемая «школа Нокса» по имени английского генерала, принявшего в своё время активное участие в её создании) на Русском острове и на Морское училище.
Однако на деле вожди эсеров лишь подготовили собственными руками провал выступления, поскольку одно только участие большевиков в намечавшемся восстании и могло заставить японцев оказать помощь Розанову или, по крайней мере, не мешать русским частям расправиться с мятежниками и не допустить вмешательства чехов и американцев на стороне последних.
Гайда признается в своих воспоминаниях, что самочинные действия «соратников» явились для него полной неожиданностью. Так, сигнал к восстанию был дан Солодовниковым без ведома генерала. В результате, по воспоминаниям Солодовникова, произошёл «крупный разговор», во время которого Гайда назвал собеседников «большевиками и толпой, с которыми “он не пойдёт”». Да, Гайде, при всём его авантюризме, с эсерами было явно не по пути. К сожалению, он понял это слишком поздно...
События, выйдя из-под контроля Гайды, начали развиваться стремительно.
16 ноября по городу уже разбрасывались с автомобилей листовки с призывами к восстанию против Колчака. Некоторые части присоединились к мятежникам. В поезде Гайды всю ночь шло лихорадочное сколачивание отрядов из большевицки настроенных грузчиков, моряков и всевозможных тёмных личностей из, как тогда говорили, «портовой черни». Здесь же им выдавали винтовки, патроны и бело-зелёные розетки («сибирские» бело-зелёные цвета были избраны восставшими в качестве отличительного знака).
Всё это заставило, наконец, Розанова выйти из летаргического состояния и принять меры по охране порядка в городе. Отрядом инструкторской школы были заняты здания вокзала, Штаба Владивостокской крепости и окружного суда. Поезд Гайды с накапливавшимися в нём мятежниками находился всего в сотне метров от позиций правительственных войск, а рядом, на запасных путях, стоял бронепоезд «Калмыковец» (из состава дивизиона броневых поездов Атамана И. П. Калмыкова), готовый поддержать Розанова, но пока окружённый восставшими и бездействовавший.
Все эти приготовления не могли не обеспокоить союзников. Те пока сохраняли нейтралитет, однако верх среди них теперь явно брали японцы, которые ещё с утра 17 ноября заняли усиленными патрулями главные улицы города. А когда американский Штаб в свою очередь послал несколько автомобилей со своими командами в сторону вокзала, командир японской роты под угрозой открытия огня заставил их вернуться обратно. Ни американцы, ни генерал Чечек теперь не могли уже открыто принять сторону Гайды.
Союзники выступили с общим заявлением, что не преминут разоружить ту сторону, которая первой откроет огонь. Поэтому правительственным войскам был отдан строжайший приказ ни в коем случае не начинать стрельбу первыми. Но около 2 часов дня, после того как к мятежникам подошли подкрепления, со стороны поезда Гайды прогремели первые выстрелы. Сражение началось.
По словам Гайды, его силы состояли из 700 человек (в том числе 45 офицеров) при семи пулемётах, представители же противоположной стороны говорят о 2 000 мятежников. В первый момент им противостоял лишь отряд из 26 офицеров и 280 юнкеров «школы Нокса» при 6 пулемётах, под командованием полковника Рубца-Мосальского. Цепи гайдовцев устремились к зданию вокзала, защищаемому двумя слабыми юнкерскими ротами. Одновременно Гайда послал обходные отряды, стремясь взять в кольцо защитников Вокзальной площади, но здесь их остановили японцы, угрожавшие открыть огонь.
Дело в том, что с началом боя японцы решили ограничить зону военных действий непосредственно Вокзальной площадью и прилегающими железнодорожными путями и пристанями, закрывая доступ сражающимся в остальные части города, для чего окружили весь район, вместе с правительственными войсками и мятежниками, своими многочисленными патрулями. Это резко сузило возможности восставших, хотя несколько мешало и правительственному отряду.
Сторонники Гайды после четырёхчасового боя сумели занять вокзал; юнкера, защищавшие законную власть, укрепились на другой стороне площади, в зданиях Штаба крепости и окружного суда. Им срочно требовались подкрепления, но Розанов, с которым они попытались связаться по телефону, не подходил к аппарату и вообще ничем не проявил своего руководства. Полагаться приходилось лишь на свои силы.
К вечеру 17 ноября положение стабилизировалось. Вокзальная площадь простреливалась столь плотно, что ни одна из сторон пока не могла пересечь её. С моря правительственные силы поддерживались огнём миноносцев. Наконец, стали подходить подкрепления из юнкеров и гардемаринов.
В штабе Гайды, несмотря на определённые успехи, настроение было подавленное. Чтобы хоть как-то защитить людей от огня с моря, Солодовников предложил перевести всех в здание вокзала. Гайда согласился с этим, но одновременно объявил, что Солодовников (вполне успевший показать своё двуличие) отстраняется от должности начальника его штаба. На случай отступления у Гайды были приготовлены два состава с четырьмя паровозами.
В течение ночи на вокзал Гайде звонили и приезжали чины союзного штаба, они же передали ультиматум Розанова. Тот предлагал всем мятежникам сдаться, гарантируя им личную неприкосновенность, а самому Гайде с чинами его штаба и конвоем - право свободного выезда за границу. К чести Гайды, он отказался бросить своих людей. Он всё ещё надеялся на чудо - на вмешательство чехов и американцев, хотя прекрасно понимал, что как только к Розанову подойдёт артиллерия, положение мятежников на вокзале станет безнадёжным: противопоставить артиллерийскому огню им было нечего. Японцы вполне выявили свою твёрдую позицию — их патрули плотно обложили Вокзальную площадь, а линейный корабль «Микаса» постоянно освещал здание вокзала своими прожекторами.
На протяжении ночи то и дело вспыхивали перестрелки. Между тем правительственные войска усиленно готовились к штурму вокзала. Под утро им было доставлено полевое орудие.
В четыре часа утра 18 ноября орудие прямой наводкой открыло огонь по вокзалу. С моря его поддержала артиллерия миноносцев. Сразу за этим цепи юнкеров поднялись и с криками «Ура!» бросились вперёд. Сопротивление мятежников было сломлено почти мгновенно. В их рядах поднялась паника, и юнкера, воспользовавшись этим, ворвались на вокзал. Солодовников так описывал этот момент:
«Подхваченный волной обезумевших людей, я был увлекаем потоком живых человеческих тел из стороны в сторону. Ныряя в волнах разбушевавшейся стихии, давя живых, наступая на трупы, я напрягал все силы, чтобы удержаться на ногах. Гром разрывавшихся снарядов, стрельба друг в друга, команда сотен голосов, свист пуль и звон разбитого стекла доводили людей до исступления. Чувствовалось полное бессилие подчинить себе людей, метавшихся подобно зверям, забытым в клетке во время пожара. Но вот волна докатила меня донизу, и когда блеснул очередной луч японского прожектора, мой взор остановился на группе барахтавшихся людей, среди которых был генерал... Я сделал отчаянное движение и ухватился за фалды, генеральского пальто, желая удержать генерала от безумного поступка. Генерал кричал “За мной!” и пробивался к дверям перрона, который находился под страшным обстрелом пулемётов с “Калмыковца”, тогда как другие выходы с вокзала были под таким же огнём цепей противника. Я не сомневался, что за дверью генерала ждёт неизбежная смерть или позорный плен. Видно, вера в помощь генерала Чечека ещё теплилась и была той пресловутой соломинкой утопающего, которая удерживала меня на вокзале. Последовавший новый удар человеческой волны распахнул двери и пробкой выбросил нас на перрон, где многие испустили свой последний вздох, тогда как остальные залегли вдоль рельс. Ещё один момент — и генерал исчез из виду...»
Вот когда сыграл свою роль «Калмыковец». В предыдущий день мятежники смогли отрезать ему путь, взорвав рельсы, но не сломили сопротивление его команды. И теперь пулемёты бронепоезда, в свою очередь, отрезали врагу путь к бегству. В результате мятежникам оставалось лишь спасаться кто как может. Солодовников, не растерявшись, воспользовался приготовленным паровозом и выехал на нём в расположение чешской части, которая его и укрыла. При этом он без зазрения совести бросил на произвол судьбы генерала Гайду, который, как видно из приведённого выше рассказа, мужественно пытался остановить своих обезумевших людей. Так же поодиночке спасались и остальные эсеровские вожди.
Изо всех офицеров-гайдовцев в конечном итоге погибли всего двое, зато рядовых участников мятежа пало в этой схватке более трёхсот человек, причём часть из них была расстреляна под горячую руку юнкерами в первый момент, когда они только что ворвались внутрь вокзала.
Подобная же участь едва не постигла и самого Гайду. Раненный в ногу, он лишь с одним адъютантом брёл по путям в сторону чешского штаба, когда на него наскочили юнкера. По словам захвативших его в плен, «Гайда был в расстёгнутом генеральском пальто мирного времени с двумя Георгиями и лентой через плечо, но на пальто, вместо погон, у него были нашиты поперёк плеч две бело-зелёных ленточки. На френче же, как говорили потом, у него имелись золотые Генерал-Лейтенантские погоны». Другие очевидцы рассказывают, что юнкера, увидев такой наряд, в бешенстве сорвали с Гайды погоны и хлестали его ими по лицу. Может быть, тут генералу пришлось-таки осознать, что не совсем ещё перевелись люди, воспринимавшие его поступки в истинном свете — как измену России.
Но вмешались старшие офицеры, и Гайда вместо заслуженной расплаты был доставлен в Штаб округа, где его взяли под свою защиту представители союзных войск. Генерал Розанов в очередной раз проявил слабость, и в результате русский конвой вокруг арестованного Гайды и его офицеров вскоре был сменён на чешский. Это означало, что лично Гайде больше ничего не угрожало. Но его карта была бита, и ему пришлось бесславно отплыть из России на первом же пароходе.
* * *
11 февраля 1920 года Гайда вернулся в Чехословакию. Родина встретила своего героя неласково, и его приезд прошёл безо всяких торжеств. Президент Масарик и остальное руководство новой республики не знало, что делать с генералом.
Сначала Гайда был причислен к столичному ополчению. Затем, поскольку он не имел никакого военного образования, его послали в конце 1920 года на обучение в Высшую военную школу в Париж. Во Франции Гайда упорно учился и успешно окончил эту школу в 1922 году, а попутно получил диплом инженера в Парижском Институте техники и практики земледелия.
По возвращении в Чехословакию Гайда 9 октября 1922 года был назначен командиром 11-й дивизии и 29 декабря того же года получил чин дивизионного генерала. Его войска располагались на границе с Венгрией, и вскоре экспансивный Гайда чуть было не спровоцировал военный конфликт, едва не предприняв на свой страх и риск «карательную экспедицию» против венгров. Это создало ему большую популярность в националистически настроенных кругах.
Вскоре после этого определились и его политические симпатии - к зарождавшемуся в те годы фашистскому движению. Если учесть давние идеи Гайды о необходимости сильной власти, которая твёрдой рукой проводила бы демократический (и популистский) курс, в данном случае его выбору удивляться не приходится. Сначала Гайда старался не афишировать свои симпатии, но в мае 1923 года на Легионерском съезде в Братиславе он выступил против арестов членов фашистского движения, а затем повторил это заявление и в министерстве национальной обороны.
1 декабря 1924 года Гайда был назначен первым заместителем начальника Главного Штаба, а 20 марта 1926 года - допущен к исполнению обязанностей начальника Главного Штаба, поскольку его предшественник на этом посту, генерал Сыровой, стал министром национальной обороны в новом правительстве. Но затем разразился скандал, окончательно сломавший карьеру Гайды. 2 июля 1926 года министр национальной обороны предписал Гайде немедленно сдать все дела и отправиться в бессрочный отпуск, ссылаясь при этом на личное желание Президента Масарика. Вскоре выяснилось, что Гайда обвиняется ни много, ни мало, как в измене Родине и шпионаже в пользу Советского Союза!
Вряд ли в серьёзность этого обвинения верил даже сам Масарик. Но до него дошли слухи, скорее всего тоже ложные, что Гайда совместно с чешскими фашистами готовит государственный переворот. Чтобы устранить политического противника, все средства были хороши, и Масарик ухватился за первое попавшееся обвинение. Для поддержки обвинения широко использовалась помощь советских торговых представителей, а также платных агентов ОГПУ из числа русской эмиграции. В этом отношении Гайда как раз оказался достаточно уязвим, поскольку его бывшие «соратники» по владивостокскому мятежу, эсеры Краковецкий и Солодовников, были к этому времени благополучно завербованв1 ОГПУ.
24 июля 1926 года комиссия министерства национальной обороны пришла к заключению, что обвинение против Гайды «не доказано». Гайде было разрешено защищать свою честь путём уголовного преследования главных свидетелей обвинения. Двое из них были в 1928 году осуждены за лжесвидетельство. Но своё дело они уже сделали: 14 августа 1926 года Гайда был признан негодным к дальнейшей военной службе и уволен в запас. Это решение явно было вынесено под давлением «сверху», причём Президент Масарик был чрезвычайно недоволен «излишней мягкостью» наказания и, надо полагать, не преминул дать указания на будущее.
Между тем Гайда, столь бесцеремонно выброшенный из армии, с головой погрузился в политику. Теперь он открыто примкнул к чешской фашистской партии, официально оформившейся в 1925 году под названием «Национальная Фашистская Община» (НФО), и 2 января 1927 года на съезде НФО в городе Брно был провозглашён её лидером.
25 августа 1927 года вокруг Гайды вспыхнул новый скандал, получивший название «Сазавская афера». Министерский чиновник Бранжовский, являвшийся членом фашистской молодёжной организации при НФО, выкрал секретные документы министерства национальной обороны по делу Гайды. И хотя сам Гайда к этой краже был непричастен, его, разумеется, задержали первым. 17 января 1928 года он был разжалован из генералов в рядовые запаса, а 19 июня окружной суд в Праге приговорил Гайду по этому делу к двум месяцам тюремного заключения (условно). Не желая мириться с несправедливостью, Гайда подал жалобу, но Высший административный суд отказал, причём в откровенно издевательской форме: «Жалоба отклоняется частично как недопустимая, частично - как необоснованная».
На парламентских выборах 27 октября 1929 года Гайда был избран депутатом от Народной Лиги - предвыборного объединения нескольких крайне правых партий Чехии, куда входила и НФО. Но уже 29 ноября 1930 года палата депутатов лишила Гайду мандата, а 12 декабря 1931 года Высший административный суд подтвердил это решение.
1 октября 1931 года Гайда был снят с воинского учёта и ему прекратили выплату пенсии. 19 сентября 1931 года Высший суд в Брно, с подсказки правительства, решил вернуться к участию Гайды в «Сазавской афере». В результате Гайду обязали отбыть двухмесячное тюремное заключение, и зимой 1932 года он отсидел эти два месяца в тюрьме в Панкраце.
В ночь с 20 на 21 января 1933 года группа из восьмидесяти чешских фашистов напала на казарму в Брно. Этот «путч» был не более чем глупой выходкой, но, разумеется, на другой же день, 22 января, Гайда был снова арестован, уже по этому делу. С 23 апреля по 26 июня 1933 года административный суд Брно слушал дело о нападении на казарму, и в результате Гайда был освобождён как совершенно невиновный. Однако 28 марта 1934 года под новым нажимом сверху приговор был пересмотрен, и Гайда был осуждён на шесть месяцев тюремного заключения. Этот новый срок в тюрьме он отбывал с 27 августа 1934 года.
Когда сопоставляешь всю эту непрерывную цепь ударов, один за другим обрушивающихся на Гайду, сам собой напрашивается единственный вывод: начиная с 1926 года, Гайда подвергался в свободной и демократической Чехословакии постоянной и систематической травле со стороны властей страны и лично Президента Масарика.
Но, как это часто и бывает, подобная травля лишь способствовала росту популярности отставного генерала. На новых парламентских выборах 1935 года возглавляемая Гайдой Национальная Фашистская Община, выступая на этот раз самостоятельно, набрала чуть больше 2% голосов всех избирателей и преодолела избирательный барьер. В результате в Палате появилась уже фракция от НФО из шести депутатов во главе с Гайдой.
Между тем надвигался уже новый политический кризис - Мюнхен, 1938 год. Гитлер требовал передачи Судетской области и угрожал войной. Как сейчас выясняется, это был чистой воды блеф: воевать Германия была неспособна, и даже без помощи союзников Чехословакия всё равно могла одержать победу. Но её союзники - Англия и Франция - предали её (так же, как они предали Колчака в 1919 году), а руководители государства не нашли в себе моральных сил, чтобы возглавить борьбу с агрессором. Бывший секретарь скончавшегося в 1935 году Масарика, ныне Президент Чехословакии, Э. Бенеш и бывший командующий чешскими войсками в Сибири, а ныне Главнокомандующий Чехословацкой Армией, генерал Я. Сыровой предпочли сдаться без боя. Это решение было для них совершенно закономерным: офицеры и солдаты, которые в 1919-1920 годах предпочли поступиться честью и ради сиюминутных материальных выгод предать своих русских товарищей по оружию, теперь, в критическую минуту, не смогли защитить независимость собственной страны. Традиции, заложенные тогда Масариком и Сыровым, принесли свои плоды...
Однако отнюдь не все в республике были готовы столь безропотно поднять руки кверху. И первый, кто призвал к сопротивлению, был Гайда. Не стоит удивляться, что он не стал сторонником Гитлера и коллаборационистом, ведь он был именно чешским фашистом и вовсе не считал, подобно нацистам, свой народ, как и остальных славян, «недочеловеками». В дни кризиса Гайда выступал с балкона Пражского университета перед многотысячными митингами и требовал только одного: дайте народу винтовки,- а он уж сумеет сам за себя постоять! В эти же дни Гайда демонстративно вернул британскому правительству английский орден Бани, полученный им за бои в Сибири.
В короткий период «послемюнхенской» республики, казалось, настало то долгожданное время, когда заслуги Гайды были наконец признаны и оценены по достоинству. 11 марта 1939 года все прежние постановления суда в его отношении были отменены, ему вернули чин дивизионного генерала и пенсию, что и было позднее поставлено ему в вину как «несомненное доказательство» его сотрудничества с оккупантами. После раздела Чехословакии и превращения Чехии в «Протекторат Богемия и Моравия» Гайда окончательно удалился в частную жизнь (кстати, вторая жена генерала Екатерина была русской, он женился на ней ещё в Сибири в 1919 году). Двое его сыновей, Владимир и Юрий, в годы Второй мировой войны сотрудничали с движением Сопротивления, и отец, по-видимому, негласно поощрял их в этом.
Однако с приходом в Чехию в 1945 году Красной Армии конец генерала предсказать было нетрудно. 12 мая 1945 года Гайда был арестован органами безопасности новой «народной» Чехословакии, совместно с советской военной контрразведкой «Смерш», как «коллаборационист» (которым он на деле не являлся), а также как бывший белогвардеец. Процесс по делу Гайды проходил с 21 апреля по 4 мая 1947 года; генерал был осуждён на два года лишения свободы, но поскольку Гайда к этому моменту уже находился почти два года в предварительном заключении, то примерно через неделю его выпустили на свободу. Подобная снисходительность объясняется просто: к этому времени Гайда был уже неизлечимо болен. Менее чем через год, 15 апреля 1948 года, он умер в Праге и был похоронен на Ольшанском кладбище. Так закончилась мятежная жизнь этого незаурядного человека.
Он далеко не был лишь «безродным выскочкой из недоучившихся фельдшеров», как злобно повторяли в эмиграции его многочисленные критики. И всё же в Белом движении Гайда остался примером героя, совершившего в 1918 и начале 1919 года блистательные подвиги, а затем загубившего их плоды своим участием в тёмных заговорах и бездарных интригах.
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ В. О. КАППЕЛЬ (Очерк: Александр Петров)
На сибирском таёжном разъезде Утай 20 января 1920 года от двустороннего крупозного воспаления лёгких скончался генерал- лейтенант Владимир Оскарович Каппель. До последнего дня умирающего генерала везли на санях, и лишь перед самой кончиной внесли в вагон одного из поездов, стоявших на разъезде. Генерал в бреду отдавал бессвязные команды, продолжая бороться с невидимым для других врагом. А мимо окон вагона тянулась бесконечная вереница саней: его армия уходила на восток, совершая беспримерный прорыв из небытия к бытию.
Генерал Каппель возглавил остатки армии адмирала Колчака в конце 1919 года, уже во время начавшегося безостановочного отступления, названного впоследствии Великим Сибирским Ледяным походом. В те дни, вследствие измены и недомыслия политиканствующих «общественных кругов», разом восстал тыл, а на единственной линии коммуникаций - Транссибирской железной дороге - безраздельно хозяйничали «союзники»-чехи, захватившие весь подвижной состав и открыто поддерживающие мятежников. В результате армия оказалась полностью отрезана от тыла и нормального снабжения и должна была, двигаясь на санях, в трескучий мороз пробивать себе путь через тайгу, не имея патронов, пищи, даже крыши над головой, чтобы согреться на привале. Перемешавшись с обозами, везя с собою раненых и тифозно-больных, в огне бесконечных схваток с красными партизанами, части упорно двигались к своей «Земле Обетованной» - в Забайкалье, где ещё держалась власть Атамана Семёнова. Там была жизнь, а здесь, вокруг - только смерть.
Армия буквально таяла на глазах, и когда 5 января 1920 года путь ей преградил восставший гарнизон Красноярска, разразилась катастрофа: тысячи отчаявшихся и потерявших веру людей безропотно пошли сдаваться в плен. Они были отпущены красными - и отправлены безо всякой помощи пешком на запад в Россию. К весне почти все умерли от тифа, голода и холода. Фотографии со страшными штабелями трупов на сибирских станциях, кочующие по советским историческим изданиям, - это не «жертвы колчаковского режима», это беженцы из замерзших поездов, оставленных чехами без паровозов, и пленные колчаковские солдаты, поверившие в гуманность Советской власти. Точнее, то, что от них осталось. Выжили те, кто не поверил посулам и не покинул своих рядов, кто остался с Каппелем и пошёл вместе с ним тяжким Крестным путём дальше на восток.
После Красноярска казалось, что армии настал конец, что она вот-вот развалится и превратится в беспорядочные толпы беглецов. Но генерал Каппель в эти последние две недели своей жизни сумел совершить чудо: остатки армии сплотились, навели, сколько это было возможно, порядок в своих рядах, и к Иркутску в начале февраля войска вышли уже сплочённой боевой силой, наголову разбив отряды, высланные им навстречу мятежниками из «Политического Центра» и Иркутским Ревкомом. В рядах защитников Иркутска, наскоро мобилизованных большевиками, уже начиналась паника. Но в очередной раз вмешались чехи, и остатки армии, отказавшись от штурма города, перешли по льду Байкал и соединились, наконец, с передовыми постами войск Атамана Семёнова. Генерал Каппель, уже мёртвый, был всё это время со своими бойцами: его тело везли на санях в грубо сколоченном гробу как величайшую святыню. И после выхода в Забайкалье все бойцы, совершившие этот поистине Ледяной поход, в память о своём командире стали именовать себя «Каппелевцами».
Прошло ещё два с половиной года. Имя Каппелевцев покрывалось новой славой в тяжёлых неравных схватках, но также, увы, и затрёпывалось в глупых междоусобных ссорах, став в Приморьи на время прозвищем политических противников Атамана Семёнова. Оно зажило уже своей жизнью, постепенно обрастая легендами. А потом советская пропаганда в своих собственных целях подхватила его, и в результате в знаменитом фильме братьев Васильевых «Чапаев» появился совершенно мифический, но особенно грозный для красных бойцов «Каппелевский офицерский полк», с шиком идущий в свою не менее мифическую «психическую атаку». Своей стойкостью и героизмом полк этот вызывал уважение даже у противника, да что там говорить - у миллионов одурманенных ежедневной пропагандой простых советских зрителей. «Хорошо идут! Интеллигенция!» - с этой крылатой фразой эффектные, с иголочки одетые «черно-белые» кинематографические Каппелевцы совершенно затмили, заслонили собою в общественном сознании Каппелевцев реальных, в прожжённых шинелях и разбитых сапогах. О самом же Владимире Оскаровиче советские люди долгие десятилетия не знали ровным счётом ничего, кроме того, что был такой Белый генерал Каппель...
Согласно общепринятой версии, Владимир Оскарович Каппель родился 16 апреля 1883 года в городе Белёве Тульской губернии. Однако из архивных материалов следует, что местом рождения будущего Белого генерала была Санкт-Петербургская губерния, а в Белев семья переехала примерно годом позже.
Отец Владимира, Оскар Павлович Каппель, с юности связал свою жизнь с армией. В 60-х годах XIX века он поступил рядовым в Сибирскую казачью артиллерию и простым солдатом участвовал в первых походах Русской Армии в Туркестане в 1865-1866 годах под командованием генералов М. Г. Черняева и Д. И. Романовского. За храбрость, проявленную в бою, О. П. Каппель был награждён солдатским Георгиевским Крестом IV-й степени, а затем, за взятие 18 октября 1866 года бухарской крепости Джизак, - произведён в прапорщики армейской пехоты. Уже в офицерских чинах он получил новые боевые награды: Золотую саблю «За храбрость» и орден Святого Станислава III-й степени с мечами и бантом. В 1882 году Оскар Павлович перевёлся в Отдельный корпус жандармов и в 1884-м в чине ротмистра был направлен на службу в Белев на должность помощника начальника Тульского губернского жандармского управления. Скончался он в январе 1889 года, когда его маленькому сыну Владимиру было всего пять лет.
Мать Владимира Оскаровича также происходила из военной семьи. Она была дочерью генерал-майора Петра Ивановича Постольского, героя Севастопольской обороны, награждённого орденом Святого Георгия IV-й степени за подвиг в сражении при Инкерма- не 23 октября 1855 года. Таким образом семейные традиции предопределили будущую карьеру Владимира Каппеля.
В 1894 году он поступил во 2-й кадетский корпус в Санкт-Петербурге, в который его определили, как сына офицера, «на казённый кошт». По окончании корпуса, 31 августа 1901 года Каппель был зачислен юнкером рядового звания в эскадрон Николаевского кавалерийского училища. Училище он окончил 10 августа 1903 года, был произведён в корнеты и выпущен в незадолго до того сформированный 54-й драгунский (с 1907 года - 17-й уланский) Новомиргородский полк младшим офицером.
О молодом Каппеле сохранились воспоминания его однополчанина полковника Сверчкова: «Из большинства г.г. офицеров полка он выделялся разносторонней образованностью, культурностью и начитанностью, думаю, что не осталось ни одной книги в нашей обширной библиотеке, которую он оставил бы непрочитанной. Владимир Оскарович не чуждался общества, особенно общества офицеров полка, любил со своими однополчанами посидеть до поздних часов за стаканом вина, поговорить, поспорить, но всегда в меру, без всяких шероховатостей; поэтому он был всеми любим и всеми уважаем. В военном духе он был дисциплинирован, светски воспитан. Владимира Оскаровича любили все, начиная от рядового 1-го эскадрона, в котором он вместе со мной служил, до командира полка включительно. Внешний вид его сразу внушал симпатию - выше среднего роста, сбитый, хорошо сложенный, ловкий, подвижный, тёмный блондин с вьющимися короткими волосами». Чтобы дополнить этот портрет Владимира Оскаровича, скажем также, что, судя по фотографиям, он расчёсывал свои тёмно-русые волосы на прямой пробор. Позднее, в 1919 году, он носил также усы и небольшую рыжеватую бороду, в этом виде он и запечатлён на всех сохранившихся снимках. Другой соратник Владимира Оскаровича, полковник В. О. Вырыпаев, сражавшийся рядом с Каппелем в годы Гражданской войны, вспоминал об особом обаянии серо-голубых глаз своего начальника, а также о его мягкости и тактичности в обращении с подчинёнными. Каппель был чрезвычайно спокойным, уравновешенным человеком: Вырыпаев вспоминает всего два случая, когда тот в ярости выходил из себя. В характеристике же, выданной молодому офицеру в 1908 году, есть знаменательные слова: «Имеет большую способность вселять в людей дух энергии и охоту к службе. Обладает вполне хорошим здоровьем, все трудности походной жизни переносит мужественно...» Не раз в течение дальнейшей своей жизни Владимиру Оскаровичу довелось подтверждать точность этой характеристики.
Новомиргородский полк входил в состав 3-й отдельной кавалерийской бригады и располагался в Польше, в городе Вроцлаве. Но в 1906 году полк был командирован в Пермскую губернию для борьбы с шайкой разбойников бывшего унтер-офицера Лбова. Полк расположился по губернии поэскадронно, причём 1-й эскадрон встал в самой Перми. И здесь в судьбе недавно произведённого в поручики Владимира Оскаровича произошли большие перемены: во-первых, он был назначен полковым адъютантом, а во-вторых - влюбился.
На одном из уездных балов поручик Каппель познакомился с Ольгой Сергеевной Строльман, дочерью старого инженера, действительного статского советника, директора Мотовилихинского артиллерийского завода под Пермью. Молодые люди полюбили друг друга, однако родители барышни, с предубеждением относясь ко всем военным, запрещали своей дочери общаться с кавалерийским офицером. Молодым людям оставалось лишь встречаться тайком и передавать друг другу записки через горничную. Впоследствии рассказывали, что Каппель вместе с товарищами по полку выкрал возлюбленную из родительского дома и обвенчался с ней в сельской церкви. Родители Ольги Сергеевны якобы долго не признавали их брак, но через три года, когда Владимир Оскарович поступил в Академию Генерального Штаба, они наконец сменили гнев на милость. Каппель был примерным семьянином, и с женою они жили, что называется, «душа в душу». У них родилось двое детей: дочь Татьяна появилась на свет в 1909 году, а сын Кирилл - в 1915-м.
Сложно сказать, верны ли романтические подробности женитьбы молодого офицера, поскольку они вполне могли бы вызвать публичный скандал и лечь несмываемым пятном на его аттестацию. Но на самом деле этого не произошло, и ничто не помешало Каппелю поступать в 1908 году в Императорскую Николаевскую Академию Генерального Штаба. Сначала учёба не давалась ему легко, но в конце концов, преодолев все трудности, он в 1913 году окончил Академию по 1-му разряду с причислением к Генеральному Штабу и за успехи в изучении военных наук даже получил орден Святой Анны III-й степени. После окончания Академии Каппель, как значится в его послужном списке, был прикомандирован к Офицерской кавалерийской школе «для изучения технической стороны кавалерийского дела».
* * *
После начала Первой мировой войны Каппель получил назначение сначала старшим адъютантом Штаба 5-й Донской казачьей дивизии (занимал эту должность с 20 февраля по 5 декабря 1915 года), а затем - старшим адъютантом Штаба 14-й кавалерийской дивизии (по 18 марта 1916-го). Обе дивизии в этот период вели тяжёлые бои в Польше, где Каппель мог приобрести серьёзный боевой опыт, да и отличиться. Об этом свидетельствуют боевые награды, которыми он был отмечен к началу 1916 года: ордена Святого Владимира IV-й степени с мечами и бантом, Святой Анны II-й степени с мечами, Святого Станислава II-й степени с мечами и Святой Анны IV-й степени с надписью «За храбрость».
В марте 1916-го Генерального Штаба капитан Каппель был переведён на должность штаб-офицера для поручений в Управление генерал-квартирмейстера Штаба Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. В это время в Штабе фронта под непосредственным руководством Главнокомандующего генерала А. А. Брусилова начала разрабатываться знаменитая операция, получившая впоследствии название «Брусиловского прорыва». Владимир Оскарович вместе с остальными офицерами Штаба принимал самое деятельное участие в подготовке операции, а после начала наступления, с 16 июня по 12 августа, был временно командирован в III-ю армию, в Штаб Сводного корпуса генерала Булатова, сперва на должность «штаб-офицера по части Генерального Штаба», а затем - начальника Оперативного отделения. 10 августа 1916 года капитан Каппель возвратился в Штаб Юго-Западного фронта на должность помощника начальника Оперативного отделения Управления генерал-квартирмейстера. 15 августа 1916 года он был произведён в подполковники.
На этом посту Владимир Оскарович встретил Февральскую революцию и последовавший за ней развал Российской Армии. Продолжая службу в Штабе фронта, он, по-видимому, не принимал в августе 1917 года участия в «Корниловском выступлении». По крайней мере, 29 августа, в тот день, когда вслед за Корниловым был арестован заявивший о его поддержке Главнокомандующий армиями фронта генерал А. И. Деникин, Владимир Оскарович был назначен начальником Оперативного отделения. Впрочем, уже 2 октября он оставил службу в штабе и «убыл в разрешённый ему отпуск» к семье в Пермь. Вскоре он представил медицинское свидетельство о болезни, согласно которому срок отпуска был продлён до 19 марта 1918 года, и можно предположить, что на фронт Каппель уже не вернулся.
Никакими данными о том, чем занимался Владимир Оскарович с ноября 1917-го по май 1918 года, мы не располагаем. Относительно же того, как он попал к весне 1918 года на Волгу, есть свидетельство его бывшего однокурсника по Академии Генштаба и будущего товарища по совместной борьбе против большевиков, Генерального Штаба генерал-майора (а в то время - ещё подполковника) П. П. Петрова.
«В мае 1918 года я встретил его в Самаре, - пишет Петров, - в штатском платье он пробирался к семье с Украины.
В это время в Самару только что прибыл с бывшего Северного Фронта Штаб 1[-й] армии, который переформировался в Штаб Поволжского Военного Округа и начинал работу по выработанному в Москве плану создания Армии. Штаб прибыл почти в том составе, который был на войне, согласился начать работу с условием, что будет ведать только частями, создаваемыми для внешней борьбы.
В. О. Каппель нашёл в Штабе, кроме меня, ещё несколько своих товарищей по Академии и решил присоединиться к нам».
Почему Владимир Оскарович сделал это, остаётся невыясненным до сих пор. Возможно, справедливы данные о том, что его жена была взята чекистами заложницей. А может быть, напротив, Каппель принадлежал к одной из тайных антибольшевицких организаций и поступил в советский штаб по её заданию... Впрочем, службу в Красной Армии все чины Штаба Поволжского военного округа обусловили своим неучастием в разгоравшейся междоусобной войне. Однако вскоре им пришлось убедиться, как мало стоят все обещания Советской власти: в конце мая офицеров, невзирая на их протесты и угрожая расправой, начали отправлять на «внутренние» фронты - против Атамана А. И. Дутова или восставшего Чешско-Словацкого корпуса. Так что, сложись все хоть немного иначе, Каппеля, благодаря блестяще налаженному у красных репрессивному аппарату, возможно, смогли бы заставить и воевать против его товарищей по оружию. Но всё изменилось благодаря быстрым успехам чехов.
* * *
На рассвете 8 июня 1918 года Самара была освобождена Поволжской группой войск Чешско-Словацкого корпуса во главе с поручиком С. Чечеком (несколькими днями спустя произведённым в полковники). Большевики в панике бежали без малейшего намёка на нормальную планомерную эвакуацию. Власть в городе немедленно взяла в свои руки находившаяся в Самаре группа членов разогнанного Советской властью Учредительного Собрания: Вольский, Брушвит, Климушкин, Фортунатов, Боголюбов - все члены партии эсеров. Они назвали свой орган Комитетом членов Всероссийского Учредительного Собрания (сокращённо - Комуч) и претендовали на то, что являются единственной в России законной властью. По своим политическим воззрениям эта новая власть была крайне левой, «розовой», чем импонировала «демократическому» чешскому руководству.
Однако, несмотря на декларированный всероссийский размах, перспективы Комуча даже в Самаре оставались весьма неопределёнными. Чехи не собирались задерживаться здесь надолго: их главной задачей было расчистить себе путь по Транссибирской магистрали на Владивосток, откуда Антанта обещала переправить их морем на родину. Соответственно, чехи не хотели связывать себя внутри России никакими конкретными обязательствами. Чечек направил главные силы своей группы далее на Уфу и лишь соглашался временно оставить для обороны Самары чешский батальон, но с непременным условием: чтобы в помощь ему были выставлены по крайне мере равноценные местные русские силы. Таким образом, вопрос о формировании собственных войск становился для Комуча вопросом жизни и смерти.
И о создании этих вооружённых сил, получивших название Народной Армии Комуча, было объявлено уже в день освобождения города. Первыми кадрами для её частей послужила подпольная офицерская организация Самары во главе с подполковником Н. А. Галкиным. Он же и был назначен начальником Главного Штаба Народной Армии. Но эсеровское правительство не доверяло русским офицерам, которых само же и призвало себе на защиту: в помощь, а фактически - для контроля за Галкиным Комуч выделил на должности членов Главного Штаба двух своих\людей - Фортунатова и Боголюбова (последнего вскоре сменил на этом посту бывший лейтенант французской службы, видный эсер В. И. Лебедев). Несомненно, этот «Штаб из трёх лиц» представлял из себя ненормальное явление, и отсутствие единого ответственного руководителя не могло не сказываться отрицательно на строительстве вооружённых сил. К счастью, такое положение до некоторой степени смягчалось тем, что Лебедев и Фортунатов лично были честными людьми, понимали всю опасность положения и старались не ставить палки в колеса военным.
Штаб Поволжского военного округа остался в городе, и 9 июня большая группа офицеров Штаба добровольно вступила в ряды Народной Армии Комуча, заняв места в формируемом её Главном Штабе. Среди них были и Генерального Штаба подполковники П. П. Петров и В. О. Каппель. Подполковник Петров получил должность начальника Оперативного отдела, а Каппель стал его ближайшим помощником. Однако фактически на этом посту Владимир Оскарович оставался не более суток.
Как ни важно было немедленно наладить работу Штаба, несомненно, гораздо важнее было как можно скорее сформировать строевые части, которые могли бы защитить город, Штаб и новую власть. В первые же дни на волне общего энтузиазма в Самаре быстро сформировались первые добровольческие части: одна или две роты пехоты, эскадрон кавалерии и двухорудийная конная батарея. Но это была лишь горстка, а большевики тем временем приходили в себя, и их отряды начинали уже накапливаться со всех сторон: в Ставрополе, Сызрани, Николаеве. Предстояло действовать быстро и решительно, а у маленького отряда Народной Армии пока что не было общего командира. Большинство находившихся в Самаре офицеров, будучи вполне здравомыслящими людьми, не хотели связывать себя с заранее обречённым делом. Особенно же это касалось генералитета. Не следует забывать, что бывшие начальники дивизий Первой мировой войны, при всей своей воинской доблести и личном мужестве, привыкли не ходить сами в атаки, а руководить соединениями в 10-15 тысяч штыков при сотне орудий, здесь же им предлагалось возглавить отряд в 200 человек с двумя пушками, да ещё защитить с его помощью большой город и окрестности.
«Я поеду и попробую воевать», - сказал, согласно воспоминаниям П. П. Петрова, Каппель. А вот как ту же сцену описал её свидетель штабс-капитан Вырыпаев:
«...Состоялось собрание офицеров Генерального штаба, на котором обсуждался вопрос, кому возглавить добровольческие воинские части. Желающих не находилось. Решено было бросить жребий. Тогда попросил слова скромный на вид и мало кому известный, недавно прибывший в Самару в составе штаба Поволжского фронта офицер.
— Раз нет желающих, то временно, пока не найдётся старший, разрешите мне повести части против большевиков. - Это был подполковник Владимир Оскарович Каппель».
Вот так 9 или 10 июня 1918 года Владимир Оскарович оказался во главе первого действующего добровольческого отряда Народной Армии и немедленно выступил с ним на фронт. С этого дня началась боевая работа, которую прервала полтора года спустя только лишь его смерть. И с этого дня имя Каппеля стало страшным для врагов как имя блестящего начальника, великолепного партизанского командира, наносящего раз за разом неотразимые удары. Это имя стало легендарным и святым для всех первых добровольцев-Волжан.
Следует ещё раз подчеркнуть, что любое восстание против большевиков в той обстановке и при том соотношении сил было авантюрой почти на грани безумия, и возглавить его могли лишь люди, ясно понимавшие людоедскую сущность большевизма, люди, для которых вопрос - восставать или не восставать - уже не был выбором между жизнью и смертью. Они выбирали лишь между предоставленным им правом безропотно идти на убой по приказу красных комиссаров - и возможностью защищаться изо всех сил и стараться в крайнем случае продать свою жизнь как можно дороже. Так было на Юге у Корнилова, так же было и на Волге. Таких людей было немного, но именно эти люди - первые добровольцы и их первые легендарные (сейчас сказали бы - «харизматические») командиры и стали в конечном итоге душой и стержнем Белой борьбы. И очень интересно в этом отношении снова вернуться к Каппелю. Его послужной список Первой мировой войны - это типичная биография штабного офицера, очень добросовестного, знающего и дельного работника, но не строевого командира и не начальника партизанского отряда, в которого Каппель в одночасье превратился. Здесь, на первый взгляд, нет и намёка на его умение мгновенно разбираться в обстановке и так же быстро принимать решения, на его твёрдую готовность принять весь риск на себя, на его дар зажигать и привлекать к себе сердца своих солдат. Какой же потенциал был скрыт в этом человеке! А может быть, дело ещё и в том, что Владимир Оскарович, на собственном горьком опыте осознав, как близок он был к тому, чтобы воевать против своих, понял и твёрдо решил: защитить себя на будущее от такого поворота судьбы он может только одним - своей личной, активной и бескомпромиссной борьбой против большевизма.
Владимир Оскарович всегда считал себя монархистом, и теперь, став в ряды Народной Армии, он менее всего разделял социалистические взгляды членов Комуча. Но в тот момент самым главным для него была возможность вступить в открытую борьбу. И это не было решением одного только Каппеля - так думало подавляющее большинство первых добровольцев Народной Армии. Об их единственной цели очень точно написал В. О. Вырыпаев:
«Все, кто верил в дело освобождения России и любил своё отечество, брали винтовки и становились в строй. Рядом стояли и офицер, и рабочий, и инженер, и мужик, и техник, и купец. Крепко они держали национальный флаг в руках, и их вождь объединил всех своей верой в идею, святую идею освобождения родной страны.
Среди добровольцев не было перевеса на стороне какого-нибудь отдельного класса. Мощно поднялась волна народного гнева, чтобы смести насильников с лица земли. И армия в это время справедливо называлась Народной. В составе её были представители буквально всех политических партий, за исключением большевицкой».
Меньше всего Народная Армия напоминала партийную, эсеровскую армию. И это серьёзно беспокоило руководителей Комуча. Они старались всеми мерами ограничить власть и влияние офицеров в войсках, боролись с «опасностью милитаризма» и в своей социалистической риторике позволяли себе походя оскорблять офицеров и добровольцев, которые защищали их от мести большевиков. Но первые добровольческие отряды мало обращали внимания на выпады собственного правительства.
Борьба на фронте, ясность целей, ясное видение врага - всё это втягивало в ряды Белого движения самых разных людей. Один из примеров тому - Борис Константинович Фортунатов. Эсер, боевик и террорист, он, будучи назначен членом Главного Штаба Народной Армии, вместо того чтобы «руководить» операциями из своего кабинета, предпочёл присоединиться к отряду Каппеля рядовым бойцом и внезапно обрёл себя в роли настоящего Белого воина. Человек выдающейся личной храбрости, он блестяще исполнял в отряде самые опасные задания в качестве разведчика, подрывника, пулемётчика. В боях на Волге он дважды был ранен и, в отличие от своих товарищей по партии, до конца остался верен Белой борьбе.
* * *
В момент создания отряда, согласно воспоминаниям Вырыпаева, под началом Каппеля состояли следующие части: пехотный отряд капитана Бузкова - 90 человек; конный отряд штабс-ротмистра Стафиевского - 45 сабель; Отдельная Волжская конно-артиллерийская батарея самого Вырыпаева - 150 человек при 2 орудиях. Впрочем, приведённые здесь цифры приблизительные: после первых же боев отряд начал быстро разрастаться. Начальником Штаба в нём стал штабс-капитан М. М. Максимов, о котором Вырыпаев говорит, что он был «отважным стрелком и доблестным помощником начальника отряда и в то же время заключал в себе самый большой боевой штаб со всевозможными отделами» (впоследствии, в 1919 году, полковник Максимов, будучи командиром стрелкового полка, пал смертью храбрых в боях на реке Белой).
Далее дадим опять слово генералу Петрову:
«Июнь месяц и первая половина июля в Самаре для первых частей Народной армии - это ряд выдающихся действий маленьких отрядов под начальством полковника В. О. Каппеля, совместно с речным флотом, против большевистских отрядов, иногда довольно крупных: очищение левого берега Волги от Ставрополя до Самары, занятие Ставрополя, действия на правом берегу Волги близ Новодевичьего, действия у Ставрополя против сильной группы красных, угрожавших Самаре со стороны Мелекеса, два боя за Сызрань, из них последний 10 июля при участии чехов, занятие Хвалынска. Одни и те же маленькие силы при содействии нескольких вооружённых пароходов перебрасывались из одного пункта в другой и в большинстве, широко маневрируя, били красных и гнали их до полного рассеяния.
Полууспехов, неуспехов не было. Красные отряды совершенно не выдерживали ударов этих небольших сил. Но зато бывали моменты, когда в Самаре трудно было найти взвод пехоты для выполнения мелких задач».
Этот период историки охарактеризуют впоследствии термином «эшелонная война». Недисциплинированные и малостойкие красногвардейские отряды в это время обычно захватывали железнодорожные составы и перемещались в них от одной станции к другой, причём покидали вагоны неохотно и лишь на очень недолгое время. Ни о каком манёвре вне железной дороги чаще всего не было и речи. Этим в значительной мере уравновешивалось то подавляющее превосходство, которое красные имели в численности и вооружении. И все эти обстоятельства блестяще учитывались Каппелем.
В качестве примера приведём первый бой под Сызранью 19 июня 1918 года. Участник этого боя капитан Вырыпаев услышал накануне от Каппеля следующий план атаки: «...Завтра в 5 часов утра главные силы, около 250 штыков, атакуют город в лоб. Выделенной конной группе, то есть мне (самому Вырыпаеву. - А. П.) с двумя орудиями под прикрытием Стафиевского (45 сабель), сделать глубокий обход города с севера, с таким расчётом, чтобы завтра ровно в 5 часов утра обстрелять возможно энергичнее эшелоны красных, по чешской разведке находившиеся на станции Заборовке, в 18 вёрстах западнее Сызрани. И, не задерживаясь, направиться по шоссе, вдоль линии железной дороги, на Сызрань. По пути взорвать в двух-трёх местах железнодорожное полотно».
Вырыпаев откровенно сознается: «Задача, полученная мною, на первых порах показалась трудной, почти невыполнимой. Но когда Каппель намечал маршрут для меня и возможные встречи на моём пути и что приблизительно мы должны делать в том или ином случае - эта же задача оказалась простой и лёгкой, так как стало совершенно понятно, что у красных там ничего не было, так же, как и у нас». Таким образом, в основе «лихих» рейдов Каппеля лежал точнейший расчёт настоящего офицера-Генштабиста. Непосредственно на поле брани он скрупулёзно взвешивал степень допустимого риска, и именно поэтому его удары были столь сокрушительными.
Всё произошло именно так, как он рассчитал. Батарея Вырыпаева по просёлочным дорогам выехала на станцию Заборовка, не встретив даже патрулей противника; более того, красные на станции вначале приняли батарею за свою. Дальше события развивались следующим образом:
«Ровно в пять часов утра станция Заборовка была, как приказал Каппель, обстреляна семью десятками снарядов (шрапнелью и гранатами) с предельной скоростью, после чего, взявши орудия на передки, мы спокойно, манежной рысью, направились по шоссе вдоль железнодорожного полотна на город Сызрань. Сзади нас над станцией Заборовкой стоял чёрный дым от пожара - наши снаряды подожгли цистерны, с нефтью или керосином.
Примерно через два часа мы входили в город Сызрань. Нашим глазам представилась картина только что оконченного уличного боя. На улицах валялись убитые красногвардейцы, разбитые повозки, сломанные полевые кухни и другое разбросанное военное имущество...
Как мы узнали позже, утром красные очень упорно защищали город, но когда к ним пришли сведения об обстреле их тыла - станции Заборовки, они поспешно очистили город, проклиная своих комиссаров. В панике они бежали в сторону Пензы, бросив свои позиции с орудиями, пулемётами и другим военным добром, оставив в городе нетронутыми военные склады».
И в дальнейшем этот манёвр - решительный удар, соединённый с глубоким обходом, - стал излюбленным тактическим приёмом Владимира Оскаровича, благодаря которому его отряд неизменно одерживал победы.
Общая обстановка на Волге и в Приуралье в это время была такова: чешские части из группы Чечека освободили от красных Уфу и 8 июля на станции Миньяр соединились с частями Екатеринбургской «группы Чехо-войск» подполковника С. Н. Войцеховского. По согласованию с представителями Антанты был выработан новый план, по которому чешские части должны были повернуть обратно к Волге и образовать там новый Восточный фронт в борьбе против Германии и её союзников - большевиков. Этот план начал немедленно претворяться в жизнь, и в результате в течение последующих четырёх месяцев части Народной Армии во всех сражениях постоянно дрались бок о бок с чешскими частями. Обычно отряды составлялись на паритетных началах: наполовину из чехов, наполовину из русских. При этом командование в таком смешанном отряде должно было переходить к начальнику более крупной части, фактически же командование почти всегда принимал на себя чешский начальник. Более того, Главный Штаб Народной Армии и Галкин ведали лишь вопросами формирования частей, тогда как боевыми действиями объединённых войск на Поволжском фронте руководил Командующий Поволжской группой Чешско-Словацкого корпуса Чечек. 17 июля 1918 года он был официально назначен Главнокомандующим всеми чешскими войсками и частями Народной Армии на Поволжском фронте, а вскоре произведён в генералы.
Однако все эти новопроизведённые чешские полковники и генералы полгода назад были не более чем ротными командирами. Они не имели опыта руководства крупными воинскими соединениями и не могли обойтись без помощи русских офицеров Генштаба, перешедших в Чешско-Словацкий корпус после Октября 1917 года. То же относится и к Каппелю: не раз ему приходилось на поле боя формально объявлять о своём подчинении старшему чешскому начальнику, но фактически бой всегда вёл именно Владимир Оскарович как более опытный командир; он проводил в жизнь собственные планы, но был достаточно тактичным человеком, чтобы не напоминать об этом открыто.
Ряд непрерывных побед сделал имя Каппеля чрезвычайно популярным среди добровольцев Народной Армии и весьма грозным для большевицких отрядов и их предводителей. Вырыпаев сообщает по этому поводу одну любопытную подробность:
«Большевицкий штаб отдельным приказом назначил денежные премии: за голову Каппеля 50 000 рублей, а также за командиров частей: за капитана Хлебникова, командира гаубичной батареи, за командира полевой батареи капитана Попова и за меня по 18 000 рублей. Не помню, сколько за Бузкова, Япучина (конные разведчики), Стафиевского (кавалерия), Юдина (Оренбургская сотня); перед именем каждого стояла цена.
Каппель, читая этот приказ, сказал, смеясь: “Я очень недоволен, - большевики нас дёшево оценили... Ну, да скоро им придётся увеличить назначенную за нас цену...”»
И эти слова он не раз подтверждал на деле.
После второй победы под Сызранью командование Народной Армии Комуча решило воспользоваться благоприятной обстановкой и немедленно организовать наступление на Симбирск. Предполагалось ударить одновременно с трёх сторон: вдоль железной дороги со стороны Бугульмы наступали два батальона l-To Чешско-Словацкого стрелкового полка под командованием полковника Степанова, одновременно с этим отряд Каппеля должен был наступать на Симбирск по правому берегу Волги, а вверх по Волге, отвлекая на себя основные силы красных, должна была действовать белая речная флотилия мичмана Мейрера: наскоро вооружённые трёхдюймовыми орудиями волжские колёсные буксиры «Фельдмаршал Милютин» и «Вульф».
К этому времени отряд Каппеля успел уже значительно пополниться, как за счёт притока добровольцев, так и в результате присылки к нему отдельных рот из формирующихся по городам Поволжья полков Народной Армии. К моменту похода на Симбирск отряд Каппеля, по воспоминаниям Вырыпаева, состоял уже из двух батальонов пехоты, конного эскадрона, казачьей сотни и трёх батарей: лёгкой, гаубичной и конной. Согласно же документам, на 25 июля 1918 года в состав отряда уже входили следующие подразделения: 1-я, 2-я и 3-я роты 1-го Самарского стрелкового полка, 2-я рота 2-го Самарского стрелкового полка, 1-я рота 10-го Бугурусланского стрелкового полка, 1-й эскадрон 1-го кавалерийского полка, 1-я батарея 1-й стрелковой артиллерийской бригады и 1-я гаубичная батарея 1-го гаубичного дивизиона.
Каппель со своим отрядом выступил в поход 17 июля. Перед Симбирском он высадил отряд с пароходов на правый берег Волги, погрузил пехоту для скорости передвижения на подводы и форсированным маршем двинулся вглубь расположения красных, не обращая при этом внимания на крупные силы врага, оставляемые за спиной. Этот рискованный манёвр полностью себя оправдал: утром 22 июля отряд перерезал железную дорогу, соединяющую Симбирск с Инзой, и с тылу ворвался в город. Сильный красный гарнизон под командованием Г. Д. Гая, несмотря на военные таланты этого впоследствии знаменитого советского военачальника, не смог оказать хоть сколько-нибудь эффективного сопротивления и в панике рассеялся. Чехи капитана Степанова опоздали на три часа и вступили в уже освобождённый Симбирск вечером того же дня, хотя следует подчеркнуть, что они, вместе с речной флотилией, отлично исполнили свою часть задачи - отвлекли внимание красных и дали возможность Каппелю совершить молниеносный бросок.
О новом успехе Каппеля было торжественно объявлено в приказе войскам Народной Армии Комуча № 20 от 25 июля 1918 года:
«22-го сего июля молодой Народной Армией снова одержана большая победа: отряд подполковника Каппеля, выступивший из Сызрани 17 июля, прошёл в 4 перехода 140 вёрст и взял Симбирск. Захвачены громадные склады имущества, броневой поезд, подвижные составы, пароходы. Ещё днём и вечером 21 июля отряд разрушил железную дорогу от Симбирска на Инзу и лишил противника возможности выбраться из железного кольца, охватившего город.
Эта победа одержана, этот Суворовский марш совершён благодаря внутренней спайке частей, дисциплине, вере в себя, вере в своего начальника, вере в правое дело...
Блестящая работа боевых частей Народной Армии до настоящего дня, дух этих частей, вера в победу, пусть послужат примером для остальных частей Народной Армии».
Как же воевал отряд Каппеля? Вряд ли кто ответит на этот вопрос лучше Вырыпаева. Вот как он описывает типичные тактические приёмы добровольцев:
«...Из ближайшей деревни пригнали нужное количество крестьянских подвод для нашей пехоты, которая в это время на Волге никогда не ходила в пешем строю. Отнимая у крестьян подводы в жаркое рабочее время, мы, согласно приказа Каппеля, обязательно платили по 10-15 рублей за каждую (тогда это были приличные деньги). При таких условиях отряд мог передвигаться довольно быстро, не утомляясь.
Расспросив у первых попавшихся местных жителей о противнике, в его сторону направлялся разъезд нашей кавалерии. Приблизительно в одной версте следом за ним двигались главные силы. Наша пехота, расположившись по трое-четверо на телеге на душистом сене, обычно дремала или просто наслаждалась природой. Но лишь только слышались первые выстрелы по нашему разъезду, как будто под действием электрического тока, пригретая тёплым летним солнцем, дремлющая пехота выпрыгивала из своих повозок и, ещё не дождавшись команды и остановки, бе жала с винтовками наперевес в сторону выстрелов.
Каппель на коне впереди главных сил обыкновенно кричал в сторону командира пехоты, бежавшего впереди бойцов Бузкова: “Не рискуйте - берегите людей! Каждый боец дорог!” Бегущий мимо не го Бузков брал под козырёк и вполоборота отвечал: “Слушаюсь!”
Повозки останавливались. Я со своими орудиями съезжал с дороги вправо или влево, строил фронт, но с передков пока не снимался до приказания начальника. И когда минуты через две-три выяснялось, что противник заслуживал внимания, тогда начинался бой. Кавалерия частью оставалась прикрытием к орудиям, а часто уходила в обход врага».
В этих боях и походах руководители отряда разделяли все опасности и тяготы похода наравне с рядовыми добровольцами. На первых порах не было и денщиков, так что офицерам самим приходилось ухаживать за своими конями. Питались офицеры и добровольцы также из общего котла. И ещё одна деталь, на которую особенно обращает внимание Вырыпаев:
«В то время каждый командир, в том числе и Каппель, был в то же самое время и рядовым бойцом. На Волге не раз Каппелю приходилось залегать в цепь вместе со своими добровольцами и вести стрельбу по красным. Может быть, потому он так тонко знал настроение и нужды своих солдат, что ему приходилось вести тогда жизнь рядового бойца...
Как было заведено, все чины отряда должны были иметь винтовки или карабины. Каппель в этом отношении был самым примерным. Он не расставался с винтовкой не только как начальник небольшого отряда, но даже и тогда, когда был впоследствии главнокомандующим армиями».
Хотя первые отряды в значительной степени состояли из офицеров, а некоторые роты были и целиком офицерскими (они именовались Инструкторскими), - из-за социалистических взглядов руководителей Комуча погоны были отменены. Общим отличительным знаком бойцов Народной Армии являлась Георгиевская ленточка, носившаяся на околыше фуражки вместо кокарды, а также белая повязка на левом рукаве. Так, о внешнем виде самого Каппеля, каким его увидели жители освобождённого Симбирска, Вырыпаев пишет следующее: «...скромный, немного выше среднего роста военный, одетый в защитного цвета гимнастёрку и уланские рейтузы, в офицерских кавалерийских сапогах, с револьвером и шашкой на поясе, без погон и лишь с белой повязкой на рукаве». Вид действительно весьма скромный и мало чем напоминает эффектную черно-белую «каппелевскую» форму, известную нам по фильму «Чапаев»...
Согласно приказу по войскам Народной Армии Комуча от 25 июля 1918 года, отряд Каппеля должен был быть пополнен до 3 500 человек и развернут в Отдельную стрелковую бригаду двухполкового состава. На практике же, по-видимому, отряд развернулся в бригаду лишь в конце августа, перед набегом на Свияжск. За победу под Симбирском Владимир Оскарович был тогда же, 24 августа, произведён в чин полковника. Тем же приказом Бузков был произведён в подполковники, Вырыпаев - в капитаны, а «доброволец» Борис Фортунатов - в корнеты.
К началу августа власть Комуча распространялась уже на значительную территорию с городами Самарой, Сызранью, Ставрополем (Волжским), Сенгилеем, Симбирском, Бугульмой, Бугурусланом, Белебеем, Бузулуком, Бирском и Уфой. Южнее Самары отряд Генерального Штаба подполковника Ф. Е. Махина освободил Хвалынск и подходил к Вольску. Успешно действовали Оренбургские и Уральские казаки. А на севере группа чешских войск вместе с 4-й и 7-й дивизиями Сибирской Армии под общим руководством Генерального Штаба подполковника С. Н. Войцеховского освободила Екатеринбург. Победы на фронте следовали одна за другой.
Гораздо хуже обстояло дело с новыми формированиями. С самого начала было объявлено, что в каждом освобождённом городе должен быть сформирован полк пехоты, кавалерийский эскадрон и батарея. Однако это, похоже, было полностью отдано на откуп местным воинским начальникам и выполнялось весьма неспешно. Одного притока добровольцев уже не хватало, и 30 июня 1918 года было объявлено о призыве двух возрастов: 1897 и 1898 годов рождения. В июле все формируемые части были объединены в шесть дивизий, в которые обычно входило по четыре стрелковых и одному кавалерийскому полку с соответствующим количеством артиллерии. Однако все эти дивизии так и остались административными соединениями и продолжали своё неспешное формирование вплоть до октября. А на фронте всё так же сражались небольшие добровольческие отряды Каппеля и Махина. Лишь в прифронтовых районах часть новых мобилизованных полков начала борьбу. В районе Сызрани это была бригада 2-й Сызранской дивизии полковника А. С. Бакича. В Симбирске формировалась 6-я Симбирская дивизия под руководством полковника Шмидта, а затем - полковника Николаева. Позднее к этим действующим частям добавились также Казанские формирования и часть Уфимских полков на Каме. Всё же остальные полки в этот период так и оставались не более чем тыловыми гарнизонами. С другой стороны, отряды Каппеля и Махина не имели своих запасных частей, и для их пополнения из формируемых полков по мере готовности вырывались отдельные роты и направлялись на фронт.
В результате вся Народная Армия как бы разделилась на две неравные части: очень небольшую и высокобоеспособную добровольческую армию на фронте и тыловые полки, постоянно пребывавшие в состоянии неготовности, чьи боевые качества со временем становились хуже и хуже: все сколько-нибудь активные офицеры и бойцы из них давно уже отправились на фронт, остались лишь мобилизованные и необученные солдаты, которые совершенно не рвались в бой, и такие же мобилизованные офицеры, которые пережили ужасы 1917 года и просто боялись своих солдат. Использовать такие части в бою в случае нужды не представлялось возможным, и это сулило огромные беды в самом недалёком будущем.
* * *
После освобождения Симбирска встал вопрос о походе на Казань. Напуганное громкими победами Каппеля, большевицкое руководство забило тревогу - все силы, какие только можно, направлялись на Восточный фронт. Против Симбирска и Самары были развёрнуты 1-я армия М. Н. Тухачевского (Пензенская, Инзенская и Симбирская дивизии, всего 7 000 штыков при 30 орудиях) и Вольская дивизия 4-й армии. В Казани под личным руководством нового Командующего Восточным фронтом И. И. Вацетиса лихорадочно сосредотачивалась 5-я армия (6 000 бойцов, 30 орудий, 2 бронепоезда, 2 аэроплана и 6 вооружённых пароходов). Эти силы превосходили фронтовые части белых по меньшей мере втрое. Пассивно обороняться при таком соотношении сил было практически невозможно, оставался один выход - нанести удар первыми, пользуясь неразберихой, всё ещё царящей в красных рядах.
По поводу предстоящего похода разыгрался нешуточный спор между находившимися в Самаре Чеченом, Галкиным и Петровым и готовившимися к броску в Симбирске Каппелем, Степановым, Лебедевым и Фортунатовым. Чечен и Галкин считали, что главный удар необходимо направить на Саратов, а на севере нужно ограничиться лишь демонстрацией и занятием устья реки Камы. Каппель, Степанов и Лебедев, напротив, доказывали, что необходимо нанести удар именно по Казани. И в конце концов Степанов и Лебедев буквально вырвали у Чечена с Галкиным разрешение взять Казань на свой страх и риск.
Был сформирован специальный экспедиционный отряд в составе двух батальонов 1-го Чешско-Словацкого полка и одного батальона из состава отряда подполковника Каппеля с сильной артиллерией. Часть тяжёлых орудий установили на баржах, чтобы использовать их в качестве плавучих батарей. Общее руководство экспедицией было возложено на полковника Степанова, чешскими войсками в составе этого отряда командовал помощник командира 1-го Чешско-Словацкого стрелкового полка поручик (также произведённый в полковники) И. В. Швец, а частями Народной Армии - В. О. Каппель.
1 августа десантный отряд вышел на пароходах из Симбирска под прикрытием шести вооружённых пароходов боевой флотилии мичмана Мейрера. Для красного командования это наступление явилось полной неожиданностью. 4 августа красная речная флотилия была разгромлена белой флотилией в устье Камы, 5 августа корабли мичмана Мейрера подошли к Казани, высадили десанты на пристани, а также на противоположном берегу Волги у Верхнего Услона, где была захвачена тяжёлая береговая батарея. Вечером на пассажирских пароходах подошли основные силы. Пехотные части высадились на берег, артиллерия же должна была поддерживать пехоту с пароходов. Каппель с тремя ротами был послан в обход города с востока, в то время как чешские части должны были наступать в лоб - от пристаней.
С утра 6 августа разгорелся решающий бой за Казань. Уже в час дня Каппель вошёл в город, вызвав в нём панику. Однако советский 5-й Латышский полк, дравшийся на южной окраине города, не поддался общей панике и даже начал теснить цепи чехов к пристани. Сражение затягивалось, но тут к чехам подошла неожиданная помощь в лице сербского батальона, служившего ранее у красных и размещавшегося в казанском кремле. Накануне штурма красное командование потребовало у сербов выдать всех офицеров, но батальон воспротивился этому, ушёл тайно ночью из города и присоединился к чешским войскам. Теперь эти 300 сербов во главе со своим командиром майором Благотичем, по воспоминаниям очевидца, выросли как из-под земли и с диким криком «На нож!» («В штыки!») увлекли за собою и чешские цепи. Красный 5-й Латышский полк, выказавший столько стойкости, в этом бою был уничтожен почти полностью. Беспорядочный уличный бой продолжался ещё всю ночь и утро, но к полудню 7 августа Казань была полностью очищена от красных. Трофеями стало огромное количество военного имущества, а главное - хранившийся в подвалах Казанского банка золотой запас России - 650 миллиардов золотых рублей в монетах, 100 миллионов рублей кредитными знаками, слитки золота, запас платины и другие ценности. На сторону белых перешла в полном составе находившаяся в Казани Академия Генерального Штаба во главе с генералом А. И. Андогским. Значение взятия Казани было огромным — это событие вселило надежды на освобождение от ненавистной власти большевиков в миллионы простых людей, вызвав целый ряд массовых народных восстаний в Прикамье и в частности - восстания рабочих на Ижевском и Боткинском заводах.
Однако бежавшим из Казани красным войскам удалось закрепиться в Свияжске, и в их руках оставался стратегически важный железнодорожный мост через Волгу. Большевицкое руководство напрягало все силы, чтобы как можно скорее восстановить положение. В Свияжск прибыл лично Наркомвоенмор Советской Республики Л. Д. Троцкий, развивший кипучую деятельность и применявший самые жестокие меры для установления дисциплины в разношёрстных полупартизанских красных отрядах: по некоторым данным, он даже ввёл процедуру «децимации» - расстрела каждого десятого в бежавших с поля боя частях. Советская 5-я армия спешно пополнялась новыми войсками, и вскоре Казань была уже окружена с трёх сторон. С Балтики перебросили три миноносца, а местные пароходы вооружались тяжёлыми морскими орудиями, которые обеспечивали им огромное преимущество перед белыми пароходами с их импровизированным вооружением - обычными полевыми трёхдюймовками.
Белые предполагали развернуть в Казани корпус из двух дивизий, но времени на это не оставалось. Сколотить крупные части не успевали, и фронт держали сборные «лоскутные» отряды. Каппель же со своим батальоном был ещё 14 августа спешно вызван из- под Казани обратно в Симбирск, на который наступали части 1-й армии М. Н. Тухачевского. Бои шли до 17 августа и красные были отброшены от Симбирска, но не разгромлены, как это было в предыдущих боях. «Полк[овник] Каппель рассказывал мне при встрече, — вспоминал генерал Петров, — что во время этих боев он впервые почувствовал перед собой хоть ещё слабо организованную силу, но всё же такую, которая выполняет директивы командования.
“Мы ожидали, что покончим скоро, а разыгралось целое сражение, причём мы старались нанести удар своим правым флангом, а красные своим правым. И уже прежней уверенности в успехе не было. Выручил энергичный удар Самарцев в центре. Мы обеспечены от нового удара не более как на две недели”».
Вот тут и стало сказываться отсутствие резервов. Превосходство красных становилось подавляющим: они, скоординировав, наконец, свои усилия, наступали по всем направлениям одновременно. Обстановка под Казанью всё осложнялась, и отряд Каппеля, не завершив операцию, вынужден был срочно отправиться туда.
25 августа Каппель выступил из Симбирска на нескольких пароходах. Его отряд, наконец переформированный в бригаду, состоял из двух стрелковых полков и конного эскадрона при трёх артиллерийских батареях и насчитывал около 2 000 человек с 10-12 орудиями. На следующий день отряд высадился на берег у Нижнего Услона. На этот раз Каппель предложил план глубокого рейда двумя колоннами по правому берегу Волги на Свияжск в тыл основной группировке красных. Если бы ему удалось захватить в Свияжске железнодорожный мост через Волгу, то коммуникации 5-й армии были бы прерваны, а это вполне могло бы закончиться для неё катастрофой почище казанской.
Вечером 27 августа основная колонна подошла к Свияжску. Но в только что пополненной бригаде было много недавно мобилизованных и плохо обученных бойцов, и Каппель не рискнул с таким составом давать ночной бой, а заночевал под городом в деревне Говядина.
Как потом выяснилось, в этот же день 27 августа другой колонной была занята и сожжена станция Тюрлема. А утром находившийся в этом отряде Вырыпаев выкатил свои орудия на берег Волги и прямой наводкой открыл огонь по проплывавшим мимо красным пароходам. Но на этот раз связи между колоннами не было, и Каппель не смог вовремя узнать об успехе своих левофланговых частей.
С утра 28 августа завязался бой за Свияжск. Вначале он протекал успешно, и части бригады ворвались уже на станцию, едва не разгромив Штаб 5-й армии и личный поезд Троцкого. Но в этот момент к красным подошли подкрепления, и при поддержке огня корабельной артиллерии они начали охватывать левый фланг отряда Каппеля, который вынужден был отойти.
Экспедиция вызвала сильную панику у большевиков и тем облегчила положение Казани, но главная задача - захватить мост через Волгу - выполнена не была. Увы, и эта операция под Свияжском, подобно предыдущей, осталась незавершённой, поскольку бригада Каппеля вновь в спешном порядке была вызвана под Симбирск.
К началу сентября для Народной Армии Комуча сложилась практически безнадёжная ситуация, её небольшие отряды на фронте уже не могли сдержать многократно возросший напор красных войск. В этой обстановке бригада Каппеля исполняла роль своеобразной «пожарной команды», являясь по существу единственным мобильным резервом Народной Армии на огромном участке фронта от Казани до Симбирска. Но бригада просто физически не могла одновременно поспеть всюду...
* * *
К Симбирску бригада Каппеля подошла лишь к 12 сентября, когда город уже эвакуировался. Почти одновременно, в ночь на 11-е, была сдана Казань. Теперь перед Владимиром Оскаровичем стояла трудная задача: защищать направление на Бугульму и Уфу и одновременно прикрывать отступление из-под Казани Северной группы полковника Степанова, чтобы дать ей возможность выйти на линию железной дороги. Для этого на левом берегу Волги против Симбирска Владимир Оскарович присоединил к своей бригаде все отошедшие Симбирские части и 21 сентября нанёс всеми силами короткий контрудар по переправившимся на левый берег отрядам красных, сбросив их в Волгу. Ему удалось продержаться на левом берегу реки до 27-го, пока на станции Нурлат части его группы не соединились с частями, отошедшими из-под Казани. И лишь тогда все эти войска, объединившиеся под руководством Каппеля в Симбирскую группу, начали медленное, с упорными боями, отступление вдоль Волго-Бугульминской железной дороги в направлении на Уфу.
В Уфе к тому времени открылось Государственное Совещание, на котором была образована «Всероссийская власть» - Директория, объединившая и заменившая собою Комуч и Временное Сибирское Правительство. Пять дней спустя генерал В. Г. Болдырев был назначен «Верховным Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами России». Это означало, что формально Народная Армия Комуча прекратила своё существование, влившись в ряды общерусской армии. Но вряд ли этот факт заметили сами войска, переживавшие тяжелейший кризис и напрягавшие все силы в борьбе с многократно превосходящими большевиками. Все перемены выразились лишь в том, что кануло в Лету правительство, которое не уважало свою армию и которого не уважала армия, и ушли старшие начальники, которые и так не водили эту армию в бой. Остались всё те же солдаты и всё тёзке незаменимые фронтовые командиры, такие как Каппель и Махин, которые одни только и могли предотвратить надвигающуюся катастрофу.
Собственно, они ожидали от этого соглашения в первую очередь большей координации усилий Сибирской и Народной Армий, скорейшего изыскания достаточных резервов, которые позволили бы стабилизировать положение на фронте. Но здесь их ждало жестокое разочарование: Народная Армия оказалась всё так же предоставлена самой себе. Не следует, однако, винить в этом Сибирскую Армию - она несла не меньшую боевую нагрузку и не располагала свободными резервами. Но в её распоряжении имелись огромные ресурсы Сибири, и задача Болдырева как Верховного Главнокомандующего заключалась именно в том, чтобы правильно и своевременно распределить эти ресурсы. С этой задачей он совершенно не справился, фактически пустив всё дело на самотёк. В результате за падением Казани и Симбирска последовали падение 3 октября Сызрани и, наконец, оставление 8 октября Самары. Волга была потеряна...
К началу октября 1918 года прикрывавшая железную дорогу Симбирск - Бугульма - Уфа Симбирская группа Каппеля (начальник Штаба - Генерального Штаба капитан Ловцевич) состояла из следующих частей:
- Самарской отдельной стрелковой бригады в составе 1-го и 2-го Самарских и 9-го Ставропольского стрелковых полков, батальона 3-го Башкирского стрелкового полка, кавалерийского дивизиона, пяти батарей, из которых одна была конной и одна гаубичной, и инженерной роты;
- Симбирской отдельной бригады в составе 21-го и 22-го Симбирских и 24-го Буинского стрелковых полков, Офицерского инструкторского батальона, конного взвода, лёгкой и гаубичной батарей и инженерной роты;
- Казанской отдельной бригады в составе 1-го, 2-го и 3-го Казанских и Уржумского стрелковых полков, кавалерийского дивизиона, лёгкого артиллерийского дивизиона (в составе трёх батарей), партизанского отряда Атамана Свешникова и телеграфной роты;
- 4-го Оренбургского казачьего полка.
К ноябрю 1918 года Каппель из-за постоянной угрозы обхода вынужден был оставить станции Мелекес, Нурлат и Бугульму и отвести свои части за реку Ик. Левее, на железнодорожной линии Самара - Кинель - Уфа, была 1-я Чешско-Словацкая дивизия полковника Швеца, но к этому моменту боевой дух чехов резко упал, и они всё более настойчиво требовали отозвать их с фронта и вообще вывезти из России. Дошло до того, что гордость Чешского корпуса - 1-й Чешско-Словацкий стрелковый имени Яна Гуса полк - отказался выступать на позиции. Тяжело переживая позорное поведение своих солдат, полковник Швец утром 25 октября застрелился.
Между тем 20 октября 1918 года войска бывшего Поволжского фронта были разделены на две группы войск - Камскую и Самарскую. При этом в состав Самарской группы вошли Симбирская группа Каппеля и 1-я Чешско-Словацкая дивизия, а командующим группой был назначен генерал Сергей Николаевич Войцеховский. С этим тридцатипятилетним генштабистом судьба на сей раз свела Владимира Оскаровича накрепко, чтобы больше уже не разводить. На протяжении последующих полутора лет Войцеховский был непосредственным начальником Каппеля, затем его боевым соратником - командующим Уфимским корпусом, а затем и первым помощником Каппеля в период Сибирского Ледяного похода...
Войцеховский поставил перед командирами частей вопрос о нанесении всеми силами Самарской группы решительного контрудара по красным на Бугульминском направлении. И он сумел преодолеть сомнения чешских командиров и совместно с Каппелем блестяще провёл этот контрудар. Наступление началось 10 ноября и завершилось к 14-му полным разгромом красной Бугульминской группировки. Но развить успех не удалось, поскольку чешские части, дойдя вновь до рубежа реки Ик, всё-таки отказались наступать дальше, и их пришлось вывести с фронта. Заменить чехов было некем, и примерно месяц Симбирская группа Каппеля оставалась на фронте под Уфой одна.
Вывод чехов с фронта был ускорен и окончанием Первой мировой войны. После победы над австро-германцами и объявления о создании независимой Чехословакии дальнейшие жертвы представлялись чехам ненужными, и весь корпус потребовал немедленной отправки на родину. После долгих усилий союзному командованию удалось уговорить чехов остаться и взять на себя охрану тыловых коммуникаций — Транссибирской железнодорожной магистрали. Как показало недалёкое будущее, наверное, было бы лучше, если бы их сразу отправили домой...
Ещё одним важным событием стал государственный переворот, произошедший в Омске в ночь на 18 ноября: власть Директории была свергнута и вместо неё Советом Министров был избран Верховный Правитель - адмирал А. В. Колчак. На фронте, по авторитетному свидетельству генерала Петрова, к известию о перевороте вначале отнеслись с нескрываемым удивлением. Как сторонники, так и противники свергнутой власти лишь в один голос говорили: «Нашли время!» Важнейшей задачей командиров в этих обстоятельствах было удержать спокойствие в частях на фронте, исключить всякую агитацию, как «за», так и «против».
Это неопределённое положение причудливым образом отразилось и на судьбе Каппеля. В самый день переворота прежний Верховный Главнокомандующий генерал Болдырев, объезжая с инспекционной поездкой фронт, прибыл в расположение частей Симбирской группы, чтобы лично поздравить Каппеля с производством в генерал-майоры. Производство это было вполне заслуженным, однако Владимиру Оскаровичу не раз потом аукнулось то, в какой обстановке оно свершилось: слишком многие интриганы пытались представить его эсеровским ставленником. Ответ же самого Каппеля на это известие передаёт Вырыпаев: «Я был бы более рад, если бы мне вместо производства прислали из резерва батальон пехоты!»
Тогда же на запрос, что делает в его войсках отряд члена Учредительного Собрания эсера Фортунатова, Владимир Оскарович просто ответил: «Ведёт успешную боевую работу на фронте». И не в меру ретивые тыловые начальники должны были оставить корнета Фортунатова в покое. Вообще, Каппель никогда не давал в обиду своих добровольцев, каких бы политических воззрений они ни придерживались. Главным и единственным его критерием в этом отношении была верность Родине и готовность отдать жизнь за неё.
* * *
В конце ноября — декабре 1918 года генерал Каппель с частями своей группы, которая всё чаще именовалась в оперативных документах «Сводным корпусом генерала Каппеля», продолжал медленно отступать вдоль Волго-Бугульминской железной дороги на Уфу, временами нанося красным короткие контрудары. Сил у него явно не хватало: части практически не получали пополнений, снабжение было чрезвычайно скудным; если в начале октября в Симбирской группе насчитывалось до 12 тысяч человек, то за два месяца число это сократилось до 3 тысяч, а к концу декабря «корпус» представлял собою лишь небольшие осколки прежних частей.
Выпал глубокий снег, начались морозы, в частях не хватало тёплой одежды и появилось много обмороженных. Лишь с середины декабря начали выходить на фронт долгожданные подкрепления - пять полков из состава 6-й, 11-й и 12-й Уральских стрелковых дивизий. Но первые бои оказались для них неудачными, так что основную тяжесть пришлось вновь брать на себя корпусу Каппеля.
31 декабря после долгих упорных боев Уфа была оставлена. Одновременно с этим 1 января 1919 года на этом направлении была образована Западная Армия генерала М. В. Ханжина. В её состав вошли 2-й Уфимский корпус, преобразованный из войск бывшей Камской группы, 3-й и 6-й Уральские армейские корпуса. Общее командование над всеми частями, действующими в районе Уфы, принял командующий 6-м Уральским корпусом генерал Сукин, а части корпуса Каппеля, сменённые, наконец, в начале нового года, стали отводиться в тыл, в город Курган, для пополнения и реорганизации.
Поскольку реальная численность корпуса составляла менее четверти от положенной по штату, командованием Западной Армии разрабатывались планы сведения всех его пехотных частей в один Волжский стрелковый полк в составе 1-го Самарского, 2-го Казанского и 3-го Симбирского батальонов. Позже остановились на новом проекте, в соответствии с которым части корпуса сводились в 8-ю Волжскую стрелковую дивизию в составе стрелковых полков: Самарского, Казанского, Симбирского и Волжского. Приказ об этом был подготовлен и, возможно, даже подписан 31 декабря 1918 года или 1 января 1919-го.
Однако уже 3 января вышел приказ Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего, который определял структуру образуемой Западной Армии уже совершенно иначе. В пункте 4 нового приказа предписывалось:
«1-й Волжский Армейский корпус образовать из трёх отдельных стрелковых бригад двухполкового состава каждая:
а) 1-й Отдельной Стрелковой Самарской - из Особой Самарской бригады;
б) 2-й Отдельной Стрелковой Казанской - из 7-й Стрелковой Казанской дивизии;
в) 3-й Отдельной Стрелковой Симбирской - из частей 6-й Стрелковой Симбирской дивизии».
Подобное резкое изменение планов можно объяснить лишь тем, что приблизительно в эти же дни генерал Каппель был вызван в Омск и имел личную встречу с адмиралом Колчаком. Известно, что окружение Верховного Правителя заранее настраивало его против Каппеля. Но при личной встрече все недоразумения быстро рассеялись, и Владимир Оскарович произвёл на адмирала самое лучшее впечатление. По-видимому, тогда же ему удалось убедить Колчака всемерно использовать кадры волжских добровольцев для развёртывания новых частей.
В результате Волжский корпус был выведен из состава Западной Армии и назначен в резерв Верховного Командования для нанесения в дальнейшем ударов на главных направлениях. Соответственно на формирование корпуса было предписано обратить особое внимание. Так, заботы о его снабжении взяла на себя британская военная миссия генерала А. Нокса, и все части корпуса получили добротное, единообразное английское обмундирование.
27 февраля 1919 года входившие в состав Волжского корпуса бригады приказано было развернуть в дивизии трёхполкового состава, и к маю корпус принял следующий вид: три дивизии, каждая из трёх стрелковых полков, егерского батальона, кавалерийского и инженерного дивизионов, лёгкого артиллерийского дивизиона (из двух батарей) и одной гаубичной батареи; сверх того в корпус входили тяжёлая батарея, кавалерийская бригада и кадровая (запасная) бригада. Начальниками дивизий в корпусе стали: 1-й Самарской - полковник Имшенецкий, 3-й Симбирской - полковник Подрядчик, 13-й Казанской - полковник Перхуров; все трое вскоре были произведены в генералы. Командиром Волжской кавалерийской бригады был полковник Нечаев, а начальником Штаба корпуса вскоре был назначен Генерального Штаба полковник Барышников.
На самом деле, однако, большая часть всех этих реорганизаций осталась лишь на бумаге. Стрелковые полки, входившие в состав корпуса в декабре 1918 года, продолжали состоять в нём в своём прежнем виде и к маю 1919-го, переменив лишь свои номера и названия.
Повис в воздухе и один из самых существенных вопросов - о пополнении частей личным составом. Ветераны Волжского корпуса намекали, что это могло быть следствием недоброжелательства и интриг со стороны Ставки в Омске и едва ли не лично начальника Штаба Верховного Главнокомандующего генерала Д. А. Лебедева. На наш взгляд, однако, всё было гораздо проще и обыденнее. Ещё до решения о развёртывании и пополнении Волжского корпуса в Ставке уже были выработаны основные принципы комплектования действующих частей. Согласно им, вся территория Сибири и Урала была разделена на «корпусные округа», к которым были «приписаны» сражающиеся на фронте корпуса, так что все мобилизованные в данном районе прямиком направлялись в «свой» корпус. Тогда для корпуса Каппеля такого района, разумеется, не выделили. Позднее, когда было решено корпус всё же разворачивать, для его пополнения пообещали выделить часть мобилизованных из районов Сибирской Армии. Но 4 марта 1919 года Сибирская, а за нею и Западная Армии перешли в решительное и успешное наступление. Все мобилизованные при этом, разумеется, направлялись в первую очередь в действующие части на восполнение потерь. Ставка же, по существу, пустила дело пополнения Волжского корпуса на самотёк, и в результате этот нерешённый вопрос превратился в своеобразную «мину замедленного действия», которая должна была взорваться в самый неподходящий момент.
К тревогам о судьбе корпуса у его командующего в это время прибавились ещё и личные переживания. С начала Гражданской войны жена Владимира Оскаровича с детьми проживала в Перми у своих родителей. По данным, появившимся позднее в эмигрантской литературе, летом 1918 года, когда стало известно, что Каппель возглавил отряд Народной Армии, его жена была взята местными комиссарами в заложники и увезена вглубь России. Весть об этом Владимиру Оскаровичу принесли старики Строльманы, которые после освобождения Перми перебрались вместе с внуками к зятю в город Курган. Каппель, конечно, был очень рад увидеть своих детей живыми и невредимыми, но с этого времени его не покидала тревога за судьбу жены.
Хватало и служебных волнений. Уже в апреле из частей формирующегося корпуса был выделен отряд в полторы тысячи человек при четырёх орудиях под командованием полковника Н. П. Сахарова для подавления большевицкого восстания в городе Кустанае. Отряду удалось освободить этот город лишь 10 апреля, после двух дней упорных боев. Одновременно из состава 1-й Самарской дивизии один полк с батареей и кавалерийским эскадроном был отправлен в командировку в Сибирь для борьбы с партизанами, где он и находился в течение четырёх последующих месяцев.
Лишь в середине апреля дело с пополнениями для корпуса сдвинулось, наконец, с мёртвой точки, однако вместо мобилизованных Каппелю прислали военнопленных красноармейцев, захваченных во время весеннего наступления. Вообще говоря, пополнение частей за счёт военнопленных было в годы Гражданской войны обычным явлением, но одно дело, когда за счёт пленных пополняют лишь текущую убыль (когда таких людей попадает по два-три человека в роту, они постоянно находятся на виду у старых добровольцев и постепенно в ходе боев переучиваются, воспринимая дух своей новой части); здесь же части больше чем на три четверти оказались разбавленными бывшими красноармейцами, а старые добровольческие кадры совершенно растворились в сырой и подчас враждебной массе и больше уже не могли определять лицо части. И всё же Каппель пошёл на этот шаг, надеясь, что силой своего личного влияния в короткий срок сумеет перевоспитать этих людей. Ведь пленные были теми же насильно мобилизованными крестьянами, чьи головы изрядно затуманила красная пропаганда, но которые в основной массе своей должны были скоро осознать гибельность большевицких идей, опасность этих кровавых экспериментов лично для себя и своего уклада жизни. Надо было только найти к ним правильный подход, а также вовремя выявить в их среде затаившихся большевицких агентов и агитаторов. Для этого нужно было только время, но именно его-то Каппелю и не дали.
23 апреля 1919 года перешла в контрнаступление красная Южная группа Восточного фронта под командованием М. В. Фрунзе. Белые оказались в критическом положении. На помощь большевикам пришла измена: когда на фронт был прислан «национальный» Украинский курень (полк) имени Тараса Шевченко, он в первую же ночь в полном составе перешёл на сторону красных, прихватив с собою офицеров и обстреляв по дороге соседние части. В образовавшуюся брешь немедленно хлынули красные войска, и начался отход, вскоре распространившийся на весь левый фланг Западной Армии. И тогда, чтобы заполнить брешь, на фронт в спешном порядке был вызван корпус Каппеля.
Очевидцы вспоминают, что генерал Каппель был чрезвычайно подавлен этим известием. Он прекрасно понимал, что бросить в бой столь сырые части нельзя, - это неминуемо приведёт к беде. Им был составлен и послан в Ставку подробный доклад, но командование настаивало на своём.
Первой, 6 мая, вышла на фронт 3-я Симбирская дивизия, и сразу же, не успев закончить сосредоточение, ей пришлось вступить в бой. Вот тут-то и сказались все просчёты и ошибки: в первых же боях значительная часть 10-го Бугульминского полка, перебив своих офицеров и немногих оставшихся старых добровольцев, перешла к красным. Наступление захлебнулось. Приехавший в эти дни на фронт Верховный Правитель, по свидетельству генерала Петрова, «несколько истерическим голосом» сказал Каппелю, «что не ожидал этого, но просит не падать духом». Однако и в дальнейшем такие же случаи, хотя и в значительно меньших масштабах, повторились в других полках корпуса. Вследствие нерадивости высшего командного состава корпус, едва успев попасть на фронт, был погублен чуть ли не наполовину.
Правда, Каппель быстро навёл порядок в частях, но ни о каких ударных функциях корпуса уже не приходилось и говорить. Полки едва ли достигали даже трети штатного состава, а вся 1-я Самарская дивизия фактически представляла из себя лишь один полк, усиленный артиллерией. Волжская кавалерийская бригада также вначале действовала отдельно, а вместо неё корпусу была придана 3-я Оренбургская казачья бригада. Кроме того, генералу Каппелю были временно подчинены два полка 12-й Уральской стрелковой дивизии, и всё это соединение получило официальное название «Средней группы Западной Армии». С этой группой Каппель, ведя упорные арьергардные бои, медленно отступил за реку Белая, где части его корпуса заняли позиции значительно южнее Уфы, а приданные части были выведены в армейский резерв.
Во время боев за Уфу 7-9 июня, вопреки всем известным советским легендам, войска Волжского корпуса ни с одним бойцом 25-й Чапаевской дивизии не сталкивались; они дрались против советской 24-й стрелковой дивизии, причём действовали наиболее удачно среди всех белых частей, защищавших линию реки Белой. По свидетельству самих советских историков, трижды за это время, 9-го, 12-до и 13-14 июня, части 24-й дивизии делали попытки форсировать Белую - и трижды с огромными потерями откатывались на свой берег. Вырыпаев вспоминает, как в одном из этих боев Каппель лично возглавил атаку своего последнего резерва - Уржумского стрелкового полка, силою... в 80 штыков. По свидетельству Вырыпаева, «весть о появлении Каппеля прошла по рядам нашей пехоты как электрический ток». В результате дружной атаки многократно превосходящие силы красных были сброшены в реку, было взято 200 пленных и 27 пулемётов. Передавая этот эпизод, мемуарист сам удивлялся тому, как можно было со столь ничтожными силами достичь победы. После боя он специально расспрашивал об этом солдат, и выяснилось, что большинство из них просто «слепо верило, что в тяжёлую для них минуту Каппель явится сам, а если так, то должна быть и победа».
В результате Волжская группа Каппеля дольше всех задержалась на линии реки Белой: лишь 16 июня покинула она свои позиции и начала медленный, с арьергардными боями отход в Уральские горные проходы. Упорные бои там длились до середины июля.
* * *
К этому времени Волжский корпус был уже преобразован в Волжскую группу, в которую, кроме собственно частей корпуса, входил ряд других частей и соединений. 14 июля 1919 года это положение было закреплено официально во время новой реорганизации, при которой все войска Сибирской и Западной Армий были преобразованы в три номерные неотдельные армии и включены в состав новообразованного Восточного фронта. Западная Армия стала именоваться 3-й, и в её составе Волжская группа приняла участие в наступлении под Челябинском 25 июля - 4 августа.
Планируя эту операцию в обход только что назначенного Главнокомандующего армиями Восточного фронта генерала М. К. Дитерихса, командующий 3-й армией генерал К. В. Сахаров предполагал заманить в ловушку советскую 5-ю армию, одновременно нанеся удары: севернее города - войсками Уфимской группы генерала Войцеховского, а с юга - Волжской группой генерала Каппеля. Эти группы должны были перейти в наступление 25 июля и сомкнуть вокруг красных кольцо окружения, но у Каппеля произошла досадная заминка. Его группа была с самого начала относительно малочисленной, и кроме 1-го Волжского корпуса в её состав вновь была включена 12-я Уральская стрелковая дивизия генерала Р. Бангерского. В момент выхода на исходный рубеж атаки Уральцы на марше были в свою очередь внезапно атакованы красными, смешались и отступили. Войска быстро оправились, но всё же наступление Волжской группы началось на два дня позже, 27 июля, и не достигло ожидаемого размаха. Челябинская операция закончилась неудачей; белые вынуждены были оставить Урал и отступить вглубь Сибири.
Новая и на этот раз весьма успешная попытка перейти в наступление была предпринята 2 сентября под Петропавловском. Волжская группа Каппеля действовала в центре вдоль железной дороги, справа от неё наступала Уральская группа генерала Косьмина, а слева - Уфимская группа генерала Войцеховского. И хотя согласно планам главные удары предполагалось наносить именно по флангам, первый успех в этом наступлении выпал на долю Волжан: 4-5 сентября в районе деревни Теплодубровной части входящей в её состав Ижевской стрелковой дивизии генерала В. М. Молчанова окружили и почти полностью уничтожили 2-ю бригаду 26-й стрелковой дивизии красных. Войска 3-й армии нанесли противостоящим им большевикам тяжёлое поражение и к 2 октября вышли на линию реки Тобол. За успешное руководство войсками во время этого наступления генералы Сахаров, Войцеховский, Косьмин и Каппель были награждены адмиралом Колчаком орденами Святого Георгия III-й степени.
Но блестящее наступление на Тоболе стало для армий Верховного Правителя лебединой песней. Все резервы были исчерпаны, и контрудар противника, последовавший 14 октября, отразить белые оказались уже не в состоянии. Началось их безостановочное отступление, которому суждено было завершиться четыре месяца спустя лишь за Байкалом.
Генерал Дитерихс понимал, что с поредевшими и уставшими войсками немедленно остановить наступление красных невозможно, а потому все надежды возлагал на подготовку свежих сил в глубоком тылу. Но реализация этого плана фактически означала отказ от упорной обороны Омска, что вызвало резкие возражения Верховного Правителя, настаивавшего на безусловной защите своей столицы. В результате Колчак 4 ноября сместил Дитерихса, заменив его К. В. Сахаровым, вместо которого командующим «Московской группой армий» (так с 12 октября именовались объединённые 3-я армия и Степная группа) 5 ноября 1919 года был назначен генерал Каппель, передавший, в свою очередь, командование Волжской группой генералу Имшенецкому. По-видимому, в конце ноября Владимир Оскарович был произведён в генерал-лейтенанты.
Все эти перестановки, конечно, не могли изменить положения несчастной армии, поспешно отходившей к Иртышу. А здесь её поджидала новая опасность: из-за сильной оттепели Иртыш, вопреки обыкновению, никак не хотел замерзать. Он отрезал пути отхода белым войскам - единственной переправой через реку оставался железнодорожный мост у станции Куломзино.
В эти дни в Штаб Каппеля вернулся, едва оправившись от тифа, подполковник Вырыпаев. Вот какую безрадостную картину увидел он из штабного вагона, стоявшего на станции Куломзино:
«Начало темнеть. Западный берег Иртыша был занят десятками тысяч всевозможных повозок, сгрудившихся на берегу непроходимой мощной реки, по которой густо шли разной величины, угловатые льдины...
Каппель указал на бесчисленные обозные повозки сражавшихся с врагом наших частей; вокруг этих повозок сновали плохо одетые люди, разводившие костры, на которых готовили свою незатейливую пищу. Каппель тихо сказал: “Если река не замёрзнет, то часы этих повозок сочтены. Фронт совсем недалеко, а враг наседает... Переправы другой нет”».
Мороз грянул лишь в ночь на 10 ноября. Иртыш стал, и отступающая армия сумела перебраться на другой берег. Но об обороне города никто уже всерьёз не думал. Омск был оставлен 14 ноября чрезвычайно поспешно, и в нём были брошены огромные запасы военного имущества, необходимого для армии. Это произвело на войска очень тяжёлое впечатление.
Но ещё более тяжёлые последствия имело то обстоятельство, что Транссибирская железнодорожная магистраль в тот момент находилась под контролем союзного Чешско-Словацкого корпуса. Накануне сдачи Омска был опубликован меморандум - обращение чешского командования к союзным державам, в котором чехи объявляли, что снимают с себя все обязательства перед Россией и будут организовывать эвакуацию по железной дороге лишь сообразуясь с нуждами собственных войск. Своё заявление чешское командование тут же и начало претворять в жизнь, пропуская на восток только свои эшелоны и многочисленные составы с «благоприобретенным имуществом» и задерживая западнее станции Тайга все русские поезда.
Эти действия «союзников» превратили неудачи на фронте в катастрофу для всего Белого движения в Сибири, поскольку зимой, в малонаселённых местах, среди тайги и бездорожья, единственной надёжной коммуникационной линией для войск оставалась Транссибирская магистраль, и от её бесперебойной работы зависела боеспособность армии. Теперь же русская армия оказалась разом отрезанной от тыла и лишилась возможности своевременно получать боеприпасы и эвакуировать раненых.
В дополнение к перечисленным бедам, к началу декабря выявилась также и ненадёжность в моральном отношении полков 1-й армии, пополнявшихся в Ново-Николаевске, Томске, Красноярске и других городах Сибири. Боеспособность войск быстро падала, люди теряли веру в возможность дальнейшего сопротивления. В частях раздавались заявления, что пора-де кончать войну, что большевики тоже люди, и с ними тоже можно договориться или, по крайней мере, выторговать себе жизнь. Подобные химеры захватили не только рядовой состав армии, но проникли и в среду его руководства, вызывая многочисленные случаи неподчинения начальству и даже открытые бунты.
В этой обстановке генерал Сахаров продолжал разрабатывать уже совершенно нереальные планы нового перехода в наступление, да кроме того ещё и затеял сворачивание всех действующих на фронте частей: корпуса сводились в дивизии, дивизии в полки и т. д. Мера эта была совершенно правильна, но в условиях беспрерывного отступления практически неисполнима. Наконец, планом свернуть 1-ю армию в корпус, с последующим подчинением его командующему 2-й армией Войцеховскому, Сахаров чувствительно задел самолюбие командующего 1-й армией генерала Пепеляева и спровоцировал его на открытое выступление. 9 декабря на станции Тайга генерал А. Н. Пепеляев вместе со своим братом премьер-министром В. Н. Пепеляевым арестовал Главнокомандующего, обвинив его в преступном оставлении Омска, и потребовал у Колчака суда над Сахаровым. После двух дней переговоров Колчак был вынужден согласиться снять Сахарова с поста Главнокомандующего и назначить над ним следствие.
Этот поступок генерала Пепеляева показал всей армии пример грубого нарушения дисциплины и был чреват самыми тяжёлыми последствиями. В сложившейся обстановке лишь Каппель обладал достаточно высоким авторитетом, чтобы все остальные высшие руководители армии безоговорочно подчинились его приказам. Поэтому ему пришлось, хотя и против своего желания, возглавить отступающие войска: 12 декабря генерал-лейтенант В. О. Каппель был назначен Главнокомандующим армиями Восточного фронта.
Генерал оценивал положение гораздо реалистичнее своего предшественника: он осознал, по точному замечанию начальника Камской дивизии генерала Пучкова, «что невозможны никакие наступательные операции с расстроенными частями, без огнеприпасов и налаженного снабжения, что необходим спешный отвод в глубокий тыл большинства частей и полная реорганизация их в спокойной обстановке, при условии успешного задержания красных на каком-либо удобном рубеже».
В соответствии с этим Каппель 15 декабря предписал отвести 2-ю и 3-ю армии за 60-вёрстную полосу Томской (Щегловской) тайги. Отдохнувшие части 1-й армии при этом должны были закрыть немногие выходы из тайги и обеспечить остальным войскам столь необходимый им отдых. Однако и этот приказ исполнен не был: 17 декабря в Томске части 1-й армии восстали против своего командующего генерала Пепеляева. Дурной пример начальника принёс свои страшные плоды.
1-я армия распалась и открыла дорогу красным. В результате тайга стала ловушкой для белых армий. Стараясь как можно быстрее преодолеть её, части перемешивались во многокилометровых пробках, и пришлось в конце концов бросить все обозы и большую часть артиллерии. А при выходе из тайги войска уже ждало новое известие: на их пути восстал гарнизон Красноярска во главе с командующим Средне-Сибирским корпусом генералом Б. М. Зиневичем.
Попав под влияние местных эсеров, Зиневич разослал по всем направлениям телеграммы о том, что он подчиняется новой «Земской» власти и «объявляет войну гражданской войне», вступил по телеграфу в переговоры с приближающимися красными частями, а Каппелю и его войскам предложил немедленно сложить оружие. Впрочем, вскоре сам генерал Зиневич был арестован собственными подчинёнными, выдан красным и расстрелян. Но своё каиново дело он совершить успел. Перед Каппелем теперь вставала уже задача не остановить красных на каком-либо рубеже, а пробиться мимо Красноярска на восток.
В первые дни восстания в Сибири летом 1918 года полковник Зиневич был ближайшим помощником А. Н. Пепеляева, а затем одним из главных героев освобождения Перми в декабре того же года. Среди подчинённых ему частей тогда отличились и Енисейские стрелковый и казачий полки, составлявшие теперь гарнизон Красноярска. Таким образом, все эти люди (как, впрочем, и сам генерал Пепеляев), вольно или невольно, собственными руками губили то дело, ради которого два года отдавали свои силы. Увы, среди всеобщего разброда и помрачения умов лишь очень немногие ясно понимали горькую истину: спастись можно только одним способом — продолжая вопреки всему сражаться до конца. И совершенно закономерно, что руководителем этих последних оставшихся верными бойцов сама жизнь выдвинула Владимира Оскаровича Каппеля.
* * *
4 января 1920 года, в тот день, когда адмирал Колчак, отрезанный от своих войск и опрометчиво доверившийся слову «союзников», подписал указ о сложении с себя звания Верховного Правителя, войска 2-й армии сосредотачивались на станции Минино перед Красноярском. Здесь же находился и поезд Штаба фронта с генералом Каппелем и его начальником Штаба генералом Богословским. На следующий день была предпринята попытка разбить восставших и пробиться через город силой, но она сорвалась. Тогда командование решило бросить всё имущество и поезда, а войскам на санях прорываться на восток севернее Красноярска. Рано утром 6 января колонна начала выдвигаться по просёлочной дороге в сторону деревни Дрокино. Но на деревенской околице шедшая в авангарде Уфимская стрелковая дивизия была внезапно обстреляна.
Как потом оказалось, деревня Дрокино была занята подошедшим авангардом регулярной Красной Армии. Его силы были слишком малы, чтобы перерезать дорогу белой колонне, но и белые стрелки находились не в том состоянии, чтобы суметь выбить красных из деревни одним решительным ударом. В результате бой вылился в многочасовую перестрелку. Вскоре прибавился ещё и обстрел со стороны Красноярска. Но две наиболее боеспособные дивизии белых, Уфимская и Камская, приняли удар на себя и, прикрывая общее отступление, дали возможность пройти всем тем, кто не хотел сдаваться.
Под перекрёстным огнём по ровному заснеженному полю между предместьями города и деревней нестройно поползли многочисленные санные обозы вперемежку с частями. В то же время огромное количество отчаявшихся солдат, иногда даже целые части, бросали оружие и шли в Красноярск сдаваться. Потери оказались огромны, по некоторым данным, после Красноярска в строю осталось меньше половины армии.
Как только завязался бой, генерал Каппель лично возглавил небольшую группу кавалеристов своего конвоя (по оценке очевидцев - не более чем в 30 человек) и с нею решил атаковать во фланг засевших в Дрокино красных. Но лошади завязли в глубоком снегу, отряд уклонился от курса, заблудился и вышел в расположение своих войск лишь поздно вечером и далеко за Красноярском, так что в течение всего дня судьба Владимира Оскаровича оставалась для его подчинённых неизвестной. Не имея, таким образом, Главнокомандующего, Штаб фронта опоздал с выходом из вагонов и вместе с начальником Штаба генералом Богословским попал в плен к красным. Руководство прорывом в этой обстановке взял на себя командующий 2-й армией генерал Войцеховский. Он до последнего момента оставался в поезде, организуя и направляя вперёд все не желавшие сдаваться части. Наконец, уже в темноте, Войцеховский лично возглавил последнюю колонну из чинов своего Штаба и с нею завершил прорыв.
В ночь на 7 января такой же прорыв повторили и части 3-й армии, которыми временно командовал бывший начальник Штаба Каппеля генерал Барышников. Благодаря решительности и инициативе начальника Ижевской дивизии генерала Молчанова, 3-я армия обошлась гораздо меньшими жертвами. Но и ей не удалось миновать своей Голгофы: ещё раньше, при выходе из тайги на линию железной дороги, часть войск оказалась отрезанной красными авангардами. Затёртые среди бесконечных обозов, некоторые полки были уже не в состоянии оказать сопротивление и сложили оружие. Эта участь постигла и ряд частей 1-го Волжского корпуса: по некоторым данным, Симбирцы погибли целиком, из 13-й Казанской дивизии вышел только её начальник генерал Ястребцов со Штабом и адъютантами, и лишь 1-я Самарская дивизия, благодаря твёрдой воле своего молодого начальника генерала Н. П. Сахарова, сумела прорваться как организованное, боеспособное соединение. Прорвалась и значительная часть Волжской кавалерийской бригады во главе с её командиром генералом Нечаевым.
7 января, в день Рождества Христова, вышедшие из красноярской катастрофы части начали собираться в селе Чистоостровском на реке Енисее. Настроение у всех было подавленное, потери ещё не подсчитали, но уже стало известно, что они превосходят всё, чтотолько можно было предполагать. Кроме того, армия оказалась окончательно отрезанной от железнодорожной магистрали, которую чехи по специальному соглашению повсеместно передавали красным партизанам. Поэтому на совещании старших начальников было решено идти дальше кружным путём - вниз по Енисею и затем по льду порожистой реки Кан. Этот тяжелейший переход, совершенный 9-10 января и ставший потом для прошедших его легендарным, полковник Вырыпаев описывает следующим образом:
«Обыкновенно зимой таёжные охотники проезжали по льду реки до первой деревни Барги, 90 вёрст от деревни Подпорожной.
Передовым частям, с которыми следовал сам Каппель, спустившимся по очень крутой и длинной, поросшей большими деревьями дороге, представилась картина ровного, толщиной в аршин, снежного покрова, лежащего на льду реки. Но под этим покровом по льду струилась вода, шедшая из незамерзающих горячих источников с соседних сопок. Ногами лошадей перемешанный с водою снег при 35-градусном морозе превращался в острые бесформенные комья, быстро становившиеся ледяными. Об эти обледеневшие бесформенные комья лошади портили себе ноги и выходили из строя. Они рвали себе надкопытные венчики, из которых струилась кровь.
В аршин и более толщины, снег был мягким, как пух, и сошедший с коня человек утопал до воды, струившейся по льду реки. Валенки быстро покрывались толстым слоем примерзшего к ним льда, отчего идти было невозможно. Поэтому продвижение было страшно медленным. А через какую-нибудь версту сзади передовых частей получалась хорошая зимняя дорога, по которой медленно, с долгими остановками, тянулась бесконечная лента бесчисленных повозок и саней, наполненных самыми разнообразными, плохо одетыми людьми.
Незамерзающие пороги реки приходилось объезжать, прокладывая дорогу в непроходимой тайге.
Через 4-5 вёрст по Кану проводники предупредили генерала Каппеля, что скоро будет большой порог, и если берега его не замёрзли, то дальше двигаться будет нельзя, вследствие высоких и заросших тайгой сопок. Каппель отправил приказание в тыл движущейся ленты, чтобы тяжёлые сани и сани с больными и ранеными временно остановить и на лёд не спускаться, чтобы не очутиться в ловушке, если порог окажется непроходимым.
При гробовой тишине пошёл снег, не перестававший почти двое суток падать крупными хлопьями; от него быстро темнело и ночь тянулась почти без конца, что удручающе действовало на психику людей, как будто оказавшихся в западне и двигавшихся вперёд полторы-две версты в час.
Идущие кое-как прямо по снегу, на остановках, как под гипнозом, сидели на снегу, в котором утопали их ноги. Валенки не пропускали воду, потому что были так проморожены, что вода при соприкосновении с ними образовывала непромокаемую ледяную кору. Но зато эта кора так тяжело намерзала, что ноги отказывались двигаться. Поэтому многие продолжали сидеть, когда нужно было идти вперёд, и, не в силах двинуться, оставались сидеть навсегда, засыпаемые хлопьями снега.
Сидя ещё на сильной, скорее упряжной, чем верховой, лошади, я подъезжал к сидящим на снегу людям, но на моё обращение к ним встать и идти некоторые ничего не отвечали, а некоторые, с трудом подняв свесившуюся голову, безнадёжно, почти шёпотом отвечали: “Сил нет, видно, придётся оставаться здесь!” И оставались, засыпаемые непрекращающимся снегопадом, превращаясь в небольшие снежные бугорки...
Генерал Каппель, жалея своего коня, часто шёл пешком, утопая в снегу так же, как другие. Обутый в бурочные сапоги, он, случайно утонув в снегу, зачерпнул воды в сапоги, никому об этом не сказав. При длительных остановках мороз делал своё дело. Генерал Каппель почти не садился в седло, чтобы как-то согреться на ходу.
Но тренированный организм спортсмена на вторые сутки стал сдавать. Всё же он сел в седло. И через некоторое время у него начался сильнейший озноб, и он стал временами терять сознание. Пришлось уложить его в сани. Он требовал везти его вперёд. Сани, попадая в мокрую кашу из снега и воды, при остановке моментально вмерзали, и не было никаких сил стронуть их с места. Генерала Каппеля, бывшего без сознания, посадили на коня, и один доброволец (фамилии его не помню), огромный и сильный детина на богатырском коне, почти на своих руках, то есть поддерживая генерала, не приходившего в себя, на третьи сутки довёз его до первого жилья, таёжной деревни Барги - первого человеческого жилья, находившегося в 90 вёрстах от деревни Подпорожной, которые мы прошли в два с половиной дня, делая в среднем не более двух с половиной вёрст в час».
В тяжелейшем состоянии Владимира Оскаровича внесли в хату. Ступни ног пришлось ампутировать, но и так он всё ещё продолжал вести войска, даже садился порой на коня, чтобы пропустить колонну и приободрить людей. При этом с обеих сторон его поддерживали двое верховых, чтобы он не упал. Однако вскоре к первой болезни прибавилось ещё и воспаление лёгких.
Между тем, сколь бы парадоксальным это ни показалось, тяжёлый поход закалил отступающих. Слабые отсеялись и погибли, а остальные разобрались по немногим оставшимся частям, всё ещё именуемым по инерции дивизиями и бригадами.
Сами части были очень невелики, обычно от ста до трёхсот человек с несколькими пулемётами на дивизию, зато при каждой были громадные санные обозы с больными, ранеными и семьями солдат и офицеров. Да и сами строевые бойцы, независимо от того, кем они считались, пехотой или кавалерией, передвигались частью на санях, а частью верхом на крестьянских лошадях, постоянно обмениваемых на свежих во всех попутных деревнях. Орудий сохранилось лишь восемь штук в Иркутском и Боткинском артиллерийских дивизионах, из них два везли на санях собранными, а другие — в разобранном виде; снарядов к ним почти не было. И эта армия проделала за четыре месяца по непролазной тайге 2 000 вёрст. Впоследствии люди, совершившие этот поход, назвали его Великим Сибирским Ледяным походом, в большинстве случаев считая его началом оставление Омска, а окончанием — выход в Забайкалье.
За Канском отходящие колонны вновь вышли на линию железной дороги. Иркутский Ревком, успевший уже уверить себя, что они не более чем толпа беглецов, не представлявшая никакой боевой силы, теперь всполошился и выставил против них сильный отряд большевика Нестерова. 30 января 1920 года в упорном бою на станции Зима этот отряд был наголову разбит частями колонны генерала Вержбицкого, а оставшиеся в живых красные партизаны поспешили сдаться чехам, чей эшелон также стоял на станции.
Но генерала Каппеля уже не было со своими бойцами, чтобы порадоваться этому успеху.
23 января в Нижнеудинске умирающий Каппель передал командование войсками своему заместителю и ближайшему помощнику С. Н. Войцеховскому. Владимир Оскарович умирал на руках своего соратника и друга ещё по волжским боям, Василия Осиповича Вырыпаева. Вот что вспоминал тот впоследствии:
«В последующие два-три дня больной генерал сильно ослабел. Всю ночь 25-го января он не приходил в сознание.
На следующую ночь наша остановка была в доме железнодорожного смотрителя. Генерал Каппель, не приходя в сознание, бредил армиями, беспокоясь за фланги, и, тяжело дыша, сказал после небольшой паузы: “Как я попался! Конец!”
Не дождавшись рассвета, я вышел из дома смотрителя к ближайшему стоявшему эшелону, в котором шла на восток вместе с чешскими войсками румынская батарея имени Марашети. Я нашёл батарейного врача К. Данец, который охотно согласился осмотреть больного и захватил нужные принадлежности. Быстро осмотрев больного генерала, он сказал: “Мы имеем один патрон в пулемёте против наступающего батальона пехоты. Что мы можем сделать?” И тут же тихо добавил: “Он умрёт через несколько часов”.
У генерала Каппеля было, по определению доктора К. Данец, двухстороннее крупозное воспаление лёгких. Одного лёгкого уже не было, а от другого оставалась небольшая часть. Больной был перенесён в батарейный лазарет-теплушку, где он через шесть часов, не приходя в сознание, умер.
Было 11 часов 50 минут 26 го января 1920 года, когда эшелон румынской батареи подходил к разъезду Утай, в 17 вёрстах от станции Ту луна в районе города Иркутска».
7 февраля Каппелевская армия, как она уже стала себя называть, подошла к Иркутску. Войска готовились к штурму города, но, узнав, что адмирал Колчак, содержавшийся в тюрьме, накануне ночью убит большевиками, Войцеховский отказался от ставшего уже бессмысленным штурма. Армия обошла Иркутск стороной, перешла по льду озеро Байкал и вышла 14 февраля 1920 года к Мысовску, где соединилась с войсками Атамана Семёнова и японцами. Всего в Забайкалье вышло около 30 000 человек, из них в строю на тот момент было не более 5 000. Но всё же они вырвались и остались живы.
Гроб с телом Каппеля войска везли с собой, и его бессменно сопровождал Вырыпаев. Смерть Главнокомандующего до поры не афишировалась, и лишь в Чите гроб открыли для прощания. Каппеля похоронили в кафедральном соборе города в самой торжественной обстановке. В ноябре 1920 года при оставлении Читы войска вновь забрали с собою дорогие для них останки любимого генерала и перезахоронили их в Харбине. Но и здесь Владимиру Оскаровичу не дано было упокоиться окончательно: в 1955 году его могила была разрушена по приказу коммунистических властей Китайской Народной Республики.
В Забайкалья в 1920 году остатки армии были переформированы во 2-й и 3-й стрелковые корпуса. При этом части бывшего 1-го Волжского армейского корпуса были сведены в Отдельную Волжскую бригаду, состоявшую из одного стрелкового и одного драгунского полков и одной батареи. Ею командовал бывший начальник 1-й Самарской стрелковой дивизии генерал Н. П. Сахаров. Эти бойцы ещё принимали участие в боях в Забайкалья, а позднее, в Приморья в 1921 году, они составили 1-й Волжский Генерала Каппеля стрелковый полк и 3-ю Волжскую Генерала Каппеля батарею, участвовали в наступлении на Хабаровск зимой 1921/1922 года под общим командованием генерала В. М. Молчанова и во всех боях вплоть до октября 1922 года, когда был эвакуирован Владивосток.
Таким образом, Каппелевцы стали последней Белой армией, покинувшей родную землю.
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ БАРОН Р. Ф. УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГ (Очерк: Андрей Кручинин)
Тринадцатого сентября 1921 года в Ново-Николаевске открылось заседание Чрезвычайного Сибирского революционного трибунала. И на судей, и на публику, наполнявшую зал, подсудимый, генерал барон Унгерн-Штернберг, - высокий, худой, с остановившимся пристальным взглядом прозрачных светлых глаз, облачённый в оранжевый заношенный монгольский халат с намертво пришитыми русскими генеральскими погонами, - производил впечатление сумасшедшего. А для него, должно быть, безумцами были они - те, кто сейчас пытался его судить, кто вверг Россию в пучину братоубийства, те, против кого он - остзейский барон, казачий офицер, монгольский князь и один из героев и вождей русского Белого движения - вёл жестокую и яростную борьбу едва ли не с первых дней охватившей державу Смуты. Как мировую болезнь переживал он всю жизнь утрату в современном обществе цельности человеческой личности, разрушение идеалов воина, аскета, подвижника, культивирование эгоизма и трусости. Именно на волне всего этого пришли к власти его нынешние судьи, начавшие с самого худшего - с предательства на войне, с превращения солдата в шкурника и дезертира, чтобы затем использовать мятущееся, деморализованное человеческое стадо как материал для своих доктринёрских экспериментов. Не сумасшествием ли это было? Но сейчас победа была за ними, и роль безумца отводилась ему, барону Унгерну. Впрочем, идеалист и мистик, он и тогда, наверное, не мог считать торжество своих врагов вечным.
* * *
Одни источники называют его Романом-Николаем, другие - Романом-Максимилианом. В принципе, для протестанта - а род Унгерн-Штернбергов принадлежал к Евангелическо-Лютеранской Церкви - возможно и то, и другое, а также тройное имя; один из сегодняшних авторов приводит и четвертую версию - «Роберт-Николай-Максимилиан», причём первое имя якобы было изменено молодым Унгерном по собственной инициативе: «Новое имя (Роман. - А. К.) ассоциировалось и с фамилией царствующего дома, и с летописными князьями, и с суровой твёрдостью древних римлян», - но к реальному человеку эти красивости вряд ли имеют какое-либо отношение. Метрическое свидетельство Р. Ф. Унгерн-Штернберга нам, к сожалению, неизвестно, но оно, так же как и свидетельство о конфирмации, прилагалось к переписке о поступлении его в Морской кадетский корпус (1902-1903 годы), в которой имя юноши неоднократно приводится полностью: «Роман Фёдорович». Было бы странным предположить, что родная мать не знала, как зовут её сына, или что прошение подкреплялось документами, которые не соответствовали бы содержащимся в нём сведениям. По крайней мере, во всех встречающихся документах, начиная с шестнадцатилетнего возраста, будущий генерал именуется «Барон Роман Унгерн-Штернберг» (частица «фон» - скорее всего следствие убеждённости литераторов и мемуаристов, что каждый барон - непременно «фон»); остановимся на этом варианте и мы, не прибегая к романическим версиям о перемене имени[6].
Обладатель его родился 18 декабря 1885 года и стал последним представителем своей ветви старинного рыцарского рода, принадлежностью к которому, как упоминают все пишущие об Унгерне, очень гордился. Первоначально Роман обучался в частном пансионе; по рассказу одного из его родственников, учёбе сильно мешали «многочисленные школьные проступки», к чему цитирующий это свидетельство писатель не упускает присовокупить: «Сказано мягко, но, угадывая в мальчике черты взрослого мужчины, каким он станет впоследствии, трудно поверить в невинность этих проказ». Впрочем, можно бы и поверить, ибо существует гораздо более адекватный источник, чем сомнительное проецирование «черт взрослого мужчины» на мальчика: в 1903-1905 годах проступки молодого барона тщательно фиксировались, и это даёт нам счастливую возможность представить себе его на основании конкретных фактов, без привлечения догадок и спекуляций.
Упомянутые записи были сделаны во время учёбы Романа в Морском кадетском корпусе. «Его мать, - пишет П. Н. Врангель, в годы Первой мировой войны бывший командиром полка, в котором служил Унгерн, - овдовев (по другим сведениям - разведясь с мужем. - А. К.) молодой, вышла вторично замуж и, по-видимому, перестала интересоваться своим сыном». Это предположение похоже на правду, тем более, что с отчимом, бароном О.Ф. Гойнингеном-Гюне, юноша не ладил, о чём сохранилась запись в аттестационной тетради кадета. 1 августа 1902 года барон Гюне обратился на имя директора корпуса с прошением о принятии пасынка «на воспитание в младший специальный класс»; Роман неплохо сдал вступительные экзамены и приказом от 5 мая 1903 года был зачислен в корпус. Уже через пять дней для него началось трёхмесячное учебное плавание.
Вряд ли Унгерн был хорошо подготовлен к службе; тем не менее новая жизнь воспринимается им, как можно предположить, с энтузиазмом, а первая аттестация, датированная 12 августа, даже начинается со слов: «Очень хороший кадет». Правда, продолжение не столь «заздравное» - «...но ленив, очень любит физические упражнения и прекрасно работает на марсе (то есть управляется с парусами, что требовало сноровки и смелости. — А. К.). Не особенно опрятен». Сильный от природы, «очень хорошего» поведения (было начато «отличи...», но не дописано - быть может, из-за единственного взыскания за курение в неположенное время и в неположенном месте), «очень исправный» по службе, он был, по оценке начальства, «мало прилежен» и «мало внимателен» лишь на учебных занятиях, однако и последнее обстоятельство почти не сказалось на полученных по итогам плавания баллах.
Но лето сменилось осенью, а по-своему увлекательное и бывшее, очевидно, в новинку для Романа плавание - серыми и однообразными учебными буднями, и в его аттестационной тетради записывается взыскание за взысканием. Впрочем, вопреки глубокомысленным и рискованным предположениям, характер проступков как раз довольно невинный: около трети записей отмечают привычку кадета залёживаться в постели 15-20 минут после сигнала побудки, другие говорят о возне с товарищами, опозданиях на занятия, курении не вовремя и проч., с соответствующими, не очень серьёзными наказаниями. Воспитанникам Морского корпуса вообще было свойственно бравирование некоторой расхлябанностью, почитаемой ими признаком настоящего «морского волка»; поведение же Романа Унгерна, несмотря на все замечания, в первом полугодии 1903/1904 учебного года стабильно оценивалось восемью баллами по двенадцатибалльной системе (удовлетворительной считалась шестёрка). И сгубили молодца не проказы, а навигация с астрономией.
Астрономия вообще была страшилищем для морских кадет; явно не давалась она и Унгерну. Другим камнем преткновения стал предмет, именуемый «Навигация и Лоция». При этом нельзя сказать, чтобы Роман был совсем неспособен к точным наукам: плохие отметки по другим предметам ему удавалось исправлять. Вообще учился кадет Унгерн довольно неровно, но всё-таки за год, не считая злополучных навигации и астрономии, средний балл его равнялся 8,3. Тем не менее постановлением учебно-воспитательного совета от 5 мая 1904 года кадет был оставлен на второй год.
Само по себе второгодничество не считалось среди кадет явлением предосудительным, но Унгерн, то ли решив, что с ним обошлись несправедливо, то ли просто обидевшись на всё мироздание, начинает вести себя вызывающе. Не исправило дела и новое летнее плавание - на кадета сыплется арест за арестом; в аттестации появляется «мало исправен», «мало прилежен», «мало внимателен», ухудшаются и оценки - по штурманскому делу его даже решено подвергнуть переэкзаменовке «в первой половине будущей кампании». Как видим, пока перспективы дальнейшего обучения кадета ещё не подвергаются большому сомнению... но «будущей кампании» уже не суждено состояться.
На сей раз дело не в учёбе. Роман дерзит и огрызается, и, разумеется, никакой преподаватель, а тем более строевой офицер с таким безобразием мириться не будет. Основной мерой наказания Унгерну становится строгий арест. Оценка по поведению за первое полугодие снижается до пяти баллов, а в первые месяцы 1905 года - до четырёх. Аттестация уже годится разве что для арестантских рот: «Весьма плохой нравственности, при низком умственном развитии; правила Корпуса не исполняет упорно, неопрятен, груб». Наконец, 8 февраля учебно-воспитательный совет выносит решение «предложить родителям кадета барона Унгерн-Штернберга, поведение которого достигло предельного балла (4) и продолжает ухудшаться, - взять его на своё попечение в двухнедельный срок, предупредив их, что если по истечении этого времени означенный кадет не будет взят, - то он будет из корпуса исключён», и уже 12 февраля Роман покидает оказавшиеся для него негостеприимными стены корпуса. Морская карьера барона Унгерн-Штернберга закончилась, так и не начавшись...
Мы остановились на обучении Романа в корпусе не только потому, что оно практически не получило освещения в литературе о нём[7], или потому, что здесь уже проявились, пусть и в начальной стадии развития, некоторые из черт, которые отмечались впоследствии как характерные для взбалмошного, своевольного и... легко уязвимого барона. 8 февраля 1905 года можно считать одним из поворотных пунктов его судьбы: вместо флотского офицера - а в Императорском Флоте традиционно служили многие представители разных ветвей рода Унгернов - Россия получила... а кого же она получила?
Вместо «попечения родителей» молодой барон Унгерн перешёл вскоре на Царское «попечение», поступив на действительную военную службу добровольцем. 10 мая он был зачислен вольноопределяющимся в 91-й пехотный Двинский полк, а уже 29-го состоялся приказ о переводе вольноопределяющегося барона Унгерн-Штернберга «на пополнение войск Наместника Дальнего Востока», и он отправился буквально «на край света», где ещё шла Русско-Японская война. 8 июня барон прибыл и был зачислен в 12-й пехотный Великолуцкий полк.
Боевых действий, впрочем, к моменту первого появления Унгерна на Дальнем Востоке не велось: войска стояли без движения, а Петербург уже изъявил принципиальное согласие на мирные переговоры. Поэтому ничем, кроме непонятного недоразумения, не могут быть объяснены утверждения барона Врангеля, будто Роман «с возникновением японской войны бросает корпус и зачисляется вольноопределяющимся в армейский пехотный полк, с которым рядовым проходит всю кампанию. Неоднократно раненый и награждённый солдатским Георгием, он возвращается в Россию...»
Не было ни ранений, ни Знака отличия Военного Ордена («солдатский Георгий»), как не было и вообще участия в сражениях, а лишь, по формулировке послужного списка, «в походах против Японии». Тем не менее, наряду с явными ошибками, в кратком рассказе Врангеля о его подчинённом имеются и чрезвычайно любопытные сведения, вполне похожие на правду. Так, стоит прислушаться к его упоминанию, что по возвращении со своей первой войны Унгерн, «устроенный родственниками в военное училище, с превеликим трудом кончает таковое», - поскольку ряд обстоятельств заставляет и впрямь заподозрить в судьбе Романа влияние протекции.
Прежде всего, вопреки ясному утверждению об отсутствии у вольноопределяющегося боевого опыта, Унгерн имел «светло-бронзовую медаль», а ею награждали, согласно Высочайшему указу, лиц, которые «участвовали в течение 1904-1905 годов в одном или нескольких сражениях против японцев на суше или на море». Не совершив, кажется, ничего выдающегося и не прослужив в строю и полугода, Унгерн 14 ноября был произведён в ефрейторы. Почти год он тянет солдатскую лямку, а 19 сентября 1906 года переводится «на службу в Павловское военное училище юнкером рядового звания». «Павлоны» выходили, как правило, в пехотные полки, однако Унгерн избрал себе иную стезю, накануне выпуска зачислившись в Забайкальское Казачье Войско «с припиской к выселку Усть-Нарынскому». Училище он закончил по второму разряду, что в общем не противоречит словам Врангеля о «превеликом труде», и 15 июня 1908 года был выпущен хорунжим в 1-й Аргунский казачий полк Забайкальского Войска.
Медаль, не соответствовавшая реальным заслугам; производство; командировка в училище не московское (Великолуцкий полк в мирное время стоял в Московском округе), а петербургское, да ещё самое почётное - Павловское; запись в послужном списке «общее образование [получил] в Морском Кадетском Корпусе» - явный результат подтасовки, ибо полтора года в младшем специальном классе вообще не давали никакого законченного образования; целенаправленное стремление из пехотного училища в казаки с припиской к одному из Войск... - всё это в самом деле слишком похоже на действие некой «руки», продвигавшей дворянского «недоросля» с неудачно складывающимся началом карьеры. Так или иначе, в конце июля 1908 года хорунжий Унгерн прибыл в Забайкалье, где впоследствии прославится его имя в самый яркий, «звёздный час» Гражданской войны.
...Читатель уже обратил внимание, как много догадок встречается при исследовании судьбы барона Унгерн-Штернберга. Мы и далее обречены идти буквально на ощупь, сопоставляя отрывочные и слишком часто недостоверные свидетельства, колеблясь между различными интерпретациями и гипотезами и, что не менее важно, то и дело вступая в полемику с высказанными ранее точками зрения. В отличие от многих Белых вождей, чьи имена сознательно или невольно замалчиваются, об Унгерне пишут сейчас относительно много, но зачастую так, что хочется предпочесть любое замалчивание. И, прощаясь с отрочеством и юностью нашего героя, в качестве иллюстрации приведём лишь одно из таких «повествований», в своей лапидарности звучащее уже просто юмористически:
«Барон закончил гимназию в Ревеле и посещал кадетскую школу в Петербурге, откуда в 1909 году его направили в казацкий корпус в Читу. В Чите барон в ходе офицерской ссоры вызвал на дуэль противника и тяжело ранил его... Из-за дуэли он был изгнан из корпуса в июле 1910 года, и с этого времени начались его одинокие странствия в сопровождении лишь одного охотничьего пса Миши. Каким-то образом он добрался до Монголии, которой суждено было стать его судьбой. Странная, пустынная, дикая, древняя и жестокая страна очаровала Унгерна...»
Ну, до Монголии-то он, положим, и в самом деле «добрался».
* * *
Впрочем, и конфликт с однополчанином действительно предшествовал первому знакомству с «древней и жестокой страной». По менее благожелательному к барону свидетельству, «необузданный от природы, вспыльчивый и неуравновешенный, к тому же любящий запивать и буйный во хмелю, Унгерн затевает ссору с одним из сослуживцев и ударяет его. Оскорблённый шашкой ранит Унгерна в голову. След от этой раны остался у Унгерна на всю жизнь, постоянно вызывая сильнейшие головные боли и несомненно периодами отражаясь на его психике. Вследствие ссоры оба офицера вынуждены были оставить полк»; по свидетельству более благожелательному - «причиной ухода из Аргунского полка послужила ссора с сотником М., со взаимными оскорблениями, за которыми последовал отказ М. от дуэли». Сходятся мнения, в общем, лишь в одном: правильно организованного поединка не было. Тем не менее дело удалось замять, ограничившись переводом барона в Амурский казачий полк; не помешал конфликт и производству его в следующий чин сотника. Службу же на новом месте Унгерн начал с экстравагантностью, которая уже становится одной из его неотъемлемых черт.
«В первый день Св[ятой] Пасхи [1910 года] барон Унгерн выехал к месту новой службы... - рассказывает современник. - Весь путь (900 в[ёрст]) он проделал верхом в сопровождении лишь своей охотничьей собаки, следуя по кратчайшему направлению чрез Б[олыной] Хинган охотничьими тропами... Барон как бы умышленно выбрал самое безлюдное направление, и поэтому добывал себе в пути пропитание исключительно охотою». Таким образом, на смену загадочным и как будто бесцельным «одиноким странствиям» выступает вполне осмысленный маршрут, рискованный и тяжёлый, но именно из-за этого ставший незаменимой школой выносливости и отличной проверкой собственных сил.
Царившая на восточной окраине «глубокая тишина» угнетала Унгерна. Отдушиной показались ему события на рубежах добивавшейся независимости от Китая Халхи (Внешней Монголии). Войска центрального Халхасского правительства летом 1912 года вели успешные боевые действия на западе, под городом Кобдо, но Китай не оставлял надежд вернуть себе Кобдоский округ, и для противодействия этому Россия, усиливавшая свои позиции в Монголии, вынуждена была подкреплять их вводом воинских контингентов. Следивший по газетам за происходившими событиями Унгерн попытался вернуться на службу в Забайкальское Войско, откуда были перспективы попасть в Монголию, когда же это ему не удалось - подал рапорт об отставке и отправился в Кобдо как частное лицо, в одиночку, сопровождаемый лишь сменными проводниками из местных монголов.
«Русский офицер, скачущий с Амура через всю Монголию, не имеющий при себе ни постели, ни запасной одежды, ни продовольствия, производил необычное впечатление», - вспоминал о нём много лет спустя попутчик, отметивший также, что Унгерн, стремясь поскорее попасть в Кобдо, всё время немилосердно хлестал нагайкой проводников, требуя гнать коней вскачь. Со всей искренностью барон говорил тогда, «что 18 поколений его предков погибли в боях, на его долю должен выпасть тот же удел». Но сроки ещё не подошли. На «кобдоскую» войну он попросту опоздал так же, как и на Японскую, - военная демонстрация России предотвратила китайскую угрозу этой области, и стремившийся воевать офицер-авантюрист на фоне зыбкого политического равновесия в регионе отнюдь не был желательной фигурой, так что ввязываться в монголо-китайские свары Унгерну запретили. Присутствие в этих новых для него краях барон стремится использовать для знакомства как с природой, так и с местными племенами, их нравами и верованиями.
В качестве главного результата этого знакомства обычно называется принятие Унгерном буддизма в его монголо-тибетской, ламаистской разновидности; однако, по пристальном рассмотрении, все рассказы об этом вызывают большие сомнения. Прежде всего отметим трудности чисто технические - барон в это время совершенно не владел монгольским языком, зная лишь отдельные слова и пытаясь наскоро чему-то научиться буквально на ходу. Таким образом, свои представления о ламаизме Унгерн должен был бы почерпнуть из литературы (неизвестно, насколько высокого уровня) или бесед с русскими торговцами и скотопромышленниками, жившими в Монголии. Семь лет спустя он всё ещё будет спрашивать случайного знакомого, одного из русских обитателей монгольской столицы - Урги: «Я слышал, что вы занимаетесь буддизмом... Не сообщите ли чего-либо интересного в этом отношении? Очень этим интересуюсь...» - что как будто не говорит о сколько-нибудь глубоком знакомстве с восточной философией.
Непонятным выглядит и само обращение к буддизму. Действительно, чем могла религия, проповедующая тщетность земных усилий, отрешение от всего мирского, пассивное и равнодушное к окружающему «самосовершенствование» во имя будущего растворения в безымянной и безликой «нирване», - прельстить барона Унгерна, вся жизнь которого была исполнена активной деятельности, проникнута духом целеустремлённости, направлена на изменение господствующего миропорядка и борьбу со злом, каким его видел потомок рыцарей? Барон никогда не был и вряд ли мог быть «созерцателем», так что, вопреки общепринятой версии, приходится говорить о его европейском мировосприятии, чуждом восточной религиозно-философской традиции.
Конечно, экзотика центральноазиатских просторов и пряный аромат чужой культуры должны были оказать своё влияние на впечатлительного офицера. Но рискнём предположить, что исходил Унгерн вовсе не из религиозных мотивов, обращая своё внимание не на доктрину, а на живых людей. «Барон был твёрдо убеждён, - вспоминает о нём Атаман Г. М. Семёнов, - что Бог есть источник чистого разума, высших познаний и Начало всех начал. Не во вражде и спорах мы должны познавать Его, а в гармонии наших стремлений к Его светоносному источнику. Спор между людьми, как служителями религий, так и сторонниками того или иного культа, не имеет ни смысла, ни оправданий, ибо велика была бы дерзновенность тех, кто осмелился бы утверждать, что только ему открыто точное представление о Боге. Бог - вне доступности познаний и представлений о Нём человеческого разума». Эти взгляды уже носят известный отпечаток скептицизма, к концу XX века сыгравшего столь разрушительную роль; но мятущаяся душа барона Унгерна, взыскуя Бога, столь часто забываемого в современном мире («Бога нужно чувствовать сердцем», - говорил этот суровый и жестокий воин), искала и мирской идеал, воплощённый для него в Средних веках с их предельным, иногда экстатическим напряжением духа. Готовому воскресить эпоху Крестовых походов Унгерну был невыносим овладевающий Европой материализм и пошлость буржуазности, и - готовый к самообману идеалист - он слишком хотел увидеть в избиваемых им же самим проводниках-монголах подлинных потомков бесстрашных воинов Чингис-Хана...
Воспринимая таким образом монголов, барон Унгерн естественно должен был стремиться понять и религию, фанатично исповедуемую этим «народом конников», но о переходе в новое вероисповедание не могло быть и речи. Прислушаемся к свидетельству Атамана Семёнова: «Вероотступничество особенно порицалось покойным Романом Фёдоровичем, но не потому, однако, что с переходом в другую религию человек отрекается от истинного Бога, ибо каждая религия по своему разумению служит и прославляет истинного Бога». В смене религии, очевидно, он видел прежде всего предательство, а вряд ли что-нибудь могло быть хуже по рыцарскому кодексу чести, чем несохранение верности. Он всё-таки был рыцарем, и не случайно в 1921 году один из собеседников увидел в бароне что-то «от Ламанческого рыцаря Печального образа в те паскудные времена, когда рыцарством и не пахло». Высокий, худой и нескладный Унгерн и внешне напоминал Дон Кихота и, как и герой Сервантеса, абсолютно не умея разбираться в людях, был обречён на жестокие ошибки и горькие разочарования. Ошибся он и в монголах, не разглядев в них отсутствия столь желанной ему воинственной непреклонности, и в ламаизме, так никогда и не уяснив содержание этого вероисповедания.
Но все разочарования ещё впереди, а пока Унгерна ждёт его первая настоящая война, которая увлечёт барона за тысячи вёрст от полюбившейся ему Монголии.
* * *
Об Унгерне писали не только воспоминания и исследования, порою похожие на романы, но и романы, нередко не более фантастические, чем иные исследования. Так, в беллетристике возник и затем с подкупающей серьёзностью был повторен в одной из статей эпизод, якобы предшествовавший в биографии барона началу войны, которую сразу же окрестили тогда «Великой»:
«...Унгерн посетил Европу: Австрию, Германию, Францию. В Париже он встретил и полюбил даму своего сердца, Даниэллу. Это было в преддверии первой мировой войны. Верный своему долгу, по призыву царя барон вынужден был вернуться в Россию, чтобы занять своё место в рядах императорской армии. На родину Унгерн отправился вместе со своей возлюбленной, Даниэллой. Но в Германии ему угрожал арест как вражескому офицеру. Барон предпринял поэтому чрезвычайно рискованное путешествие на баркасе через всё Балтийское море. Однажды в бурю маленькое судно потерпело крушение, и его возлюбленная погибла. Самому ему удалось спастись лишь чудом. С тех пор барон никогда уже не был таким, как прежде...»
Конечно, это не более чем легенда. В зрелом возрасте Унгерн вообще не покидал России (Китай и Монголия вряд ли воспринимались им как заграница), но такая несообразность, разумеется, не могла остановить беллетриста. Аскетизм и мрачную замкнутость барона казалось легче всего объяснить личной драмой, так же, как его прославленную впоследствии жестокость - мифической гибелью в годы Смуты «его жены и ребёнка». На самом же деле о личной жизни, привязанности и увлечениях Унгерна, если они и были, никаких сведений нет; знавшие его люди лишь единодушно отмечают «поразительную застенчивость и даже дикость» и стеснительность барона, неуютно чувствовавшего себя в светском обществе, к которому он не имел ни привычки, ни тяготения («безумно смелый человек, он страшно стеснялся дам»).
Иногда для современников это «дикарство» казалось гипертрофированным и заставляло подозревать глубинные, принципиальные основы: «Барон искренне считал женщину злым началом в мире», - читаем мы в одной из эмигрантских работ об Унгерне, однако иллюстрирующий это утверждение пример из эпохи командования им дивизией на Гражданской войне («Р[оман] Фёдорович], например, неизменно увеличивал меру взыскания каждому провинившемуся, если только женщина ходатайствовала за него») в сущности перестаёт выглядеть доказательством, стоит лишь воспринять его без поисков подтекста. Там, где решаются вопросы воинской дисциплины, женскому влиянию не место, - наверное, рассуждал генерал Унгерн и во многом был прав. С подобной же точки зрения - на войне рыцарь должен отдавать ей всего себя - объяснима и другая причуда барона: «...Кто подавал рапорт или докладную о желании вступить в законный брак, отправлялся на гауптвахту до получения просьбы о возвращении рапорта» (причём правило это отнюдь не было всеобщим).
Основную роль, должно быть, здесь играли повышенные требования, предъявляемые к людям идеалистом Унгерном, и правдоподобным выглядит приводимый одним из мемуаристов его монолог, якобы обращённый к застигнутым «с поличным» участницам офицерской пирушки: «А вы, сударыни?.. Вас не касается гибель русского народа?.. Вам это безразлично? Вам нет никакого дела до ваших мужей, которые, быть может, уже лежат на фронте, сражённые пулей... Нет! Вы не женщины! Знайте, что ещё один раз, и вы будете повешены!..» Роману Фёдоровичу и вправду могло казаться, что в суровую годину всякая жизнь должна замереть, подчиняясь лишь законам борьбы или по крайней мере сопереживая ей «всем сердцем и всем помышлением». Показателен и ещё один вариант той же реплики (по другому изданию мемуаров): «Я глубоко почитаю настоящих женщин, их чувства сильней и глубже, чем у мужчин, - но вы не женщины!..» Идеальный образ, который, возможно, носил в душе Унгерн, трудно воплощался в жизнь, а сам он, наверное, был при этом просто обречён на одиночество, столь не устраивающее заботливых романистов...
Но все приведённые выше свидетельства и рассуждения, за исключением душераздирающей истории о «Даниэлле», относятся к значительно более позднему периоду; и если многое могло быть передумано Унгерном во время его странствий или почерпнуто из книг, то окончательную шлифовку представления барона об облике подлинного воина и необходимой для его служения аскезе должны были пройти на полях настоящих сражений, куда он устремился с готовностью и энтузиазмом.
В запас он был зачислен по Забайкальскому Казачьему Войску, но ждать, пока будут переброшены с восточной окраины Забайкальцы, не хотелось. Вернувшийся в строй на второй день мобилизации, сотник Унгерн прикомандировался к 34-му Донскому казачьему полку и уже в начале третьего месяца Великой войны совершил в рядах Донцов подвиг, принёсший ему первую и самую почётную боевую награду - орден Святого Георгия IV-й степени за то, что, «находясь у ф[ольварка] Подборек, в 400-500 шагах от окопов противника, под действительным ружейным и артиллерийским огнём, давал точные и верные сведения о местонахождении неприятеля и его передвижениях, вследствие чего были приняты меры, повлёкшие успех последующих действий».
Орденом Унгерн справедливо гордился, но рассказывать об обстоятельствах его получения не любил, на расспросы досадливо отмахиваясь: «Ведь ты там не был и с обстановкой не знаком». Обычная для барона замкнутость стала основанием для очередной легенды, будто он вообще «самым тщательным образом избегал каких бы то ни было представлений к наградам». На самом деле в течение мировой войны Унгерн получил ордена Святого Станислава III-й и II-й степеней, Святой Анны IV-й и III-й степеней и Святого Владимира IV-й степени - все боевые. Не обошли его и ранения - пять, после двух из которых он оставался в строю, а после остальных - «возвращался в полк с незалеченными ранами и, несмотря на это, нёс безукоризненно боевую службу»; долгое пребывание в тылу для него казалось вообще невыносимым.
5 декабря 1914 года барон был переведён в 1-й Нерчинский казачий полк Забайкальского Войска. Похоже, что здесь он тоже оказался «на особом положении», коль скоро сослуживцы «шутили, что полковой командир, заслышав его голос, прятался под стол, зная заранее, что он опять предложит какой-нибудь сумасшедший план, и не представляя, как от него отделаться». И уж не барон ли Врангель, будущий вождь Белого Крыма, фигурировал в этом анекдоте?
Совместная служба двух баронов, правда, началась позже: полковник Врангель был назначен командиром Нерчинского полка 8 октября 1915 года, через десять дней после того, как Унгерн перевёлся в формировавшийся поручиком Л. Н. Пуниным «Конный отряд особой важности при Штабе Северного фронта», - но отпечаток в памяти полкового командира она оставила глубокий. Недаром в своих воспоминаниях барон Пётр Николаевич даёт столь яркий портрет барона Романа Фёдоровича, что аналогов ему во всей книге просто нет, а стиль изложения на этих страницах напрочь теряет присущую Врангелю суховатую сдержанность:
«Среднего роста, блондин, с длинными, опущенными по углам рта рыжеватыми усами, худой и измождённый с виду, но железного здоровья и энергии, он живёт войной. Это не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только совершенно не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против внешней дисциплины и против воинского воспитания, - это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн-Рида. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу, среди казаков сотни, ест из общего котла и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека, совершенно от них отрешившегося. Тщетно пытался я пробудить в нём сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик.
В нём были какие-то странные противоречия: несомненный, оригинальный и острый ум, и рядом с этим поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор, поразительная застенчивость и даже дикость и, рядом с этим, безумный порыв и необузданная вспыльчивость, не знающая пределов расточительность и удивительное отсутствие самых элементарных требований комфорта...»
Немного неожиданно звучащую здесь «расточительность», очевидно, следует понимать как траты Унгерном личных денег на улучшение быта подчинённых. Барон не делал различия между своими деньгами и хозяйственными суммами своей сотни отнюдь не в том смысле, который обычно вкладывается в эти слова, и, похоже, считал собственный карман - тоже казённым достоянием. Таким мы увидим его и на Гражданской войне; тогда же повторится - в больших масштабах, как в увеличительном стекле, — и манера ведения боевых действий, которая была свойственна сотнику Унгерну, ещё не выросшему в генерала, и бои Азиатской конной дивизии где-нибудь под Троицкосавском будут разыгрываться едва ли не точно по тому же сценарию, что и разведка сотни партизан у местечка Бледенск: тактическая небрежность, грозящая посадить весь отряд в мешок; безумная смелость, опрокидывающая расчёты противника вместе с ним самим; яростное пренебрежение всеми обстоятельствами, а из всех вариантов манёвра инстинктивный и оттого незамедлительный выбор — всегда идти на прорыв, на «ура», лицом к лицу с врагом; и черта, которая станет для Унгерна роковой: переоценка сил своих подчинённых (из описания боя: «Сотник повернул опять на восток, и уже люди, задыхаясь от бега, не могли перейти в контратаку...»). Барон уже не прежний своенравный юноша, медлящий вылезать из постели по побудке в Морском корпусе, - опыт одиноких скитаний укрепил и закалил его, а былое своеволие превратилось в железную волю, придающую силы даже измотанному организму. «Двужильный» Унгерн отныне и навсегда выносливее своих солдат, и непонимание этого будет впоследствии стоить ему жизни.
Но это произойдёт не скоро. Мировая война продолжается, и в безумных метаниях сотника его боевым товарищам невозможно разглядеть будущего генерала, бросающего в атаку полки с той же лёгкостью, что и взводы.
Не ужившись и в партизанском отряде, он уже в апреле 1916 года возвращается в Нерчинский полк, получает там Высочайшие приказы о производстве в подъесаулы и есаулы за боевые отличия и сразу вслед за этим преподносит своему несчастному командиру новый подарок, в ноябре угодив под следствие и военный суд за избиение комендантского адъютанта в тыловых Черновицах. Прапорщик, за отсутствием мест отказавшийся выписать удостоверение на получение номера в гостинице, в сущности, просто попался под горячую руку подвыпившему барону, который вдобавок с кем-то его перепутал. Под боевой клич «кому тут морду бить?!» Унгерн легко обратил адъютанта в бегство и в пылу погони ударил его ножнами шашки по голове. «Я страшно сожалею, что оскорбил не того адъютанта, который отличается своим некорректным отношением к офицерам, а другого, и вообще сожалею о случившемся», - по-видимому, искренне будет объяснять барон, но чистосердечное раскаяние от наказания его не избавит. Впрочем, наказание окажется достаточно мягким (подействовали аттестации командира полка - «офицер, выдающийся во всех отношениях, беззаветно храбр, рыцарски благороден и честен, по выдающимся способностям заслуживает всякого выдвижения», - и начальника дивизии - «лично преклоняюсь перед ним как пред образцом служаки Царю и Родине»): всего лишь двухмесячный арест.
Начавшийся после Февральского переворота развал Российской Армии барон наблюдает уже на Кавказском фронте, куда переводится, быть может, вместе с однополчанином и приятелем, есаулом Г. М. Семёновым - будущим знаменитым Атаманом. Новые условия побуждают к поискам и новых путей восстановления боеспособности фронта, и Семёнов выдвигает идею монгольско-бурятских конных добровольческих формирований; однако Унгерн, вопреки всему, что мы привыкли слышать о его любви к монголам, остался к этому проекту равнодушен и «взял на себя организацию добровольческой дружины из местных жителей - айсоров[8]».
Этим «айсорским («ассирийским») проектом» если и не опровергаются, то по крайней мере серьёзно подрываются все утверждения об особом отношении барона к монголам и их религии. Разрозненные горные племена Северо-Западной Персии и Турецкого Курдистана не только исповедовали несторианство (еретическое учение, в V веке отколовшееся от Православия), но и относились к семитам, что, согласно всем навязанным нам стереотипам, должно было оказаться для Унгерна совсем уж неприемлемым. В действительности же он охотно берётся за дело, и, по свидетельству Атамана Семёнова, вскоре «дружины эти, под начальством беззаветно храброго войскового старшины[9] барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга, показали себя блестяще». Непривычные к регулярному строю (один из офицеров «ассирийских войск», не обинуясь, именовал впоследствии своих подопечных попросту бандами), в значительной части - выходцы из горных районов, айсоры были пригодны лишь для партизанских операций; Унгерн же не только любил, но в каком-то смысле и умел воевать только таким образом, и охотно выбрал айсоров, вместо «жёлтых буддистских орд» становясь во главе «семитских несторианских банд»...
Но, убедившись в тщетности попыток оздоровления разложившихся войск и, возможно, получив от Семёнова известия о том, что в Забайкалье заваривается нечто более интересное, барон в конце ноября 1917 года уже оказывается в семёновском отряде на станции Даурия, попав к самому началу открытого противоборства. «Этот тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты, - писал через несколько лет о нём барон Врангель. - В течение этой смуты он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны, и с прекращением смуты он так же неизбежно должен был исчезнуть». Не менее правдоподобно звучало бы и утверждение, что сама «смута» просто не могла бы прекратиться, пока «Даурский Барон» ещё оставался на исторической сцене; и неоспоримо, что для этого сильного, цельного и фанатичного в своих убеждениях человека начинавшаяся борьба в случае поражения не могла бы окончиться иначе, как гибелью.
Представить его «на покое» с этих пор уже невозможно.
* * *
Список первых семи «семёновцев», пошедших за молодым есаулом против, казалось, всей обезумевшей России, по праву открывает имя барона Унгерна, и оно же приобретает известность, начиная с первых операций крохотного отряда по разоружению запасных полков и ополченских дружин в полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги.
По-видимому, в начале января 1918 года Унгерн был назначен комендантом станции Хайл ар, на этом посту занимаясь не только разоружением и изгнанием большевизированных войск, но и формированием на их месте полков из представителей двух монгольских племён - баргутов и харачинов. Усиливаясь за их счёт, Семёнов предпринимает попытку взять под свой контроль и всю Баргу - населённую преимущественно монголами западную часть Маньчжурии, административным центром которой и был Хайл ар. Позднее это подавалось как стремление «очистить от большевиков свой тыл», однако скорее речь шла о восстановлении русского влияния в значительной части Цицикарской провинции Китая. Поэтому столкнуться Унгерну пришлось с китайскими властями, тем более обеспокоенными, что руководимые русским офицером баргуты были подданными Китайской Республики. Попытка не удалась, и базой семёновского отряда по-прежнему продолжал оставаться отрезок железной дороги от Даурии (одна из последних станций на русской территории) до Хайлара.
В первых попытках наступления Семёнова на Читу в январе - марте 1918 года Унгерн участия не принимал, формируя пополнения и ведя оживлённые переговоры и переписку с самыми различными силами, готовыми стать под русские знамёна. При этом он не брезгует не только дикими монгольскими родами и дезертирами из китайской армии, но и откровенными разбойниками-хунхузами. С идеальной точки зрения это может выглядеть нечистоплотным и безнравственным, но горстке русских офицеров приходилось считаться с реальной политической обстановкой: любой хунхуз, не завербованный ими, не просто грозил обратиться в первобытное состояние, разрушая тылы и нападая на коммуникации во имя банального грабежа, но мог и объявиться «интернационалистом» в лагере их противников, поскольку большевики вообще охотно принимали к себе национальные подразделения, щедро оплачивая их службу награбленным русским достоянием. Тем же духом «реальной политики» веет и от рекомендации Унгерна Атаману, отдающей некоторым цинизмом: «Вообще моё частное мнение, что именно надо стремиться, чтобы китайские войска на Твоей службе воевали с большевиками, а Манжуры и Харчины[10] и Баргуты с Китаем». Такие рассуждения заставляют вспомнить основополагающий колониальный принцип «разделяй и властвуй», и сходство здесь, кажется, не только внешнее.
В гипотезах относительно психологии барона Унгерн-Штернберга и его внутреннего мира обычно перебирается ряд вариантов - от «евразийца» до «панмонголиста», - несмотря на своё видимое многообразие в сущности сводимых к предположению, что он полностью отрешился от культуры, в которой был воспитан и вырос, и «порвал связь с создавшей его Европой», «делаясь действительным членом в семье народов... мистически влекущей его Азии». На самом же деле тип, который кажется нам наиболее подходящим для описания личности барона, - это тип колониального или, в русских условиях, окраинного служаки, включающий в себя как героев Купера или Киплинга, так и наших «кавказцев», «туркестанцев», «заамурцев»... Сжившиеся с краем, куда забросила их судьба, но отнюдь не натурализовавшиеся в нём, перенявшие многие из местных методов ведения войны и отлично умеющие применяться к условиям природы и нравам населения и противника, но не перестающие быть офицерами своей армии и подданными своей короны, с пониманием и не без симпатии, иногда чрезмерной, относящиеся к «туземцам», - все они всё равно осознают себя европейцами, несмотря на то, что многое в них шокировало бы иного европейца. В нашем случае различие состоит в том, что литература среди прочих черт приписывает этим персонажам неизменные добродушие и гуманность, и впрямь трудно сочетающиеся с образом барона Унгерна, уважение к которому в многочисленных рассказах соседствует с неизменным страхом.
Эта страшная слава укрепляется ещё более после вступления «семёновцев» в Забайкалье в сентябре 1918 года. Об участии Унгерна в летних боях ничего не известно, а IV-й степени «Ордена Святого Георгия образца, установленного для Особого Маньчжурского Отряда», - награды, как явствует из самого названия, боевой, - он был удостоен «за то, что, командуя взводом, в январе 1918 г. разоружил Хайларский гарнизон в составе батальона». В дальнейшем же, помимо разовых поручений, самым неожиданным из которых стало назначение «заведующим и руководителем работ по добыче золота» на Нерчинских приисках, барон по-прежнему остаётся привязанным к железной дороге: вверенный ему двухсотвёрстный участок лишь «перемещается» теперь из полосы отчуждения на русскую территорию, простираясь от станции Оловянной до границы и имея «административным центром» Даурию, по которой и сам Унгерн, произведённый Атаманом в полковники, а к концу 1918 года и в генерал-майоры, получает прозвище «Даурского Барона».
* * *
Даурия была последней относительно крупной станцией перед границей, и таким её географическим положением определялись «таможенные» функции, взятые на себя бароном и навлёкшие на него многочисленные обвинения в грабежах и расправах. Того, что Унгерн творил суд скорый и немилостивый, не отрицал и единственный, наверное, из его подчинённых, кто оставил уравновешенные и информативные воспоминания - полковник В. И. Шайдицкий, при перечислении чинов немногочисленного унгерновского штаба упомянувший и такого: «Генерал-Майор Императорского производства, окончивший Военно-Юридич[ескую] Академию, представлявший из себя военно-судебную часть штаба дивизии в единственном числе и существующий специально для оформления расстрелов всех уличённых в симпатии к большевикам, лиц, увозящих казённое имущество и казённые суммы денег под видом своей собственности, драпающих дезертиров, всякого толка “сицилистов”, - все они покрыли сопки к северу от станции, составив ничтожный процент от той массы, которой удалось благополучно проскочить через Даурию - наводящую ужас уже от Омска на всех тех, кто мыслями и сердцем не воспринимал чистоту Белой идеи». И хотя упоминание о «чистоте идеи» в таком контексте звучит едва ли не кощунственно... для лучшего понимания ситуации следует присмотреться к ней пристальнее.
О том, что тыл Белых Армий представлял собою настоящую язву, написано немало и убедительно авторами из обоих противоборствующих лагерей. Белые вожди, все силы и внимание отдававшие фронту, слишком часто упускали из виду необходимость нормализации жизни на освобождённых территориях, а попытки проведения либеральной экономической политики порождали в развращённом безвременьем «мирном» населении чудовищную спекуляцию. При этом безопасная полоса отчуждения КВЖД становилась землёй обетованной для стремящихся вывозить из разорённой России заграницу товары или уносить ноги самим. И препятствием на пути к этому как раз и была Даурия.
Большинство свидетельств о «грабежах и убийствах», чинимых Унгерном, носят голословный или, как в цитированных воспоминаниях Шайдицкого, слишком обобщённый характер. Когда же речь заходит о конкретных примерах - весьма немногочисленных, - лишь близость к описываемому мешает самим авторам увидеть всю двусмысленность предъявляемых ими барону обвинений. Пострадавшие нередко оказываются и в самом деле виновными в преступных действиях, и вопрос мог стоять лишь о соответствии вины - последовавшей за нею каре: вполне вероятно, что здесь проявлялась излишняя жестокость Унгерна. Презрение к тем, кто устраивал своё личное благополучие за спиной умирающих на фронте героев, принимало у «Даурского Барона» гипертрофированные размеры, перерастая в ненависть, и не случаен рассказанный полковником Шайдицким эпизод: «На путях стоял длинный эшелон из вагонов 1-го класса и международного общества, задержанный Бароном до отправки своих частей... Ко мне подошёл Барон и спросил: “Шайдицкий, стрихнин есть?” (всех офицеров он называл исключительно по фамилии, никогда не присоединяя чина). - “Никак нет, В[аше] Превосходительство]!” - “Жаль, надо их всех отравить”. В эшелоне ехали высокие чины разных ведомств с семьями из Омска прямо за границу».
Никого Унгерн тогда, конечно, не отравил, но подобные мимоходом брошенные реплики попадали на подготовленную почву, порождая жуткие слухи о творящемся в Даурии. Что же касается реквизированных драгоценностей и товаров, то никто не осмелился приписывать какой бы то ни было личной заинтересованности в этом барону, который, отправляясь в поход, даже обстановку своей квартиры сдал под расписку как «собственность Азиатской Конной дивизии». Реквизированное продавалось, то есть шла как будто та же спекуляция, с той лишь разницею, что доходы обращались на содержание подчинённых Унгерну войсковых частей, о которых и недоброжелатель был вынужден сказать: «Будьте покойны: у барона люди не будут голодны и раздеты, вы такими их не увидите». Обеспечивал Роман Фёдорович и работу железной дороги, персоналу которой на «своём» участке установил выплату жалования в золотой монете, так же, как и всем воинским чинам.
В то же время, конечно, не все подчинённые барона были такими же бессребренниками, как он сам, и торговые операции с реквизированной «добычей» давали немало возможностей для личного обогащения, тем более что отчётности, в том числе и денежной, Унгерн не любил. Но те, кто обманывал доверие генерала, подвергались жестокому наказанию, и печальные примеры офицера-казнокрада, умершего под палками, или интенданта, закупившего недоброкачественный фураж и заставленного в присутствии барона съесть всю пробу сена, непригодного для лошадей, - должны были остановить и заставить задуматься их возможных последователей.
Принятая в войсках Унгерна система наказаний стада другой излюбленной темой россказней о «кровавом бароне». Многое в них преувеличивалось, хотя понятие «палочной дисциплины» было для его подчинённых отнюдь не отвлечённым и не образным. «Вы считаете, что было [бы] хорошо восстановить эту систему всюду?» - передаёт диалог с Унгерном «общественный обвинитель» ново-николаевского процесса. - «Хорошо». - «И по отношению к офицерам?» — «То же самое». - «Значит, вы считаете, что дисциплина, которая была в войсках при Павле, при Николае I, - это правильно?» - «Правильно».
Отметим здесь принципиальное непонимание «собеседниками» друг друга: если для коммунистического прокурора Императоры Павел и Николай - это пугала, сами имена которых являются отталкивающими ярлыками, то для русского офицера с ними связаны воспоминания о славных боевых страницах, которым отнюдь не мешали павловские (и суворовские, о чём есть упоминание в «Науке побеждать»!) палки и николаевские шпицрутены. За коммунистом стоит отвлечённая идея, в теории ужасающаяся телесным наказаниям, но допускающая децимации[11] и систему заложников; за офицером же - взгляд на всемирную военную практику, лишь в начале XX века отказавшуюся от этих наказаний.
Упоминают мемуаристы и о манере Унгерна загонять провинившихся на крыши домов, однако эта мера, при всей своей необычности, не выглядит простым самодурством. «Зимой, - рассказывает современник, - барон не сажал на губу[12]: арестованный, одетый в тёплую доху, выпроваживался на крышу, и там, особенно в пургу, судорожно цеплялся за печную трубу, чтобы не быть сдутым с 20-метровой высоты на чуть припорошённую снегом промерзшую даурскую землю. Трое суток такого сидения превращали в образцовых солдат самых распущенных и недисциплинированных людей». И неудивительно, что мемуарист, бывший в 1920 году юнкером, вспоминал, как его однокашники «как только где-либо усматривали барона, так опрометью кидались в броневую коробку[13], закрывали дверь и через бойницы следили, куда продвигается опасность».
В то же время жестокость генерала, стремившегося передать всем своё убеждение, что за проступки человек должен отвечать по самому большому счету, не порождала среди унгерновцев ненависти к своему начальнику. «Зверства, какие творил барон, посильнее семёновских, - писал один из его резких и вряд ли справедливых недоброжелателей, - но всё-таки, когда барон уходил из Даурии, за ним пошли почти все, а он насильно никого не тянул; кто хочет, пусть идёт, а кто хочет, ради Бога, оставайся. И за бароном пойдут, потому что барон никогда не бросит, барон умеет и знает, когда нужно поддержать».
* * *
Поддержание дисциплины и внутреннего порядка не могло не выдвигаться на первый план в соединениях Унгерна, постоянно подвергавшихся реорганизациям: лишь в середине 1919 года за ними закрепляется окончательное название Азиатской дивизии.
Её подразделения и части с осени 1918 до конца лета 1920 года были распределены вдоль железной дороги, помимо охраны пути принимая участие в экспедициях против красных партизан. Но основной оставалась всё-таки гарнизонная служба.
Сама Даурия была превращена бароном в укреплённый район. «В казармах, стоявших по краям городка, были замурованы кирпичом все окна и двери нижнего этажа, и попасть наверх можно было только по приставной лестнице, - рассказывает очевидец. - Часть крыши с них была снята, и там стояли орудия образца 1877 года. На форту № 6 был верх возможной техники: крепостной прожектор»; «в верхнем этаже и на крыше, - дополняет другой, - установлены пулемёты, большое количество гранат, патронов, одна пушка и прожектор на форт. Гарнизон не покидал своего форта, сообщение с землёй было по лестнице, спускаемой с крыши».
Вовсе не экзотические особенности даурского быта побудили нас обратить особое внимание на устройство этих фортов. Вопреки всем рассказам о его ненормальности, барон Унгерн ничего не делал «просто так», и раз он укреплял свою ставку именно таким образом - значит, имел на это причины. И даже беглый взгляд на его оборонительную систему заставляет задаться вопросом, а от кого же он собирался обороняться?
Сразу же следует отбросить беллетристические рассуждения о страхе, якобы терзавшем «Даурского Барона», как это «по штату» полагается всем литературным тиранам: о каких-либо специальных мерах предосторожности, предпринимаемых им для обеспечения собственной безопасности, ничего не известно ни до, ни после, ни в Хайларе, ни в Урге. Не могут иметь под собою почвы и предположения о готовящемся столкновении с «колчаковскими» белогвардейцами, поскольку раздуваемое недоброжелателями «противостояние» Семёнова (и, следовательно, его подчинённого Унгерна) Колчаку в действительности никогда не принимало столь крайних форм.
Красные партизаны? Но Азиатская дивизия неизменно обращала их вспять, ни одного налёта на Даурию не зафиксировано, а от других станций они отражались и без столь капитальных укреплений. Очевидно, что даурские форты устраивались в расчёте на столкновение с каким-то более серьёзным и технически оснащённым противником, чьего наступления следовало ожидать как раз вдоль железной дороги. И вот тут-то и уместно вспомнись, что менее чем в пятидесяти вёрстах от Даурии лежала русско-китайская граница.
Основания для опасений и подготовки вооружённого отпора были: после распада Российской Империи и нарушения равновесия на Дальнем Востоке китайская угроза отнюдь не выглядела чем- либо нереальным. Ещё в мае планировался ввод китайских войск на станцию Даурия, в октябре их канонерские лодки вошли в Амур, а между этими двумя попытками агрессии разыгрался вооружённый инцидент в той же Даурии.
По поступившим в контрразведку сведениям, считавшийся до этого союзником князь монголов-харачинов Фушенга был подкуплен китайцами и намеревался, вырезав русских офицеров Азиатской дивизии, разоружить входившую в её состав Бурятскую бригаду. Выступление было предупреждено, в ходе разыгравшегося 3 сентября боя Фушенга и его приближённые поплатились жизнью за своё предательство, а харачинов разоружили и вывели из Даурии, при чём отличились бурятские полки Унгерна и стоявший на станции семёновский бронепоезд.
В качестве подлинных причин расправы называют как провокацию омской контрразведки, так и происки контрразведки читинской, с чего-то вдруг решившей избавиться от союзника. Но реально были заинтересованы нанести удар даже не по монгольским марионеткам Семёнова, а по их русским покровителям, как раз китайские власти. И если не подвергать сомнениям информацию о заговоре Фушенги, - закономерно возникает вопрос, где же произошла её утечка. Возможностей было, наверное, немало; однако стоит обратить внимание на одну, тем более, что в момент инцидента с харачинами и Семёнов, и Унгерн находились в полосе отчуждения КВЖД, а за этим могла скрываться необходимость проведения переговоров с лицами более высокопоставленными, чем какой-либо безымянный информатор. Так нет ли на тогдашней сцене «Трёх Северо-Восточных провинций» Китайской Республики, управлявшихся Генерал-Инспектором Чжан Цзо-Лином, подходящей фигуры на роль тайного, - а может быть, и не очень тайного - союзника или даже агента Унгерна?
На наш взгляд, такой человек есть. Генерал Чжан Куй-У[14], бывший одним из помощников китайского Главнокомандующего в полосе отчуждения и имевший ставку в Хайларе, зарекомендовал себя другом и доброжелателем Атамана Семёнова ещё весной - в начале лета 1918 года, и вполне правдоподобно, что он должен был знать об ударе, готовившемся его начальством по русскому союзнику руками Фушенги. Невозможно сказать, каковы были основания этой дружбы, но, помимо официальной семёновской версии об идейной близости, позволительно предположить и наличие более меркантильных соображений.
...В 1919 году барон Унгерн женился на китайской девушке из высокопоставленной семьи, которую падкие до экзотики и титулов авторы охотно именуют «принцессой» (княжной?), дочерью «сановника династической крови» или хотя бы «одного из сановников Маньчжурской Династии[15]», и лишь полковник Шайдицкий проливает некоторый свет на её родственные связи: «[барон] женат был на китайской принцессе, европейски образованной (оба владели английским языком), из рода Чжанкуй, родственник которой — генерал, был командиром китайских войск западного участка К[итайско]-В[осточной] жел[езной] дор[оги] от Забайкалья до Хингана, в силу чего [Азиатская] дивизия всегда базировалась на Маньчжурию».
Все, кто пишут о браке Унгерна, сходятся на том, что он имел чисто формальный характер. Не будем пытаться решить принципиально нерешаемые задачи и проникнуть в чувства Романа Фёдоровича, но отметим, что одно обстоятельство внушает подозрения: аскетически равнодушный к материальному достатку, воин-бессребреник Унгерн, не позаботившийся об устройстве семейного очага и так, кажется, никогда и не живший с супругой общим домом, - неожиданно оформляет на её имя банковский вклад.
Оснований для каких-либо окончательных выводов это, разумеется, не даёт, но сам поступок настолько не похож на «Даурского Барона» - ему скорее пристали бы любые, сколь угодно дорогие подарки, но не возня с презренными чековыми книжками, - что допускает среди возможных объяснений и легализацию под благовидным предлогом денежных выплат родственнику баронессы. И тогда уже неважным становится, был ли Чжан Куй-У действительно маньчжуром, близким по крови Императорскому Дому, и исповедовал ли он монархические убеждения или испытывал страх перед коммунистической угрозой: сопоставление даже изложенных, весьма немногочисленных фактов позволяет увидеть здесь обыкновенную «вербовку». А вскоре китайскому генералу представится и возможность в крайне непростых условиях доказать свою верность союзу с русскими белогвардейцами.
Это произойдёт, когда барон Унгерн двинет своё «войско» в Монголию.
* * *
Но походу этому, ставшему самым известным эпизодом биографии барона, предшествовали важные события. Потерпев во второй половине 1919 года ряд поражений и лишившись в результате предательства «союзников» своего Верховного Главнокомандующего[16], остатки армий адмирала Колчака к весне 1920 года проложили себе путь в Забайкалье. Весенние попытки красных партизан и отрядов организованной по указке из Москвы «Дальне-Восточной Республики» разбить белых потерпели неудачу, и лето прошло в дипломатической борьбе. Преуспели большевики, добившиеся подписания соглашения о перемирии и выводе японских дивизий, после чего небольшая область, ограниченная с северо-запада - ДВР, с северо-востока - партизанскими районами, с юга - государственной границей Российской Империи, казалось, была обречена.
Положение осложнялось раздорами внутри Белого командования - между оборонявшими Забайкалье «семёновцами» и пришедшими из Сибири «каппелевцами» - и оперативными колебаниями. В этих условиях у Семёнова и рождается идея направить Азиатскую конную дивизию в Монголию.
Позднее Атаман подавал этот проект как начало грандиозной международной борьбы с большевизмом; однако развернувшиеся в действительности события не дают оснований принять эти утверждения на веру - всё произошедшее больше напоминает партизанский рейд, чем экспедицию с далеко идущими военно-политическими целями, и похоже, что именно как к рейду относился к ней и барон Унгерн.
Подготовка «Монгольского похода» позволяет опровергнуть ещё одну бытующую легенду. Видным «каппелевским» генералам И. С. Смолину и В. А. Кислицину Унгерн предлагал двинуться в Монголию совместно: чувствовавший себя в те дни «опустошённым» и внутренне готовый отступать в полосу отчуждения Смолин много лет спустя вспоминал возмущённое восклицание барона: «Что? Вы не понимаете, что там вы будете людьми второго сорта? Почему вам не пойти со мной?»[17] - а Кислицин даже рассказывал, будто барон, предлагая объединение сил, говорил ему: «Ты будешь Командиром Корпуса. Я подчинюсь тебе и буду тебя слушать и всё исполнять. Иди только с нами».
Даже если Кислицин и прихвастнул, стремление барона Унгерна усилить направляемый в Монголию отряд за счёт войск, ранее ему незнакомых и предводимых столь же мало знакомыми начальниками, наносит серьёзный удар по романтическим рассуждениям о «панмонголистских» или даже мистических целях, которые он якобы преследовал в бескрайних степных пространствах. В этом случае приглашения участвовать в походе, с которыми барон обращался к Смолину и Кислицину, были бы совершенно невозможными, поскольку подобные предприятия требуют духовного единства возглавляющих их лиц. Единство же с «каппелевскими» генералами достигалось лишь в отношении борьбы с большевизмом, но никак не в связи с мистическими химерами, принадлежность которых самому Унгерну тоже вызывает сомнения.
Напротив, если принять более реалистическую точку зрения, то в «авантюре» Унгерна начинает просматриваться довольно здравый оперативный расчёт: попытка выйти во фланг угрожавшей Чите красной группировке[18] могла оказаться успешной. Покинув в начале августа Даурию, барон в течение почти двух месяцев действовал в западном направлении против красных партизан, а обезопасив себя и основную семёновскую группировку от угрозы с запада, 30 сентября выступил на юг для осуществления более глубокой операции.
Формально, впрочем, в августе командование объявило о «самовольстве» барона и о том, что его войска исключаются из состава армии. Причиной последнего решения могли стать разногласия среди старших начальников, но главная, как представляется, лежала в области дипломатии. Прежде всего нельзя было подвести японских союзников и дать почву для обвинения их в нарушении перемирия; кроме того, проходя через территорию Внешней Монголии, русские войска легко могли вступить в конфликт с находившимися там китайскими.
Автономия Внешней Монголии, гарантированная русско-монголо-китайским соглашением 1915 года, пошатнулась сразу же после революции в России, а наметившиеся в правительственных кругах Халхи прокитайские настроения привели к тому, что 22 ноября 1919 года Внешняя Монголия указом Президента Китайской Республики была вновь официально включена в её состав. В Халху был введён значительный воинский контингент, численность которого в различных источниках колеблется (обычные оценки 11-15 тысяч человек), но никогда не опускается ниже 6 тысяч. Внутренние раздоры ещё не до конца разорвали Китай, и «хозяин Маньчжурии» Чжан Цзо-Лин номинально продолжал подчиняться пекинскому правительству, а потому русским белогвардейцам, имевшим Маньчжурию своим тылом, нельзя было давать китайцам повода заподозрить их во враждебных действиях.
Да Унгерн и в самом деле не собирался драться с китайскими войсками. Помимо вопиющего неравенства сил - у барона было немногим более тысячи шашек, - об этом говорит и отсутствие в дивизии тёплой одежды (при известной заботливости Унгерна о подчинённых это может свидетельствовать только о предполагаемой скоротечности перехода), и отказ генерала от активного набора местных добровольцев, несмотря на то, что винтовок в отряде было в два-три раза больше, чем всадников. Сама по себе малочисленность «войска» отнюдь не пугала его командира: барон готов был даже поступиться числом во имя улучшения качественного состава и предпочитал иметь пусть и небольшой, но сплочённый отряд. Выслав вдоль русско-монгольской границы усиленный боковой дозор, генерал с основными силами к середине октября вышел на почтовый тракт Хайлар - Урга - Кяхта. Для отряда это была единственная дорога, по которой он мог пройти на Троицкосавск и далее - к Верхнеудинску (тогдашней столице ДВР) и Круго-Байкальским железнодорожным тоннелям[19]. Именно для населения тамошних станиц и должны были пригодиться лишние винтовки, а ДВР попадала таким образом под двойной удар Белых войск...
Около 20 октября отряд приблизился к занятой китайским гарнизоном Урге. Барон просил начальника гарнизона разрешить стоянку для пополнения запасов продовольствия, но ответа не получил. Впрочем, в те дни Унгерн уже должен был испытывать и сильнейшее предубеждение против китайцев: распоясавшаяся китайская солдатня вела себя в Урге, как в захваченном вражеском городе. Вымогательствам, притеснениям, открытому грабежу и насилиям подвергалась и многочисленная русская колония (Монголия всегда была желанным рынком для русских торговцев, а в годы Смуты к ним добавились ещё и беженцы из пылающей России, в том числе бывшие чины колчаковских армий). Слухи о творившемся в столице Халхи окончательно вывели из равновесия барона и подтолкнули его к скоропалительному решению штурмовать город.
Вот это уже действительно была самая настоящая авантюра, и налёт на Ургу 26-27 октября мог бы увенчаться успехом только в случае деморализации китайцев; однако Унгерн вместо координации действий своих подчинённых отправился в одиночку на разведку и... заблудился, вновь присоединившись к «войску» уже в разгар неравного боя и став фактически лишь свидетелем поражения и отхода. Неприятелю были оставлены два испорченных орудия (треть всей артиллерии отряда), и окружающие слышали, как барон задумчиво бормотал: «Из чего же теперь мы будем стрелять?»
Отскочив от Урги, Унгерн впервые проводит серьёзные рекогносцировки местности и оборонительной системы противника, чтобы 2 ноября сделать ещё одну попытку прорваться. Но в трёхдневных боях удача вновь не сопутствовала русским войскам: потеряв только убитыми около 10% личного состава (для офицеров называется ещё более впечатляющая цифра - 40%), отряд отходит на рубеж реки Керулена.
Неутешительны и сведения о положении дел на главном фронте: 21 октября войсками Атамана Семёнова была сдана Чита, и к окончанию второго наступления на Ургу в руках белых в Забайкалья оставался лишь небольшой плацдарм у станции Даурия. Теперь путь на восток Унгерну был закрыт - слишком большое значение для прижатого к границе Атамана начинали играть добрые отношения с китайцами, и уже сцепившийся с ними барон мог только скомпрометировать общее дело. Оставалось действовать в одиночку, на свой страх и риск.
Барон Унгерн опоздал. Бессмысленно гадать, какая из задержек оказалась роковой, но отряд, не успев прорваться к Троицкосавску, не имел и возможности для возвращения и присоединения к основным силам. Положение кучки измождённых бойцов, среди которых значительную долю составляли раненые и обмороженные, казалось безнадёжным...
И отряд был бы, без сомнения, смят и уничтожен, если бы китайские генералы сами перешли в наступление сразу после неудачного русского штурма. Однако они, очевидно, посчитали «войско» Унгерна уже раздавленным, что и дало барону возможность выпутаться из тяжелейшего положения. Стоявшую перед ним задачу Роман Фёдорович решил не военными, а политическими методами, проявив себя неплохим дипломатом, способным чутко воспринимать народные настроения. Играя на национальных чувствах монголов, он переманивает на свою сторону мелких князей и разворачивает вербовку добровольцев на довольно выгодных условиях, с выплатой жалованья в золотой монете. Таков же барон и с мирными жителями - все притеснения их наказывались с унгерновской жестокостью, а покупаемые кони и припасы щедро оплачивались. Кроме «экономической» агитации, велась и «духовная».
Её успех в значительной степени стал следствием ещё одной грубой ошибки китайского командования, вскоре после второго унгерновского налёта арестовавшего Богдо-Гэгэна - главу монгольского теократического государства, который считался воплощением Будды. Трудно сказать, чего добивались китайские генералы этим арестом, но своему противнику они дали в руки сильнейший козырь: теперь Унгерн объявил себя защитником «жёлтой религии», а в его окружении появляются буддийские ламы, присутствие которых, укрепляя позиции барона в глазах коренного населения, порождает в то же время и недовольные сплетни среди русских, будто генерал теперь ничего не предпринимает без совета этих «пифий».
Конечно, Унгерн, с его интересом к мистике, не мог не попытаться заглянуть за кулисы мироздания и послушать всевозможных гадателей и предсказателей, а может быть, порой и прислушаться к ним. Известен, однако, и случай, когда генерал предпринял крайне ответственную и рискованную операцию вопреки их советам. Уместно и ещё одно соображение, которое можно считать косвенным доказательством преувеличенности слухов: плохо разбирающийся в людях и вряд ли имевший серьёзные религиозные познания барон с большой вероятностью должен был бы оказаться в руках шарлатанов, а в этом случае следовало ожидать утечки информации, которой никто из свидетелей не отмечает. Напротив, именно сохранение строжайшей тайны и изоляция Урги стали залогом успешных действий барона Унгерна. Правильно организованная «война слухов» нагнетала напряжённость среди китайского гарнизона, уже считавшего, что город обложен со всех сторон, и готового верить во всевозможные легенды.
Достойным финалом этого подготовительного периода стала дерзкая операция по похищению из-под стражи Богдо-Гэгэна, предпринятая унгерновцами в последние дни января 1921 года. Китайцы с этих пор были окончательно деморализованы, и потому, когда в ночь на 3 февраля Азиатская дивизия вновь атаковала городские предместья, десятикратно превосходящие китайские войска в панике бежали из Урги. Для преследования победители несколько раз высылали экспедиции по разным направлениям, причём стычки обычно превращались в настоящее избиение окончательно «потерявших сердце» китайцев.
Казалось бы, наступил «звёздный час» могущества и высокого положения барона Унгерна. Однако на деле он не только оставил в неприкосновенности сам принцип монгольской теократии, вернув престол Богдо-Гэгэну, но и содействовал фактическому восстановлению тех государственных структур, которые начали создаваться в Халхе после революции 1911 года и были разрушены оккупантами, в том числе самостоятельных вооружённых сил во главе с князем Хатон-Батором Максаржавом. Для самого же Унгерна - чужака я случайного человека - Халха была не подчинённым ему «улусом», а военной добычей, использование которой давало возможность для дальнейших действий; при этом монгольские князья жаловались Атаману Семёнову, «что барон Унгерн совершенно не желает придерживаться вековых традиций монгольского правящего класса, игнорируя их со свойственной ему прямолинейностью».
После этого широко известное по литературе возведение Романа Фёдоровича в степень хана с массой чисто бутафорских привилегий (право «иметь паланкин зелёного цвета, красно-жёлтую курму[20], жёлтые поводья и трёхочковое павлинье перо» и звание «Дающий развитие государству великий герой») - выглядит не более чем выражением благодарности за помощь, тем более что одновременно в княжеское достоинство были возведены генерал Б. П. Резухин (правая рука барона) и есаул русской службы Д. Джамбалон, о реальных «диктаторских» или «княжеских» правах которых, конечно, и речи не шло.
Что касается роли Унгерна и его дивизии в жизни монгольской столицы, то на этот счёт существует довольно широкий спектр мнений - от рассказов о «культурно-просветительской» миссии барона до леденящих душу историй, будто город после взятия был... полностью разрушен. Истина же, очевидно, лежит посередине: не занимаясь «культуртрегерством», которое просто не входило в его планы, Унгерн в то же время стремился восстановить в монгольской столице порядок, неизбежно нарушившийся при смене власти. При этом он действовал достаточно жестокими мерами, - практически все источники упоминают о повешенных на месте преступления мародёрах как из состава Азиатской дивизии, так и из местных жителей. Рассказы же о том, что генерал отдал город своему «войску» на разграбление, выглядят преувеличенными и связаны скорее всего с арестами, производимыми по приказу или с разрешения Унгерна, который стремился очистить Ургу от пособников китайцев и тех, кого считал сочувствующими большевикам.
«В первые дни особенно пострадали евреи - их преследовали казаки, и если они не успели спрятаться, то уж пощады не ждали, - рассказывает бывший директор Монгольского национального банка Д. П. Першин. - Сколько было убито евреев, сказать трудно. Называли разные цифры, но можно думать, что душ пятьдесят или вроде этого. Русских же убито было значительно больше. Всех жертв барона насчитывают до полутораста-двухсот человек, но и это число, вероятно, преувеличено». Неоднократно высказывая неприязнь к евреям, которых он считал виновниками революции, а возможно, и «мировым злом» («комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями» - ещё одно из громогласных заявлений, не выполнявшихся реально), Унгерн умел и сдерживать её, и если через десять дней после взятия Урги приказ по дивизии воспрещал самочинные аресты «кроме евреев», то следующий параграф гласил: «Евреев, имеющих от меня записки, приказываю не задерживать». Не отрицая жестокости барона, нельзя и приписывать ей тотального или демонического характера, тем более что по свидетельству того же Першина - человека глубоко мирного и в другом месте справедливо обвинявшего Унгерна в неуравновешенности - многое происходило помимо начальника дивизии.
«В Урге свирепствовали Сипайлов и Безродный, — называет мемуарист двух самых одиозных приближённых Унгерна, - и, говорят, их жертвы нужно считать многими десятками. Следует иметь в виду, что Унгерн никого не щадил, если находил виновным, но относительно барона многое сильно преувеличивают, да и он сам не мог входить во все подробности криминальных деяний разных лиц, у него не было времени, он главным образом заботился о боевой дееспособности[21]своей дивизии, а потому почти всю его деятельность поглощали заботы о пополнении воинского снаряжения таковой - патронах, снарядах, довольствии и проч. и проч., а в гражданских делах оставлял [за собою] только право санкционировать то или другое решение, ему представляемое на утверждение, причём считал, что если доклад будет сделан или пристрастно, или вопреки истине и справедливости, то виновный в этом отвечал своей головой, а рисковать этим едва ли бы кто решился. Такой способ он находил более надёжным и действительным.
Но несмотря на это, его именем неоднократно прикрывались разные Сипайловы и Безродные, и во многих их деяниях барон был совершенно неповинен».
Но если во взаимоотношениях с монголами их «гость»-освободитель ограничивался в лучшем случае функциями консультанта, то русским населением Халхи и Кобдоского округа он считал себя вправе распоряжаться, не зная никаких ограничений. Так, в Урге мобилизация была проведена под страхом смерти, хотя вряд ли попавший таким образом в ряды дивизии контингент отличался значительной боевой ценностью: сложно сказать, усиливали или ослабляли ряды унгерновцев представители русской колонии, прятавшиеся в Урге от Гражданской войны. Как бы то ни было, точка зрения, будто барон стремился создать армию «из мобилизованных монголов и русских добровольцев», выглядит ошибочной.
О «русских добровольцах» речь может идти, пожалуй, только применительно к организованным белогвардейским группировкам, независимо от Унгерна оказавшимся в Халхе, Кобдо и Синьцзяне. С освобождением монгольской столицы Роман Фёдорович получил возможность если не формального объединения, то хотя бы координации действий этих сил, в частности, в конце марта - начале апреля наладив связь с отрядами Атамана Енисейского Казачьего Войска полковника Казанцева и есаула Кайгородова и, очевидно, примерно в то же время - с отрядом полковника Казагранди. Именно они упоминаются в качестве командующих участками (секторами) наступления в знаменитом приказе Унгерна № 15 от 21 мая 1921 года, озаглавленном «Приказ русским отрядам на территории Советской Сибири» и открывшем собою новый этап борьбы — последний в бурной жизни барона.
* * *
Приказ этот безусловно представлял собою нечто большее, чем просто оперативная директива, и недаром он начинался в торжественном стиле манифеста:
«Я, начальник Азиатской конной дивизии генерал-лейтенант барон Унгерн, сообщаю к сведению всех русских отрядов, готовых к борьбе с красными в России, следующее:
1) Россия создавалась постепенно, из малых отдельных частей, спаянных единством веры, племенным родством, а впоследствии общностью государственного начала. Пока не коснулись России, к ней по её составу и характеру непримиримые, принципы революционной культуры, - Россия оставалась могущественной, крепко сложенной империей. Революционные бури с запада глубоко расшатали государственный механизм, оторвав интеллигенцию от общего русла народной мысли и надежд. Народ, руководимый интеллигенцией, как общественно-политической, так и либерально-бюрократической, сохраняя в недрах своей души преданность вере, царям и отечеству, начал сбиваться с прямого пути, указанного всем складом души и жизни народной, терял прежние, давшие величие и мощь стране, устои, перебрасывался от бунта с царями-самозванцами к анархической революции и потерял самого себя. Революционная мысль, льстя самолюбию народному, не научила народ созиданию и самостоятельности, но приучила к вымогательству, разгильдяйству и грабежу. 1905 год, а затем и 1916-1917 гг. дали отвратительный, преступный урожай революционного посева.
Россия быстро распалась. Потребовалось для разрушения многовековой работы только три месяца революционной свободы. Попытки задержать разрушительные инстинкты худшей части народа оказались запоздавшими. Пришли большевики, носители идеи уничтожения самобытных культур народных, дело было доведено до конца. Россию надо строить заново по частям. Но в народе мы видим разочарование, недоверье к людям. Ему нужны имена, имена всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя лишь одно - законный хозяин земли русской - император Всероссийский Михаил Александрович, видевший шатание народное и словами своего высочайшего манифеста мудро воздержавшийся от осуществления своих державных прав до времени опамятствования и выздоровления народа Русского.
2) Силами моей дивизии, совместно с Монгольскими войсками, свергнута в Монголии незаконная власть китайских революционеров-большевиков, уничтожены их вооружённые силы, оказана посильная помощь объединению Монголии и восстановлена законная власть её державного главы Богдохана. Монголия по завершении указанных операций явилась естественным исходным пунктом для начавшегося выступления против красной армии в советской Сибири.
Русские отряды находятся во всех городах, курэ и шаби [22] вдоль монгольско-русской границы. И таким образом наступление будет происходить по широкому фронту...
3) В начале июня в Уссурийском крае выступит Атаман Семёнов при поддержке японских войск или без этой поддержки.
4) Я подчиняюсь Атаману Семёнову.
5) Сомнений нет в успехе, так как он основан на строго-обдуманном и широком политическом плане...»
Дальнейший текст приказа посвящён довольно детальному изложению плана боевых действий, с распределением операционных направлений между подчинёнными Унгерна от Урги до Кобдо, - завершается же он вновь в торжественном и возвышенном стиле:
«Народами завладел социализм, лживо проповедывающий мир, - злейший и вечный враг мира на земле, так как смысл социализма - борьба. Нужен мир - высший дар Неба.
Ждёт от нас подвига в борьбе за мир и Тот, о Ком говорит св[ятой] пророк Даниил (гл[ава] XI), предсказывающий жестокое время гибели носителей разврата и несчастия[23] и пришествие дней мира.
“И восстанет в то время Михаил, Князь великий, стоящий за сынов народа Твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа Твоего все, которые будут [найдены] записанными в книге.
Многие очистятся, у белятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, но не разумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.
Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдёт тысяча двести девяносто дней.
Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трёхсот тридцати дней” [24] . - Твёрдо уповая на помощь Божью, отдаю настоящий приказ и призываю вас, офицеры и солдаты, к стойкости и подвигу» [25] .
В сочетании с высказываниями Унгерна, встречающимися в его переписке тех месяцев, приказ-«манифест» принято считать воплощением безумных грёз «кровавого барона» о возрождении азиатского «Срединного Царства» и «очистительной буре с Востока», которую он якобы стремился принести развращённому Западу на клинках своих монгольских всадников. О письмах Унгерна речь ещё впереди, основная же оперативная идея приказа представляется довольно здравой и рациональной и в любом случае не имеет ничего общего с «жёлтым (во всех отношениях) мифом».
Яснее всего об этом говорят следующие два пункта:
«При встрече действующих отрядов, численностью более 1 000 человек, с отрядами одинаковой и большей численности, действующими против общего противника, общая команда переходит к тому начальнику, который вёл непрерывную борьбу с Советскими комиссарами на территории России, причём не считаться с чином, возрастом и образованием...
При мобилизации бойцов, пользоваться их боевою работою по возможности не далее 300 вёрст от места их постоянного жительства. После пополнения отрядов нужным по количеству имеющегося вооружения кадром новых бойцов, прежних, происходящих из освобождённых от красных местностей, отпускать по домам».
Они, как видим, устанавливают безусловное главенство местных повстанческих командиров над пришедшими из-за кордона и интересный принцип «ротации» кадров, к которому в годы Гражданской войны на разных фронтах иногда пытались прибегнуть начальники, имевшие дело с партизанскими контингентами. Очевидно, что постоянно обновляющийся состав войск не успевал бы проникнуться идеей похода «от азиатских степей до берегов Португалии», а перенимавшие командование местные партизаны не могли воспринять иной общей «идейной платформы», кроме освобождения России от большевизма. С другой стороны, всё это лишь в небольшой степени касалось самого Унгерна и его ударной группировки, подчиняться с которой кому бы то ни было барон, конечно, не стал бы. Так, может быть, мечта о «Жёлтой Империи» и повсеместном распространении буддизма тоже составляла его «личную собственность», которую он не собирался распространять среди сибирских повстанцев?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует попытаться понять источник подобных интерпретаций личности барона Унгерна, и это вполне возможно: как представляется, все версии о его «буддизме» и «панмонголизме» восходят к книге приват-доцента и журналиста А. Ф. Оссендовского, носящей звучное заглавие «Звери, люди и боги». В определённом смысле слова Оссендовский стал «злым гением» барона Унгерна, хотя и не мог, скорее всего, оказывать никакого влияния на поступки генерала. Не более чем легендой остаётся рассказ, будто «Оссендовский внушил... дегенерату Унгерну мысль реставрировать дом Романовых, а сам на полученные от Унгерна средства поехал на восток за царём Михаилом Романовым, местопребывание которого якобы было известно только ему - Оссендовскому», а версия о какой-то исключительной роли «советника барона» базируется, с одной стороны, на диком и ложном взгляде, что любой человек, попадавший в поле зрения Унгерна, уже был обречён, и поэтому для благополучного проезда через Ургу необходимо было обладать сверхъестественной удачей или немыслимыми заслугами, - а с другой - на сочинениях самого Оссендовского.
Они-то и сослужили барону, а вернее - уже его памяти, чрезвычайно скверную службу. Общавшийся с генералом не более двух недель и далеко не ежедневно (как то видно из его собственного рассказа), журналист настойчиво стремится создать представление о себе как о «конфиденте» Унгерна: повествование наполнено «монологами» барона, чуть ли не умоляющего его: «Я столько лет вынужден был находиться вне культурного общества, всегда один со своими мыслями. Я бы охотно поделился ими...»
В принципе, желание Унгерна выговориться перед случайным собеседником ничему не противоречит, беда лишь, что в качестве такового ему попался человек, постоянной беллетризацией и приукрашиванием напрочь обесценивший как свои собственные свидетельства, так и всё рассказанное ему. Это начинается уже с навязанного Оссендовским «литературному Унгерну» стиль речи - выспренного, театрального, даже ходульного, исполненного позы и декламации и резко расходящегося со всеми другими свидетельствами о манере барона говорить (сравним хотя бы впечатления Першина: «Говорил он деловито, был скуп на слова и, видимо, совершенно не заботился о впечатлении, им производимом на других. В нём не замечалось и тени какого-либо позёрства»).
Будем ли мы после этого верить Оссендовскому и в его рассказах о том, что Унгерн принял буддизм и исступлённо кричал: «Умру... Я умру... Но это ничего!.. Ничего!.. Дело уже начато и не умрёт... Зачем, зачем мне не дано быть в первых рядах бойцов за буддизм!? Зачем так решила Карма?..» - Очевидно, что использование такого источника возможно лишь там, где он хотя бы не противоречит другим свидетельствам, не столь откровенно литературным и эмоционально окрашенным.
Иногда говорят, что мысли «оссендовского Унгерна» находят подтверждение в протоколах допросов Унгерна исторического. Достоверность последнего источника, однако, сразу должна быть поставлена под сомнение, ибо в нём не стенографируются, а пересказываются ответы пленного генерала, причём легко могут оказаться утерянными какие-либо штрихи, чрезвычайно важные в столь деликатном вопросе, как духовные искания. Тем не менее прислушаемся и к протоколам.
«Идеей фикс Унгерна является создание громадного среднеазиатского кочевого государства от Амура до Каспийского моря. С выходом в Монголию (когда? в октябре 1920-го, маршем на Троицкосавск? - А. К.) он намеревался осуществить этот свой план... Жёлтую расу он считает более жизненной и более способной к государственному строительству, и победу жёлтых над белыми («белыми» в смысле расовом, а не политическом. - А. К.) считает желательной и неизбежной», - записывают допрашивающие, резюмируя: «заражён мистицизмом и придаёт большое значение в судьбе народов буддизму». В то же время уместен вопрос, в чём заключался «мистицизм» барона, коль скоро он тогда же проницательно отмечал: «Если вы знакомы с восточными религиями, они представляют собой правила, регламентирующие порядок жизни и государственное устройство», считая это свойство присущим и коммунистическому учению, которое также расценивал как религиозное. По крайней мере, именно на Востоке, как следует из этих слов, мистики он не нашёл или не разглядел (за исключением «прикладной сферы» гаданий).
Непредвзятое чтение остальных утверждений, которые содержатся в цитированном фрагменте протокола, по сути дела, ставит нас всего лишь перед политическим прогнозом, наряду с особенностями географии и этнографии учитывающим и вероисповедный фактор. К духовной области можно было бы ещё отнести «желательность» победы жёлтой расы, якобы исповедуемую нашим героем, выгодно отличающим «кочевников» от обитателей Запада: глубинная неприязнь Романа Фёдоровича к современной ему европейской культуре подтверждается и другими источниками. Но делает ли он на этой основе свой личный религиозный выбор?
Ответ, по нашему мнению, можно найти в изложении взглядов Унгерна, встречающемся в одной из эмигрантских работ о нём. К сожалению, это тоже только изложение, не сохраняющее тонкостей и нюансов, местами тёмное; тем не менее основное содержание оно должно воспроизводить, и содержание это вполне красноречиво.
«Барон утверждал, что с некоторого времени человеческая культура пошла по ложному и вредному пути. Вредность барон усматривал в том, что культура нового времени в основных проявлениях перестала служить для счастья человечества - возьмём ли её, например, в области технической или новейших форм политического устройства, или же, хотя бы, - в сфере чрезмерного углубления некоторых сторон человеческих познаний, потому что Р[оман] Ф[едорови]ч считал величайшей несуразностью, что вновь открытые глубины этих познаний не только не приблизили человека к счастью, а, пожалуй, отдалили и в будущем ещё больше [будут] отдалять от него.
Таким образом, культура, как её обычно называют - европейская культура - дошла до отрицания себя самой и из величины подсобной сделалась как бы самодовлеющей силой.
На поставленный ему собеседником вопрос о том, в какую же именно эпоху человечество жило счастливее, Р[оман] Ф[едорови]ч ответил, что в конце средних веков, когда не было умопомрачительной техники, люди находились в более счастливых условиях, хотя это и звучит как парадокс (вспомним, что в ту эпоху и рыцарство было таковым в любимом для барона Унгерна смысле).
Для двадцатого века уже ясно, что развитие техники идёт в ущерб счастью рабочего, потому что машина вытесняет его шаг за шагом. Борьба за существование обостряется, говорил далее барон, развивается чудовищная безработица, и, как результат изложенного процесса, - повышаются социалистические настроения.
Барон Унгерн полагал, что Европа должна вернуться к системе цехового устройства, чтобы цехи, т. е. коллективы людей, непосредственно заинтересованных как в личном труде, так и в производстве данного рода в целом, сами распределяли бы работу между сочленами на началах справедливости».
Таким образом, противопоставляются не религии и даже не цивилизации (о каком «цеховом устройстве» может идти речь в «кочевом государстве»?), а эпохи - и именно с этой точки зрения Унгерна и привлекали «народы-конники», в качестве примера которых он приводил «казаков, бурят, татар, монголов, киргизов, калмыков и т. д.»: только они казались барону стоящими «на той же ступени культурного развития (м[ожет] б[ыть] только в иных формах), которое было в Европе в конце XIV и начале XV вв.».
«Унгерн заявляет себя человеком, верующим в Бога и Евангелие и практикующим молитву», - косноязычно фиксируют советские писаря; «считает себя призванным к борьбе за справедливость и нравственное начало, основанное на учении Евангелия». Нет оснований оспаривать столь явно выраженное исповедание своей веры и утверждать, как это упорно делается вопреки всему, будто барон стал-таки буддистом. Более того, приведённое выше пространное изложение взглядов нашего героя также резко противоречит самому духу буддизма неоднократно подчёркнутым стремлением к переустройству земной жизни во имя достижения счастья...
Для буддиста «счастьем», и то в довольно специфическом смысле, может быть названа лишь «нирвана», надежду на которую приписывает своему «Унгерну» Оссендовский. Счастье же, составляющее цель человеческого общежития, счастье, нарушаемое вытесняющим человека машинным производством, счастье, достижимое оружием, - не только разительно отличается от восточного идеала и соответствует идеалу западному, активному, действенному, но и, выглядя несколько наивно и неожиданно в устах сурового и жестокого воина, легко подходит в качестве цели поисков к образу другого странствующего рыцаря; «Друг Санчо, ты должен знать, что небу было угодно произвести меня на свет в железный век, чтобы я воскресил век золотой...»
Нам снова приходится вспомнить Рыцаря Печального Образа уже в других условиях; впрочем, сейчас барону Унгерну не до рыцарских романов. Всё, чтооставило в его душе след, он к тому времени уже прочёл, и теперь ему предстояло написать свой собственный рыцарский роман - как и положено, остриём клинка.
И Азиатская конная дивизия перешла в наступление.
* * *
Среди архивных документов сохранилась «Схема расположения отрядов в Монголии, Сибири и Забайкальи, подчинённых Ген[ерал] Лейт[енанту] Барону Унгерн (по данным к 14/VI-21 г.)», позволяющая конкретизировать те силы, которые, если и не управлялись Унгерном непосредственно (и даже не всегда существовали в действительности), то могли приниматься им в расчёт. По представлениям барона всё пространство южнее Транссибирской железнодорожной магистрали не просто было полно партизанских отрядов самой разнообразной численности - от 150 до 5 000 человек, - но буквально пылало в огне восстаний. На самом же деле сведения эти были сильно преувеличены, и для реального вовлечения в борьбу существовавших там мелких формирований необходимы были «люди с именем», способные объединить вокруг себя разрозненных повстанцев. А таких людей, обладавших личными качествами и авторитетом, сравнимыми с унгерновскими, не нашлось. О сколько-нибудь реальной координации действий можно было говорить лишь применительно к формированиям Кайгородова, Казанцева и Казагранди и монгольским отрядам князей Максаржав-вана, направленного в Улясутай, и Сундуй-гуна, двигавшегося с основными силами Унгерна. Барон не знал, что уже предан Богдо-Гэгэном, который решил ориентироваться на Советскую Республику: ещё до изгнания китайцев с ведома «живого бога» на север тайно отправилась делегация, искавшая помощи у большевиков и в марте 1921 года образовавшая «Народно-Революционную Партию». Её вожди, не говоря уже о полуграмотных рядовых членах, имели мало общего с коммунистической идеологией, почитали Богдо-Гэгэна и в недалёком будущем стали жертвами своих «более сознательных» товарищей, но сейчас им было по пути с большевиками, уже давно посматривавшими на Монголию — очередное полено для костра Мировой Революции... Слепой как физически, так и духовно Богдо-Гэгэн тоже разделял заблуждения своих подданных, в дни опубликования унгерновского приказа № 15 передавая делегации, что «его ориентация и вера, что НРП сумеет вывести страну из тяжёлого положения, остаётся неизменной. Он не оказывает Унгерну никакой поддержки».
Кстати, возможность этих заговоров за спиной барона красноречиво свидетельствует о том, что Роман Фёдорович действительно не вмешивался во внутренние дела Монголии. Несостоятельными выглядят и утверждения, будто Унгерн своим последним походом «дал повод» Советской власти вторгнуться на территорию Халхи и фактически оккупировать её: ещё 5 февраля 1921 года, когда известия об успехах Азиатской дивизии вряд ли успели дойти до Москвы, Народный Комиссариат иностранных дел РСФСР настаивал перед Реввоенсоветом Республики «на срочном разрешении вопроса о выдаче оружия Монгольской народно-революционной партии (официально ещё не провозглашённой! - А. К.)». Предполагать, что за этим не последовало бы вторжения, якобы «спровоцированного» зловредным Унгерном, - становится уже просто наивным.
В свою очередь, барон, в рамках запланированного Атаманом Семёновым широкомасштабного наступления — от Кобдо до Влади востока — не мог не двинуться вперёд; и в связи с этим самое время обратить свой взгляд на восток, ибо оттуда с оставлением Урги появлялась недвусмысленная угроза.
Маньчжурия, как мы помним, контролировалась Чжан Цзо Лином, формально подчинявшимся центральному пекинскому правительству и получившим от него указания организовать против Унгерна военную экспедицию. «Старый хунхуз», правда, не рвался в бой, зондируя почву, не согласится ли русский генерал очистить Халху за... взятку, но и говорить о полной пассивности маньчжурского диктатора тоже не приходилось. Так, в первых числах мая 1921 года китайскими властями Харбина в сотрудничестве с красной разведкой была раскрыта местная организация «унгерновцев», готовившая выступление, а ещё раньше хайларского наместника Чжан Цзо-Лина, генерала Чжан Куй-У, понизили в должности, причём сменивший его генерал был настроен к барону значительно враждебнее своего предшественника.
Мы не случайно вспомнили генерала Чжан Куй-У, поскольку в период монгольских операций Азиатской дивизии роль его продолжает оставаться по меньшей мере двусмысленной. В самом деле: Унгерн избивает китайские войска и приводит к власти в Урге правительство, фактически находящееся в состоянии войны с Китайской Республикой, а в это время в Хайларе, под крылом Чжан Куй-У, сидит офицер связи от Атамана Семёнова, войсковой старшина А. Костромин, мобилизует и вооружает местных беженцев и по тракту Хайл ар - Урга... шлёт Унгерну боеприпасы. «Генерал Чжан-куй по прочтении (письма от Унгерна. - А. К.) сказал нам, что вы ему брат и он сам за вас отрубит голову каждому (подлинные слова)», - пишет Роману Фёдоровичу один из его агентов в Маньчжурии, и «братские» чувства китайского военачальника подкрепляются из Урги весьма эффективным способом: треть доходов от реализации захваченной русскими (китайской!) военной добычи передаётся именно Чжан Куй-У...
И в те же месяцы Унгерн пишет много писем. Вскоре они станут лучшими свидетельствами обвинения, позволяя «уличать» барона в антисемитизме, наёмничестве, стремлении к расчленению России, пресловутом «панмонголизме» и проч. Но в первую очередь необходимо обратить внимание, что письма эти изобилуют противоречиями.
Одному барон пишет об образовании центральноазиатского государства «народов монгольского корня», другому - о реставрации «Поднебесной Империи» Цинов, третьему - о планах пойти на службу «высокому Чжан Цзо-Лину», а четвёртому - вообще о стремлении установить «Сибирскую Республику», дабы избежать «анархии, смуты и еврейских погромов»[26]. Складывающаяся картина напоминает несколько наивное «многоличие» человека, который отлично сознает, что союз любых двух присутствовавших на политической арене сил станет роковым для него и для его дела, и каждому адресату представляет свои цели по-разному. Несмотря на это, в своём последнем походе барон Унгерн оставался одиноким.
К изоляции политической добавилась и изоляция военная: бригада Казагранди была отбита от советской границы (потерявший душевное равновесие Унгерн обвинил полковника в измене и распорядился расстрелять), а «западный фланг» — группировки Кайгородова и Казанцева - оказался отрезанным в результате предательского удара, нанесённого в июле Максаржав-ваном. Впрочем, об этом сам Унгерн, похоже, уже не узнал, будучи всецело поглощён своими собственными операциями.
Отвлекая внимание и силы противника диверсиями отряда хорунжего Тапхаева на станицу Мензенскую (правая колонна, начало боевых действий 22 мая) и бригады генерала Резухина на Желтуринскую (левая колонна, 26 мая), сам барон с конной бригадой и монгольским отрядом Сундуй-гуна, составляя центр направленных на Забайкалье сил, выдвинулся вдоль тракта Урга - Троицкосавск и к 10 июня начал под Троицкосавском обходную операцию. Но все бои не увенчались успехом.
Отбитый от Желтуринской Резухин, правда, сумел пройти вдоль границы и вторгнуться на советскую территорию восточнее; однако и слабый отряд Тапхаева, и центральная группировка потерпели неудачу. Руководимая Унгерном бригада, втянувшись в пересечённую лесистую местность, 13 июня была сбита с господствующих высот и несмотря на упорство раненного в этом бою барона, обстреливаемая с сопок ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём, смешалась и в беспорядке отступила на юг. В те же дни и Резухин вдоль реки Селенги отошёл на монгольскую территорию. Первоначальный план операции - соединившись севернее Троицкосавска, уничтожить красную группировку - был сорван.
Но и большевики не в полной мере смогли использовать свой успех. Легкомысленно посчитав противника уничтоженным (так же, как полгода назад - китайцы) и не позаботившись организовать преследование и добить отступающих, в конце концов просто потеряв бригаду Унгерна, - они двинули вглубь Монголии экспедиционный корпус во главе с бывшим прапорщиком К. А. Нейманом. Недооценка упорства и тактического чутья барона немедленно обернулась для них серьёзными неприятностями, а действия Белого военачальника - окончательно развеяли легенду о его «монгольских химерах».
В самом деле, группировка Неймана, на три четверти состоявшая из пехоты, опрометчиво подставляла фланг и тыл соединившимся на Селенге конным бригадам Унгерна и Резухина. И если бы «панмонголист» Унгерн хотел защитить от красного нашествия Монголию и «священную особу» Богдо-Гэгэна, - ему ничего не стоило бы наброситься на ползущую по кратчайшему пути на Ургу советскую пехоту и на степных просторах, используя маневренные качества своего «войска», растрепать её в пух и прах. Однако будущее Монголии и её святынь на поверку совсем не интересует барона: важнее для него семёновский план, в соответствии с которым Азиатская дивизия, бросив Ургинское направление на произвол судьбы, возобновляет операции на западное Прибайкалье. И пока войска Неймана входили в незащищённую Ургу, барон, оправившись и передохнув на Селенге, двинулся на северо-восток, первоначальным маршрутом Резухина. 6-8 июля красные заняли столицу Монголии, 11-го их ставленник Сухэ-Батор провозгласил создание «народного правительства» (главой государства номинально оставался Богдо-Гэгэн), на 18-е опомнившийся Нейман запланировал удар по белой группировке, но был упреждён: уже 24 июля Унгерн оказался в 150 вёрстах к северо-востоку, под самой Желтуринской.
Сметая противника, вихрем мчится по Забайкалью Азиатская конная дивизия. Под дацаном[27] Гусиноозёрским барон 31 июля бьёт одну из немногих регулярных советских частей, встретившихся на его пути, и пополняется пленными красноармейцами. 3 августа он уже в пятидесяти вёрстах от Верхнеудинска, но именно в этот момент своего наибольшего успеха генерал наконец понимает, что остался один: грандиозное наступление, планируемое Семёновым, сорвалось. Тактические победы и оперативный успех оборачиваются стратегической бессмыслицей, и Унгерн поворачивает вспять.
Выскользнув из расставленной западни, он отрывается от преследователей и неутомимо продвигается на юго-запад. И вот под копыта коней вновь стелются монгольские степи. Вновь на берегу Селенги, разделившись на две бригады (одна - под командой Резухина, с другой - сам барон), останавливается Азиатская дивизия. Куда ей идти дальше?
* * *
Для сегодняшних авторов ответ ясен и недвусмыслен: конечно... в Тибет! Таинственная страна, «духовная крепость», кладезь восточной мудрости - чего ещё мог желать такой человек, как барон Унгерн?
Посмотрим, однако, хотя бы на географическую карту. Во всех передвижениях Азиатской дивизии после отказа от прорыва к Верхнеудинску наблюдается, как мы уже упомянули, явно выраженный «дрейф» на юго-запад. Помимо условий местности, где теснины ограничивали свободу передвижения колонны и в известной степени задавали его направление, причинами могли стать и догадки генерала, что большевики будут «ловить» его в районе Урги и восточнее, - и, конечно, планы дальнейших действий. Но Тибетом здесь, очевидно, и не пахнет.
Помимо того, что пришлось бы преодолеть расстояние чуть ли не в две с половиною тысячи вёрст через солончаки Монголии, зловещие пески Гоби и неприступные горные хребты, - не слишком ли это даже для Унгерна?! - для продвижения в Тибет ему следовало идти на юг, а не на юго-запад, где на пути сразу вставали бы дополнительные препятствия в виде хребта Хангай и горной цепи Монгольского Алтая; а ведь география Монголии, в отличие от далёкой горной страны, была известна достаточно неплохо. Именно общее направление движения дивизии, существование в Кобдо и Улясутае подчинённых Унгерну группировок и, наконец, сорвавшееся у него несколькими месяцами ранее признание - позволяют с большой долей уверенности реконструировать стратегическую идею генерала.
Основываясь на разговорах с Романом Фёдоровичем, Д. П. Першин впоследствии так представлял себе развитие событий: «После кяхтинской неудачи у барона была главная мысль пробраться как-нибудь через Урянхайский край в среднюю Сибирь, т. е. Минусинский край, в русскую гущу Енисейской губернии, а затем оттудова в Западную Сибирь, чтобы среди сибирского крестьянства поднять антибольшевикское[28] движение...» Такие же прогнозы строили, по свидетельству современника, и чины Азиатской дивизии, и «большинство из них было совершенно убеждено в том, что барон ведёт их в Урянх[айский] край, т.е. - на верную гибель» (Урянхай славился, по словам того же автора, «крайней дикостью и кажущейся изолированностью»).
Но ведь Унгерн сам говорил, будто «возымел намерение уйти через всю Монголию на юг, объясняя это решение тем, что убедился в необходимости дать здесь “пережить красное” и предупредить “красноту” на юге, где она только начинается. Зарождающуюся на юге “красноту” он видит в революции, совершившейся в Южном Китае, и борьбе его с Северным Китаем», - и современный публикатор этого документа рассуждает, казалось бы, вполне логично: «Южный Китай был уже охвачен “краснотой”, и единственным местом на юге, где она “только начинается”, для Унгерна был Тибет. Только там можно было спокойно “пережить” всё происходящее в Китае и России». Беда лишь в том, что цитата взята из показаний, данных пленным бароном в Штабе экспедиционного корпуса; и если даже закрыть глаза на все содержащиеся в протоколе явные нелепицы (Унгерн якобы, ошибаясь на три года, неверно называет собственный возраст, утверждает, что «до [Великой] войны служил в полку, которым командовал барон Врангель, за пьянство был предан последним суду» и проч.) — остаётся закономерный вопрос: на чём основана интерпретация поведения барона в плену как его нравственной капитуляции, из которой следует буквальное прочтение протоколов допросов и безусловное доверие к ним? Почему, в условиях, когда борьба ещё не была окончена (продолжали сопротивляться Белое Приморье, Казанцев, Кайгородов), Унгерн должен был привлекать внимание противника к подлинным планам её продолжения? И неужели рыцарь мог предать своих соратников, даже если сам и был предан ими?
Да, ему суждено было пережить ещё и предательство. Разыгралась уникальная сцена: военная история знает бесчисленное количество дезертирств, когда один человек бежит из рядов войска, - и едва ли не единственный случай, когда дезертирует всё войско, бежав от одного человека. И человеком этим был генерал барон Унгерн-Штернберг.
На Селенге дивизия сделала первую серьёзную передышку после стремительного отступления из Забайкалья, и эти дни стали днями её разложения. В советской исторической литературе встречаются беглые упоминания о том, что разложение это произошло не без участия красной разведки; при заметном числе в рядах дивизии пленных красноармейцев и не подвергавшихся серьёзному отбору русских беженцев из Урги, присутствие среди унгерновцев советской агентуры отнюдь не выглядит чем-то нереальным, и если она действительно существовала, то работала весьма успешно. Из уст в уста передаются пугающие слухи о новых фантастических планах барона, о предстоящих походах (перспективы зимовки в Урянхае, не пугавшие генерала, должны были вселять страх в его подчинённых) и о том, что окончательно обезумевший генерал уже приступил к уничтожению своих же соратников, которое с каждым днём, если не с каждым часом, будет принимать всё большие и большие размеры.
Нам приходится снова вернуться к вопросу о жестокости Унгерна, ибо в эти последние дни, как вспоминал один из офицеров Азиатской дивизии, барона «стали бояться как чумы, чёрной оспы, как сатаны». Однако подобные рассказы принадлежат - если называть вещи своими именами - людям, предавшим командира, пытавшимся его убить и бросившим затем на произвол судьбы. Вряд ли авторы совсем уж не сознавали впоследствии, что же они сделали, и не нуждались в запоздалом самооправдании; отсюда и могло явиться нагнетание ужасов в повествованиях о жестокостях Унгерна, охотно подхваченных позднейшей литературой.
В ней-то и заключается главное зло, ибо знаменитому бешенству «Даурского Барона» начинает придаваться совершенно не свойственный ему характер. Так, любители буддизма ищут здесь религиозную подоплёку, другие - принципиальное человеконенавистничество, доведённую до крайних, «практических» форм мизантропию. На самом же деле Унгерн - человек со средневековым сознанием - и действует в рамках средневековых норм поддержания порядка и дисциплины, а всё, чтовыходит за эти рамки, совершается им в состоянии аффекта, мгновенных вспышек ярости, во время которых ташур[29] в руках барона и в самом деле не разбирает ни правого, ни виноватого. В сущности, перед нами всё тот же забулдыга-офицер, который в октябре 1916 года кричал в комендантском управлении «кому тут морду бить?!» и махал шашкой в ножнах на испуганного адъютанта, но, опомнившись, «страшно сожалел» о случившемся. Вполне соответствуют этому и образцы речи барона, приводимые мемуаристами или сохранившиеся в его письмах: «Дауры меня изводят... Прохвосты»; «Дорогой Илья. Ты не наказный Атаман Амурского войска, а болван... Если останешься не у дел, приезжай - прокормлю»; «Ваше Превосходительство. Тронут твоим письмом. Времена вероятно плохие, что оказалась трезвая минута написать письмо»; «Автомобили держи неисправными: Монголия не настолько ещё окрепла, чтобы кормить дармоедов»; «Чего вы каетесь, я не Богородица»; «...Книгами ведать будешь. Понял! Адъютантство, значит, примешь... Да смотри, канцелярию у меня не разводить. Ну, вались. Палатка рядом». Этот простой, безыскусственный, грубоватый, склонный к столь же грубоватой шутке офицер отнюдь не похож на демоническую фигуру «хладнокровного палача» или «кровавого мистика»...
Но сейчас он действительно был в бешенстве. Несколько неудач подряд, потеря дивизионной святыни - иконы, всегда возимой с конницей Унгерна и оставленной в панике во время отступления от Троицкосавска, гибель соратников, измена Богдо-Гэгэна, срыв планов глобального наступления, ропот в дивизии - должны были до крайности обострить эмоции Романа Фёдоровича, которые обращались против его подчинённых. По лагерю ползли пугающие слухи, и дивизия уже не могла больше выдержать сгущавшейся атмосферы кошмара и безнадёжности.
Первым убили Резухина. Зачем это сделали, трудно сказать - составившие заговор офицеры вроде бы собирались пригрозить ему смертью, если он не согласится возглавить «войско» после устранения барона и вывести полки в Маньчжурию, но когда дошло до дела, оружие, видимо, начало палить само: те, кто в своих мемуарах писал потом о «безумии» барона, в эти часы и сами были не менее безумными. Поздним вечером 19 августа стоянку Унгерна (он разбил палатку в стороне от основного лагеря) обстреляли, но как-то суматошно и неуверенно, уже на ходу, - бывшая с ним бригада снималась и в полном составе, повинуясь иррациональному инстинкту, устремилась к ургинскому тракту.
Генерал не сразу понял, что происходит. Сперва ему показалось, будто началась паника из-за ночного налёта красных, и Унгерн бросился за уходящим «войском», пытаясь навести порядок, остановить, организовать сопротивление, да наконец - просто разобраться в ситуации. Поняв по отдельным репликам из строя, что перед ним - тотальное дезертирство, он ещё кричал, пугая уходящих предстоящими лишениями в Маньчжурии, но в ответ ударили выстрелы.
Ни одна пуля не задела барона, даже выпущенная кем-то заполошная пулемётная очередь. Наверное, слишком сильным было нервное возбуждение и слишком неслыханным делом - стрельба, почти в упор, по тому, кто водил их в бои, кто - и это должны были понимать - только что вытащил из красной западни, но сейчас становился призраком неминуемой гибели: измены Унгерн бы не простил и на дивизию обрушились бы новые репрессии.
Роман Фёдорович вернулся в расположение монгольского отряда Сундуй-гуна, не тронувшегося с места при ночном переполохе. Там он провёл не меньше двух дней, за которые попробовал добыть какие-нибудь сведения о бригаде Резухина. Однако та сразу же после убийства генерала разделилась на небольшие группы и растворилась в степных пространствах. Посланным искать Резухина офицерам Унгерн приказал передать, что намерен отступать на юго-запад, очевидно, на тракт, ведущий в Улясутай, - а сам дал монголам днёвку в ожидании вестей. Но вместо вестей он дождался лишь новой измены...
Тем временем та бригада, которая до роковой ночи 19 августа находилась под личной командой начальника дивизии, неудержимая в своём порыве, продолжала бег на восток, к Хайлару. Теперь полки вёл войсковой старшина Костромин.
Да, тот самый Костромин. Незадолго до описываемых событий он присоединился к Азиатской дивизии, а сейчас был выбран её начальником как старый знакомый генерала Чжан Куй-У. И Чжан Куй-У оказался на высоте, в обмен на сданное унгерновцами оружие выплатив денежную компенсацию, предоставив продовольствие и проезд до станции Пограничная, откуда вновь начиналась русская, подвластная белым территория. Много лет спустя Атаман Семёнов с грустью писал, что генерал Чжан Куй-У «был умерщвлён впоследствии Чжан Цзо-лином», и как знать, не поплатился ли свойственник и «названый брат» Унгерна за свою чрезмерную преданность русским интересам и не был ли он искренен, когда со слезами на глазах говорил после получения известий о конце Азиатской дивизии: «Извините меня, но мне так больно слышать об этом. Барон Унгерн был прекрасный человек и мой большой друг».
Барон в эти дни был ещё жив, но о нём и вправду можно было уже говорить в прошедшем времени.
* * *
Самый распространённый в литературе рассказ о том, как Унгерн попал в руки врагов, гласит, что окружавшие его монголы, опасаясь дольше оставаться при обречённом генерале, но не решаясь расправиться с «воплощённым богом войны», неожиданно набросились и связали барона, оставив его затем в степи, где на связанного и наткнулся красный разъезд. Но если первая часть рассказа соответствует истине - барон действительно был схвачен монголами - то дальнейшее протекало совсем не так: красный разъезд в 15—20 конных 22 августа 1921 года случайно выскочил на отряд Сундуй-гуна и с криком «ура» атаковал его.
А Унгерн всё ещё ничего не понимал или, вернее, не хотел понимать: слишком много подлости и предательства сгустилось вокруг него в эти последние дни. Он сам был жесток, и нередко - чрезмерно и неоправданно, он мог под влиянием минутной вспышки расправиться со своими же, но он никогда не предавал доверившихся ему людей и сейчас продолжал убеждать себя, что его везут по следам уходящего в Маньчжурию «войска», связыванием лишь обезопасившись от каких-либо его резких поступков. Поэтому он, сориентировавшись, очевидно, по солнцу, ещё объяснял монголам, «что они взяли неверное направление» и «могут наткнуться на красных»...
Для монголов появление красного разъезда, по-видимому, не было неожиданностью, и они при первом же «ура» безропотно бросили оружие, несмотря на своё численное превосходство. Кстати, численность отряда Сундуй-гуна в этот момент тоже говорит о запланированной заранее измене: по одному из свидетельств, красным сдалось «человек 30», по другим - 90, - изначально же, когда барон после бегства дивизии прискакал к Сундуй-гуну, под командой князя числилось около пятисот всадников. За время днёвки, таким образом, тот должен был отослать основную часть отряда, оставив при себе лишь сообщников, и, очевидно, в это же время были вырезаны все русские чины, состоявшие при монголах.
Итак, монголы ждали встречи; но не ждал её барон Унгерн, решивший, что произошла предсказанная им роковая ошибка, и теперь кричавший на растерявшихся, как ему казалось, всадников Сундуй-гуна: «Красные идут, в цепь!» Это слышали и советские разведчики, атаковавшие совершенно серьёзно, так что войсковые командиры РККА, пожалуй, могли с полной уверенностью докладывать: «...В бою в районе Ван-Курен[30] взят в плен барон Унгерн с тремя знамёнами и со свитой в 90 человек». Бой вполне мог бы разыграться, и послушайся монголы в ту минуту своего пленника — победа, скорее всего, оказалась бы на их стороне. Но для этого они должны были перестать быть предателями...
Генералу оставалось жить меньше месяца; финал его судьбы был предопределён, и может быть, не стоило бы привлекать специального внимания к этим неделям, если бы они не дали новой почвы для уже известных нам мифов.
Унгерна допрашивали несколько раз - от штаба красной бригады до судебного зала в Ново-Николаевске. Судебный фарс стал лишь демонстрацией безумия - не барона, а кликушествующих членов трибунала, - и холодного самообладания подсудимого, и делать из его материалов выводы о подлинном облике или планах Унгерна не представляется возможным. Гораздо интереснее в этом отношении допросы генерала его военными «коллегами» из вражеского лагеря, причём важнее оказывается не то, что говорит барон, а то, о чём он умалчивает.
С пленным обходились вежливо, и одного этого обстоятельства порой хватает, чтобы утверждать, будто и тот в свою очередь не только «охотно» согласился отвечать на вопросы, но и отвечал исчерпывающе и правдиво. «...Следовало найти какой-то предлог, оправдывающий и естественное любопытство, и понятное желание в последний раз поговорить о себе, о своих планах, идеях, “толкавших его на путь борьбы”, - высокомерно «проникает» в мысли своего персонажа один из сегодняшних авторов. - Наконец, оправдание было найдено: Унгерн заявил, что будет отвечать, поскольку “войско ему изменило”; он, следовательно, не чувствует себя связанным никакими принципами и готов “отвечать откровенно”».
Вновь подивимся, почему же чужая измена в глазах нашего современника становится основанием для измены собственной, и приглядимся к генералу повнимательнее.
Очевидец описывает человека спокойного, сдержанного, иногда улыбающегося (торжество победителя заставляет добавить: «кроткой виноватой улыбкой»). Он никогда не видел Унгерна раньше, слышал о нём, наверное, лишь громко разносившуюся молву и оттого как незначащую деталь отмечает, что пленный «курит папиросы» и даже «жадно тянется» к коробке с ними...
Советский политотделец не знает, что вообще Унгерн курит очень мало. Окружающие иногда видят в его руках то трубку, то папиросу или портсигар, но это лишь исключение - до такой степени, что полковник Шайдицкий, близко общавшийся с генералом в течение нескольких месяцев, специально отметит о нём: «не пил и не курил». И хотя человек может вернуться к почти оставленной привычке по множеству причин, - сразу просится на язык одна: волнение.
Строго говоря, в положении барона есть из-за чего волноваться и переживать. Наиболее чёткие отпечатки его фотографий, сделанных в плену, сохранили однако спокойный (удивительно спокойный для человека, уже стоящего в могиле!) и немного изучающий взгляд; он отлично владеет собой — а ведь сам признавался, что не может обороняться, ибо «нервы не выдерживают», и столь резкая и столь страшная остановка после бешеной скачки последних лет должна была, казалось бы, вызвать немедленный нервный срыв; но ничего подобного не происходит, и он только курит папиросу за папиросой (большевики ведь не знают, о чём это может говорить). Какой же бой ведёт генерал Унгерн-Штернберг?
Ответ могут дать опросные листы «военнопленного Унгерна». «Численность своей дивизии определить точно не может, штаба у него не было, всю работу управления исполнял сам и знал свои войска только по числу сотен»; «действовал вполне самостоятельно и связи в полном смысле слова ни с Семёновым, ни с японцами не имел. Хотя у него и была возможность установить связь с Семёновым, но он этого сам не хотел, т. к. Семёнов никакой активной материальной помощи ему не давал, ограничиваясь одними советами»; «себя подчинённым Семёнову не считал, признавал же Семёнова официально лишь для того, чтобы оказать этим благоприятное воздействие на свои войска»; «особых надежд на этот приказ (№ 15. - А. К.) не возлагал»; «дисциплиной (палочной. — А. К.) и держалось его войско. Теперь он не сомневается, что без него остатки его войск все разбегутся»...
Рассеянные по нескольким страницам протокола и тем более - по нескольким часам беседы, эти реплики проходят незамеченными, но стоит собрать их вместе, и... «если это и безумие, то в своём роде последовательное»...
Рассуждая о чём угодно, Унгерн незаметно для своих «собеседников», которые так, кажется, об этом и не догадываются, отводит любые расспросы, связанные с состоянием дивизии, бывшим и нынешним, и реальными планами координации действий от Кобдо до Владивостока. Возникает и впечатление, что он сознательно избегает обсуждения как «восточного», так и «западного» направления своих остающихся неизвестными планов: на востоке был Атаман Семёнов, туда стремилось «войско» барона - предавшее, но, быть может, всё-таки сохраняющее в своих рядах кадры для дальнейшей борьбы (генерал не ошибся, и самые непримиримые из его подчинённых ещё год сражались в Приморье), - а на западе пока держались группировки генерала Бакича, к которому примкнул разгромленный под Улясутаем Казанцев, и Кайгородова (первой из них судьба отмерит срок до декабря 1921-го, второй - до апреля 1922 года).
И напротив, в «беседе» возникает совершенно неожиданная тема «южного направления». «Унгерн считает неизбежным, - записывают ведущие допрос, - рано или поздно наш поход на Северный Китай в союзе с революционным Южным и, говоря, что ему теперь уже всё равно, что дело его кончено, советует идти через Гоби не летом, а зимой, при соблюдении следующих условий: лошади должны быть кованы, продвижение должно совершаться мелкими частями с большими дистанциями - для того, чтобы лошади могли добывать себе достаточно корму; что корма зимой там имеются, что воду вполне заменяет снег, летом же Гоби непроходима ввиду полного отсутствия воды».
Но ведь, консультируя большевиков по вопросу преодоления знаменитой пустыни, барон фактически указывает им и путь к тому самому Тибету, который так любят объявлять его заветной и сокровенной мечтой! Он усиленно «отводит глаза» врагов от восточного и западного направлений - и зачем же, куда же так манит их по южному - их, и так уже обезумевших и опьянённых замыслами Мировой Революции?
Наверное, мы и оставим его именно сейчас. 15 сентября 1921 года советский трибунал приговорит генерала к смерти, и в тот же день приговор приведут в исполнение, но пока барон Унгерн ведёт свой последний бой, как всегда в бою - он спокоен и собран, и только слишком часто, может быть, тянется к предложенной победителями коробке с дорогими трофейными папиросами... Простой и подчас даже простоватый русский «окраинный» офицер, всю свою жизнь боровшийся за Россию, он не прекращает борьбы и в такие минуты.
Он знает, что эта борьба не может окончиться.
АТАМАН Г. М. СЕМЁНОВ (Очерк: Андрей Кручинин)
Первый, поднявший Белое знамя борьбы, Первый, восставший против неправой судьбы, Первый, кто к битве, будучи так одинок, Вырвал из ножен честный казачий клинок...О ком эти строки, опубликованные в 1939 году в белоэмигрантском харбинском журнале? О ком-то из признанных основоположников и вождей Белого Дела, из генералов старой русской школы, о ком- то из тех, с чьими именами даже после десятилетий лжи и замалчивания нам всё-таки легко связать понятия чести и благородства?
Об Атамане Семёнове...
Но как раз этого человека мы привыкли воспринимать исключительно негативно! Ведь и в эмигрантской среде, которая только незнакомому с ней представляется единым антисоветским монолитом, фигура Семёнова вызывала не просто различные, а диаметрально противоположные оценки - от восторженного пиетета до злобного, почти большевицкого по накалу, неприятия. «Белый хунхуз», «белый большевик», «атаман — Соловей-разбойник» - эти и подобные им ярлыки, щедрой рукой рассыпанные по страницам многих русских зарубежных изданий, в трогательном единодушии с советскими источниками рисовали образ примитивного и невежественного грабителя с большой дороги, и в этом хоре терялись - и голоса тех, кто видел Атамана совсем другим, и голос самого Семёнова, а уж подлинные события Гражданской войны и вовсе оставались окутанными густым туманом. И потому сегодня непросто бывает отрешиться от расхожих представлений и ответить на вопрос, кто же всё-таки такой был Григорий Михайлович Семёнов, навсегда вошедший в историю Атаманом?
«Хунхуз»? «Соловей-разбойник»?
Или всё же —
Первый поднявший Белое знамя борьбы... Первый восставший против неправой судьбы...* * *
Григорий Семёнов родился 13 сентября 1890 года в посёлке Куранжа Дурулгуевской станицы 2-го военного отдела Забайкальского Казачьего Войска; его отец, Михаил Петрович, был простым казаком. Третий сын в семье, на учение и воспитание которого родители вряд ли обращали особое внимание, Гриша значительную часть детства провёл так же, как и большинство казачат, однако биография его уже тогда начинала приобретать и свои индивидуальные черты. Если, помогая отцу по хозяйству, он, наверное, не был «предоставлен сам себе», как иногда о нём писали, то в отношении образования (точнее, самообразования) эта оценка выглядит вполне справедливой. После окончания двухклассной поселковой школы поступить в единственную на всё Войско и потому переполненную Читинскую мужскую гимназию Грише не удалось, и он, готовясь в будущем сдать экстерном за гимназический курс, с головой ушёл в книги.
Такая страсть была для казачонка-караульца, пожалуй, исключением из общего правила. С присущей самоучке жадностью он «читал вообще всё, чтопопадёт под руку, причём его никогда нельзя было видеть на поселковых развлечениях». О методичности, систематичности и разборчивости здесь говорить, очевидно, не приходится, зато широта интересов мальчика была неимоверной и простиралась вплоть до палеонтологии и археологии, побуждая его к любительским раскопкам. Первым, если не единственным, в Куранже стал он выписывать газету и под влиянием известий с театра Русско-Японской войны избрал для себя не просто военную, но именно офицерскую карьеру.
Сдав экзамены за полный курс гимназии, Григорий 1 сентября 1908 года зачисляется в Оренбургское казачье юнкерское училище. При отъезде из дома Семёнов обещал матери не пить и не курить, и, как рассказывала много позже дочь Атамана, «это обещание он выполнил неукоснительно: не курил и не пил на протяжении всей своей жизни. Даже на фронтах первой мировой и кровавой гражданской войны, где, казалось бы, было простительно отвести душу, он не изменил своему слову» (даже если считать это свидетельство чересчур категоричным, в его свете всё же начинают по-иному восприниматься бытовавшие россказни о кутежах и разгуле, якобы окружавшем семёновскую ставку в годы Смуты).
Знавший Григория Михайловича по совместной службе во время мировой войны барон П. Н. Врангель утверждал, что «неглупому и ловкому Семёнову не хватало ни образования (он кончил с трудом военное училище), ни широкого кругозора». Вряд ли можно считать справедливым последнее утверждение, тем более что биограф Атамана так рассказывает о его увлечениях, которые вполне могли помешать успешному прохождению курса: «Помимо чисто военных занятий, Григорий Михайлович уделял очень много времени изучению русской и переводной литературы. В особенности он увлекался поэзией. Результатом этого было то, что он сам занялся писанием стихов, которых за это время написал значительное количество. Большинство из них посвящены или воспеванию природы, или страданиям русского народа (! - А. К.). Довольно обстоятельно проштудировал он и русскую критическую литературу, изучив главным образом Белинского, Добролюбова и Писарева (несколько странные вкусы для казачьего юнкера. - А. К.)».
Сам Семёнов, очевидно, впоследствии сурово оценил свои поэтические «грехи молодости», не сохранённые им даже для детей (дочь его вспоминала: «...Некоторые родные уверяли, что он и сам писал стихи, но я его стихов не читала и подтвердить не могу»), а вот любовь к русской классике, которую в рамках общеобразовательных дисциплин старались прививать будущим офицерам, сохранилась у Атамана до конца его жизни. Что же касается критиков «прогрессивно-демократического направления» в качестве объектов «штудий» юнкера Семёнова - приходится допустить некоторую сумбурность его юношеских воззрений, хотя более поздние упоминания о монархизме Атамана свидетельствуют, что «прогрессивные» соблазны младых лет, если они и были, оказались успешно преодолёнными. 3 ноября 1909 года Семёнов был произведён в младшие урядники, а это было бы невозможным при плохой успеваемости или предосудительном поведении.
В стенах училища судьба впервые свела Семёнова с офицером, также вошедшим в историю с неизменным добавлением к фамилии - «Атаман». Капитан Александр Ильич Дутов, преподававший юнкерам тактику и конно-сапёрное дело, в годы Смуты станет Атаманом своего родного Оренбургского Войска (Семёнов - Забайкальского), Походным Атаманом всех Восточных Казачьих Войск (Семёнов - Походным Атаманом трёх Дальневосточных), генерал-лейтенантом... и, как и Семёнов, завершит свой жизненный путь трагической гибелью от рук чекистов. Дутов и Семёнов встанут рядом в истории Гражданской войны, на страницах советских энциклопедий рядом с их именами появятся специальные статьи «Дутовщина» и «Семёновщина», оба они войдут в списки героев Белого Дела и в синодики его мучеников - учитель и ученик, Оренбуржец и Забайкалец, два будущих Атамана...
Но пока до этого ещё далеко - и один читает другому лекции, а тот, может быть, тайком сочиняет в это время стихи. Они ещё ничего не знают, и История для них ещё не началась.
* * *
Произведённый в хорунжие 6 августа 1911 года, Г. М. Семёнов с 19 августа был зачислен в списки 1-го Верхнеудинского полка. Вскоре офицер, свободно объяснявшийся на монгольском, бурятском и калмыцком языках - что в общем не выглядит удивительным для выросшего в Забайкалья юноши, - был командирован на территорию Монголии для топографических съёмок, а затем оставлен при 6-й сотне своего полка, охранявшей русское консульство в Урге - столице Халхи (Внешняя Монголия), где как раз в это время назревали важные события.
Хал ха входила тогда в состав Китая, но 29 ноября - 1 декабря 1911 года там произошёл переворот, и китайский амбань (губернатор) вынужден был поспешно покинуть Ургу, сопровождаемый монгольским и русским конвоем. Через много лет Григорий Михайлович с удовольствием вспоминал свои решительные действия в смутные дни переворота, когда он стал на сторону восставших. Впрочем, как рассказывал впоследствии Атаман, «наш консул нашёл, что моё вмешательство в дела монгол может послужить поводом для обвинения нас в нарушении нейтралитета, и, по настоянию Министерства Иностранных дел, я получил предписание в 48 часов покинуть Ургу».
Дальнейшая служба Семёнова скучна и обыденна, и рутина скрашивается лишь чтением, привычки к которому он не оставил и в офицерском чине. По-прежнему с истинно кавалерийской смелостью бросаясь в области, ранее ему неизвестные, хорунжий изучает политэкономию по университетскому учебнику, подтрунивания однополчан - «Вы, Григорий Михайлович, очевидно, готовитесь сделаться экономистом» - парируя: «Политическая экономия есть наука, без которой не обойтись нашему народу».
19 апреля 1913 года Семёнов командируется в 1-й Читинский полк, а Высочайшим приказом от 20 декабря - переводится в Приморье, в 1-й Нерчинский. Вскоре его назначают начальником полковой учебной команды, и в эти же дни неугомонный характер Семёнова готов толкнуть его на новое, довольно неожиданное предприятие.
Существует краткое упоминание, что Григорий Михайлович якобы собирался поступить в Институт восточных языков во Владивостоке («Восточный Институт для подготовления к службе в административных и торгово-промышленных учреждениях восточно-азиатской России и прилегающих к ней государств»), чему помешала начавшаяся мировая война. Современный автор расценивает это как желание выйти в отставку и избрать новую карьеру, однако такое объяснение следует решительно исключить, поскольку по существовавшим правилам офицер обязан был пробыть на действительной военной службе по полтора года за год обучения; для Семёнова срок этот составлял четыре с половиной года и закончился бы, не начнись война, только в начале 1916-го, так что летом 1914-го говорить об отставке было невозможно. Но допустима другая версия: кроме кандидатов на заявленное в наименовании учебного заведения «административное и торгово-промышленное» поприще, через институты и курсы восточных языков могла проходить и ещё одна категория обучаемых - будущие разведчики. Заманчиво предположить, что интересы и задатки молодого офицера были замечены кем-то из начальства, и ему предназначалась военно-дипломатическая или разведывательная стезя, подготовительным этапом которой могла стать систематизация языковых и этнографических знаний. Россия укрепляла свои позиции в северных областях распадающегося Китая, и энергичные, а может быть, и авантюристичные люди были как раз ко времени.
Однако всё это остаётся лишь неподтверждёнными предположениями, тем более что спокойное течение жизни всей страны было решительно и грозно прервано. 21 июля Нерчинский полк, за два дня до этого спешно отозванный с лагерного сбора из-под Никольска-Уссурийского на станцию Гродеково, на подходе к ней узнал о начале войны с Германией.
* * *
В конце сентября 1914 года Уссурийская бригада, куда входили Нерчинцы, уже прибыла под Варшаву, где в первом же поиске разъездом Семёнова было взято в плен несколько германских пехотинцев. Маневренный период Великой войны становится хорошей школой для молодого офицера, а заложенные в нём способности и «кавалерийское сердце» как нельзя лучше проявятся утром 10 ноября 1914 года, когда он, по его собственному рассказу, возвращаясь из разведки, увидел вражеских кавалеристов, напавших на обоз, при котором находилось и знамя Нерчинского полка. Бросив свой разъезд в атаку, Семёнов навёл на противника такую панику, что превосходящие силы немцев бежали без оглядки.
Однако далее начинаются загадки. Спасение полковой святыни было подвигом, который следовало отметить орденом Святого Георгия, и в литературе встречаются упоминания о награждении или хотя бы представлении Григория Михайловича к «белому крестику». Но официальных документов на этот счёт до сих пор не выявлено, а сохранившиеся фотографии позволяют утверждать, что знак ордена появляется на груди есаула Семёнова - уже Атамана и героя Белого движения - не ранее осени 1918 года (позднее он носит рядом с ним и «орден Святого Георгия образца, установленного для Особого Маньчжурского Отряда» за отличия в борьбе с большевизмом). Как бы то ни было, для окончательного вывода - не заглохло ли наградное делопроизводство на какой-либо промежуточной стадии и не самочинно ли Атаман надел-таки заветный крест - документальных оснований пока нет.
А вскоре, 2 декабря, Семёнов вновь отличился, и это дело, пусть и с запозданием (Высочайший приказ от 26 сентября 1916 года), было отмечено также очень почётным Георгиевским Оружием. Различные свидетельства продолжают и далее рисовать образ отчаянного, инициативного, волевого офицера, по заслугам получавшего боевые ордена и ускоренное - «за отличия в делах против неприятеля» - чинопроизводство. С 10 июля 1915 года Семёнов занимал должность полкового адъютанта, требовавшую отличного знания офицерского состава полка, подробностей быта и полкового хозяйства, а в начале 1916 года принял командование над 6-й сотней полка.
Наступившее к концу 1916-го затишье мало удовлетворяло его. «В это время началось оживление на турецком фронте, — рассказывает Атаман, - и ввиду того, что наши Забайкальские полки находились в Персии, я возбудил ходатайство о своём переводе в 3-ий Верхнеудинский полк, куда и прибыл в январе месяце 1917 года». Там, близ берегов Урмийского озера (которое Семёнов почему-то считал «знакомым каждому школьнику по Священной истории» Генисаретским[31]), он узнал о совершившемся в России Февральском перевороте.
Несмотря на удалённость Кавказского фронта и, на первых порах, значительную моральную устойчивость казачьих полков, в войска быстро начали внедряться идеи анархии, отрицания дисциплины, недоверия и подозрительности по отношению к офицерам. Однако нельзя сказать, чтобы Семёнов в этой ситуации растерялся. Пользуясь расположением казаков, он избирается ими в корпусной комитет, выдвигается в командиры своего полка (отказался, «считая, что на поле битвы не время заниматься выборным началом») и вообще оказывается перед перспективой неплохой революционной карьеры. Не видя, однако, в Персии точки приложения своих сил, в мае Семёнов возвращается в 1-й Нерчинский полк, где избирается делегатом на 2-й Круг Забайкальского Войска, намеченный на август в Чите, и... пишет надолго определивший его судьбу проект, оказавшийся вполне в русле тогдашнего «строительства революционной армии».
«Не исключалась возможность, - рассказывал впоследствии Атаман, - под флагом “революционности” вести работу явно контрреволюционную. Среди широкой публики мало кто в этом разбирался; важно было уметь во всех случаях и во всех падежах склонять слово “революция”, и успех всякого выступления с самыми фантастическими проектами был обеспечен». Ещё из Персии Семёнов списался с «бурятами, пользующимися известным влиянием среди своего народа», а после возвращения в Нерчинский полк отправил А. Ф. Керенскому письмо с проектом бурят- монгольских национальных формирований, после чего был вызван в Петроград для более подробного доклада. Присматриваясь к столичной обстановке, оценивая её и с кавалерийской быстротой принимая решения, Семёнов, помимо своего проекта, не преминул предложить возглавлявшему «Всероссийский Центральный Комитет по вербовке волонтёров в армию» подполковнику М. А. Муравьеву и другой, не менее насущный с его точки зрения, план, о котором впоследствии вспоминал так: «...Ротой юнкеров занять здание Таврического дворца, арестовать весь “совдеп” и немедленно судить всех его членов военно-полевым судом как агентов вражеской страны, пользуясь материалом, изобличающим почти всех поголовно деятелей по углублению революции, в изобилии собранном следственной комиссией министерства юстиции и Ставкой Главнокомандующего после неудачной для большевиков июньской[32] попытки захватить власть в свои руки. Приговор суда необходимо привести в исполнение тут же на месте, - развивает далее свою мысль Григорий Михайлович, отнюдь не оставляя сомнений, каким должен был быть ожидаемый приговор, - чтобы не дать опомниться революционному гарнизону столицы и поставить его перед совершившимся фактом уничтожения совдепа». Поставить перед фактом планировалось и потенциального союзника - переворот мыслился в пользу Верховного Главнокомандующего генерала А. А. Брусилова; в конечном итоге, как считал Семёнов, именно неудачная кандидатура диктатора и провалила всю затею, поскольку генерал счёл план авантюрой. Но возникает вопрос, почему же вообще приходилось задумываться о будущей диктатуре, если устранение дезорганизующей силы в лице Совдепа, казалось бы, должно было тем самым автоматически укрепить позиции уже реально существующего Временного Правительства?
...Пройдёт почти тридцать лет, и Атаман всё-таки попадёт в руки своих заклятых врагов. Очевидно, что Военная коллегия Верховного суда СССР, на заседаниях которой слушалось «дело Семёнова», не могла пройти мимо интересующего нас эпизода, за восемь лет до этого откровенно описанного Григорием Михайловичем в своих мемуарах. «Моя активная деятельность против Советской власти началась в семнадцатом году, - якобы показал на суде Семёнов, - когда в Петрограде организовались Советы рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство хорошо понимало, какую опасность для него представляет Петроградский Совет, понимало и роль Ленина в революции. Находясь в то время в Петрограде и учитывая создавшуюся обстановку, я намеревался с помощью курсантов военных училищ организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать всех членов Петроградского Совета и немедленно их расстрелять, чтобы обезглавить большевиков».
Хотя приведённая цитата из советского источника в общих чертах и совпадает с мемуарами Атамана, написанными в конце 1930-х годов, - мы просто вынуждены подчеркнуть «якобы показал», потому что назвать юнкеров чисто красноармейским термином «курсанты» мог только большевицкий автор, но никак не кадровый русский офицер (встречаются обратные оговорки, когда курсантов машинально называют «красными юнкерами»). Ясно, что серьёзно относиться к информации, исходящей из недр советского судилища, после этого попросту нельзя, да и вообще перед нами - явная путаница.
Дело в том, что после стрельбы, развязанной большевиками на петроградских улицах 3-4 июля, даже безвольное Временное Правительство, казалось, поняло всю опасность радикальных революционных течений. В эти же дни был выписан ордер на арест Ленина, которому пришлось скрываться от следствия; очевидно, что в период кратковременного пребывания Семёнова в Петрограде вождь большевицкой партии не мог иметь никакого отношения к легальному и лояльному Совдепу, так же как и его ближайший соратник Троцкий, ставший Председателем Петросовета значительно позже, 9 сентября, на волне подавления «Корниловского мятежа». Таким образом, задержание Ленина в июле 1917-го не имело бы никакого отношения к перевороту, а было бы выполнением официального постановления законных органов юстиции; удар же по Петросовету в середине июля 1917 года был бы фактически ударом по Временному Правительству.
Понимал ли это есаул Семёнов? Похоже, что да. В своих мемуарах он откровенно расставит точки над i, рассказав о намерении, «если потребуется, арестовать Временное правительство». Впрочем, несмотря на вынашивание столь решительных планов, Забайкальский есаул неплохо владел собою, скрывая их и создавая у собеседников иллюзию полной лояльности к существующим органам власти и «революционной демократии». В результате, покидая Петроград, он увёз с собой не только полномочия на вербовку монголов и бурят в добровольческие части, но и титул «комиссара по добровольческим формированиям на Дальнем Востоке»; правда, приступать к формированию Монголо-Бурятского полка Семёнов не слишком торопился, основное внимание уделив участию во 2-м Войсковом Круге Забайкальского Казачьего Войска, открывшемся 5 августа в Чите. Лишь в конце сентября началась вербовка добровольцев, а с 15 ноября 1917 года, по одному из свидетельств, - и «официальное существование» Монголо-Бурятского полка. Но за это время произошли радикальные перемены. Вслед за большевицким переворотом 25 октября всё сильнее стал разгораться пожар новой войны - войны Гражданской.
* * *
Итак, «первый поднявший Белое знамя борьбы»... Но к моменту первого столкновения с большевиками - по Семёнову, 12 ноября — для серьёзного «сопротивления большевизму» силы были неравны, и есаулу пришлось перенести формирование своих частей поближе к китайской границе, на станцию Даурия. Сюда собирались те, вместе с кем Атаман решил начать борьбу против Советской власти. Один источник говорит, что их было семеро, другой - восемь человек, третий называет эффектную цифру тринадцать, присовокупляя: «Начал бить чёрта “чёртовой дюжиной”», - но в любом случае больших перспектив эта борьба, казалось, иметь не могла.
Тем не менее 19 декабря Семёнову удалось разоружить находившихся на пограничной станции Маньчжурия ополченцев: сочетание сообщения о демобилизации и отправке по домам с наведённым на толпу револьвером и перспективой первому шевельнувшемуся первым же и получить пулю (а самоотверженности от революционной толпы, как правило, ожидать не приходится) оказалось весьма действенным. Разоружённых солдат рассадили по заблаговременно поданным теплушкам, последняя из которых была отведена для арестованных большевицких лидеров, - и именно она породила одну из самых устойчивых «чёрных» легенд, и по сей день окружающих имя Григория Михайловича.
Советские источники единодушно сходятся на том, что на станции Маньчжурия Семёновым было учинено что-то ужасное. Однако при попытке разобраться в событиях более подробно приходится констатировать: не только цельной, но и просто сколько-нибудь последовательной картины событий составить никак не удаётся.
«Его изуверские действия, - трепеща от гнева, обличает Григория Михайловича отставной генерал советской юстиции, - которые он совершал настолько спокойно и обычно, как будто срезал кочан капусты или вырывал куст картошки, характеризует разговор, состоявшийся по телефону между ним и работником Читинского Совета.
- Что произошло на станции Маньчжурия?
- Ничего. Всё стало спокойно. Ваши красноармейцы и советчики мне уже не мешают.
- Как это понять? Вы их расстреляли?
- Нет. Я их не расстрелял. У меня патроны ценятся очень дорого. Я их повесил.
Вагон с трупами Семёнов приказал начальнику станции отправить в Читу для устрашения большевиков».
Это довольно поздняя версия (конца 1970-х годов); в 1940-м же коммунистический историк повествует: «...Отряд мятежника Семёнова напал 1 января 1918 г. (нового стиля. - А. К.) на станцию Манчжурия. Здесь он арестовал членов Манчжурского совета и солдат местной дружины и перепорол их», - что, конечно, тоже болезненно, но всё же не пуля и не петля. А современная событиям советская газета, которой, казалось бы, просто полагалось вопить о злодеяниях кровавого белобандита, всего лишь сдержанно сообщала: «Атаман Семёнов со своим бандитским отрядом в числе 27 человек напал на ст[анцию] Маньчжурия, арестовал маньчжурский комитет и совет Р[абочих] и С[олдатских] Депутатов] и объявил себя начальником гарнизона, послав генералу Хорвату (Управляющий Китайской Восточной железной дорогой. - А. К.) верноподданническую телеграмму». Таким образом, действия Григория Михайловича, согласно советской литературе, варьируются в широком спектре - от поголовных казней до отправки телеграммы. Обратив внимание на чисто техническую сложность, пусть и при самом горячем желании, двум десяткам партизан истребить или выпороть полторы тысячи ополченцев (успех разоружения был обусловлен как раз тем, что за ним последовали не репрессии, а демобилизация), мы сможем и поверить Атаману, что в отношении Маньчжурского Совдепа он тоже ограничился разгоном.
Итак, станции Даурия и Маньчжурия надёжно контролировались отрядом Семёнова; обладал он и достаточным запасом отобранного у ополченцев оружия; слава о событиях 19 декабря уже распространялась по Забайкалью и даже дальше; наконец, за спиною полоса отчуждения КВЖД была в значительной степени очищена генералом Д. Л. Хорватом и китайскими войсками от большевизированных воинских частей и казалась вполне надёжным тылом... и есаул Семёнов решил, что пора переходить в наступление.
На что мог он надеяться, начиная поход против охваченного смутой Забайкалья? Прежде всего, силы белых постепенно возрастали. К Рождеству 1917 года, согласно одному из источников, кадр Монголо-Бурятского полка уже насчитывает 9 офицеров, 35 добровольцев и 40 монгольских всадников, наконец-то начавших собираться в «свою» национальную часть. Проследовавшие с фронта через Маньчжурию в Приморье, к местам стоянок мирного времени, эшелоны Уссурийской дивизии дали 10 офицеров и 112 нижних чинов. К 9 января сам Семёнов числит в своём полку 51 офицера, 3 чиновников, 125 добровольцев, 80 монголов-харачинов и 300 монголов-баргутов. Была надежда и на дальнейшие пополнения: в Маньчжурию потянулись добровольцы, преимущественно офицеры, юнкера, кадеты, учащаяся молодёжь.
Начали появляться и средства, хотя способы их получения стали основанием для самых серьёзных обвинений в адрес Семёнова и его подчинённых. Дело в том, что есаул выставил на станции Маньчжурия своего рода заставу для проверки поездов (одним из парадоксов российской действительности в первый период Гражданской войны был почти свободный проезд по железной дороге, несмотря на начавшие уже определяться фронты). Инструкции Атамана один из его апологетов передаёт так: «Всех, имеющих большевистские документы, - арестовывать и направлять в комендантское! - распорядился Семёнов. - Деньги конфисковывать полностью. У спекулянтов отбирать всё, чтоимеется сверх трёх тысяч рублей. Всё золото, серебро, платина и опиум - конфискуется и немедленно вносится в фонд армии». Таким образом пополнялась казна маленького отряда (других источников попросту не было), но, конечно, такие методы таили в себе и угрозу развращения вседозволенностью: дело могло начинаться с праведного гнева по адресу выявленных большевиков или уличённых спекулянтов, но нельзя полностью отрицать и возможность того, что часть «конфискованного» в конце концов всё же прилипала к рукам семёновских отрядников.
Семёнов возлагал значительные упования на забайкальских казаков, считая их сторонниками твёрдой государственной власти и убеждёнными противниками большевизма. Атаман, по его собственным воспоминаниям, стремился охватить Забайкалье сетью «противобольшевистских ячеек», на вооружённое содействие которых в решительный момент он и должен был рассчитывать, вынашивая планы наступления. Таким образом, полтысячи добровольцев наступали не в пустоту и не на контролируемую Советской властью территорию, а в область, готовую, по мнению командира отряда, к взрыву против новых хозяев. Уже зная по опыту разоружения большевизированных частей, что смелость действительно города берёт, есаул мог считать себя и своих людей не столько «освободителями» пассивно ожидающего их Забайкалья, сколько детонатором для начала борьбы самих станиц. Действительность показала, что расчёт оказался ошибочным, но можно ли было всё это предполагать, вглядываясь в неизвестность с маленькой станции Маньчжурия?
В чаянии скорого очищения Забайкалья от противника и в надежде, что это воодушевит находившихся в Харбине представителей Антанты и подтолкнёт их к щедрой и действенной помощи, Семёнов, быть может, и не был таким уж фантазёром, допуская при содействии союзников возможность «обезопасить Сибирскую магистраль и организовать боевые силы в помощь ген[ералу] Дутову» (сражавшемуся в Оренбуржьи). Отметим здесь и упомянутое в дипломатической переписке намерение есаула «поставить себя под начало хорошо известного лидера»: всё, чтомы привыкли думать о Григории Михайловиче, его своевольстве и бунтарстве, расходится с этим самоотверженным решением, - а ведь он даже предпринял в этом направлении конкретные шаги, направив доверенного офицера ни к кому иному, как к находившемуся тогда в Шанхае адмиралу А. В. Колчаку.
«Просить его прибыть в Маньчжурию для возглавления начатого мною движения против большевиков», - вспоминает инструкции, данные своему посланцу, сам Атаман. «...Он сказал, - свидетельствует адмирал, - что было бы очень важно, если бы я приехал к Семёнову поговорить, так как нужно, чтобы я был в этом деле. Я сказал: “вполне сочувствую, но я дал обязательство, получил приказание от английского правительства и еду на Мессопотамский фронт”».
Итак, ещё один диктатор (после Брусилова), которого Семёнов звал «княжить и володеть», не оправдал его надежд. Есаул оставался один на один со своим врагом, но отступать не собирался. Давно осознанная им необходимость рассчитывать в первую очередь на свои силы уже побудила его изменить первоначальный план формирований: с 9 или 10 января 1918 года, кроме Монголо-Бурятского конного полка, было положено начало пешему полку, получившему название Семёновского. «Это, в свою очередь, повлекло за собой изменение самой конструкции собиравшейся боевой силы, - пишет один из первых историков борьбы Атамана Семёнова. - Именно, вместо полка образовался Отряд[33], который по месту формирования - посёлок Маньчжурия - был назван Маньчжурским, а так как он представлял собой самостоятельную единицу, и притом вполне законченную, то получил ещё название Особого, т. е. Особый Маньчжурский Отряд, сокращённо О. М. О.».
Начальником Штаба Отряда стал полковник Л. Н. Скипетров, Семёнову же, в силу «казачьих традиций» и ненормальности ситуации, когда младший по чину оказывался во главе старших его, вскоре было преподнесено неуставное звание Атамана Отряда. Именно с этого момента и навсегда он останется Атаманом; одноимённые выборные должности в родном Войске и других Дальневосточных Войсках будут, как и всякая демократическая игрушка толпы, приходить к нему и уходить, но лишить его титула Атамана первых добровольцев на Востоке России уже никто никогда не сможет.
* * *
Сперва казалось, что боевые действия, начатые 11 января, развиваются успешно, и Семёнов уже выделил особый дивизион для броска на Читу, однако образовавшийся там ещё 3 января так называемый «Забайкальский Народный Совет» из представителей городских самоуправлений, «Комитета общественной безопасности», Съезда сельского населения Области и Совдепов, при поддержке убоявшегося «кровопролития» Войскового Атамана полковника В. В. Зимина, обратился к Семёнову с просьбой остановить наступление. Не желая выглядеть в глазах населения Области ещё одним узурпатором власти, Атаман отвёл войска и лишь просил Народный Совет не допустить установления большевицкой диктатуры.
Здесь мы впервые сталкиваемся с весьма интересной ситуацией: не только партийные и общественные деятели, но и казаки-Забайкальцы, несмотря на казачье происхождение Семёнова, фактически не признают Атамана «своим». Для них он, в сущности, не выразитель их интересов и (пока) не защитник их от большевиков, а вожак офицерско-добровольческой организации, которая воспринимается как «чуждая» и, в зыбких условиях января 1918-го, даже, пожалуй, как «провоцирующая гражданскую войну». Оценка Григорием Михайловичем боеспособности казачества оказалась явно завышенной, и ещё в большей степени это относится к надеждам на активное сопротивление станичников большевизму. В начале февраля Народный Совет был разогнан, и власть захватил единолично большевицкий Совдеп. Единственным благоприятным эффектом неудавшегося наступления стало начало реальной помощи небольшому отряду со стороны союзников по Антанте.
Конечно, эта помощь диктовалась отнюдь не альтруизмом: в лагерях на территории Иркутского военного округа находилось до 135 000 военнопленных австро-германо-турецкого блока, перспектива вооружения и использования которых на фронтах ещё продолжавшейся Великой войны чрезвычайно пугала союзников России. Атаман с успехом разыгрывал эту карту, представляя борьбу своего Отряда как попытки создания нового «противо-германского фронта», хотя в действительности до этого было ещё далеко. «При таких условиях поддержка зарождающегося белого движения прямо отвечала интересам держав Согласия», — отмечал много лет спустя Атаман, однако справедливость требует упомянуть, что он и сам не смущался принимать услуги тех военнопленных, которые изъявляли желание принять участие в борьбе против большевизма. Вообще надо сказать, что Особый Маньчжурский Отряд, начиная с февраля, всё больше и больше приобретает вид какого-то «интернационала». Монголо-Бурятский полк, несмотря на название, пополняется в основном русскими, зато в других частях появляются монголы и китайцы; проходящий в полосу отчуждения КВЖД Итальянский батальон (из бывших австрийских подданных, попавших в плен) делится с Атаманом пулемётами и автомобильным шасси, смастерить из которого броневик берутся трое бельгийцев, остающихся на русской службе; наконец, выделяет из своего состава около трёхсот добровольцев 2-я бригада 1-й Югославянской дивизии, также двигающаяся во Владивосток для отправки в Европу.
Но готовился к более серьёзному столкновению, конечно, не только Семёнов. «Центросибирью» (Центральным исполнительным комитетом Советов Сибири) был создан Забайкальский фронт, руководить которым приехал бывший прапорщик, социал-революционер С. Г. Лазо. Силы противника семёновцы оценивали (вряд ли сильно преувеличивая) в 2 500-3 000 человек с артиллерией. Напирая, большевики отжимали Маньчжурский Отряд на восток, в последних числах февраля подойдя к Даурии.
Кажется, именно тогда белым пришлось впервые столкнуться с проявлением их врагами не стихийного разгула и «эксцессов толпы», а сознательного садизма. «Серба Радославовича, взятого в плен в феврале месяце при Даурии, раздели донага, поставили в таком виде в снег и приставили к нему часовых, на глазах которых он должен был замёрзнуть, - свидетельствовали семёновцы. - Но когда Радославович потерял сознание и упал, изверги ушли; между тем несчастный очнулся и пустился бежать по направлению отряда[34]. На 12-ой версте его встретил разъезд отряда, одел и согрел, но руки и ноги оказались отмороженными, и теперь он калека». Ещё нескольких пленных впоследствии нашли распятыми «при помощи ружейных штыков, вбитых в руки и ноги». Естественно, что подобная картина не могла не породить ответного ожесточения, и в Маньчжурском Отряде, в свою очередь, начинаются расстрелы пленных.
Однако у Атамана были весомые причины сдерживать гнев своих подчинённых. Среди войск Лазо находился едва ли не в полном составе 1-й Аргунский казачий полк, и расправляться с поддавшимися советской пропаганде станичниками - значило отталкивать от себя население Забайкалья. Кроме того, время работало на семёновцев: начиналась весьма выразительная «наглядная агитация» со стороны набранных в красные отряды уголовников, в полной мере проявивших себя после взятия Даурии устроенным там погромом.
И всё-таки малочисленным войскам Атамана приходилось пятиться обратно к границе. Разрушая за собою железнодорожные пути, семёновцы отрывались от своих противников, не очень рвавшихся в бой, и уходили обратно на свою базу. В начале марта большевики стали оказывать давление на китайские власти, чтобы те не пропустили семёновцев в полосу отчуждения КВЖД, поставив таким образом измождённых белогвардейцев между молотом и наковальней: «Официально предложил китайцам или разоружить Семёнова, или выдворить из Манчжурии, - доносил 11 марта Лазо. - Нами даны гарантии неприкосновенности китайцев. Гражданская война не перейдёт границу. Китайцы заявили, что ими запрещён набор семёновцев в Китае и что они строго нейтральны». Однако Атаман сумел привлечь на свою сторону генерала Чжан Куй-У, в начале февраля назначенного вторым помощником китайского Главнокомандующего в полосе отчуждения, и отступил за демаркационную линию, перейти которую большевики не посмели. Надо сказать, что и в дальнейшем станция Хайлар, где Чжан Куй-У держал свой штаб, оставалась едва ли не более надёжным тылом семёновцев, чем постоянно интригующий Харбин.
В том, что «столица КВЖД» заслуживала именно такой характеристики, Атаману пришлось убедиться в ближайшие же недели, когда он оказался перед угрозой чуть ли не открытия нового фронта у себя в тылу - и отнюдь не против иноземцев.
* * *
В Харбине к этому времени было объявлено о создании целого «корпуса», хотя реально к концу марта сформировали лишь отряд полковника Н. В. Орлова численностью до трёх рот пехоты с четырьмя пулемётами и четырёхорудийной батареей. Возглавлять все русские силы в полосе отчуждения КВЖД был назначен генерал М. М. Плешков, не имевший ни серьёзного авторитета среди офицерства, ни необходимой энергии. Нужен был человек, более подходящий для подобной должности... и в начале апреля в Харбин приезжает адмирал А. В. Колчак.
Первоначально он, как вспоминал Семёнов, обуславливал своё участие в борьбе наступлением момента, «когда родина позовёт его», и теперь Атаман должен был испытывать немалую обиду, поскольку «позвала» Колчака вовсе не «родина», а всего лишь российский посол в Китае князь Н. В. Кудашев, в согласии с представителями Антанты убедивший адмирала направиться в полосу отчуждения. Первоочередной задачей Колчак счёл контроль над расходованием средств и воинского имущества, и на этой почве у него впервые начинает зарождаться предубеждение против Атамана. Семёновские реквизиции получали широкую известность и порождали массу слухов, будто добытые таким путём ценности реализуются в пользу отнюдь не войск, сражающихся на фронте, а отдельных лиц, причастных к этой операции. Доказательств, правда, так никогда и не было представлено (как и доказательств противного), но щепетильно-честный и импульсивный Колчак безусловно должен был возмутиться подобными порядками, в то время как Атаман, наверное, столь же искренне не понимал, почему он, командир единственного реально воюющего отряда, не мог прибегнуть к реквизициям, коль скоро руководство КВЖД играло в штабы и парады, фактически отказывая ему в систематической и планомерной помощи. Не могла у него вызывать симпатии и позиция адмирала, предполагавшая длительный период подготовки к борьбе против большевизма - к борьбе, которая на самом деле уже давно шла среди маньчжурских сопок. Очевидно, в таких условиях личный конфликт двух военачальников был неизбежен. Он и разразился при их личном свидании.
Колчак резонно настаивал, что для дальнейшей работы необходимо хотя бы распределить участки деятельности и оговорить условия и формы получения помощи из средств КВЖД; обиженный Семёнов заявил, что ему вообще помощь не нужна — если захочет, он сам найдёт себе источники снабжения. «...Я напомнил адмиралу, - рассказывал двадцать лет спустя Григорий Михайлович, - что, приступая к формированию отряда, я предлагал возглавление его и ему самому, и генералу Хорвату... В настоящее же время, когда я с ноября месяца прошлого года оказался предоставленным самому себе, я считаю вмешательство в дела отряда с какой бы то ни было стороны совершенно недопустимым...» И надо сказать, что Семёнов был безусловно прав в одном: в тогдашних условиях любое взаимное подчинение самостоятельно зарождающихся и независимо существующих сил могло быть не более чем актом доброй воли со стороны их руководителей.
Следует заметить, что неприязнь Колчака усугублялась тем, что адмирал видел в поведении командира Особого Маньчжурского Отряда приметы сильного японского влияния. В то же время реальные возможности для помощи со стороны Англии и Франции были весьма невелики, и выбор главного союзника следовало делать между Японией и Америкой. Однако последняя, помимо общей нерешительности и колебаний по «русскому вопросу», ту или иную степень своего участия обуславливала гораздо большим, нежели Япония, вмешательством во внутренние русские дела, стремясь оказывать давление на политику антибольшевицких сил постоянными и довольно бессмысленными заклинаниями о «демократии» и панической боязнью «реакции». Политика же японцев представляется не менее своекорыстной, нередко более грубой, но, пожалуй, и... более честной. Разумеется, у них были свои интересы на Дальнем Востоке, и именно этими интересами диктовались все их действия. Но будем справедливы: за достижение своих целей они готовы были платить не только реальной помощью - в первую очередь оружием - русским антибольшевицким формированиям, но и по самому большому счету - кровью своих солдат, проливаемой в боях с советскими войсками и партизанами. Эта помощь частично (оружие) уже была предоставлена, частично (направление экспедиционных дивизий) ожидалась с недели на неделю, а расплата... с расплатой можно было и подождать до восстановления Единой, Неделимой... и сильной России.
В общем, всё это понимал и Колчак, но, прямой и щепетильный, он откровенно не желал даже поднимать разговора о возможных «компенсациях за помощь». На этом фоне Семёнов казался японским военным представителям в полосе отчуждения союзником более предпочтительным, и они повели довольно неумную интригу против адмирала. Считая, что Семёнов без помощи и поддержки японцев держался бы гораздо скромнее, адмирал устроил скандал обретавшемуся в Харбине японскому генералу и уехал на переговоры в Токио; Атаман тоже уехал, но в противоположном направлении - к своим войскам на станцию Маньчжурия, откуда вовсю развивалось очередное наступление в Забайкалье.
* * *
Борьба там не прекращалась и после февральско-мартовской неудачи, и Атаман не оставлял надежд поднять широкое народное движение на слабо контролируемой обеими сторонами территории «от границ Маньчжурии и до реки Онона». Надежды эти, однако, так и не воплотились в жизнь даже после того, как недоформированный Маньчжурский Отряд вновь перешёл границу.
Недоброжелатели ворчали, что причиной наступления было недовольство поддерживавших его общественных кругов, якобы заявлявших, «что те, кто даёт деньги... требуют каких-либо видимых результатов, сетуя на ничегонеделание всех отрядов», хотя это вряд ли может считаться главной причиной: не пожелавшего подчиниться Колчаку есаула трудно представить в роли послушного наёмника каких-то «общественных деятелей». Ближе к истине выглядит аргументация самого Атамана, указывавшего на развёрнутые большевиками формирования: в стремлении упредить противника и не дать ему укрепиться в Забайкалья регулярными частями, есаул Семёнов и бросил в бой свои 5 000 добровольцев.
Позднее сам Атаман и его апологеты, подчёркивая важность созданного им фронта, приписывали руководимой Лазо группировке численность от 26 000 до 30 000 человек. Это значительное преувеличение - более адекватные оценки дают цифру около 10 000 бойцов, хотя следует признать, что она составляла около трети общего числа всех красногвардейцев и красноармейцев Сибири, «причём, - по оценке современного историка, - наиболее подготовленных и вооружённых». Напротив, контингент Маньчжурского Отряда был довольно рыхлым, а присутствие в его рядах представителей разных национальностей создавало известные трудности в управлении.
Население же Забайкалья по-прежнему оставалось пассивным. Это признавал и Семёнов, вспоминавший, что оно мало сочувствовало белым, - но, с другой стороны, и красные не получили активной поддержки: вновь прибывающие в Область казаки-фронтовики расходились по домам, ограничиваясь обещаниями читинским агитаторам «в случае нужды явиться». И всё-таки до падения большевизма было ещё очень далеко.
Начавшееся 7 апреля и вызвавшее большой переполох наступление Особого Маньчжурского Отряда захлебнулось уже в начале мая. Оказалось непростым преодоление Онона: красные успели взорвать железнодорожный мост, что мешало подвозу боеприпасов переправившимся семёновцам и поддержке их огнём самодельных бронепоездов; а после того как противник ввёл в бой свежие силы (свыше 1 000 штыков при 14 орудиях - столько пушек было во всём Маньчжурском Отряде), 18 мая была сдана и недавно освобождённая Оловянная. Три Забайкальских казачьих полка, развёрнутых после объявления Атаманом мобилизации, не оказались ни многочисленными, ни надёжными. Коренным семёновским добровольцам и ему самому по-прежнему приходилось ощущать полное одиночество.
Мало помогли и попытка придать больший вес своему предприятию образованием 15 апреля «Временного Правительства Забайкальской Области» во главе с Атаманом, и повышение Семёнова в чине - по просьбе соратников он стал именоваться полковником (миновав таким образом чин войскового старшины). Вместе с тем его не стоит и обвинять в чрезмерном самовольстве или тем более сепаратизме: с провозглашением 9 июля генералом Хорватом себя «Временным Правителем России» Атаман подчинился ему, а генерал взамен произвёл есаула d полковники, официально утвердив сомнительное «именование». Пока, впрочем, власть Временного Правителя оставалась чисто номинальной, а территория, контролируемая Забайкальским Правительством Семёнова, быстро сокращалась.
Несмотря на эйфорию, охватившую было Харбин с началом апрельского наступления, сокращалась и денежная помощь, а тыл не давал подкреплений. Напротив, читинские большевики с присущей им энергией призывали к оружию «всех, всех, всех» - и тогда же, за десять дней до отступления Особого Маньчжурского Отряда от Оловянной, появляется документ, говорящий сам за себя:
«Пленарным собранием Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов Сибири мятежный контрреволюционер есаул Семёнов, поднявший знамя восстания против советской власти при помощи иностранных денег и орудий, пытающийся разгромить её, грабящий и разоряющий станицы трудового забайкальского казачества, объявляется врагом народа [35] , стоящим вне закона.
Все те, кто тайно или открыто, прямо или косвенно, путём ли вооружённой поддержки или снабжением боевыми или продовольственными припасами, будет содействовать Семёнову и его бандам, все те, кто путём агитации, устной или письменной, расчищающей путь Семёнову, организуя контрреволюцию [36] , - все эти тёмные элементы объявляются врагами народа, врагами трудовой республики Советов.
Всё имущество их, в чём бы оно ни состояло и где бы оно ни находилось, подлежит немедленной конфискации в пользу Российской Федеративной Советской Республики».
Впрочем, борьба Особого Маньчжурского Отряда в одиночестве продолжалась лишь неделю после отступления с линии Онона: 25 мая в Поволжья, Сибири и во Владивостоке вспыхнуло восстание Чехо-Словацкого корпуса, совместно с офицерскими организациями начавшего борьбу против большевиков вдоль всей Транссибирской железнодорожной магистрали. Выступление чехословаков не отвлекло на себя, однако, тех сил, которые уже были брошены большевиками в бой против Семёнова на «Даурском фронте», поэтому неправильно было бы ни утверждать, подобно атаманским апологетам, будто наступавшие с запада русские и чешские части смогли прорваться в Забайкалье чуть ли не исключительно благодаря Маньчжурскому Отряду, ни приписывать подобную же роль чехам в отношении семёновцев; наиболее взвешенным представляется заключение современника: «Дальневосточная пресса совершенно правильно рассматривала победу чехо-словаков в Западной и Прибайкальской Сибири как общее дело[37] с отрядом Атамана Семёнова. Одно без другого не могло бы достигнуть успеха, оба вместе дали победу».
Стратегическое взаимодействие стало оперативным после того, как на первой неделе августа, сломив сопротивление советских войск, «Восточный фронт» белых под командованием чешского полковника Р. Гайды проложил себе дорогу в Забайкалье. Отряд Семёнова, к этому времени вынужденный вновь отступить на станцию Маньчжурия после жесточайших двухнедельных боев 13-28 июля у станции Мациевской (об их накале красноречиво свидетельствует неудачная попытка большевиков протаранить поезд Атамана вагоном-брандером, начиненным взрывчаткой и баллонами с удушливым газом), возобновил активные действия, имея целью «немедленным движением на Читу отвлечь на себя силы красных, чтобы облегчить чехам проход по Сибирской железной дороге на восток».
Вперёд бросилась семёновская конница, менее чем в две недели очистившая пространство от границы до Онона и к концу месяца вновь вышедшая к Оловянной; тем временем 28 августа на станции Урульга партийно-советская конференция приняла решение о переходе к партизанским формам борьбы. 30-го на Оловянной произошла встреча передовых частей Восточного фронта и Особого Маньчжурского Отряда: «Сообщаю, что имею уж сообщение с Семёновым», - доносит 31 августа полковник Гайда. Девятимесячная эпопея горстки атаманских добровольцев завершилась воссоединением с братьями по оружию.
* * *
Переговоры с сибиряками начались, правда, не без взаимной настороженности, а подчинённый Гайды чешский капитан Э. Кадлец даже «со свойственной ему прямотой заявил, что, если нужно силой оружия усмирить непокорных, то он готов немедленно двинуть свой отряд». Однако опасения, что Семёнов не проявит лояльности к утвердившемуся в Омске Временному Сибирскому Правительству, не имели серьёзных оснований. Ещё двадцатью днями ранее Атаман распустил Забайкальское Правительство; доказал свою несостоятельность и «Временный Правитель России» Хорват, небольшой отряд которого не был пропущен чехами в освобождённый уже ими Владивосток, а пребывание там самого генерала превратилось в череду унизительных для его самолюбия и престижа принятого им титула переговоров с союзниками. В ситуации, когда серьёзной представлялась лишь омская власть, Семёнов с готовностью заявил о её признании, как только выяснил стремление Временного Сибирского Правительства бескомпромиссно «продолжать борьбу с большевиками до полного их уничтожения» и ещё раз получил подтверждение своего полковничьего чина и должности начальника Отряди. Вскоре Семёнов назначается на пост командующего 5-м Приамурским армейским корпусом, куда должны были войти реорганизованные части Особого Маньчжурского Отряда и формируемая 8-я Читинская стрелковая дивизия.
«1-го сентября, - писал Атаман в приказе по Отряду, — части отряда вошли в соприкосновение с частями Временного Правительства, власть которого простирается от Урала до нас. Объявляя эту искренно радостную встречу, я убеждён, что совместной работой мы, все русские, объединимся в дружном стремлении к достижению общей цели спасения Родины».
Дело объединения, однако, шло туго. Уже прибытие в Читу передовых частей Маньчжурского Отряда, состоявшееся в первые дни сентября, вызвало глухой ропот иных горожан: «демократическая» Сибирская Армия не носила погон, заменив их нарукавными нашивками в виде щитка с замысловатыми знаками различия, - семёновцы же свои погоны, бывшие в глазах многих символом «проклятого прошлого», не снимали никогда и снимать не собирались. «Опять заблестели погоны», - ворчали «сознательные товарищи», хотя за подобные реплики можно было и угодить в контрразведку; впрочем, чуть ли не через день погоны восстановили и во всей Сибирской Армии. Хуже оказалось другое: ещё не остывшие от яростной и неравной борьбы, быть может, озлобленные против «мирного населения» за его пассивность и готовые за косой взгляд платить ударом нагайки, если не шашки, - семёновцы принесли с собой в освобождённое Забайкалье дух мести и розни, а вовсе не «объединения всех нас, русских». Рознь эта не имела классового характера - современник не без удивления замечал: «...Были случаи, когда в сёлах богатые крестьяне объявляли себя защитниками советской власти, а бедные - поддерживали атамана Семёнова», объясняя это тем, что зажиточные несли основные тяготы, связанные с постоем войск, реквизициями и проч., а бедняки могли идти к Атаману в надежде поживиться; точно так же резкий недоброжелатель, повторяя газетные крики о «порках учительниц, начальников станций и телеграфистов», признавал: «Это проделывали те же самые учителя и телеграфисты», вышедшие у Семёнова в офицеры. Причины крылись, очевидно, не в политической или социальной сфере, а в области психологии - рисковавший своей жизнью почти неизбежно разучался дорожить жизнью, безопасностью или тем более благополучием тех, кто от любого риска старался уклониться...
Интересно, что Семёнов, по-видимому, как и прежде не воспринимается широкими массами Забайкальцев «своим». Во главе Войска остаётся полковник Зимин (с которым почему-то никто не попробовал посчитаться за его по сути предательскую позицию в дни январского наступления), ещё и жаловавшийся, «что когда в Забайкалья была свергнута Советская власть, то Сибирское Правительство назначило Атамана Семёнова Командиром Корпуса Дальне-Восточных Войск[38] и подчинило ему Забайкальское Войско (на самом деле не Войско как административную единицу, а полки, состоявшие из казаков-Забайкальцев и сформированные тем же Семёновым. - А. К.), то есть выбранный Войсковой Атаман остался без реальной силы и в подчинении у Атамана Семёнова». Жалобы не соответствовали действительности, о чём говорит хотя бы тот факт, что когда Амурское и Уссурийское Казачьи Войска в октябре 1918 года избрали Григория Михайловича своим Походным Атаманом, - от земляков-Забайкальцев он такой чести не удостоился.
О причинах этого, в общем, можно догадываться. В то время как в Забайкальской Области красное партизанское движение широко затронуло лишь восточную, наиболее труднодоступную её часть (район Сретенска и Нерчинска) - по терминологии Семёнова, это был вообще не «Забайкальский», а «Амурский фронт», - Области Амурского и Уссурийского Войск были охвачены партизанщиной в гораздо большей степени, что ложилось дополнительным гнетом на плечи местного населения. Поэтому слабые Амурцы и Уссурийцы[39], нуждаясь в помощи, должны были обращать свои взоры к «старшему брату» и видеть в Атамане заступника, Забайкальцы же, гораздо менее пострадавшие от войны, - боевые действия велись в основном вдоль линии железной дороги, - могли позволить себе относиться к Семёнову, семёновцам и «семёновщине» критически и роптать на их реквизиции и расправы.
Отрицать ни того, ни другого не приходится. Не имея правильно организованного довольствия, Маньчжурский Отряд, Инородческая дивизия, да и Забайкальские полки жили в значительной степени «самоснабжением» с неизбежными при этом проявлениями произвола, усиливающимися в партизанских районах. То же относится и к поркам - так, когда рабочие Читинских железнодорожных мастерских попробовали пригрозить забастовкой, экзекуция оказалась столь чувствительной, что два дня после неё мастерские не смогли работать уже безо всякой забастовки, - и к самочинным арестам с нередко следовавшими за ними «ликвидациями» арестованных (причастных к большевизму или партизанскому движению или подозреваемых в этом). Расстрелы или «рубка» заключённых на станциях Маккавеево, Даурия или в троицкосавских «Красных казармах» стали для Забайкалья кровавой притчей во языцех; особую известность стяжала семёновская «Броневая дивизия», и сами названия входивших в неё бронепоездов, как говорили, недаром составляли весьма сурово звучащий девиз: «Атаман Семёнов - грозный мститель, беспощадный истребитель, бесстрашный усмиритель, отважный каратель и справедливый повелитель» (бронепоезда именовались соответственно «Атаман», «Семёновец», «Грозный», «Мститель» и так далее).
В то же время большинство сведений об этом «разгуле семёновщины» относится к области слухов, охотно добавляющих к числу жертв столько нулей, сколько требуется для пущего эффекта. При попытках же разобраться сразу начинаются вопросы, за давностью лет и скудостью информации уже нерешаемые, - вроде того, что арестовывались люди как будто семёновцами, а «ликвидировались» офицерами совсем других частей, к Атаману не имевших отношения, и т.п. Наконец, в случае своевременного вмешательства удавалось расправы - судебные или внесудебные - пресекать, а побывавший в Забайкалье омский премьер-министр П. В. Вологодский вынес из общения с Семёновым довольно благоприятные для последнего впечатления.
Говоря об Атамане Семёнове и установленном им «режиме», необходимо обратить внимание и на другую сторону медали. Жёсткая, нередко жестокая внутренняя политика избавила Читу от большевицкого мятежа, подобного тем, какие под руководством Сибобкома РКП (б) были подняты в конце 1918 - начале 1919 года в Омске, Томске, Енисейске и других городах Сибири, - а следовательно, и от неизбежных при его подавлении ответных репрессий: в Забайкальской столице революционная деятельность ограничивалась одиночными выстрелами из-за угла и тому подобным мелким бандитизмом, причём одной из жертв едва не стал сам Григорий Михайлович - 19 декабря в городском театре в него была брошена бомба, и Атаману с осколочными ранениями ног пришлось слечь в постель.
Слухи о мнимых и сведения о подлинных нарушениях законности в Забайкалье, достигая Омска, повлекли в середине октября командировку в Читу двух уполномоченных - Е. Е. Яшнова от имени председателя совета министров и Генерального Штаба полковника А. Н. Шелавина от военного министра. «Мне часто казалось, что Семёнов жаждет дружеского внимания, между тем Семёнов изолирован, так как даже местные конституционные] демократы] держатся в стороне», - резюмировал потом Яшнов; действительно, очень похоже на правду, что Атаман ухватился за возможность ещё раз объясниться непосредственно перед представителями центральной власти, без участия многочисленных «доброжелателей». И он не ошибся: «...Более широкое знакомство с настроениями читинских общественных кругов и местными условиями, а также мои и полковника Шелавина впечатления от личных встреч и разговоров с Атаманом, убеждают меня, что в наших предположениях о якобы царящем в Забайкалье произволе власти было много преувеличенного, - писал из Читы Яшнов. - Это во-первых. Во-вторых, виновниками даже и тех правонарушений, какие в действительности имели место, видимо, приходится считать не столько самого Атамана, сколько некоторых из его подчинённых». Шелавин же в своём докладе был по- военному деловит: «В отношении поручения моего, изложенного в предписании, есть полное основание ожидать, что оно разрешится успешно и даст тот результат, который выдвинут командармом на первый план - создание правопорядка и нормальных взаимоотношений. Основанием для подобного заключения служит то, что полк[овник] Семёнов идёт навстречу установлению законного порядка, будучи готов для этого даже поступиться неотъемлемыми своими правами и интересами». Основываясь на полученной информации, а возможно - и на личном общении с Семёновым, уже сам командующий Сибирской Армией генерал П. П. Иванов-Ринов, в том же октябре проезжавший через Читу в Харбин и Приморье, тоже вынес уверенность, что есть полная возможность установить его подчинение во всех отношениях, как командира Корпуса». Впрочем, писалось это 19 ноября 1918 года, когда в далёком Омске произошли события, поставившие оптимистические выводы под сомнение и добавившие Григорию Михайловичу новой - и тоже скандальной - известности.
* * *
Речь идёт о произошедшем 18 ноября перевороте и последовавшем за ним возведении, по решению совета министров, адмирала Колчака на пост Верховного Правителя России и Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами. В ответ на известия об этом в Омск начали поступать приветствия и сообщения о «признании» адмирала: социалистическо-либеральная Директория не пользовалась авторитетом у консервативных кругов и военных. Впрочем, «признали» всё-таки не все...
Не стоит считать Атамана Семёнова поборником права и законности, возмущённым своевольными действиями «переворотчиков». Методы их деятельности были вполне в его вкусе, да и любить Директорию ему - в глубине души монархисту или в крайнем случае стороннику военной диктатуры - было абсолютно не за что. Гнев Атамана вызвало другое: Верховным Правителем для соблюдения формальностей было назначено судебное следствие, и вот этого-то Григорий Михайлович терпеть решительно не желал, направив Колчаку возмущённую телеграмму: «Означенные русские офицеры первые со мной подняли знамя борьбы за спасение отечества и, как преданные верные сыны, покрыли свои имена славой ярых и грозных борцов с большевизмом, как походный атаман Дальне-восточных казачьих войск, протестую против насилия над лучшими сынами русского казачества и категорически требую отмены над ними суда и немедленной высылки их в моё распоряжение, их имена принадлежат суду истории, но не вашему. [В] случае неисполнения моего требования я пойду на самые крайние меры и буду считаться лично с вами».
Семёнов не догадывался, что назначенному суду предстояло превратиться в суд над Директорией, а заговорщики были в результате... произведены в следующие чины. Конфликт казался исчерпанным, но арест «переворотчиков» был, как выяснилось, далеко не единственной претензией Атамана к адмиралу. Телеграммой Вологодскому (копии - Дутову, Хорвату, Иванову-Ринову) Семёнов 23 ноября категорически заявлял: «Историческая роль и заслуги перед родиной Особого Маньчжурского Отряда, напрягавшего в течение 8 месяцев свои силы в неравной борьбе с общим врагом родины, стянутым для борьбы с Отрядом со всей большевистской Сибири, - неоспоримы. Адмирал Колчак, находясь [в] то время на Дальнем Востоке, всячески старался противодействовать успеху моего отряда, и благодаря ему отряд остался без обмундирования и припасов, имевшихся тогда в распоряжении адмирала Колчака (это, как мы знаем, не совсем справедливо, хотя неправы в конфликте были, в общем, обе стороны. - А. К.), а посему признать адмирала Колчак[а] как верховного правителя государства не могу. На столь[40] ответственный перед родиной пост я, как командующий дальневосточными войсками, выставляю кандидатов генералов Деникина, Хорвата и Дутова, каждая из их[41] кандидатур мною приемлема».
Заметим, что признание новой власти в условиях Гражданской войны по-прежнему являлось актом доброй воли каждого из представителей «власти на местах», и Семёнов имел все основания выдвинуть на пост Верховного Правителя другие кандидатуры, тем более что существует упоминание о первоначальном сговоре Атамана с Хорватом, который якобы обещал ему поддержку в противодействии Колчаку, но по двуличию или слабоволию быстро переменил своё мнение и оставил Григория Михайловича в одиночестве. Ситуация усугублялась взрывным и импульсивным характером Семёнова: не дождавшись, да, кажется, и не дожидаясь ответа, он через несколько часов «подкрепил» своё требование весьма рискованным дополнением.
«...Если в течение 24 часов после получения [вами] указанной телеграммы (с выставлением кандидатур Деникина, Дутова и Хорвата. - А. К.) я не получу ответа [о] передаче[42] власти одному из указанных мною кандидатов, являющихся единственно приемлемыми для всех активных бойцов с врагами Родины, я временно, впредь до создания на западе для всех приемлемой власти, объявляю автономию Восточной Сибири. Изложенное решение диктуется необходимостью не допустить [в] Восточной Сибири возможных волнений [в] связи [с] реконструкцией власти на западе. Никаких личных целей в этом случае я не преследую, и как только будет передана власть одному из указанных кандидатов, я немедленно и безусловно ему подчиняюсь», - телеграфировал Семёнов в Омск... а тут ещё в Сибирскую столицу начали поступать тревожные сведения о перебоях на железной дороге и в телеграфной связи.
Семёнов впоследствии с резонным возмущением цитировал протокол допроса Колчака, действительно не отличающийся внятностью: «Мне доложили, - говорил адмирал, - что прямого провода нет, что Чита прервала сообщение. Я предложил начальнику Штаба выяснить этот вопрос. На это мне ответили СОВЕРШЕННО НЕОПРЕДЕЛЁННО, ГОВОРИЛИ, ЧТО НИКАКОГО ПЕРЕРЫВА НЕТ, А ВСЁ-ТАКИ МЫ НЕ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВЛАДИВОСТОК[43]; было ясно (?), что перерыв находится в Чите»; «Затем я получил известие, которое ПОТОМ ОКАЗАЛОСЬ НЕДОРАЗУМЕНИЕМ, но тогда на меня произвело впечатление чрезвычайно серьёзное: это была первая угроза транспорту с оружием, обувью ит. д., задержанному где-то на Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороге]. Впоследствии оказалось, что это было не предумышленной задержкой, а задержкой благодаря неполадкам на линии; мне же доложили это так, что я поставил это в связь с перерывом сообщения и решил, что дело становится очень серьёзным, что Семёнов уже задерживает не только связь, но задерживает доставку запасов».
Что произошло с прямым проводом, так до сих пор и неясно; транспортные же задержки легко объяснимы, если учесть, что железнодорожные рабочие, по свидетельству современника, к середине декабря 1918 года не получали заработной платы уже в течение трёх месяцев, и жизнь на линии поддерживалась едва ли не исключительно распоряжением Семёнова выдавать им бесплатные обеды в обмен на установление 10-часового рабочего дня. Направленный в Читу начальник военных сообщений Сибирской Армии генерал А. М. Михайлов, расследовав сложившееся положение дел, уже к концу ноября убедился в отсутствии злонамеренных задержек, а отказ от претензий на власть всех выдвинутых Семёновым кандидатов (за Деникина отказался приехавший с Юга через Москву Генерального Штаба полковник Д. А. Лебедев) как будто вновь создал почву для мирного разрешения конфликта. Семёнов и его сторонники утверждали позднее, что телеграмма о признании Колчака была после этого составлена и даже отправлена на телеграф, когда, как гром среди ясного неба, 1 декабря грянул приказ Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего № 61[44]: «Командующий 5-м отдельным приамурским армейским корпусом полковник Семёнов за неповиновение, нарушение телеграфной связи и сообщений в тылу армии, что является актом государственной измены, отрешается от командования 5-м корпусом и смещается со всех должностей, им занимаемых». «Привести в повиновение всех не повинующихся... действуя по законам военного времени», поручалось главному герою омского переворота - генералу В. И. Волкову, чем наглядно демонстрировалось единство правительственного лагеря в борьбе против новоявленного «мятежника».
Семёнов справедливо чувствовал себя оскорблённым. Вместе с тем он не отказывался от переговоров с посланцами Волкова - сначала полковником Красильниковым, а затем полковником Катанаевым, выражая готовность к подчинению при условии отмены приказа № 61 и, в свою очередь, подчинения Колчака Деникину после соединения с Добровольческой Армией. Катанаеву, прибывшему в Читу 11 декабря, даже было разрешено обратиться с увещеваниями непосредственно к местному офицерству, для чего созвали всех командиров батальонов и сотен. Те, однако, поддержали своего начальника, повторив Катанаеву требование об отмене пресловутого приказа и ходатайствуя перед Семёновым об... аресте волковского эмиссара. Не пойдя на это, Атаман всё же предложил ему покинуть Читу, что и было выполнено вечером 13 декабря.
Однако Волков, настроенный весьма решительно, сделал попытку двинуть на «семёновское царство» имевшиеся в его распоряжении войска. Неудачу этого предприятия и советские и эмигрантские («колчаковского» лагеря) авторы относят обычно на счёт вмешательства японского командования - в Забайкалье уже была введена целая дивизия, - заявившего, что оно не допустит вооружённого столкновения; при этом, однако, забывается гораздо более важный фактор - нежелание самих подчинённых Волкова участвовать в междоусобице: в то время как вернувшийся в Омск генерал Иванов-Ринов, будучи в подпитии, провозглашал, «что тот, кто против Колчака, изменник родины и смерть ему», - в Иркутске столь же разгорячённые водкой офицеры Волкова заявляли, «что Колчак оклеветал Семёнова, и они этого ему не простят», и пили за здоровье Атамана. Авангард, который должен был быть брошен на Читу, отказался даже грузиться в вагоны, и единственным, что оставалось Волкову, стало задержание, быть может в качестве заложников, нескольких семёновских офицеров, оказавшихся в зоне его досягаемости, в том числе генерала Г. Е. Мациевского.
Этот поступок дал Атаману хороший аргумент против тех, кто обвинял его в нежелании «поддержать общую борьбу» отправкой своих войск на основной противобольшевицкий фронт или хотя бы в охваченную партизанским движением Енисейскую губернию. Теперь Григорий Михайлович резонно заявлял, что такие войска, проезжая через Иркутск, первым делом освободят задержанного Мациевского и невольно дадут тем самым основание для дальнейших обвинений; непонятно было также, как мог выступить на фронт ошельмованный и «отрешённый» Семёнов, формально находясь под действием приказа № 61.
В те же дни, однако, Атаман не только безвозмездно предоставил Оренбургскому Казачьему Войску 400 винтовок с 48 000 патронов, 20 000 тёплых фуфаек и ряд других предметов снаряжения, но и заявил в частной беседе о готовности послать «на Уфимский или Оренбургский фронт... одну казачью дивизию, одну бригаду пехоты, один дивизион конной артиллерии, один инженерный баталион, один железнодорожный баталион и три броневых поезда», что составило бы около трети находившихся в Забайкалья сил. Однако никто не поймал Семёнова на слове, Главное Командование не воспользовалось ситуацией, и конфликт перешёл в вялотекущую стадию.
Со стороны «Читинской партии» самым агрессивным действием этого времени следует считать выпуск в начале 1919 года анонимной брошюры «Адмирал Колчак и Атаман Семёнов» с грубыми выпадами против Верховного Правителя и призывом: «Долой его! Сам Колчак - это олицетворение честолюбия - добровольно не уйдёт, нужно его убрать», - хотя никаких реальных попыток в этом направлении предпринято не было. Попробовал Атаман, наконец, заручиться поддержкой выдвигаемого им в Верховные генерала Деникина, но в Екатеринодаре готовились к официальному признанию Колчака Верховным Правителем России (соответствующий приказ Деникина был издан 12 июня 1919 года) и поддерживать «мятежника» не собирались.
«Омская партия» вела себя гораздо активнее. В начале февраля 1919 года была создана специальная «Чрезвычайная Следственная Комиссия для расследования действий полковника Семёнова и подчинённых ему лиц», выехавшая в Читу и проработавшая там не менее двух месяцев. Члены комиссии неоднократно жаловались на чинимые им препятствия, однако наряду с этим они получили и довольно широкие возможности для опроса свидетелей, сбора документов и формулирования ряда нелицеприятных заключений, - так и не найдя, впрочем, подтверждений основным обвинениям в адрес Атамана. Некоторые шаги, надо сказать, были предприняты Омском и не дожидаясь каких-либо заключений.
Позицию Колчака в этом конфликте принято характеризовать как слабую и едва ли не униженную перед «нахрапистым забайкальским соловьём-разбойником» и его «японскими покровителями»; по-видимому, так же оценивал её и сам Верховный Правитель. С другой стороны, можно ли посчитать «слабой» власть, которая в пылу борьбы позволяла себе приостановить финансирование подчинённых Атаману войск, фактически бросив несколько корпусов (Семёнов как раз разворачивал 5-й корпус в Восточно-Сибирскую Отдельную Армию) на произвол судьбы и вынуждая их к ещё более активному «самоснабжению» со всеми «дискредитирующими армию» последствиями?! Когда же Семёнову, который должен был кормить своих подчинённых, пришлось прибегнуть к «выемке денег» из Читинского отделения Государственного банка (управляющий немедленно пожаловался на «стеснение коммерческих операций») и попробовать наложить руку, до открытия армейских кредитов, на таможенные сборы Маньчжурской таможни и винный акциз, - это было, разумеется, квалифицировано как новые беззакония «белого хунхуза». Не отрицая беззаконного характера подобных действий, следует признать в то же время, что Григорий Михайлович хорошо понимал простую, однако не всем очевидную истину: как бы ни дрались «паны», у «хлопцев» не должны трещать чубы...
Время шло, и всё яснее становилось, что конфликт изжил себя. У Атамана не оставалось другого выхода, кроме официального признания Верховного Правителя, у адмирала - кроме формальной реабилитации своего «оппонента»; в этом же направлении неустанно работали генералы Хорват и Иванов-Ринов. Потепление, которое, как и полагается, наступило весной, даже повлекло избрание Семёнова Походным Атаманом его родного Забайкальского Войска. Усиление «семёновской партии» привело и к тому, что на собравшемся Войсковом Круге Григорий Михайлович был 9 июня 1919 года большинством почти в три четверти голосов избран Забайкальским Войсковым Атаманом. Не дождавшись отмены приказа № 61, он 27 мая «заранее выразил свою готовность подчиниться правительству, возглавляемому Верх[овным] Прав[ителем] адм[иралом] Колчак[ом]».
Скорее всего, Семёнов имел сведения о готовившейся реабилитации, хотя оформивший её приказ Верховного получил уже после цитированной телеграммы. Редакция приказа, однако, наглядно показала, что на уступки во имя общего дела пошёл действительно Атаман, а отнюдь не Колчак. «Ознакомившись с материалом следственной комиссии по делу Полковника Семёнова и не найдя в деяниях названного штаб-офицера состава Государственной измены, приказ мой от 1-го декабря 1918 года за № 61 - отменяю», - писал адмирал, фактически совершая новую несправедливость, ибо такая формулировка подразумевала, что инкриминировавшееся Атаману «нарушение телеграфной связи и сообщений в тылу армии» имело место (а этого не сумел доказать никто из его противников), но заключала в себе не измену, а что-нибудь другое (мелкое хулиганство?). Не лучше был и второй параграф приказа, низводивший Григория Михайловича с должности командующего Отдельной Армией на роль командующего неотдельным (в составе Дальневосточного военного округа) корпусом, в который переформировывалась Восточно-Сибирская Армия, - и тем самым не только наносивший удар по самолюбию, но и существенно урезавший административные и дисциплинарные права Семёнова. Итак, в дни, когда на главном фронте захлёбывалось весеннее наступление, в тылу адмирал одержал политическую победу: Семёнов делал уступку за уступкой.
Впрочем, и подчиняясь, и уступая, он всё равно оставался самим собой.
* * *
Именно с этой точки зрения - как неизменное своеволие или даже продолжающуюся «фронду» и «оппозиционность» Колчаку - принято оценивать деятельность Атамана Семёнова и после состоявшегося примирения. Произведённый по ходатайству Войскового Круга в генерал-майоры (июль 1919 года), он, утверждают критики, по-прежнему не исполнял приказаний Верховного Правителя, вёл чуть ли не двойную игру и, как и ранее, «не давал ни одного солдата на внешний фронт». И последнее обвинение, многократно повторяемое, слишком серьёзно, чтобы не уделить ему внимания.
В действительности вопрос состоит в том, было ли у Семёнова для этого достаточно свободных войск. Даже автор, приписывавший Атаману отказ «влить свою армию в армию Колчака», мотивировал этот поступок так: «там она бы растаяла, а в Забайкалья, обеспечивая порядок в тылу и на ж[елезной] дороге на протяжении 2-х тысяч вер[ст], она всё равно служила общему делу». А ведь Атаману, в сущности, едва хватало сил для борьбы с партизанами Восточного Забайкалья.
Формально численное преимущество было на стороне белых - по некоторым оценкам, до 9 500 штыков и шашек против 2-3 тысяч в «партизанской армии» бывшего прапорщика П. Н. Журавлева, - но, как косвенно признавал сам Григорий Михайлович, из пяти дивизий, находившихся в его распоряжении, надёжными были лишь две - менее половины. Крылись ли причины этого в недостаточных способностях Атамана к серьёзному и планомерному военному строительству, в неизжитости большевизма населением и специфическом составе последнего (наряду с казаками - крестьяне, «варнаки» из каторжных, массы военнопленных мировой войны), в длительном периоде «двоевластия» и двусмысленного положения Семёнова, - но факт остаётся фактом: ни доверия к войскам, ни железной руки, которая смогла бы в любых условиях принудить их к повиновению и заставить драться с полной отдачей, в Белом Забайкалья не было.
Кроме того, красные партизаны обладали несомненным оперативным преимуществом в силу самого характера своих действий. Нападая в удобный для себя момент там, где это было им выгодно, и в случае неудачи уходя на оборудованные в тайге базы, они держали в руках инициативу: громадные пространства (расстояния на этом театре исчисляются сотнями вёрст) и упомянутый недостаток войск делали невозможной эффективную борьбу. При попытках Журавлева организовать широкомасштабные наступления он неизменно бывал бит, но проводить операции по очищению труднопроходимых таёжных районов семёновцы оказывались не в состоянии. В то же время им удалось загнать основные силы партизан в северо-восточный угол Забайкальской Области и обеспечить бесперебойную работу Транссибирской железной дороги, сунуться к которой было чрезвычайно опасно: по линии метались, грозя округе своими орудиями, поезда Броневой дивизии, пользовавшиеся у населения и противника репутацией какого-то стихийного бедствия.
Кроме того, обвинения Атамана в нежелании поделиться войсками не выдерживают критики и с точки зрения фактов: несколько полков и более мелких частей и подразделений выдвигались из Забайкалья в полосу отчуждения КВЖД, Приморье и Иркутскую губернию, а не занимавшие штатных должностей офицеры в соответствии с приказом Семёнова ещё от 25 апреля 1919 года подлежали «немедленной» отправке в Омск, в распоряжение дежурного генерала Штаба Верховного Главнокомандующего. А ведь на плечах 29-летнего Атамана лежала и дополнительная, совсем немалая ответственность: как-то забывается, что он ходом событий был поставлен на стражу русских рубежей и русского влияния в регионе, в период, когда влияние это терпело значительный ущерб. Как представляется, именно с этих позиций следует оценивать семёновские «монгольские проекты».
26 февраля - 6 марта 1919 года в Чите состоялся съезд представителей монголов и бурят, принявший решение о собирании «всех монгольских племён в одно государство» (Внешняя и Внутренняя Монголии, Барга и «Бурятская Монголия»). Инициатором объединения выступил лама из Внутренней Монголии Нэйсэ-Гэгэн Мэндэбаяр, избранный на съезде премьер-министром «Временного Правительства независимого Монгольского государства».
Переполох в омских правительственных кругах вызвало присутствие на съезде Атамана Семёнова, который обещал новому государству внешнеполитическую поддержку, первоначальное финансирование, организацию внешнего займа и помощь оружием (вплоть до артиллерии) и боеприпасами, за что был избран «Советником первого класса при Временном Правительстве» и возведён в княжеское достоинство («цин-вана»). Посланник в Пекине князь Кудашев тогда же предостерёг правительство Колчака против «затеи Семёнова», считая, что она может спровоцировать Китай на пересмотр ранее заключённых договоров в ущерб «нашим весьма ценным договорным правам» и дестабилизирует обстановку. Омское министерство иностранных дел, в свою очередь, резко выступило против «монгольской авантюры», не встретившей поддержки и у других великих держав. Не пожелала входить в состав нового государства и Внешняя Монголия, хотя её теократическому главе Богдо-Гэгэну и был предложен в нём пост «правителя». А к обвинениям в адрес Семёнова добавился ещё и ярлык «сепаратиста».
Проект присоединения к «пан-монгольскому государству» российских подданных — бурят - действительно был самым предосудительным во всей этой истории с точки зрения участия в ней Семёнова, хотя оснований для инкриминирования Атаману государственной измены (напомним, в Чите в это время работает следственная комиссия, обратившая внимание и на «монгольскую авантюру») так и не нашлось. Очевидно, «самоопределяющаяся» бурятская интеллигенция не нуждалась в приглашениях Атамана, вступив в сотрудничество с Нэйсэ-Гэгэном по собственной инициативе. Что же касается внешнеполитической ситуации, то её оценка князем Кудашевым выглядит по меньшей мере спорной.
На самом деле равновесие на Дальнем Востоке и так уже было нарушено крушением Российской Империи, в значительной степени игравшей роль гаранта широкой автономии, которой пользовались Внешняя Монголия и Барга в составе Китайской Республики. Произошедшая в России революция всемерно усилила позиции Китая, фактически начавшего экспансию во Внешней Монголии и даже в полосе отчуждения КВЖД, и повлекла переориентацию халхасских правящих кругов, теперь отказывавшихся от своего прежнего русофильства. В этой ситуации логика Атамана Семёнова, видимо, была проста, безыскусственна и вполне достойна колониальных методов ведения войны: продажей оружия племенам создать для китайских властей достаточно серьёзные заботы, чтобы отучить их от вмешательства в чужие дела, и укрепить свои собственные позиции в глазах монголов, возвращая России статус державы-покровительницы. Мы не случайно заговорили о «продаже», ибо ещё в начале 1919 года Семёнов добился предоставления России приоритетных прав на устройство концессий в Монголии, до строительства железных дорог включительно, которые вполне стоили выданных монголам винтовок и должны были сохранить силу даже после падения правительства Нэйсэ-Гэгэна.
Последнее, не получив признания, заколебалось, командующий войсками князь Фушенга был перевербован китайцами и ликвидирован семёновцами, а самого Нэйсэ-Гэгэна убили китайские агенты. Попытка восстановить влияние России в регионе игрой на монголо-китайских противоречиях сорвалась, в первую очередь - из-за отсутствия поддержки Омска, смотревшего на ситуацию другими глазами. Впрочем, внешняя политика, по едва ли не единодушному признанию современников, вовсе не была сильным местом правительства Колчака...
Монгольскими концессиями Атаман некоторое время дразнил американскую миссию, вопреки слухам о своём «японофильстве» обещая не подпускать к ним японских предпринимателей. Его готовность к сотрудничеству, однако, натолкнулась на резкую неприязнь командовавшего американским союзным контингентом генерала У.-С. Грэвса, позднее в своих мемуарах изобразившего Семёнова каким-то исчадием ада, а о его войсках написавшего буквально, что они «наводняли страну подобно диким животным»... С именем Грэвса, на наш взгляд, оказывается связанным и запутанное дело о «золоте Колчака», в определённый момент ставшем «золотом Семёнова».
Дело это принадлежит к разряду тех, о которых «все знают», но которые не становятся от этого яснее. Обычно всё сводится к утверждениям, что «читинский соловей-разбойник» «украл» (или «захватил») вагон (несколько вагонов, эшелон, две тысячи пудов) золота из состава золотого запаса Российской Империи, отбитого у большевиков ещё летом 1918 года и теперь переправляемого (эвакуируемого) на Дальний Восток. Однако ни точная дата этого вопиющего деяния, ни какие-либо достоверные подробности ещё не приводились, и наиболее странным выглядит то обстоятельство, что о «захвате» и даже вообще об отправке золота на Восток умалчивает в своём дневнике омский премьер-министр Вологодский, скрупулёзно отмечавший все политические новости. Не проясняет ситуации и телеграмма адмирала Колчака Семёнову, опубликованная несколько лет назад по неизвестно кем снятой копии и не имеющая даты. «Повелеваю, - говорится в ней, - немедленно отправить два вагона с золотом по назначению. Удивляюсь несоответственным подозрениям[45] против избранных мною лиц. Золото предназначено для обеспечения наших заказов в Японии». По косвенным данным, телеграмма не могла быть отправлена ранее последней декады сентября 1919 года, и в эти же дни происходят события, позволяющие лучше реконструировать обстановку в Чите и состояние духа, в котором пребывал Атаман Семёнов.
Япония была не единственным «получателем» русского золота за передаваемое войскам Верховного Правителя оружие. Около 750 пудов отправили через Владивосток во Францию, близка была договорённость и о передаче «соответствующего количества золота» в США как гарантии крупного займа. Ценный груз шёл через Читу, и ничего страшного с ним вроде бы не происходило, но с получением оплаченного имущества неожиданно возникли проблемы.
Сидевший во Владивостоке генерал Грэвс заявил, что «приостанавливает отправку всех видов поставок в Сибирь, пока Колчак не примет решительных мер к обузданию Семёнова и Калмыкова (Атаман Уссурийского Казачьего Войска. - А. К.)». Союзный военачальник наложил руку и на уже выгруженные в Приморье винтовки, золото за которые было американской стороной благополучно оприходовано. Таким образом, обвинения в адрес Григория Михайловича, будто он продолжал задерживать воинские грузы, получили «подтверждение»: Атаман и вправду препятствовал их доставке... самим фактом своего существования, тем, что занимал доверенный ему пост, тем, что в меру своих сил и разумения боролся с большевизмом, наконец, тем, что вызывал к себе ненависть мистера Грэвса, переходившую всякие разумные границы.
Надо сказать, что американские солдаты в Приморье делали свой маленький бизнес, продавая боеприпасы и даже оружие красным партизанам, а сам генерал Грэвс, возможно, делал бизнес побольше, укрывая дезертиров из белых полков и с демагогической аргументацией задерживая снабжение для изнемогаюшего в борьбе фронта. Всё это было известно Семёнову, и нам, зная его взрывной характер и готовность не считаться ни с кем в действиях, которые он сам считал справедливыми, - нетрудно представить реакцию Атамана: «так не будет же вам никакого золота!»
Очередной конфликт, как и полагается, затянулся. Генерал Грэвс снял эмбарго лишь в конце октября (не «захват» ли золота повлиял на него?), 10 ноября Правительством адмирала Колчака была оставлена сибирская столица - Омск, и 12-го поезд Верховного, а также эшелон, эвакуирующий золотой запас, медленно тронулись на восток. То, что застряло в Чите, вполне могло так там и остаться, - всё рушилось, отступающая армия замерзшими трактами шла через мёртвую ледяную тайгу, становилось не до раздоров с Атаманом Семёновым, который виделся теперь чуть ли не в ореоле спасителя: один из офицеров-Сибиряков вспоминал, что у них оставалась последняя вера «в союзническую помощь японцев и в безжалостную силу атамана».
И, даже не оправдав всех надежд, Григорий Михайлович, вопреки тому, что говорили недоброжелатели о его «сепаратизме», делал в эти дни крушения всё, чтобыло в его силах.
* * *
Тыловые нестроения уже перерастали в открытые мятежи. Стремясь нанести удар ослабевшей власти, постоянно оппозиционная «общественность» - в Сибири она носила преимущественно социал-демократическую и социал-революционную окраску - группировалась и сплачивалась в кружки, самым влиятельным из которых становился иркутский «Политический Центр», и начинала громогласно выступать за отрешение адмирала Колчака от власти и «прекращение гражданской войны». В последнем требовании, выглядевшем вполне пацифистски, недвусмысленно звучала угроза сначала примирения с наступающими большевиками, а там - и капитуляции перед ними, ибо считать равными договаривающимися сторонами аморфные интеллигентские группы и громаду советской 5-й армии отнюдь не приходилось.
21 декабря вспыхнуло восстание на Черемховских угольных копях, в ночь на 22-е перекинувшееся в Иркутск. Там в это время находилась часть совета министров; там же присутствовали значительные чехословацкие контингенты; там же были и «Высокие Комиссары» союзных держав и Главнокомандующий союзными армиями, французский генерал М. Жанен... но надеяться на них Верховный Правитель, очевидно, не мог, и 24 декабря из своего поезда адмирал назначает Атамана Семёнова Главнокомандующим всеми вооружёнными силами в тылу, с подчинением ему командующих военными округами (в том числе и Иркутским) и с производством в генерал-лейтенанты. Колчак, таким образом, прямо указывал, на кого следовало уповать в сложившейся ситуации, и его выбор немедленно вызвал настоящий переполох среди всего собравшегося в Иркутске «высшего общества».
Выехавший в Читу ещё накануне иркутского мятежа С. Н. Третьяков, замещающий премьер-министра В. Н. Пепеляева (тот сменил незадолго до этого Вологодского), решил и, возможно, тогда же сообщил своим коллегам из совета министров, что Семёнов и его приближённые «стали думать о возможности уже путём революционным создать власть». Заподозрив Атамана в стремлениях к перевороту, Третьяков сбежал в Харбин, откуда, проездом в Японию и далее - в Европу, объявил о сложении с себя обязанностей заместителя председателя совета министров и управляющего министерством внутренних дел[46]. Обезглавленный иркутский кабинет образовал нечто вроде «триумвирата» (немедленно иронически окрещённого «троекторией») в составе военного министра генерала М. В. Ханжина, заменившего Третьякова А. А. Червен-Водали и товарища министра путей сообщения А. М. Ларионова, но уверенности правительственному лагерю это не прибавило.
Более серьёзные проблемы для беспокойства были у «союзников» - ведь они уже ступили на путь сговора с бунтующей «общественностью», а в перспективе - и с большевиками, - сговора, который не мог состояться иначе, как на костях сражающейся русской армии. Захватившие железную дорогу чехословаки уже обрекли на гибель тысячи беженцев и раненых, брошенных в замерзающих составах, без паровозов и топлива, и вынудили боеспособные части двигаться, терпя неслыханные лишения, походным порядком. Задержан был даже поезд Верховного Правителя, что повлекло вызов на дуэль, направленный оскорблённым генералом В. О. Каппелем чешскому Командующему генералу Я. Сыровому. Тогда же последовала и телеграмма Атамана, которую один из читинских офицеров почти двадцать лет спустя восстанавливал по памяти так:
«Главнокомандующему Русской Армией ген[ералу] Каппель, копия ген[ералу] Сыровому, Кабинету Министров, Союзному Командованию.
Ваше Превосходительство, Вы в данный грозный и ответственный момент нужны для Армии. Я вместо Вас встану к барьеру и вызываю генерала Сырового, дабы ответить за оскорбление, которое нанесено его частями доблестной Российской Армии, героически сражающейся сейчас с красными под Вашим командованием.
Атаман Семёнов», —
но искать благородства в «союзниках» (это слово уже обоснованно можно было заключать в кавычки) оказалось занятием бесполезным: генерал Жанен «не разрешил» своему подчинённому дуэли, а сам Сыровой постыдно промолчал.
В Иркутске тем временем началась стрельба. Часть гарнизона переметнулась на сторону повстанцев, возглавляемых вышедшим на сцену Политическим Центром, союзники же объявили район, занятый мятежниками, «нейтральной зоной» и обстреляли правительственные войска. 27 декабря Семёнов ещё пытался упрекать Жанена в творимом им предательстве и просил «не чинить препятствий к выполнению подчинёнными мне войсками моего приказа о немедленном подавлении преступного бунта и о восстановлении порядка», но время разговоров уже прошло. На помощь Верховному Правителю нужно было прорываться силой.
Наскоро собранный сводный дивизион из трёх бронепоездов под общей командой ротмистра К. И. Арчегова двинулся на запад, имея приказ не останавливаться перед применением оружия и по дороге забирать с собою в качестве подкреплений любые части с линии железной дороги, по соединении же с адмиралом поступить в его распоряжение. Вслед за авангардом был брошен не менее импровизированный отряд генерала Скипетрова (иррегулярный конный полк, стрелковый батальон и телеграфная рота), которому следовало принять под свою команду весь гарнизон Иркутска.
Это было отнюдь не лишним — большинство находившихся в городе генералов во главе с Ханжиным плохо представляло себе, что следовало делать, колебалось и склонялось к переговорам. Гораздо активнее вели себя чехи, утром 31 декабря таранившие переднюю площадку головного бронепоезда «Атаман» пущенным навстречу паровозом (даже если усомниться, было ли это делом рук именно «союзников», несомненным остаётся, что чехи могли бы помешать диверсии, от кого бы она ни исходила), а при попытке Арчегова и подошедшего Скипетрова атаковать повстанцев - предательски открывшие по белым огонь.
Сам Скипетров оказался в этой ситуации явно не на высоте, не выполнив ясно сформулированного приказа Атамана — прорваться на выручку Колчаку или хотя бы настоять перед «союзниками» на беспрепятственном пропуске в Читу поезда Верховного. «Троектория», в свою очередь, позорно капитулировала перед Политцентром, в конце концов передав адмиралу требование «подать в отставку». Окончательно дезориентированный Скипетров отвёл свой отряд: попытка Атамана Семёнова спасти адмирала Колчака сорвалась.
«Союзники», очевидно, решили использовать закон войны: не терять инициативы, развивая успех во что бы то ни стало. Следующим их ударом по Белому Забайкалью было нападение и разоружение 9 января 1920 года отрядов генерала Скипетрова на станции Байкал и ещё одного семёновского подчинённого, генерала Богомольца, на станции Посольская. О скоординированности этих акций говорила их одновременность, несмотря на то, что нападения производились различными контингентами: на Байкале - чехами, в Посольской - американцами. Если бы этот участок железной дороги перешёл под контроль Жанена, стала бы несомненной гибель «каппелевской» армии, прокладывавшей свой крестный путь к берегам Байкала.
Допустить этого Семёнов не мог и в ответ на предательские действия иностранцев использовал последнее средство, остававшееся в его распоряжении: пригрозил взорвать Круго-Байкальские железнодорожные тоннели, после чего линия оказалась бы парализованной, а чехам пришлось бы двигаться к Владивостоку, где их уже ждали союзные пароходы для отправки домой, - пешком, бросив свои комфортабельные поезда с обильной «военной добычей», вывозимой из разграбленной России. Играть по таким правилам они испугались и вынуждены были отступиться. Скипетров, Богомолец и их люди получили свободу, а дорога осталась под контролем русских войск. Семёнов же распорядился о подготовке встречи «каппелевцев», 9-11 февраля по льду перешедших озеро Байкал.
Принять громадную армию, вернее, табор, где перемешались бойцы и беженцы, здоровые и тифозные, боеспособные и «потерявшие сердце», насчитывавший, по разным оценкам, 20-25 тысяч человек, было задачей непростой. Тем не менее Атаман старался делать всё возможное: на «прибрежную» станцию Мысовую подавались поезда, вывозившие в первую очередь больных и раненых, для обносившихся каппелевцев открыли забайкальские склады обмундирования, под квартиры для них реквизировались помещения - «театры, кафе, гостиницы, частные квартиры, даже сараи, склады и конюшни» (всё население маленькой Читы незадолго до мировой войны не превышало 12 000 человек), а жители в специальных обращениях призывались «радушно встретить тех, перед кем мы в неоплатном долгу». В свою очередь, и среди «гостей», как вспоминал один из них, «разговоры о Семёнове, о том, что он не поддержал Колчака как следует, а вёл свою политику, что его части под Иркутском не выдержали экзамена, что вообще у него скверно и слабо, - как-то смолкли».
* * *
Смолкли, увы, ненадолго. Атаман имел все права, в том числе и юридические, чтобы с ним считались и даже - чтобы ему подчинялись: уже 19 января в Читу был доставлен подлинный указ Верховного Правителя от 4 января 1920 года - «Предоставляю Главнокомандующему вооружёнными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа Генерал-Лейтенанту Атаману СЕМЁНОВУ всю полноту военной и гражданской власти на всей территории РОССИЙСКОЙ Восточной Окраины, объединённой РОССИЙСКОЙ ВЕРХОВНОЙ властью», - но ситуация, подобная той, в которой оказался сам Григорий Михайлович после переворота 18 ноября 1918 года, теперь оборачивалась против него. Указ-завещание Верховного Правителя мог быть оспорен не в силу его неправомочности или недостоверности документа (ни то, ни другое под сомнение не ставилось), а просто потому, что воспитанное безвременьем и Смутой «каппелевское» офицерство и особенно генералитет считали себя вправе подчиниться или не подчиниться ему в зависимости от личных симпатий и представлений, какие меры считать благими для России...
Едва ли не в первые же часы пребывания на Забайкальской земле генерал С. Н. Войцеховский, заменивший умершего в походе Каппеля, собрал старших начальников, дабы «выяснить, как относиться к Атаману»; вскоре, уже по прибытии в Читу, этому же было посвящено ещё одно тайное совещание, постановившее: «Всё Забайкальское местное должно быть поглощено пришедшими Каппелевцами, как носителями общегосударственной идеи». И решение это оказалось поистине пагубным.
Между нижними чинами и строевым офицерством «семёновских» и «каппелевских» частей то вспыхивали ссоры, то устраивались не менее бурные примирения и взаимные чествования, и всё это было, наверное, в порядке вещей при столкновении двух относительно замкнутых корпоративных сообществ, каждого со своими нравами, традициями, легендой; но фронда пришедших из-за Байкала старших начальников грозила уже настоящим расколом перед лицом большевицкой угрозы.
Несомненно, что Семёнов сделал едва ли не все возможные шаги навстречу «каппелевским» генералам, не ограничиваясь передачей вновь образованной «Дальневосточной Армии» генералу Войцеховскому (для самого Атамана оставляется формальная должность «Главнокомандующего»): смена командования и реорганизации происходят и уровнем ниже, затронув даже Унгерна, вернейшего из верных, приближённого и старейшего соратника, чья Азиатская конная дивизия изымается из непосредственного подчинения Атаману и передаётся в распоряжение командующего Дальневосточной Армией, немедленно отдавшего под суд начальника унгерновского Штаба.
Отчасти эти перемены можно объяснить численным превосходством «каппелевцев» (из трёх корпусов Дальневосточной Армии они составили два, и лишь в один оставшийся вошли коренные части Семёнова, впрочем, тоже разбавленные), но не их качественными преимуществами. «Психологически это были люди, - свидетельствует о своих соратниках генерал-«волжанин», - державшиеся вместе для того, чтобы жить, оправиться и ждать благоприятной обстановки, а не закалённые бойцы при всякой обстановке, как старались их изобразить. Эти люди не хотели - ни мириться с большевиками, ни воевать без веры в успех». Неустойчивыми были и прочие контингенты, и такая ситуация, должно быть, просто заставляла переходить в продолжающемся противоборстве с большевиками к политическим методам.
Несмотря на то, что два наступления красных на Читу - в начале и конце апреля - были отбиты, 24 мая на станции Гонгота начались переговоры с ними японцев, завершившиеся в середине июля установлением «нейтральной зоны». Противник, однако, не прекратил окончательно боевых действий, продолжая вести их руками партизанских отрядов, формально никому не подчинявшихся, фактически же руководимых из общего центра.
С другой стороны, отражение красных от Читы оставляло Атаману некоторые возможности для политической игры. Дело в том, что провозглашённая 6 апреля «Дальневосточная Республика» со столицей в Верхнеудинске - марионеточное образование, намеченное большевиками на роль «буфера» между РСФСР и Восточной Окраиной (где ещё находились японцы, с которыми красные сталкивались весьма неохотно), - не имела внутреннего единства: прибайкальскую и приморскую части ДВР разделял «чёрный буфер», «читинская пробка», - район, занятый Атаманом Семёновым.
Пользуясь фактической изоляцией Приморья и колебаниями возглавлявшей его «розовой», «земской власти», Григорий Михайлович попытался вбить клин между верхнеудинским и владивостокским правительствами. С последним, как более либеральным, были начаты переговоры об объединении сил под главенством Атамана, стремившегося таким образом перетянуть на свою сторону демократические элементы «Приморской Областной земской управы». В этом случае можно было надеяться совместными действиями раздавить партизанские формирования восточнее Сретенска или, в самом крайнем случае, отступить из Забайкалья в полосу отчуждения, базируясь на Харбин и Приморье. Последний план нашёл сторонников среди «каппелевского» командования (Войцеховского на посту Командующего сменил генерал Н. А. Лохвицкий, а того, в свою очередь, - генерал Г. А. Вержбицкий), и к середине августа началась эвакуация Читы и перебрасывание тылов на Маньчжурию.
16 августа из города ушли арьергарды семёновцев, 19-го - японцы, и 19-го же на станции Хадабулак состоялось соглашение представителей Атамана с «некоммунистической частью приморской делегации в Забайкалье». «Этим соглашением, - паниковало изобилующее ошибками сообщение Сиббюро ЦК РКП (б) в Москву, - Семёнов утверждается горным атаманом (?! - А. К.), главнокомандующим казачьих войск Забайкалья (?! - А. К.) и содействует созыву демократического съезда во Владивостоке». Главную угрозу большевики, впрочем, разглядели правильно: «Этим соглашением ДВР упраздняется».
Политическая победа, однако, оказалась недолговечной. Под влиянием коммунистов «Приморское Народное Собрание» (род «предпарламента») аннулировало Хадабулакское соглашение: социал-демократы и социал-революционеры пошли на поводу у большевиков (которые вскоре начнут их расстреливать). К этому же времени относится и ещё одна загадочная история.
Похоже, что накануне соглашения владивостокский «премьер» Никифоров, испугавшись за свою революционную репутацию и пытаясь реабилитироваться за «соглашательство», передал в Верхнеудинск сенсационное сообщение о... готовности Атамана перейти на советскую службу. Информация была немедленно передана далее - в Москву, после чего Наркомвоен Л. Д. Троцкий соизволил ответить: «По полученным из Верхнеудинска сведениям, атаман Семёнов обратился ко мне с предложением вступить в Красную Армию при условии амнистии. Полагаю, что нет причин отказать ему в амнистии под условием прибыть сюда...»[47] Одновременно была организована утечка информации, и позиции Атамана зашатались.
Вот это было уже чересчур. Семёнов с треском дезавуировал генерала Б. Р. Хрещатицкого, который вёл переговоры с Никифоровым, и опубликовал ко всеобщему сведению «Обращение»:
«Мои переговоры с владивостокской делегацией по поводу объединения областей Дальнего Востока и стремления найти пути мирного соглашения с теми, кто только по недоразумению - совместно с большевиками, рассматриваются как отказ от борьбы с коммунизмом. Заявляю, что, стремясь к примирению враждующих, но в действительности национально настроенных групп русского населения[48] и всемерно стараясь внести успокоение в наш измученный край, я в то же время ни одной минуты не думал о прекращении борьбы с коммунизмом, которую ведёт сейчас весь народ России. Мир с большевиками был бы хуже самой ужасной гражданской войны... Нельзя протянуть руку примирения тем, кто довёл родную страну до небывалого позора и раззорения... Три года боролся я с большевизмом, буду и впредь бороться с ним до конца...»
Одновременно Григорий Михайлович предпринимает последнюю попытку объединить для борьбы все общественные и военные силы. Читу, вновь занятую уже 23 августа (красные не решились вступить в пустой город), приказано удерживать до последнего. На следующий день Атаман передаёт «всю гражданскую власть в крае» созванному Народному Собранию, оставив себе только верховное руководство войсками и контроль над золотым запасом, а 23 сентября объявляет о подчинении Правителю и Главнокомандующему Вооружёнными Силами Юга России генералу Врангелю. Но остановить агонию Забайкалья уже не в его силах...
Партизаны «Амурского фронта» по указке из Верхнеудинска приступают 1 октября к «ликвидации читинской пробки». Через три недели пала узловая станция Карымская, и Забайкальская столица оказалась отрезанной от основных семёновских сил. 22 октября Чита была сдана, ещё месяц шли бои, а 21 ноября войска Атамана отступили на китайскую территорию. Последний очаг Белого движения на Востоке России угас.
* * *
Сам Семёнов, конечно, так не думал. Напротив, он стремился сделать всё для продолжения борьбы, не в Забайкалья - так в Приморья. Однако путь туда лежал по КВЖД, через Маньчжурию, китайские военные власти которой склонялись к соглашению с ДВР. Белым грозило разоружение на границе, а возможно, и выдача наступающему противнику. Поэтому Атаман принял решение поставить китайцев перед свершившимся фактом, приказав двигаться по железной дороге на станцию Маньчжурия только «мелким командам, частям, не имеющим боевого значения» и разрешив им сдавать оружие представителям японской военной миссии; основная же масса войск должна была, оторвавшись от линии железной дороги, обтекать пограничные станции и прорываться в полосу отчуждения, «не считаясь с китайскими войсками»: в дальнейшем Семёнов рассчитывал на помощь японцев, способных оказать дипломатическое давление на местные власти. С таким планом перехода границы было связано и ещё одно обстоятельство, ставшее в наши дни предметом оживлённого, но далеко не всегда компетентного обсуждения: речь идёт об эвакуированном из Читы золотом запасе.
Допуская, что отступавшие в поездах «мелкие команды» могут стать жертвами грабежа и произвола китайцев, Атаман Семёнов, конечно, не мог доверить игре случая судьбу золота, от которого, кроме всего прочего, зависели перспективы дальнейшей борьбы и просто благосостояние эвакуирующихся войск. Поэтому - по разным сведениям, 20 или 22 ноября - двадцать ящиков с золотою монетой и два - со слитками были переданы на хранение начальнику японской военной миссии полковнику Р. Исомэ. Сдававший золото под расписку генерал П. П. Петров утверждал позднее, что оно так и осталось в руках японцев, и в 1934-1941 годах даже пытался востребовать у бывших союзников русские ценности по суду. Но японский суд документально установил, что в декабре 1920-го Исомэ возвратил золото его законному владельцу - Правителю и Главнокомандующему Атаману Семёнову[49]. Впрочем, то, что золотой запас вернулся в русские руки, многих русских, увы, не устраивало, и здесь мы подходим к тому, почему окончание военных действий в Забайкалье приходится всё-таки считать и фактическим концом борьбы, события же 1921-1922 годов, хотя они и изобилуют славными боевыми страницами, - лишь послесловием, эпилогом, а выражаясь резче - агонией вооружённого сопротивления большевизму на последнем клочке дальневосточной земли.
Возможные, да, наверно, и неизбежные между живыми людьми расхождения и разногласия начинают приобретать в этот период необратимый характер: воспользовавшись отъездом Семёнова на переговоры с японцами, Командующий Армией генерал Вержбицкий при поддержке старших штабных работников и командиров двух корпусов из трёх сделал попытку к перевороту, объявив о неподчинении Атаману. Нет сомнений, что для Григория Михайловича это выступление оказалось сильнейшим ударом. В то же время он сумел занять вполне достойную позицию, не захотев сделать заложниками простых солдат, - и в начале 1921 года возобновилась выплата денежного содержания воинским чинам в золотой монете. Не оставил Атаман и планов перехода к решительным действиям: часть пришедших в Маньчжурию полков была разоружена китайцами, но многие ещё сохраняли оружие, в первую очередь - наиболее преданная Семёнову группировка, переброшенная на станцию Гродеково. Где-то на западе дрался барон Унгерн. Наконец, не угасали надежды на отрезвление населения Забайкалья.
Планы Семёнова отличались масштабностью. Призывая едва ли не все мировые правительства к образованию «единой международной организации для борьбы с большевизмом», он готов был доказать свою состоятельность как политика и военачальника и непосредственно на фронте: на Урянхай и Верхнеудинск должен был броситься Унгерн, против Читы и Благовещенска готовились выступать накапливавшиеся в Маньчжурии войска генералов Мациевского и Шемелина, наконец, в Приморье, уже наводнённом «семёновцами» и «каппелевцами», следовало произвести переворот, после чего рвануться на север, к Хабаровску, а со стороны Харбина, вдоль реки Сунгари, этот удар должен был поддержать генерал Кислицин. Точная координация была, наверное, невозможна, но в качестве приблизительного срока открытия всех боевых действий назывался конец мая 1921 года.
22 мая было достигнуто соглашение о структуре будущей Белой власти на Дальнем Востоке. Её главой, в качестве Верховного Правителя, становился Атаман Семёнов, образовывались законодательный орган во главе с местными предпринимателями братьями Н. Д. и С. Д. Меркуловыми и «ответственный перед Народным Собранием» кабинет министров. Выступившие 26 мая во Владивостоке белые с минимальными потерями в течение нескольких часов ликвидировали власть ДВР, - но... успевшие за спиной Семёнова сговориться с «каппелевскими» генералами Меркуловы... просто отказались пускать Атамана в город.
Григорий Михайлович был совершенно прав, когда через несколько дней говорил, что задержка его вступления в реальное командование «уже, может быть, отражается там, на фронте». Был или не был реальным план наступления от Урянхая до Хабаровска - составлялся он для конкретного Главнокомандующего, который только и мог попытаться привести его в действие. Для Унгерна, Мациевского, Шемелина, Кислицина, да и для части генералов и офицеров, находившихся в самом Приморья, «каппелевские» военачальники вовсе не обязательно обладали авторитетом, достаточным, чтобы им подчиниться, - не говоря уж о Меркуловых, которые вообще никаким авторитетом не обладали. Не отличались конкретностью и намерения нового командования: поход на Хабаровск в конце концов всё-таки пришлось предпринять, но произошло это лишь в декабре, читинское и благовещенское направления так и не появились в оперативных сводках, а предоставленный самому себе Унгерн потерпел поражение и погиб. Белое Приморье же буквально лихорадило - продолжался непрерывный правительственный кризис.
Возобновление выдачи «семёновцам» продовольствия Владивосток поставил в зависимость от выезда самого Григория Михайловича из Приморья. По-прежнему не желая делать офицеров, солдат, казаков и беженцев заложниками своих личных раздоров с Меркуловыми и «каппелевскими» генералами, Семёнов скрепя сердце вынужден был согласиться на требования Меркуловых о его отъезде из Приморья. 14 сентября он покинул родину, первоначально направившись через Корею в Японию.
* * *
Весной 1922 года Атаман решил проехать в Европу, избрав для этого маршрут через Канаду и Соединённые Штаты, однако на своём пути ему довелось встретить значительные препятствия. Все семёновские недоброжелатели в США буквально сорвались с цепи, требуя немедленной расправы с прибывшим; особенно неистовствовал генерал Грэвс, чьи показания, в том числе данные под присягой, немедленно были оспорены рядом других офицеров экспедиционных войск.
Заметим, что в те же месяцы в США находилась делегация ДВР, члены которой не скрывали, что «смогли обеспечить содействие» в кампании против Атамана ряда высокопоставленных лиц, одним из первых называя Грэвса. О способах «обеспечения содействия» остаётся только гадать, однако вряд ли можно пренебречь тем обстоятельством, что по «случайному совпадению» вскоре за вынужденным отъездом Григория Михайловича из Америки сын Грэвса выступил членом формирующегося синдиката, добивавшегося у Правительства ДВР получения концессии на золотодобывающие и лесные разработки... «Содействие» оказалось долгосрочным - американский генерал ещё раз опозорил свои погоны и свои седины выпуском в 1931 году мемуаров «Американская авантюра в Сибири», полных бредовых и бездоказательных обвинений; в них же он фактически выразил сожаление, что в США Атаман не был «убит законным или незаконным порядком».
Семёнову удалось доказать в суде беспочвенность возводимых на него поклёпов, однако непредвиденно долгая задержка на американском континенте съела все имевшиеся у него средства, и о дальнейшем следовании в Европу нечего было и думать. В июне 1922 года генерал вернулся в Японию, а затем перебрался в Китай.
Последующие годы полны переездов, газетной травли, попыток политических выступлений и авантюр. Не обошлось и без покушений на жизнь Атамана, который казался большевикам опасным как своим сохранившимся авторитетом в некоторых кругах военной эмиграции, так и мнимой близостью к японским правительственным сферам. Семёнов вообще пытался войти в контакт с самыми разными политическими силами, включая маршалов Чжан Цзо-Лина и Чан Кай-Ши, представителей европейских держав и Церквей и игравшей всё большую и большую роль на континенте Японии. Бурная, хотя чаще всего и безрезультатная деятельность не добавляла Атаману популярности, а неразборчивость в выборе сотрудников и информаторов порождала слухи о его «связи с Советами».
Пожалуй, последней реальной попыткой внести вклад в общую борьбу стал перевод крупной суммы (около 6 000 000 французских франков) начальнику Русского Обще-Воинского Союза генералу А. П. Кутепову после того, как удалось добиться снятия ареста с заграничных атаманских счетов, наложенного в конце Гражданской войны. Но вскоре Кутепов был похищен в Париже советскими агентами, и надежды на новое разворачивание «активизма» против СССР оказались тщетными.
Благоприятными для русских белогвардейцев могли показаться события осени 1931 - весны 1932 года, когда в результате «инцидента на Южно-Маньчжурской железной дороге» северо-восточные провинции Китая были оккупированы Японией, принявшей к тому времени довольно агрессивный тон по отношению к Советскому Союзу. Русские беженцы в Маньчжурии, двумя годами ранее испытавшие нашествие из-за кордона спецотрядов ГПУ, которые прошли по их приграничным посёлкам огнём и мечом (в ряде случаев население уничтожалось поголовно, включая грудных детей), готовы были видеть в оккупационных войсках гаранта хоть какой-нибудь безопасности и даже принять от японцев оружие для защиты своих очагов, а в перспективе - продолжения борьбы на родине.
Но это не устраивало новых хозяев Маньчжурии: объединение русских воинских частей под русским командованием отнюдь не входило в планы японцев. Организованное ими Бюро по делам русских эмигрантов в Маньчжурии и его официоз - журнал «Луч Азии» всячески пропагандировали имя Атамана Семёнова как «общего вождя», но реальной властью Григорий Михайлович отнюдь не обладал. Поневоле вынужденный сменить оружие, теперь он берётся за перо.
Мы уже привыкли к неожиданным поворотам в жизни генерала, и вряд ли покажется странным, что в эмиграции именно Семёнов становится единственным из Белых военачальников его уровня, кто обратился к разработке принципиальных концепций общественного устройства. Повинуясь ли политической моде на ярлыки и «...-измы» или руководствуясь какими-то иными соображениями, - умозаключения свои он объединяет под общим названием «Россизма».
Название оказалось определённо неудачным - Атаман не уловил, что на слух в «Россизме» будет явственно звучать «расизм» (которого там, кстати, нет и в помине), - да и сущность концепции не отличалась конкретностью. «Идеология “россизма”... была весьма неопределённой, - отмечалось впоследствии в сводке советских карательных органов. - “Россизм” требовал, чтобы вся политическая жизнь белой эмиграции была направлена на интересы одной только России». Но в этом, а также в принципиальном «непредрешенчестве», отразилась верность Атамана Семёнова основополагающим заветам Белого Дела, попытки ревизии которых, столь многочисленные в эмиграции, он решительно отвергает. Больше всего Григорий Михайлович опасается «стать на обычный путь партийной программы и связанной с ней политики насильственного насаждения своих партийных идеалов всем инакомыслящим»: партийность как основа политической жизни современных государств - и тоталитарных, и демократических, - расценивается им как принципиальное зло, «очаг государственной заразы», а присущая политической борьбе «необоснованная самореклама и, как следствие её, обман людей и вовлечение их с помощью этого обмана в свою партию» - как «государственное преступление». Идеология Семёнова предполагает свободное объединение всех общественных и национальных групп вокруг идеи Великой России: «Всё население страны, независимо от структуры её государственного устройства, должно осознать общность долга перед родиной и защищать права своего класса или Народности в рамках общегосударственных интересов».
Важно отметить, что Григорий Михайлович оказался практически не затронут весьма популярным в 1920-е - 1930-е годы соблазном фашизма, которому отдали дань и многие из русских изгнанников. «С искренним сожалением я констатировал, - пишет он в 1934 году, - чрезмерное увлечение нашей молодёжи фашизмом и национальным социализмом Хитлера, причём горячие головы забывают во имя этих чуждых и неприменимых в России учений истинные интересы нашей Родины». В свою очередь, издававшийся в Эрфурте (надо думать, не без покровительства нацистских спецслужб) листок-бюллетень «Мировая Служба» в 1937-1938 годах обрушился на Семёнова с обвинениями в... принадлежности к масонству («Атаман Семёнов - Розенкрейцер») и «сделках с иудеями». Утверждения были голословными, но германские «борцы с мировой угрозой» имели основания для беспокойства: несмотря на определённые надежды, по-видимому возлагавшиеся Атаманом на Третий Рейх в предстоящем столкновении с большевизмом, - ближе ему были совсем другие силы.
Это стало ясно после заключения в 1939 году советско-германского договора о ненападении, последующего раздела Польши, а затем - и вступления советских войск в Прибалтику. Обратив внимание на возможный распад Антикоминтерновского пакта, коль скоро его главный организатор - Гитлер - вступил на путь сотрудничества с СССР, Григорий Михайлович бросается в Шанхай и там, в конце 1939 - начале 1940 года, в течение нескольких месяцев старается довести свои взгляды на будущее Европы, России и Азии до сведения... английской разведки. В соответствии с этими взглядами, Англии предлагался раздел сфер влияния с Японией и совместное наступление на СССР в широкой полосе от Кавказа до Приморья, для чего Атаман собирался отмобилизовать и выставить стотысячную русско-монгольскую армию. Отметим, что во главе такой отнюдь не эфемерной силы он имел бы все возможности не оказаться чьей-либо марионеткой, а сыграть в предстоящих событиях самостоятельную и весьма значительную роль. Наверное, именно этим и была предрешена неудача «шанхайской миссии» Семёнова - разрушить ось «Берлин - Рим - Токио» и реанимировать Антанту ему не было суждено.
С началом большой войны на Тихоокеанском театре японские оккупационные власти фактически интернировали Григория Михайловича на его даче близ Дайрена. «...Они его, конечно, подкармливают, - рассказывал о японской «опеке» очевидец, - но без их ведома он сделать ничего не может, даже выехать и то нужно специальное разрешение, да и едет он под присмотром жандарма или кого-нибудь из миссии (японской. - А. К.)... Против его дачи поселён японец специально для наблюдения за его домом...» Более того, быть может, не без разрешения оккупантов вокруг Семёнова с 1944 года «стали появляться люди, замешанные в работе с советскими», и не исключено, что Белого генерала в конце концов продали бы большевикам независимо от вступления СССР в войну против Японии...
Но всё решилось гораздо более простым способом. 22 августа 1945 года в Дайрене был высажен советский воздушный десант. «Автоматчики меня окружили, спрашивают - где ваша дача? - рассказывает дочь Атамана, застигнутая во время прогулки. - Я показала. Отец был на третьем этаже, работал над книгой. Они зашли, - сдайте оружие, отец отдал пистолет. Нормально разговаривали, и поужинали вместе с отцом, майор и какие-то ещё. А потом забрали, увезли...» Лишь ещё один раз довелось детям повидать своего отца. «Будьте умницами, будьте честными», - говорил он дочерям, крестя их на прощание. - «Живите по-христиански». И ещё одна фраза запала тогда им в душу: «Я лишил вас Родины, а теперь вот возвращаю. Наверное, ценой своей жизни...»
Он надеялся - больше ему ничего не оставалось, - что враги удовлетворятся расправой над ним одним. Может быть, несмотря на яростную непримиримость, пронесённую через все эмигрантские годы, Атаману хотелось верить, что советский строй всё же эволюционировал в сторону человечности или хотя бы законности. Но надежды были тщетными: 23-летнего сына Михаила, инвалида от рождения, расстреляли, второго сына Вячеслава и трёх дочерей - Елену, Татьяну и Елизавету бросили в концлагеря. Одну из них довели до попытки самоубийства, после чего десятилетиями держали в сумасшедших домах... Они были детьми своего отца, и для коммунистической юриспруденции этого оказалось достаточно.
А насчёт себя самого у Атамана Семёнова, наверное, уже не оставалось никаких иллюзий - недаром на заданный при аресте вопрос, каких взглядов он придерживается, Григорий Михайлович отвечал, сознательно делая первый шаг к неизбежному: «Всё тех же, что и в гражданскую войну, - за которые у вас расстреливают». Отрывки из материалов следствия и прошедшего в августе 1945 года в Москве «семёновского процесса» публиковались, но рисовать на их основании картину происходившего вряд ли возможно: слишком недостоверно звучат влагаемые в уста генерала реплики и слишком суконным советским языком заставляют его разговаривать «протоколисты», как будто вместо тюремного заключения Атаман усердно посещал курсы агитпропа. Да и что могли изменить любые реплики? Всё было решено заранее, ещё много лет назад, и зачитанный 30 августа приговор «к смертной казни через повешение с конфискацией всего принадлежавшего ему имущества» вряд ли мог кого-нибудь удивить, как не могло удивить и то, что исполнение не стали откладывать ни на один день...
«Григорий Михайлович так же, как его однополчанин барон Унгерн фон Штернберг на расстреле, встал под свою петлю со спокойным достоинством, будто под полковое знамя, отбитое им у врагов ещё на Первой мировой войне», - читаем мы у одного из сегодняшних авторов, искренне считающего, что подобными красивостями он делает услугу памяти Атамана. Очень легко сейчас рассуждать о «спокойном достоинстве» перед виселицей или с небрежным кощунством уподоблять большевицкую петлю — «священной воинской хоругви»[50]; именно поэтому остановим своё любопытство на пороге камеры смертников и, не имея адекватных источников и не доверяя «судебным протоколам» и выползавшим из чекистской среды слухам, обратимся лишь к последнему бесспорному документальному свидетельству - тюремной фотографии генерала.
...Известно, как советские застенки ломали людей. Конечно, Григорию Михайловичу не хотелось умирать, и вряд ли он специально шёл на конфликт со следователями и судьями. Но можно сколько угодно рассуждать об этом и читать «последнее слово Семёнова» - «...я старался искупить свою вину и перед Матерью-Родиной и её народом, и я с честью выполню, если только представится возможность, свои клятвы и обещания перед вами, высокие судьи...» - а потом просто посмотреть Атаману в глаза, чтобы почувствовать правду.
В них - горечь, обречённость и уже отстранённость от всего земного, но в них и твёрдость и неизбывная вражда. Очевидцы вспоминали, что Атаман мог «взорваться» яростью, и не она ли тлеет в его взгляде, как жар под золою потухающего костра? И разве не тот же он, что бы ни утверждали любые цитаты советских протоколов, —
Первый поднявший Белое знамя борьбы... Первый восставший против неправой судьбы...ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ М. К. ДИТЕРИХС (Очерк: Александр Петров)
Генерал-лейтенант Михаил Константинович Дитерихс, последний Правитель Приморья в 1922 году и Воевода Земской Рати, поднявший на знамя лозунги верности Присяге и Монархии и твёрдости в Вере, родился 5 апреля 1874 года в Санкт-Петербурге. Он принадлежал к роду обрусевших остзейских немцев. Дворянский род Дитерихсов ведёт своё происхождение из Германии и Богемии; в XVII веке, во время Тридцатилетней войны, его протестантская ветвь перебралась в Швецию. Русская ветвь Дитерихсов происходит от Ивана (Иоганна) Дитерихса, выходца из Швеции, который в XVIII веке, в царствование Анны Иоанновны, был приглашён в Россию для строительства Рижского порта. Его потомки приобрели имение в Курляндии и с начала XIX века выбирали уже исключительно службу в русской армии.
Дед Михаила, Александр Иванович Дитерихс, участвовал в Наполеоновских войнах и к 1812 году имел уже чин полковника и Золотую шпагу «За храбрость». В Отечественной войне приняли участие восемь братьев Дитерихсов, причём Александр Иванович был ранен в Бородинском сражении и получил за него орден Святого Георгия IV-й степени. Затем, оправившись от раны, он вновь вернулся в строй и в кампании 1813 года участвовал в Дрезденском и Лейпцигском сражениях. Александр Иванович дошёл с войсками до Парижа и закончил службу в чине генерал-майора.
Его сын Константин Александрович с пятнадцати лет сражался на Кавказе с горцами и также дослужился до генерала. С семьёй Дитерихсов дружил Л. Н. Толстой и, по преданию, даже использовал воспоминания К. А. Дитерихса при создании повести «Хаджи- Мурат». Одна из сестёр Михаила Константиновича, Ольга, была замужем за сыном Л. Н. Толстого Андреем. Ещё один из детей Константина Александровича, Владимир, стал морским офицером, командовал линейным кораблём «Двенадцать Апостолов» и крейсером «Память Меркурия», к 1914 году дослужился до контр-адмиральского чина. В 1913 году он был назначен председателем «Комитета для наблюдения за постройкой кораблей в Балтийском море».
Семья Дитерихсов была Православного вероисповедания, так же воспитали и юного Михаила. Впоследствии все, кто знал Михаила Константиновича, отмечали, что он был истинно верующим, очень набожным человеком. И конечно, Михаил с детства был воспитан на семейных преданиях о подвигах предков, их служении России. Поэтому и он в соответствии с семейной традицией избрал себе военную карьеру.
Михаил Дитерихс, как записано в его послужных списках, «в службу вступил 1 сентября 1892 года». Он поступил в Пажеский Его Императорского Величества корпус, директором которого в то время был его дядя, генерал Фёдор Карлович Дитерихс. По окончании корпуса Михаил Константинович с производством в подпоручики 8 августа 1894 года был выпущен в Туркестанскую конно-горную батарею. В 1898 году, уже поручиком, М. К. Дитерихс поступил в Императорскую Николаевскую Академию Генерального Штаба, закончив её в 1900-м по 1-му разряду с причислением к Генеральному Штабу. В том же году он был произведён в штабс-капитаны, а в 1902-м - в капитаны.
В 1901-1904 годах Дитерихс последовательно занимал должности старшего адъютанта Штаба 2-й Гренадерской дивизии и обер-офицера для поручений при Штабе Московского военного округа. Около полугода он командовал эскадроном в 3-м драгунском Сумском полку, а затем, с 28 апреля 1904 по 17 апреля 1906 года, служил обер-офицером для особых поручений при штабе XVII-го армейского корпуса. После начала Русско-Японской войны Дитерихс принимает участие в боях под Ляояном, на реке Шахэ и под Мукденом; помимо служебных обязанностей, он выступает и как военный корреспондент газеты «Русский Листок». За эту кампанию он имел награды: орден Святой Анны III-й степени с мечами и бантом, орден Святого Владимира IV-й степени с мечами и бантом и орден Святого Станислава II-й степени с мечами. К 1906 году Михаил Константинович уже подполковник, штаб-офицер для особых поручений при Штабе того же XVH-го армейского корпуса; он женат и имеет одного сына.
В этом же году Михаил Константинович был переведён штаб- офицером для особых поручений в Штаб VII-го армейского корпуса, а 14 февраля 1909 года - на ту же должность в Штаб Киевского военного округа. В конце 1909 года его произвели в полковники, а 2 апреля 1910-го - назначили старшим адъютантом Штаба округа. Наконец, 30 июня 1913 года полковник Дитерихс был переведён в Главное управление Генерального Штаба, где занял должность начальника одного из четырёх отделений в Мобилизационном отделе. В одной из биографий Михаила Константиновича утверждается, что он несколько раз бывал в ответственных командировках за границей в составе военных или дипломатических миссий, и даже - что ему доводилось нелегально путешествовать по австрийской территории в роли нищего, торговца или шарманщика. Во время этих «странствий» он детально изучал будущий Галицийский театр военных действий, осматривал укрепления Перемышля, Кракова, Карпатские перевалы, долину реки Сан и подступы к Львову.
С началом Первой мировой войны Дитерихс был направлен в Штаб Юго-Западного фронта на должность начальника его Общего отделения. Но уже 3 сентября 1914 года начальник Штаба, генерал М. В. Алексеев, направляет в Ставку следующую телеграмму: «Начальство 3-й Армии усердно ходатайствует... командировать на должность Генерал-квартирмейстера полковника Дитерихса. Прошу убедительно исполнить это во имя пользы службы, более подготовленного офицера найти нельзя, работа предстоит серьёзная». Это назначение состоялось, и Михаил Константинович стал генерал-квартирмейстером Штаба III-й армии. А уже 17 ноября 1914 года выходит следующий приказ Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерала Н. И. Иванова:
«Вследствие вызова в моё распоряжение 28 октября Начальника Штаба 3-й Армии Генерал-Лейтенанта Драгомирова, временное исполнение обязанностей по этой должности было возложено на Генерал-Квартирмейстера Штаба Армии полковника Дитерихса.
12 ноября полковник Дитерихс сдал должность вновь назначенному Начальнику штаба Генерал-Лейтенанту Добророльскому.
В этот период 3-я Армия выполнила марш-манёвр от Сана к Кракову со сложною переброской части сил на левый берег Вислы. Полковник Дитерихс успешно провёл в жизнь указания Командующего Армией по осуществлению этого марш-манёвра.
От лица службы объявляю полковнику Дитерихсу мою благодарность за его чрезвычайно усердную и полезную работу».
Поэтому неудивительно, что после того как генерал Алексеев, возглавивший Северо-Западный фронт, забрал с собою своего ближайшего помощника, генерал-квартирмейстера генерала М. С. Пустовойтенко, новым исполняющим должность генерал- квартирмейстера Штаба Юго-Западного фронта 19 марта 1915 года стал именно полковник Дитерихс. 28 мая того же года он был произведён в генерал-майоры и утверждён в занимаемой должности, а 8 октября «за отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных действий», награждён орденом Святого Станислава 1-й степени. Дитерихс всегда аттестовался своими начальниками как отличный штабной работник и офицер исключительных способностей.
8 сентября 1915 года в Штаб фронта был переведён Генерального Штаба полковник Н. Н. Духонин, вскоре ставший помощником генерал-квартирмейстера. Дитерихс и Духонин проработали вместе более полугода, за время их плодотворной совместной службы Духонин был произведён в генералы. В это же время в Штабе фронта под началом Михаила Константиновича служили и другие будущие герои Белого движения, будущие сослуживцы и товарищи Дитерихса по борьбе на Востоке России: подполковник К. В. Сахаров и капитан В. О. Каппель.
Весной 1916 года Дитерихс непосредственно участвовал в детальной разработке планов летнего наступления Юго-Западного фронта, ставшего известным под наименованием «Брусиловского прорыва». Но принять участие в самом наступлении Михаилу Константиновичу не довелось. 25 мая 1916 года в приказе по штабу Юго-Западного фронта было объявлено: «В связи с предстоящим назначением генерал-майора Дитерихса Начальником 2-ой Особой бригады, ко временному исполнению должности Генерал- квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта допускается его помощник генерал-майор Духонин». Два дня спустя Дитерихс отбыл к своему новому месту службы, а через год судьба вновь свела Дитерихса и Духонина, увы, - при самых трагических обстоятельствах.
* * *
Новое назначение Дитерихса было очень ответственным, поскольку только что сформированная 2-я Особая бригада предназначалась для самостоятельных операций вдали от России, в составе союзных контингентов, - она формировалась специально для направления в Македонию, на Салоникский фронт. Поэтому от её начальника, кроме обычных качеств командира, требовались также и немалые дипломатические способности.
21 июня (4 июля по новому стилю) 1916 года первый эшелон бригады во главе с Дитерихсом отплыл из Архангельска во Францию. 3 (16) июля корабли прибыли в Брест, после чего бригаду перевезли по железной дороге через всю Францию в Марсель, а там 5 августа посадили на вспомогательный крейсер, который и доставил её в Салоники.
Салоникский фронт был открыт в конце 1915 года, чтобы помочь сербской армии, атакованной в этот момент с двух сторон - австро-германскими войсками и вступившими в войну болгарами. Сербам пришлось отступить через Албанию к морю, затем их армия была реорганизована на острове Корфу и перевезена на этот фронт. К шести сербским добавились четыре французских и пять английских дивизий, позднее одну дивизию высадили также итальянцы. Император Николай II очень серьёзно относился к традиционной миссии России по защите единоверных славян на Балканах и потому со Своей стороны решил направить в Салоники две Особые бригады (2-ю и 4-ю).
С 16 января 1916 года (по новому стилю) находившиеся здесь части пяти наций образовали «Восточную армию» под руководством французского генерала М. Саррайля. Им противостояли одна германская и девять болгарских дивизий. Войска Салоникского фронта должны были перейти в общее наступление, но болгары опередили их и 17 августа сами атаковали сербов. На помощь союзное командование спешно выдвигало все имевшиеся под рукой части, в том числе и 2-ю Особую бригаду, не успевшую ещё завершить своего сосредоточения. Фактически у Дитерихса на тот момент в наличии были лишь Штаб бригады и 3-й Особый полк, с которыми он 6 сентября выступил на фронт. 10 сентября русские части имели первое боевое столкновение с болгарами, выбив их из села Мокрени. Остановив неприятеля, союзные силы перешли в контрнаступление, имея своей целью освобождение города Монастырь (или Битоль) - крупного центра в Южной Македонии. Бригада Дитерихса вместе с сербскими и французскими частями оказалась на острие главного удара.
Наступать приходилось в чрезвычайно тяжёлых условиях, по едва проходимым горным тропам, при постоянных перебоях со снабжением продовольствием и боеприпасами. Несмотря на это, русские и французские части быстро продвигались вперёд и 17 сентября освободили Флорину. Французское командование высоко оценило порыв и самопожертвование русских: 19 октября 1916 года 3-й Особый пехотный полк за бои с 9 по 26 сентября был награждён Военным крестом с пальмовой ветвью на знамя полка. К этому времени подтянулся, наконец, и 4-й Особый полк, так что в результате перегруппировки генерал Дитерихс вступил в командование отрядом (в составе своей бригады и полка французских зуавов), именуемым во французских оперативных документах «Франко-Русской дивизией».
После короткой передышки войска возобновили наступление. Русские части вместе со всеми преследовали неприятеля, пока внезапно вечером 4 октября не наткнулись на сильно укреплённые Негочанские позиции. Их атаки 5-го, а затем и 14 октября закончились безрезультатно и стоили бригаде, как и приданным французским частям, тяжёлых жертв. Болгарские окопы были заранее подготовлены и густо оплетены колючей проволокой, так что артиллерии отряда оказалось явно недостаточно, чтобы проделать в ней широкие проходы. Вот когда сказался просчёт русской Ставки, пославшей за рубеж одну лишь пехоту, без приданных ей артиллерийских и сапёрных подразделений. Насыщенность артиллерией союзных войск на Салоникском фронте была гораздо ниже, чем на Западном, и в этой обстановке неудивительно, что русские при распределении артчастей оказались на положении «пасынков». К тому же потери от боевых действий и развившихся в непривычном климате болезней превысили 50%, и к 7 ноября под ружьём оставалось в 3-м полку - 1 423 человека и в 4-м - 1 396 человек. Оставшиеся люди были очень утомлены.
Но жертвы русских солдат оказались не напрасными. Пользуясь тем, что значительные силы болгар были прочно скованы действиями русской бригады, сербы взяли штурмом высоту Каймакчалан и к 10 ноября создали угрозу путям отхода болгар из Битоля. 16 ноября болгары начали общее отступление на север. Генерал Дитерихс немедленно организовал преследование, так что именно русским выпала честь утром 19 ноября первыми вступить в Битоль. Сербский престолонаследник, Королевич Александр, прибывший через два дня в освобождённый город, выразил особую признательность русским войскам и в ознаменование их заслуг пожаловал Дитерихсу высокий боевой орден. Довольно напыщенной фразой отметил подвиги русской бригады в своём приказе и генерал Саррайль: «Русские, в греческих горах, как на сербской равнине, ваша легендарная храбрость никогда не изменяла вам».
С освобождением Битоля общее наступление союзников закончилось, и войска начали устраиваться на занятых позициях, готовясь к зиме. В октябре в Салоники прибыла также и 4-я Особая бригада. Командовавший ею генерал Леонтьев считался равноправным с Дитерихсом начальником, и общего командования русскими войсками на Салоникском фронте предусмотрено не было. Это положение оказывалось явно ненормальным.
В конце марта 1917 года до русских войск в Македонии дошло известие о Февральском перевороте и отречении Императора. Оторванные от России, солдаты были дезориентированы этими известиями, тем более что из-за линии фронта на них немедленно обрушился поток агитационной литературы пораженческого характера. Несмотря на это, части сохраняли боеспособность, что им и пришлось вскоре доказать на деле.
На 9 мая было намечено общее наступление всех французских, русских и итальянских частей. Оно должно было начаться одновременно по всему фронту после трёхдневной артиллерийской подготовки. Однако уже через несколько часов после начала атаки обозначилась её явная неудача: лишь кое-где войска смогли с ходу ворваться в первую линию окопов врага, но мощными контратаками были выбиты обратно. Единственный настоящий успех в этот день выпал на долю 4-го Особого полка - в рукопашном бою он овладел высотой Дабия, выбив с неё 42-й германский полк и взяв при этом до сотни пленных. Но поскольку французские части справа и слева не сумели поддержать русских, полк на высоте Дабия попал в очень тяжёлое положение и к вечеру был вынужден оставить её. Безрезультатные атаки продолжались ещё почти две недели, и только 21 мая генерал Саррайль отдал приказ перейти к обороне.
Незадолго до этого, 18 мая, генерал Дитерихс обратился с рапортом к Саррайлю, прося об «отводе» бригады на заслуженный отдых. Михаил Константинович указывал, что с августа 1916 года бригада в течение восьми месяцев без перерыва находилась на передовой, причём последние полгода - в особенно тяжёлых условиях: «Всяческим силам имеется предел. Чтобы сохранить в войсках бригады боевой дух, необходимо предоставить им временно полный отдых. Это будет заслуженной наградой за 8 месяцев трудной работы. Из 12 000 чел[овек], которые я привёз из России и которых я получил здесь, я потерял убитыми, ранеными, контуженными до 4 400 человек и до 8 000 человек разновременно переболело в госпиталях. Эти цифры достаточно красноречивы и показательны, чтобы свидетельствовать о трудности пережитого времени. Нужен полный отдых, который нельзя дать людям на позиции, нужны также пополнения, ибо теперь в частях остались едва достаточные кадры». Рапорт возымел своё действие, и 24 мая Дитерихс получил распоряжение об отводе 2-й Особой бригады в тыл.
Это было связано ещё и с тем, что 26 мая было получено распоряжение русского командования о сведении 2-й и 4-й Особых бригад во 2-ю Особую дивизию. Начальником её с 5 июня стал генерал Дитерихс, но ему не суждено было долго командовать дивизией. Уже в начале июля Дитерихса отзывают в Россию для получения нового, более высокого назначения. Генерал Саррайль впоследствии в своих мемуарах с теплотой вспоминал о Дитерихсе: «Я с грустью узнал, что он уезжает, генерал, ...который часто был для меня драгоценнейшим помощником во всех военных и жизненных проблемах».
* * *
Зрелище, которое предстало перед Дитерихсом на родине, было самым безрадостным. Армия, не сдерживаемая уже ничем, продолжала разлагаться, а большевики резко усиливались по всей стране. Правительство Керенского на глазах у Дитерихса лишило возможности действовать своих последних потенциальных союзников - сторонников генерала Корнилова - и теперь было бессильно остановить анархию.
Дитерихс, однако, не спешил немедленно встать в оппозицию к новой власти. Его даже предназначали на пост военного министра, но Михаил Константинович отказался. Зато он принял предложение нового начальника Штаба Верховного Главнокомандующего, своего старого сослуживца Духонина, и 10 (23) сентября был назначен генерал-квартирмейстером Ставки Верховного Главнокомандующего. Теперь уже Михаил Константинович становится подчинённым и ближайшим помощником Духонина.
Последний начальник Штаба Верховного, а затем и Верховный Главнокомандующий Русской Армией Николай Николаевич Духонин является фигурой глубоко трагической. Он занял при номинальном «Главковерхе» Керенском должность начальника Штаба - фактического Главнокомандующего, но без соответствующих прав, единственно ради того, чтобы, как он надеялся, уберечь армию от окончательного развала.
«Духонин стал оппортунистом par excellence[51], - писал о нём позднее генерал А. И. Деникин. - Но в противовес другим генералам, видевшим в этом направлении новые перспективы для неограниченного честолюбия или более покойные условия личного существования, - он шёл на такую роль, заведомо рискуя своим добрым именем, впоследствии и жизнью, исключительно из-за желания спасти положение. Он видел в этом единственное и последнее средство...
Ставка несомненно сочувствовала в душе корниловскому движению. Духонин и Дитерихс испытывали тягостное смущение неловкости, находясь между двух враждебных лагерей. Сохраняя полную лояльность в отношении к Керенскому, они в то же время тяготились подчинением ему и отождествлением с этим лицом, одиозным для всего русского офицерства...»
Можно представить себе, сколько душевных мук доставляло Духонину и Дитерихсу их положение, тем более, что с каждым днём они всё более и более убеждались в своём полном бессилии. А когда в Ставку пришло известие о большевицком перевороте и бегстве Керенского, Духонину не оставалось ничего другого, как только принять на себя (1 (14) ноября) уже и формально звание Верховного Главнокомандующего; соответственно, Дитерихс 3(16) ноября принял на себя обязанности начальника Штаба.
7 (20) ноября Ленин вызвал Духонина к прямому проводу и повелел ему немедленно обратиться к немцам с предложением о перемирии. Духонин ответил, что не признает произошедшего переворота и что Россия в любом случае связана союзническими обязательствами со своими партнёрами по коалиции, а потому он не имеет права вступать в сепаратные переговоры с врагом. В ответ Ленин немедленно объявил о смещении Духонина и назначении на его место Верховным Главнокомандующим большевика прапорщика Н. В. Крыленко. Духонин отказался покинуть свой пост и был объявлен «мятежником» и «врагом трудового народа». Для ликвидации Ставки Крыленко выехал в Могилёв во главе эшелона революционных войск.
Перед этой угрозой Ставка оказалась совершенно бессильна. Формально ей подчинялась многомиллионная армия, но все части, через расположение которых проезжал эшелон Крыленко, заявляли о своём «нейтралитете». Огромные толпы солдат, наводнившие Могилёв, ревниво следили за каждым шагом Духонина и немногих преданных ему офицеров. Но самое главное - Духонин лично оказался неспособен на решительные действия, у него не хватило характера сплотить вокруг себя всё надёжное и оказать захватчикам решительное сопротивление. Мы вряд ли можем сейчас осуждать его за это, Духонин с Дитерихсом находились под влиянием одного всепоглощающего страха: что в результате непродуманных действий они своими руками разрушат фронт и откроют дорогу немцам. Поэтому Духонин выбрал другой путь - принести себя в жертву и, если придётся, достойно встретить смерть, оставаясь до конца на своём посту. Комиссар Временного Правительства при Ставке В. Б. Станкевич уверял в своих воспоминаниях, что первоначально Духонин собирался уехать и что именно Дитерихс в последний момент отговорил его. Но если учесть, что автомобилем, приготовленным для Духонина и Дитерихса, воспользовался именно Станкевич, его беспристрастность в этом деле по меньшей мере вызовет сомнения. Так или иначе, но единственным «мятежным» действием Духонина был своевременный приказ об освобождении из-под стражи арестованного генерала Л. Г. Корнилова и его соратников.
Между тем Крыленко, опасаясь возможного сопротивления, заранее распалял «праведный гнев» своих приспешников против «мятежника» Духонина. Утром 20 ноября (3 декабря) советский эшелон прибыл на Могилёвский вокзал. Никакого сопротивления оказано не было. Матросы арестовали Духонина, но когда они вели его к вагону Крыленко, все их тайные страхи вышли наружу взрывом слепой беспричинной ярости. Обезумевшая толпа буквально растерзала Духонина у самых дверей вагона нового «Главковерха», а Крыленко, напуганный результатами своей же агитации, побоялся вмешаться в этот самосуд, сделав вид, что ничего не видел и не слышал.
Потом, разумеется, эта дикая расправа была представлена «выражением праведного гнева народа» и была поставлена в заслугу как подстрекателям, так и исполнителям. В течение Гражданской войны в стане красных бытовала гнусная присказка «отправить в штаб к Духонину», что означало убить, расстрелять. И можно не сомневаться, что в тот трагический день матросы не собирались ограничиться лишь одной жертвой, а намеревались „«отправить в штаб к Духонину» в первую очередь его начальника Штаба генерала Дитерихса, которого усиленно искали, но так и не нашли.
Михаилу Константиновичу удалось в самый последний момент укрыться во французской военной миссии, и затем, переодевшись во французскую форму, выехать в составе этой миссии в Киев. Там Дитерихс присоединился к Штабу завершавшего формирование Чешско-Словацкого корпуса, и приказом по корпусу от 26 января 1918 года был назначен начальником его Штаба.
* * *
К концу мая 1918 года, когда по Транссибирской магистрали началось повсеместное выступление чехословацких частей, генерал Дитерихс находился уже во Владивостоке. Там он возглавлял «Владивостокскую группу Чехо-войск», составлявшую до 14 000 человек. Эта группа первой прибыла во Владивосток и теперь ожидала транспортов для отправки на Западный фронт. Она находилась в совершенно ином положении, нежели остальные войска, задержанные местными Советами в Поволжье, на Урале и в Сибири. Здесь на рейде стояли корабли Антанты; ещё 5 апреля Япония, под предлогом защиты интересов своих подданных, высадила в порту небольшой десант. Большевицкий Совет во Владивостоке продолжал функционировать, но должен был действовать с постоянной оглядкой на союзников, и в городе сохранялось положение неустойчивого равновесия. Всей полнотой власти над чешскими войсками обладала «Владивостокская коллегия» из находившихся в городе представителей Отделения Чешско-Словацкого Национального Совета в России. Михаилу Константиновичу в этих обстоятельствах не оставалось ничего другого, как только проявлять лояльность по отношению к чешскому политическому руководству и представителям союзников.
Когда до Владивостока докатились вести, что по всей магистрали развернулись боевые действия между чехами и большевиками, члены «Владивостокской коллегии» отнеслись к этому крайне неодобрительно и предложили своё посредничество в улаживании конфликта. Соответственно, и сосредоточенные во Владивостоке легионеры в общем выступлении поначалу никакого участия не принимали. Дело дошло до того, что 16 июня 1918 года, когда по всей Сибири уже три недели шли ожесточённые бои, руководители Владивостокской группы послали капитану Гайде, сражавшемуся под Мариинском, следующую телеграмму:
«Вновь настойчиво напоминаем, что единственной нашей целью является возможно скорее отправиться на французский фронт, поэтому надлежит соблюдать полнейший нейтралитет в русских делах. Старайтесь договориться с местными советами на мало-мальски приемлемых для нас условиях. Одновременно телеграфируем “Центросибири”, чтобы гарантировали ваше продвижение на основании договора, заключённого между Советом Народных Комиссаров и Отделением Народной Рады от 26-го марта, согласно которого проследовали первые 12 поездов. Если добьёмся договорённости, мы требуем в ваших собственных интересах и для достижения нашей единственной цели, чтобы вы немедленно прекратили своё выступление и продолжали продвигаться во Владивосток.
Члены Отделения Народной Рады: Гоуска, Шпачек, доктор Гирса, генерал Дитерихс».
Гайда воспринял эту телеграмму как измену общему делу, и его твёрдая позиция в конце концов подействовала отрезвляюще на Владивостокскую коллегию. Между тем члены местного Совета, пользуясь бездействием чешских войск, активно вывозили оружие и боеприпасы со складов Владивостокской крепости. Повели большевики и агитацию в рядах самих чешских полков, призывая их покидать свои части и вступать в Красную Гвардию (к концу июня перебежчиков набралось уже 200 человек, и из них был сформирован батальон). Всё это вместе привело к тому, что, когда 26 июня в город прибыл курьер от Гайды с приказом немедленно выступать ему навстречу, «Владивостокская коллегия» после консультации с союзными консулами решила подчиниться этому приказу. Руки у Дитерихса были, наконец, развязаны.
29 июня 1918 года генерал направил Владивостокскому Совету Рабочих и Солдатских Депутатов ультиматум о разоружении в течение часа всех красных войск в городе. Одновременно с объявлением ультиматума Владивосток был окружён чешскими войсками, и когда срок ультиматума истёк, они арестовали Совет, почти не встречая сопротивления, разоружили местный гарнизон в 1 200 человек и взяли под свой контроль склады крепости. Выступление во Владивостоке совпало с общим переломом в настроениях союзников. 29 июня союзные крейсера на рейде активно содействовали чехам, задержав и разоружив красные миноносцы. Японцы начали высадку крупных сухопутных сил, вскоре к ним присоединились англичане, французы и американцы.
Между тем Дитерихс перешёл 1 июля в решительное наступление по нескольким направлениям: на северо-запад против Никольска-Уссурийского и на северо-восток - против Сучанских и Шкотовских угольных шахт. 3 и 4 июля южнее Никольска-Уссурийского произошло серьёзное сражение. Большевицкий отряд силою в 3 600 человек при трёх орудиях и двух бронепоездах был наголову разбит 2 000 чехов с девятью пулемётами и одним орудием; здесь же был разгромлен и батальон чехов-дезертиров. 5 июля чешская колонна вступила в Никольск-Уссурийский, а на другой день встретилась на станции Пограничной с белыми отрядами генерала Д. Л. Хорвата и Атамана И. П. Калмыкова, наступавшими из полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги.
Красные отступали по Амурской железной дороге на Хабаровск, энергично преследуемые чехами. В районе Спасска большевики подготовили сильные позиции, но 16 июля и они были взяты, а советские отряды поспешно бежали дальше на север - к станции Уссури. Здесь к ним подошли значительные подкрепления из Хабаровска, и попытка чехов 1 августа форсировать слабыми силами реку Уссури не удалась. Им пришлось временно закрепиться на достигнутых рубежах. Мог ли предполагать Дитерихс, планируя все эти операции, что четыре года спустя именно здесь, на реке Уссури и под Спасском, ему придётся дать красным свой последний бой?
Тем временем хабаровское направление было усилено отрядом Атамана Калмыкова, а затем и войсками союзников, которые полностью взяли на себя заботу об Уссурийском фронте. Дитерихс отозвал оттуда чешские части, передав командование японскому полковнику Иранаки. 23 августа союзные силы наголову разгромили красных у разъезда Краевского и, преследуя их, 4 сентября освободили Хабаровск.
В начале сентября в освобождённом Забайкалья, на станции Оловянной, произошла встреча штабов Гайды, Дитерихса, Семёнова и представителей японского командования. После короткой встречи пути их снова разошлись. Гайда поехал на восток принимать части бывшей группы Дитерихса, а Михаил Константинович - на запад, в Челябинск, куда его срочно вызывали, вновь на должность начальника Штаба Чешско-Словацкого корпуса.
Между тем в командовании корпусом произошли перестановки. 28 августа 1918 года его командующим был назначен Я. Сыровой, произведённый из поручиков сразу в генералы. Бывший разведчик Русской Армии с 1914 года, потерявший глаз в 1917-м в сражении под Зборовом, Сыровой в дни выступления против большевиков показал себя не самым активным из командиров и на столь высокий пост был вознесён, возможно, потому, что был достаточно покладист и устраивал всех, включая и чешских политиков. Ему суждено было в будущем дважды сыграть роковую роль: в 1920 году, когда он выдал на расправу большевикам адмирала А. В. Колчака, и в 1938 году, когда, будучи Главнокомандующим чехословацкой армией, он «повторил свой подвиг», выдав собственную страну на расправу Гитлеру.
По соглашению между русским и чешским руководством командующий чехами одновременно являлся в оперативном отношении Главнокомандующим всеми войсками противо-большевицкого фронта на Урале и в Поволжья. Разумеется, Сыровой по своей подготовке совершенно не был способен командовать армиями и фронтами. Поэтому вся работа автоматически ложилась на плечи начальника Штаба Чешско-Словацкого корпуса генерала Дитерихса.
Пока же Сыровой и Дитерихс отправились на Уфимское Государственное Совещание, призванное образовать на Востоке России единую государственную власть. 18 сентября 1918 года было достигнуто соглашение о создании Директории, а 24 сентября Верховным Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами России был назначен генерал В. Г. Болдырев. Сразу же после своего назначения он обсуждал с генералами Сыровым и Дитерихсом условия подчинения ему Чешского корпуса. Позднее Болдырев вспоминал:
«Я предлагал Дитерихсу принять то или иное участие в работе. Он отказался, заявив, что не хотел бы отрываться от чехов.
За время нашего совещания Дитерихс усиленно подчёркивал свою близость к чехам. Подчёркивание это было настолько ярким, что вызвало даже мой невольный вопрос: считает ли он себя русским генералом, - на что Дитерихс ответил: “Я прежде всего чешский доброволец”».
А вот каким увидел Дитерихса в это же время полковник К. В. Сахаров:
«Работая вместе с Дитерихсом и под его начальством с 1915 года, я хорошо знал его раньше; и теперь прямо не узнал: генерал постарел, исхудал, осунулся, не было в глазах прежней чистой твёрдости и уверенности, а ко всему он был одет в неуклюжую и невоенную чешскую форму, без погон, с одним ремнём через плечо и со щитком на левом рукаве...
- “Много пережить пришлось тяжёлого”, - сказал мне М. К. Дитерихс. — “Развал армии, работа с Керенским, убийство Духонина почти на моих глазах. Пришлось скрываться от большевиков. Потом работа с чехами”...
Мрачно и почти безнадёжно смотрел генерал Дитерихс на предстоящую зиму.
- “Надо уходить за Иртыш”, - было его мнение. - “Вы не можете одновременно формироваться и бить большевиков, да и снабжения нет, а англичане когда-то ещё дадут. Чехи”... - он махнул рукой. - “Чехи воевать не будут, развалили их совсем”».
Разумеется, оба автора воспоминаний пристрастны. Болдырев фактически предлагал Дитерихсу предать своего прямого начальника и почему-то обиделся, когда тот отказался. Сахаров же через год занял место Дитерихса, и ему выгодно было представить дело так, будто Михаил Константинович уже в 1918 году разуверился в исходе борьбы и собирался «уходить за Иртыш». Но, кажется, все свидетели согласны в одном: Дитерихс в это время был демонстративно лоялен к чешскому руководству, военному и политическому. Однако похоже, что двойственность собственного положения сильно тяготила его.
С Болдыревым после долгих переговоров удалось добиться соглашения. При этом формула служебных взаимоотношений была сложной и искусственной: Сыровой согласился подчиниться Болдыреву как Верховному Главнокомандующему, но при этом все действующие русские части в оперативном отношении были в свою очередь подчинены Сыровому как Командующему фронтом. Штаб фронта, который русские именовали Западным (по отношению к Омску, новой столице Белой Сибири), а союзники - Восточным (видя в нём восстановленный противо-германский Восточный фронт Первой мировой войны), обосновался в Челябинске. В задачу Дитерихса (как фактического Командующего фронтом) входила координация действий всех оперативных групп. Но резкое изменение политической ситуации не оставило ему возможности серьёзно проявить себя на этом посту.
Произошедший через месяц в Омске переворот, провозглашение Верховным Правителем адмирала Колчака, а затем и отвод всех чешских частей в тыл сделали невозможным сохранение прежнего смешанного чехо-русского Верховного командования. В январе 1919 года штаб фронта был расформирован, а все войска объединены в три отдельные армии: Сибирскую, Западную и Оренбургскую.
В этой обстановке генерал Дитерихс не видел возможным продолжать свою службу в чешском корпусе, и в результате 8 января 1919 года последовал приказ: «Определяются в Русскую Службу, Чешской Службы: Состоящий в должности Начальника штаба Главнокомандующего армиями Западного фронта Генерал-Лейтенант Дитерихс - тем же чином и с зачислением по Генеральному Штабу; Командовавший Екатеринбургской группой Генерал-Майор Гайда - с утверждением в чине и с зачислением по армейской пехоте».
* * *
В отличие от Гайды, возглавившего вскоре Сибирскую Армию, генерал Дитерихс не получил нового поста в действующей армии. Вместо этого 17 января 1919 года по предписанию адмирала Колчака на него было возложено «общее руководство по расследованию и следствию по делам об убийстве на Урале Членов Августейшей Семьи и других Членов Дома Романовых».
Хотя это новое поручение больше напоминало почётную отставку, Михаил Константинович, будучи убеждённым монархистом и глубоко верующим человеком, отнёсся к возложенной на него задаче со всей ответственностью. Он привлёк к расследованию следователя по особо важным делам Омского окружного суда Н. А. Соколова, и за три месяца была проделана огромная работа, в результате которой стали известны основные детали этого преступления.
Соколов неопровержимо доказал, что погибла вся Царская Семья и что организаторы преступления действовали не по собственной инициативе, а по прямому указанию из Москвы. Он сумел восстановить всю картину убийства и сокрытия его следов, проследить почти весь путь убийц, увозивших останки Мучеников, нашёл кострища, на которых жгли трупы. Были собраны многочисленные реликвии - вещи, принадлежавшие Николаю II и Его Семье, позднее вывезенные из России. К сожалению, неудачи на фронте и сдача Екатеринбурга не дали довести следствие до конца.
Полностью посвятив себя этому делу, Михаил Константинович всю весну безвыездно пробыл в Екатеринбурге. Но в мае, в связи с ухудшением обстановки на фронте, возник острый конфликт между командующим Сибирской Армией генералом Гайдой и начальником Штаба Верховного Главнокомандующего генералом Д. А. Лебедевым. В первых числах июня Дитерихс срочно был вызван в Омск к Верховному Правителю и получил предписание вместе с генералами А. Ф. Матковским и М. А. Иностранцевым образовать особую комиссию для рассмотрения вопроса об обоснованности обвинений Гайды.
Комиссия заседала три дня и пришла к выводу, что по существу Гайда совершенно прав в своих обвинениях, но облёк протест в недопустимую форму. Однако Дитерихс, докладывая адмиралу выводы комиссии, прибавил, что, по его мнению, Гайда для пользы дела должен быть сохранен на своём посту. Одновременно, признавая вину Лебедева, Дитерихс, по свидетельству генерала Иностранцева, настоятельно советовал Колчаку временно не увольнять и его. Дело в том, что до Михаила Константиновича уже дошли слухи, будто на место Лебедева прочат именно его, и он не хотел давать повода для сплетен.
Колчак с приведёнными доводами полностью согласился, и всё же не прошло и месяца, как генералу Дитерихсу пришлось заменить сразу обоих «спорщиков» - 20 июня 1919 года вышел Приказ Верховного Главнокомандующего за № 149, которым предписывалось:
«1. Сибирскую Отдельную армию, Западную Отдельную армию и речную боевую флотилию в полном составе подчинить Генерал-Лейтенанту Дитерихсу на правах Главнокомандующего фронтом.
2. Генералу Дитерихсу в командование вступить немедленно».
7 июля Дитерихс принял у Гайды командование над стремительно откатывающейся на восток армией. Непосредственная угроза нависла уже над Екатеринбургом, и Дитерихсу пришлось срочно организовывать правильную эвакуацию города. 15 июля Екатеринбург был оставлен белыми войсками. Предотвращая панику, Михаил Константинович выехал из него одним из последних.
А накануне приказом Верховного Главнокомандующего за № 158 генерал Дитерихс был назначен «Главнокомандующим Восточным фронтом, с подчинением ему всех войск Сибирской и Западной армий», которые реорганизовывались при этом в три неотдельных армии. Сибирская Армия была разделена на две: 1-ю генерала А. Н. Пепеляева и 2-ю, которую возглавил недавно приехавший из Франции генерал Н. А. Лохвицкий. Западная Армия переименовывалась в 3-ю, ею командовал произведённый в генералы К. В. Сахаров.
Однако в то время как генерал Дитерихс был всецело поглощён приведением в порядок Сибирской Армии, за его спиной Сахаров и фактически уже лишённый большей части своих полномочий Лебедев задумали самостоятельную наступательную операцию. Она вылилась в сражение под Челябинском 25 июля - 4 августа 1919 года.
Планируя эту операцию, генерал Сахаров предполагал заманить в ловушку советскую 5-ю армию, преднамеренно сдав город Челябинск и одновременно нанеся удары севернее и южнее города. Обе группы должны были перейти в наступление 25 июля и окружить втянувшиеся в город красные войска. Опасность проведения столь сложной операции и большой риск неудачи во внимание не принимались. Более того, для проведения этой операции генералом Лебедевым были без согласия Дитерихса привлечены из тыла последние резервы - 11-я, 12-я и 13-я Сибирские стрелковые дивизии. То, что они ещё не закончили обучение и состояли по существу из неопытных новобранцев, в расчёт принято не было. Не смогло командование и выявить существовавшие в каждом из этих новых полков подпольные коммунистические ячейки. В результате разразилась катастрофа: как только дивизии были вывезены на фронт, в первом же бою большая часть их перебежала на сторону красных, убивая по дороге собственных офицеров. 13-я Сибирская дивизия оказалась в этом отношении несколько получше - она потеряла «всего лишь» три четверти своего состава и, по крайней мере, сохранилась как боевое соединение; две же другие были через неделю расформированы, поскольку в них осталось по 200 штыков в каждой. Так бездарно были погублены последние резервы, а оставшихся сил не хватило для исполнения задуманного плана, что и стало основной причиной неудачи Челябинской операции.
Известия об этих самовольных действиях привели Михаила Константиновича в ярость, но он был бессилен остановить уже развернувшееся сражение. Однако на будущее он потребовал предоставить ему всю полноту власти над войсками фронта. И 9 августа адмирал Колчак, в дополнение к должности Главнокомандующего Восточным фронтом, своим приказом за № 172 назначил генерала Дитерихса также временно исполняющим обязанности начальника Штаба Верховного Главнокомандующего и военного министра.
* * *
Перед Дитерихсом стояла задача остановить продвижение красных, перехватить у них инициативу, а при благоприятных условиях - и отбросить противника назад за Урал. Кроме того, выяснилось, что советское командование после сражения под Челябинском сняло со своего Восточного фронта несколько дивизий и перебросило их на юг, против Деникина, который в это время развивал успешное наступление на Москву. Нужно было помочь Деникину, оттянув на себя часть красных сил. Всё это в совокупности заставило Дитерихса решиться на новую попытку наступления.
Но для этого сначала надо было стабилизировать фронт, остановить непрерывный отход. И тогда Михаил Константинович задумал смелый манёвр. Прикрываясь частью своих сил, он снял с фронта пять стрелковых дивизий и передислоцировал их в район Петропавловска для отдыха и пополнения. Кроме того, ещё одна дивизия пополнялась и развёртывалась в ближайшем тылу. Как только отходящие войска достигли линии реки Ишим и города Петропавловска, отдохнувшие дивизии немедленно влились в боевую линию, и 2 сентября войска всех трёх армий без промедления, одновременно перешли в решительное наступление.
На этот раз сражение было подготовлено куда тщательнее, чем под Челябинском. Атаман Сибирского Казачьего Войска генерал П. П. Иванов-Ринов объявил «сполох» и сумел поднять по станицам всё население до 50-летнего возраста. Из них был сформирован конный Сибирский казачий корпус, который вместе с пластунскими частями составил Степную группу генерала Лебедева. Эта группа совместно с Уральской группой генерала В. Д. Косьмина была заранее скрытно сосредоточена южнее железной дороги Курган - Петропавловск — Омск с задачей выйти во фланг и тыл 5-й армии красных.
Однако ожесточённое сражение пошло не совсем так, как было задумано. На второй его день красные нашли в полевой сумке убитого ординарца копию приказа Дитерихса и своевременно успели перебросить силы на атакуемый фланг. Роковую роль сыграло здесь также и то, что возглавивший Сибирский казачий корпус генерал Иванов-Ринов не обладал ни талантом, ни дерзостью, необходимыми для настоящего кавалерийского начальника. Он не решился смело прорвать фронт и уйти в рейд по красным тылам, а вместо этого после нескольких мелких тактических успехов вывел казаков «на отдых». Узнав об этом, Колчак отрешил Иванова-Ринова от командования корпусом, но было уже поздно - советские войска успели выйти из-под удара. Столь же медленно развивалось наступление и на участках 1-й и 2-й армий, ещё не успевших до конца оправиться от июньских и июльских поражений. Получилось, что основную тяжесть наступления пришлось принять на себя 3-й армии генерала Сахарова, а вместо охвата флангов удался мощный прорыв вдоль полотна железной дороги на Курган. Под ударами группировок Войцеховского, Каппеля и Косьмина красный фронт начал быстро подаваться назад.
После месяца ожесточённых боев белые войска нанесли противостоящим им 5-й и 3-й армиям советского Восточного фронта, которым командовал В. А. Ольдерогге, тяжёлое поражение, и ко 2 октября вышли обратно к реке Тобол. Но здесь стало ясно, что наступательный порыв иссяк. Части понесли тяжёлые потери, которые не успевали замещаться текущими пополнениями, и для форсирования реки уже не было сил.
Вот когда сказалось отсутствие трёх Сибирских дивизий, бездарно погубленных под Челябинском. Теперь же для пополнения рядов приходилось выбрасывать на фронт мелкие части: Морской учебный батальон, сформированный из корабельных команд Камской речной боевой флотилии, формирующуюся Образцовую Егерскую бригаду (побатальонно), Особую дивизию, первоначально предназначавшуюся для установления в районе Каспия связи между левым флангом армий адмирала Колчака и правофланговыми частями Вооружённых Сил Юга России генерала Деникина. Командующий 3-й армией Сахаров, по его признанию, бросил в бой всё, до собственного конвоя включительно. Когда не хватило и этого, то адмирал Колчак отправил в «командировку» на фронт и свой личный конвой, который принял участие в одном из боев. Но, разумеется, это был лишь красивый жест, армии требовалась Помощь в гораздо большем размере.
Выяснилась также полная ненадёжность поступающих пополнений. Мобилизованные сибирские крестьяне прибывали на фронт уже распропагандированными большевицкими агитаторами и во многих случаях в первом же бою переходили на сторону красных. Подобные пополнения не столько усиливали, сколько ослабляли войска.
Поэтому неудивительно, что Колчак и Дитерихс, столкнувшись с таким явлением, поневоле обратили особое внимание на привлечение в армию добровольцев. Для этой цели было создано «Управление добровольческих формирований» под руководством генерала В. В. Голицына. В начале сентября это управление вместе с инициативной группой, возглавляемой протоиереем отцом Петром Рождественским и профессором Д. В. Болдыревым, выдвинули идею создания «Дружин Святого Креста и Зелёного Знамени», которые состояли бы из глубоко верующих людей, воспринимавших большевиков как разрушителей Веры и Церкви. В разработанном «Положении о дружинах Святого Креста» говорилось: «Каждый вступающий в дружину Св[ятого] Креста, кроме обычной присяги, даёт перед Крестом и Евангелием обет верности Христу и друг другу и в знак служения делу Христову налагает поверх платья восьмиконечный Крест». Впрочем, как это видно из названия, некоторые дружины могли быть созданы и из мусульман; главным критерием здесь была именно глубокая вера, противопоставляемая воинствующему атеизму красных.
Дитерихс активно поддержал эту идею, поскольку она была ему внутренне близка. Развернулась усиленная агитация в церквах, среди верующих, и в результате к 23 сентября первая дружина Святого Креста была сформирована в городе Омске и после торжественного молебна выехала на фронт. Всего же до середины ноября в дружины Святого Креста вступило около 6 000 человек. Это была последняя попытка пополнить части морально устойчивым элементом, но она запоздала и из-за нерадивости генерала Голицына не достигла того размаха, на который рассчитывало командование.
В отличие от белых, командующий красным Восточным фронтом Ольдерогге имел реальную возможность быстро пополнить свои части. В дни Тобольского сражения Дитерихс писал: «Как бы ни было нам тяжело, но мы должны проявить максимальное упорство, дабы противник не мог взять ни одного человека с Восточного фронта, а наоборот, вёз свои дивизии на нас. Если за октябрь месяц большевики не усилятся против Деникина, то он к середине октября займёт Москву». Эта задача была почти выполнена: красные отменили все намечавшиеся перевозки на Южный фронт, и теперь все их многочисленные резервы были брошены против поредевших армий адмирала Колчака, так что когда после двухнедельного затишья и перегруппировки 14 октября 1919 года советские войска перешли в наступление, сил, чтобы остановить его, у Белого командования уже не было.
В течение последующей недели ожесточённых боев генерал Дитерихс всё ещё надеялся парировать удар и удержать красных на линии Тобола, либо на каком-нибудь промежуточном рубеже. Но к 24 октября он осознал, что наличных средств для этого явно недостаточно и дальнейшее упорное сопротивление приведёт лишь к перемалыванию в неравных боях лучших кадров.
Чтобы избежать этого, Дитерихс задумал новый манёвр. В своей директиве от 25 октября 1919 года он предписывал генералу Лохвицкому принять на себя управление 1-й и 2-й армиями, Тобольской группой и Тыловым округом фронта. Одновременно выделялись две сильные группы резервов. Ближайшая, в Омске, под командованием генерала Войцеховского создавалась из 13-й Сибирской и Морской дивизий, а также Красноуфимской бригады. Вторую группу в районе Ново-Николаевска - Томска должен был возглавить командовавший 1-й армией генерал А. Н. Пепеляев; в неё включалось большинство частей его армии. Переброшенные в места своего первоначального формирования, они должны были быстро пополниться, в то время как части на фронте предполагалось планомерно отвести на какой-либо заранее намеченный рубеж, с которого уже всеми силами можно было бы вновь перейти в наступление, или, по крайней мере, остановить красных до весны. Как видим, намечалось повторение Тобольского манёвра, только в больших масштабах.
Однако этот план не учитывал политических последствий отступления, в частности, Дитерихс не предполагал удерживать столицу Белой Сибири - Омск. Это обстоятельство и стало для него роковым. Верховный Правитель настаивал на безусловной защите Омска, и в этом вопросе его поддержал командующий 3-й армией генерал Сахаров. В результате генерал Дитерихс был смещён со своего поста, и Главнокомандующим армиями Восточного фронта вместо него был назначен Сахаров.
Обстоятельства смещения генерала Дитерихса, подробно описанные в донесении английского военного представителя майора Моринса со слов его агента, не оставляют сомнения в том, что Сахаров просто затеял интригу против своего начальника. Рассказ же об этом настолько колоритен, что его стоит привести целиком:
«4 ноября в 1 час дня были приняты Верховным Правителем генералы Дитерихс и Сахаров. Верховный был в необыкновенно нервном настроении и во время разговора с Дитерихсом и Сахаровым сломал несколько карандашей и чернильницу, пролив чернила на свой письменный стол. Верховный крайне немилостиво разговаривал с Дитерихсом, ставя ему в упрёк, что всё время его командования связано с исключительной неудачей и что он в настоящее время убедился в полной его неспособности. Не дав Дитерихсу [сказать] ни слова в своё оправдание, Верховный начал ему припоминать его уверения, ни на чём не основанные, о выступлении чехословаков с его назначением, отставки всех более или менее опытных генералов, что ему даже со стороны союзников пришлось неоднократно выслушивать о наивных начинаниях и приказах, исходящих от Дитерихса, что отступление армии и этим возможная сдача Омска - исключительная вина Дитерихса. Верховный также говорил о генерале Гайда, при чём бросалось в глаза следующее: когда Дитерихс в своё оправдание начал говорить, что он получил тяжёлое наследие от Гайды, который совершенно разложил свою армию, а он всё-таки в сравнительно короткий срок установил боевую способность её, и что отступление лишь следствие превосходства в численности красных, - Колчак здесь потерял совершенно всякое самообладание, стал топать ногами и буквально стал кричать, что это обычный приём самооправдания: конечно, всегда во всём другие виноваты. “Я вижу лишь одно, что генерал Гайда всё-таки во всём был прав. Вы оклеветали его из зависти, оклеветали Пепеляева, что они совместно хотят учинить переворот, да... переворот необходим... так продолжать невозможно... я знаю... Омск... мне скажете, что решительное сражение дадите между Омском и Ново-Николаевском... опять начинается та же история, что перед Екатеринбургом, Тюменью, Петропавловском и Ишимом. Омск немыслимо сдать. С потерей Омска - всё потеряно. (Обращается к генералу Сахарову) Как ваше мнение?” Сахаров в позе Наполеона (рассказал агент) стал развивать свой план обороны Омска с рытьём окопов и проволочных заграждений в 6 вёрстах от Омска, говорил с такой уверенностью и притом в духе Верховного, что тот сразу принял сторону Сахарова, забыв все его промахи в Челябинске, Кургане и под конец под Петропавловском и Ишимом. Утвердил план Сахарова и, обращаясь к Дитерихсу, сказал: “Пора кончить, Михаил Константинович, с вашей теорией, пора перейти к делу, и я приказываю защищать Омск до последней возможности”.
“Ваше Превосходительство, - сказал Дитерихс, - защищать Омск равносильно полному поражению и потере всей нашей армии. Я этой задачи взять на себя не могу и не имею на то нравственного права, зная состояние армии, а, кроме того, после вашего высказанного мнения я прошу вас меня уволить и передать армию более достойному, чем я”.
Колчак: “Приказываю вам (обращаясь к Сахарову) вступить в обязанности Главнокомандующего. Генерал Дитерихс сдаст вам свой штаб, чтобы в первое время не тратить вам дорогого времени на формирование его. (Обращается к Дитерихсу) Приказываю вам, генерал, немедля всё сдать генералу Сахарову”.
(Дитерихс в ответ): “Слушаюсь, - я так устал”.
Оба генерала, прощаясь с Верховным, выходят и сталкиваются в прихожей с майором Стивенсом, который в свою очередь обращается к Дитерихсу, объясняя ему, что он только что был у него в поезде по поручению генерала Нокса и узнал... он уехал к Верховному Правителю, он ехал сюда, чтобы передать ему приглашение генерала Нокса на обед сего числа. Дитерихс, схватясь за голову: “Ох, батюшки, дорогой мой, какие теперь обеды, я очень благодарен генералу за приглашение, но извиняюсь, я слишком устал, пусть теперь другие пообедают за меня”».
Дитерихс был оскорблён до глубины души, он немедленно сдал командование Сахарову и через несколько дней выехал в Иркутск в одном поезде с эвакуирующимся из города советом министров.
Первым распоряжением Сахарова явилась отмена директивы Дитерихса от 25 октября. Эвакуация Омска была резко остановлена, а частям Пепеляева, успевшим уже прибыть в район Ново-Николаевска, приказано было походным порядком возвращаться обратно в Омск. Однако уже два дня спустя Сахарову пришлось убедиться, что его замыслы абсолютно неисполнимы, и фактически он вынужден был вернуться снова к плану Дитерихса. В результате вмешательство Сахарова только внесло беспорядок в выполнение первоначального плана, сорвало эвакуацию Омска и в конечном итоге лишь ускорило падение города. Омск был оставлен 14 ноября чрезвычайно поспешно, и в нём были брошены огромные запасы военного имущества, необходимого для армии.
В свете разразившейся затем катастрофы, возникает закономерный вопрос, насколько исполним был первоначальный план Дитерихса? Пожалуй, он был достаточно реалистичен, но лишь при обязательном выполнении ряда условий: организации планомерной эвакуации, а также полном овладении ситуацией в тылу и на линии Транссибирской железнодорожной магистрали. Как известно, этого достигнуть не удалось, и не в последнюю очередь - благодаря «братской помощи» чехов...
В директиве Дитерихса от 25 октября ничего не говорилось о том, на каком рубеже следует остановить наступление красных. В условиях сибирской зимы замерзшие реки (Обь и Иртыш) не представляли собою преграды для наступающих. Однако существовал действительно прекрасный оборонительный рубеж: полоса Томской (или Щегловской) тайги - девственных, почти непроходимых лесов, шириной примерно в 60-80 вёрст, которая тянулась западнее Томска на юго-восток сплошной стеной вплоть до Алтая. В полосе отступления Белых войск поперёк тайги с запада на восток шли лишь три узкие дороги, а вне дорог в условиях зимы продвигаться было практически невозможно. Защищать, таким образом, требовалось лишь выходы этих дорог из тайги, для чего было необходимо не слишком большое количество свежей пехоты, в достаточной мере снабжённой пулемётами. Резонно предположить, что именно полосу Щегловской тайги генерал Дитерихс наметил в качестве того последнего рубежа, на котором он гарантированно сумел бы остановить красных.
И всё-таки генерал Дитерихс, затевая 25 октября свой манёвр, допустил грубую ошибку. Выводя в тыл на пополнение 1-ю армию (Сибирскую), он не принял во внимание уже явно проявившуюся на тот момент ненадёжность её частей в моральном отношении и оппозиционные настроения значительной части командного состава. И в решающую минуту её полки, вместо того чтобы прикрыть своих отходящих боевых товарищей, подняли мятежи в Ново-Николаевске, Томске и Красноярске. В результате Щегловская тайга, вместо того чтобы спасти, погубила части 2-й и 3-й армий. На узких дорогах войска перемешались с многочисленными обозами. При любой пустячной поломке возникали многокилометровые пробки, в которых в конечном итоге были брошены не только обозы, но и большая часть артиллерии. Из тайги армия вышла уже практически небоеспособной.
А 9 декабря на станции Тайга генерал А. Н. Пепеляев вместе со своим братом премьер-министром В. Н. Пепеляевым арестовал генерала Сахарова, обвинив его в преступном оставлении Омска. Братья потребовали у Колчака суда над Сахаровым и восстановления в должности Главнокомандующего генерала Дитерихса. Адмирал послал телеграмму с этим предложением Дитерихсу, но Михаил Константинович, чья обида была ещё слишком свежа, резко ответил, что соглашается принять командование лишь в том случае, если адмирал уйдёт с поста Верховного Правителя. Такой ультиматум, разумеется, был расценён Колчаком как недопустимый, и Дитерихс, не дожидаясь новых предложений, немедленно выехал в Забайкалье. А армии 12 декабря 1919 года возглавил генерал Каппель, чтобы совершить с ними беспримерный Сибирский Ледяной поход...
Здесь на некоторое время прерывается связь Дитерихса с бывшей армией адмирала Колчака, по прибытии в Забайкалье переименованной в Дальне-Восточную Армию. Правда, он ещё исполнял отдельные дипломатические поручения - так, в августе 1920 года ездил во Владивосток, где вёл переговоры со своим старым знакомым генералом Болдыревым, бывшим в 1918 году Верховным Главнокомандующим, а ныне изрядно «порозовевшим» и занимающим пост управляющего военным ведомством во владивостокском коалиционном правительстве - «Приморской Областной земской управе». От имени Командующего Дальне-Восточной Армией генерала Лохвицкого Дитерихс пытался прозондировать почву относительно возможности для армии, в случае неудачи в Забайкалье, перейти на территорию Приморской Области. Переговоры окончились ничем, и Михаил Константинович решил удалиться от дел и поселиться в Харбине вместе со своей семьёй.
К этому времени Дитерихс был женат вторым браком на Софии Эмильевне Бредовой (сестре двух братьев - генералов Бредовых, служивших в войсках Деникина, а затем Врангеля). Молодая, очень красивая и образованная женщина, София Эмильевна ещё в Омске в 1919 году открыла домашнюю школу на 40 человек для девочек-сирот, дочерей погибших на фронте офицеров, которую она назвала «Очагом». В ноябре 1919 года ей удалось благополучно эвакуировать своих воспитанниц. Теперь в Харбине она целиком посвятила себя заботам о девочках-«очаговках», а Михаил Константинович - работе над книгой «Убийство Царской Семьи и Членов Дома Романовых на Урале», которая вышла во Владивостоке в 1922 году. 1 июля 1921 года у Михаила Константиновича и Софии Эмильевны родилась дочь Агния.
Но 3 июня 1922 года мирная жизнь Дитерихса была внезапно нарушена пришедшей из Владивостока телеграммой:
«Генералу Дитерихсу. Фуражная улица, Харбин Старый.
Общее положение, интересы русского дела на Дальнем Востоке повелительно требуют Вашего немедленного приезда во Владивосток. Армия и Флот единодушны в желании видеть Вас во главе дела и уверены, что Ваше патриотическое чувство подскажет Вам решение, вполне согласованное с общим желанием. Просим телеграфного ответа. Вержбицкий, Молчанов, Смолин, Бородин, Пухов, Фомин».
* * *
В Приморье, куда перебралась Дальне-Восточная Армия после отступления из Забайкалья, к этому времени сложилась очень тяжёлая обстановка. Ещё 26 мая 1921 года во Владивостоке при молчаливом одобрении японцев произошёл переворот, и к власти пришло Приамурское Временное Правительство, возглавляемое братьями Спиридоном и Николаем Меркуловыми (первый стал премьер-министром, а второй - министром иностранных дел и военно-морским). Этому созданному в Приморье Белому государственному образованию противостоял красный «буфер» - провозглашённое 6 апреля 1920 года в Верхнеудинске новое «независимое государство» - Дальне-Восточная Республика (ДВР).
На территории Приморской области оставались ещё японские войска, и по соглашению от 29 апреля 1920 года о «нейтральной зоне» (подписанном ещё генералом Болдыревым как управляющим военным ведомством Приморской Областной земской управы) русские власти не могли вести на территории области военных действий и держать здесь войска, кроме строго ограниченного контингента милиции. Это соглашение связывало в своё время руки красным, но теперь оно было также распространено и на Белую армию, которой приходилось существовать полуподпольно, именуясь официально «резервом милиции». При оставлении Забайкалья войска были разоружены на КВЖД китайцами, и хотя теперь получили некоторое количество оружия от японских союзников, его было явно недостаточно. Артиллерии же и тяжёлого оружия армия не имела вовсе. В кавалерии почти не было лошадей. Впрочем, и сама армия представляла собой достаточно своеобразное объединение.
В Забайкалье в 1920 году вышли Ижевцы и Воткинцы, Уфимская, Камская, Иркутская и Омская дивизии, Барнаульский стрелковый полк, Добровольческая дивизия и Егерская бригада, немногие части Волжского корпуса генерала Каппеля и дивизий Горных стрелков Урала, остатки регулярных кавалерийских полков, а также Оренбургских, Сибирских и Енисейских казаков, наконец, масса других, более мелких частей, влившихся прямо на походе в уже перечисленные. В подавляющем своём большинстве они образовались летом 1918 года из добровольческих и белоповстанческих отрядов и имели прекрасные кадры из людей, сознательно взявшихся за оружие, знающих, за что они борются, и на своём личном опыте убедившихся, что им несёт власть большевиков. Именно это обстоятельство позволило им сохраниться в страшные дни Сибирского Ледяного похода зимы 1919-1920 годов, не распасться, подобно десяткам других частей и соединений, и сквозь все преграды вырваться в Забайкалье. Но они были чрезвычайно малочисленными: ни в одной из вышедших «дивизий» не было более 800 штыков, а потому в Забайкалье дивизии были свёрнуты в полки, полки - в батальоны и эскадроны и так далее.
В Приморье части поредели ещё больше, так что Омский стрелковый полк, который имел в своём составе до 700 едоков, а в поле мог выставить около 500 штыков, считался в армии одним из самых больших. Едва ли не четверть состава частей составляли офицеры, но называть их «белой костью» не приходится, поскольку почти половина из них была произведена из рядовых добровольцев в 1918-1919 годах, кадровых же офицеров среди них вообще были единицы. Всей армии больше чем за полгода не платили жалования, имеющихся запасов едва хватало на пропитание.
Обстановка, которая сложилась вокруг этих частей в Приморье, оставляла им мало шансов для новой успешной борьбы. Для населения области они были чужими, пришлыми. Ветераны Белых частей понимали неизбежность продолжения войны и готовы были воевать и дальше, а местное население - нет. Россия, «вставшая на дыбы» в 1917-1918 годах, к 1922-му смертельно устала от бесконечных битв и разорения, она готова была покориться сильнейшему, а таковыми, безусловно, являлись большевики. Население же Приморья, в придачу к этому, не знало по-настоящему у себя Советской власти. Оно привыкло, чтобы всем распоряжалась иностранная власть - союзники, более или менее защищавшие от красных партизан и не требовавшие, чтобы сами жители приложили руку к своей защите. Поэтому из местного населения в армию вступили лишь единицы, и никаких надежд на пополнение у неё не было. К тому же единство армии разъедали старые распри между «каппелевцами» и «семёновцами». Фактически она раскололась на две части: в непосредственном подчинении Командующего генерала Вержбицкого находились лишь «каппелевские» 2-й Сибирский стрелковый корпус генерала И. С. Смолина и 3-й стрелковый корпус генерала В. М. Молчанова, а 1-й корпус и некоторые присоединившиеся к нему части составляли так называемую Гродековскую группу войск генерала Н. В. Савельева, придерживающуюся «семёновской» ориентации. Всё, чтооставалось армии в этих условиях, - это пытаться выжить, сражаясь уже не за победу, а только за собственное существование, за свою жизнь.
Но они не желали прекращать борьбу, и 29 ноября 1921 года корпус генерала Молчанова выступил на север, в так называемый Хабаровский поход. В первых же боях «Белоповстанческая Армия», как она стала именоваться в целях конспирации, показала, что «порох в пороховницах» у неё ещё не отсырел. Она наголову разбила противостоящие ей полки Народно-Революционной Армии ДВР, добыв при этом себе артиллерию и пулемёты, и 22 декабря 1921 года освободила Хабаровск. Но силы были слишком неравными: в ДВР из Советской Республики эшелонами перебрасывались войска и вооружение, а у Молчанова каждый боец и каждый патрон был на счету. Поэтому после большого сражения у Волочаевки 5-12 февраля 1922 года Белоповстанческая Армия вынуждена была оставить Хабаровск и отступить обратно в Южное Приморье.
Неудача Хабаровского похода, как водится, обострила отношения в самом Приморье, между правительством Меркуловых и командованием Армии. Вержбицкий обвинял Меркуловых в пренебрежении к нуждам Армии. Денег, выделяемых для неё, было явно недостаточно, а переданные во Владивостоке склады были пусты. Жалование войскам не выплачивали, а за подвиги Хабаровского похода их «щедро наградили», выдав каждому... по пачке папирос и коробку спичек! Армия восприняла такую «награду» как откровенное издевательство.
Спиридон Меркулов, будучи весьма нечистоплотным политиком, яростно цеплялся за власть. Столкнувшись с оппозицией «каппелевского» генералитета, он тут же решил поддержать «семёновцев» и через голову Вержбицкого отдал приказ о возвращении прежних должностей нескольким ранее удалённым из армии офицерам. И на всё это накладывалась ещё и борьба между правительством и «приморским парламентом» - Народным Собранием.
14 мая 1922 года Народное Собрание утвердило новый закон о предстоящих выборах в Учредительное Собрание, в которых наравне с другими партиями могли участвовать и большевики. В ответ на это правительство Меркуловых 29 мая издало указ о признании недействительным закона о выборах и о роспуске самого Народного Собрания. Последнее, в свою очередь, отказалось подчиниться и объявило правительство низложенным, а верховную власть - временно перешедшей к Президиуму Народного Собрания.
Это был самый настоящий государственный переворот. Армия разделилась: корпуса Молчанова и Смолина из чисто тактических соображений поддержали Народное Собрание, а Забайкальские казаки, Сибирская флотилия и батальон Морских стрелков - Меркуловых. В гарнизоне Никольска-Уссурийского произошла кровавая стычка. Во Владивостоке же все опасались вмешательства японцев, а потому до кровопролития дело не дошло. Правительство Меркуловых «укрепилось» под охраной Морских стрелков, и с балкона своего дома братья попеременно выступали перед толпой, нещадно обливая грязью «мятежников». А в нескольких кварталах от них заседало под охраной «каппелевцев» Народное Собрание, усердно обличая злоупотребления Меркуловых.
Действо затянулось, приобретая опереточный характер, за что местные остряки немедленно окрестили его уже не переворотом, а «недоворотом». Но последствиями оно грозило совсем нешуточными: полным распадом и бесславной гибелью для всей приморской Белой государственности. И первыми это поняло командование Армии.
Единственным выходом из сложившегося положения оно считало приход к власти нового человека, способного объединить все оставшиеся в области антибольшевицкие силы, пользующегося достаточным авторитетом и в Армии, и у населения. Возможных кандидатур было только две: бывший приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти и - генерал Дитерихс. Обоим были посланы телеграммы. Гондатти отказался, Дитерихс же, после непродолжительной, но тяжёлой внутренней борьбы, решил принять предложение и приехать во Владивосток. Между тем ещё 1 июня Командующий Армией генерал Вержбицкий и его начальник Штаба генерал Пучков объявили о своём уходе в отставку и о передаче в будущем командования генералу Дитерихсу, а до его приезда генералу Молчанову.
Происходившие в это время на КВЖД китайские междоусобицы не позволили Михаилу Константиновичу выехать немедленно, так что на станцию Никольск-Уссурийский он прибыл лишь 8 июня. Здесь его встречали почётный караул, генерал Молчанов и командиры частей. По свидетельству одного из встречавших, «генерал Дитерихс был бодр, но серьёзен. Одет он был скромно, если не сказать даже бедно». В тот же день Михаил Константинович прибыл во Владивосток.
Генерал немедленно был приглашён на торжественное заседание в Народное Собрание, где было объявлено об избрании его на пост Председателя нового правительства. Однако в ответ генерал сделал неожиданное заявление, смысл которого сводился к тому, что Народное Собрание, свергая Меркуловых, встало на революционный путь, и новое правительство избрано также революционным порядком, с чем он, Дитерихс, никак примириться не может. Всё необходимо исправить, чем он и займётся в ближайшие сутки.
Заявление это очень встревожило «говорунов» из Народного Собрания, так как по свидетельству уже известного нам генерала Болдырева «было проникнуто непоколебимостью в отношении отрицания всяких революционных актов, предрешённостью и мистицизмом». По поручению Народного Собрания, его председатель Андрушкевич и товарищ председателя Болдырев на другой день поехали к Дитерихсу выяснять его намерения на будущее. Предоставим слово Болдыреву, описавшему встречу в своих воспоминаниях:
«“Вы, генерал, наверное, не подозреваете тех последствий, которые могут возникнуть от вашего решения”, - заметил Н. А. Андрушкевич, на что Дитерихс ответил, что он много думал по этому вопросу и успокоился только тогда, когда принял именно это решение.
Я попросил его зафиксировать общий смысл высказанных им решений. Они таковы:
От прежнего правительства:
1) Отмена своего постановления о роспуске Народного Собрания.
2) Сложение правительственных полномочий С. и Н. Меркуловыми с передачей временного председательствования Правительством (то есть теми же Меркуловыми) назначаемому Командующим Армией и Флотом генерал-лейтенанту М. К. Дитерихсу, впредь до созыва в кратчайший 2-3-неделъный срок Земского Собора.
Нынешняя власть:
1) Или отмена постановления Народного Собрания о неподчинении указу правительства о роспуске, с принятием на себя верховных полномочий, или
2) Постановление о самороспуске Народного Собрания.
Вопрос становился ясным, Народное Собрание ликвидировалось.
Дитерихс подписал два маленьких листочка с вышеприведённым текстом и передал мне. На них стояла дата “10 июня 1922 года”.
Я встал и заявил Дитерихсу, что после подтверждения им столь грубого нарушения воли Народного Правительства вопрос настолько ясен, что больше говорить не о чем. Мы, вышли».
Таким образом, 10 июня Дитерихс добился самороспуска Народного Собрания, а 11-го неожиданно для «бунтовщиков» поймал на слове генерала Молчанова, спросив того, «будет ли исполнен безоговорочно всякий его приказ», а когда Молчанов ответил утвердительно, - объявив о том, что не находит иных способов «к устранению возникшей политической смуты», как только подчиниться прежнему «законно избранному» Приамурскому Временному Правительству. «Бунтовщики» были ошеломлены, но должны были подчиниться. Это было подтверждено 12 июня в Приказе № 1 по Армии и Флоту, которым Дитерихс объявил о своём вступлении в командование войсками. Начальником своего Штаба он назначил генерала П. П. Петрова, соратника Каппеля ещё по боям 1918 года.
Таким образом, «недоворот» был полностью ликвидирован. Казалось, Меркуловы одержали полную победу, но на самом деле это было не так. Ещё 6 июня правительство Меркуловых выпустило указ о созыве во Владивостоке Земского Собора, которому и обязалось передать все свои полномочия. Дитерихс поймал на слове Меркуловых так же, как и Молчанова, поставив своим условием немедленный, в две недели, созыв Земского Собора для установления новой структуры власти. Ещё одним обязательным условием явилось полное прощение для всех «бунтовщиков» с обеих сторон. Меркуловы пытались, сколько могли, оттянуть открытие Земского Собора, но Дитерихс был непреклонен, и 23 июля 1922 года первое заседание Собора было открыто.
По своему составу Собор сильно отличался от только что распущенного Народного Собрания. Прямые выборы в него были заменены представительской системой, характерной для Земских Соборов XVI-XVII веков. Таким образом, в работе Собора приняли участие: все члены Приамурского Временного Правительства, Владивостокский, Камчатский, Харбинский и старообрядческий Епископы, представители старообрядческих общин и мусульманского общества, Главнокомандующий войсками Приморья генерал Дитерихс, командующий Сибирской флотилией адмирал Г. К. Старк, Атаманы всех Казачьих Войск, 15 представителей от воинских частей, назначаемые командованием, а также волостные старшины, станичные атаманы, ректоры высших учебных заведений, члены профсоюзов Владивостока и Никольска-Уссурийского - всего 370 человек. Но к участию в Соборе не были допущены представители левых и социалистических партий.
В результате Собор по своим политическим пристрастиям оказался очень правым. Однако это отнюдь не означало, что он не представлял интересов большинства населения Приморья. Ведь крестьянству и казачеству был свойствен патриархальный уклад, жили они очень зажиточно, соответственно не могли не тяготеть к разумному консерватизму, Православным и монархическим идеям. В случае же выборов вперёд пролезли бы, как всегда, крикуны из социалистических партий, а голос тех людей, которые должны были стать естественной опорой Белой власти, снова не был бы услышан. Теперь же, при замене выборов сословным представительством, Земский Собор должен был превратиться из обычной «говорильни» в работоспособный законодательный орган. Но с первых же часов работы его депутаты ударились в другую крайность.
На заседании 3 августа Собор большинством голосов постановил, «что права на осуществление Верховной Власти в России принадлежат династии Дома Романовых... По сим соображениям Земский Собор почитает необходимым доложить о вышеизложенном Её Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Фёдоровне и Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю Николаевичу, высказывает своё пожелание, чтобы правительство вступило в переговоры с династией Дома Романовых на предмет приглашения одного из членов династии на пост Верховного Правителя». Впрочем, участники Собора понимали, что это решение трудно осуществимо, и рассматривали его в первую очередь как политическую декларацию. Действительно, Вдовствующая Императрица и Великий Князь отказались приехать и ограничились благодарственными телеграммами.
Ближайшей задачей Собора являлось избрание Правителя Приамурского Земского Края, и 8 августа Собор избрал новым Правителем генерал-лейтенанта Дитерихса. Он немедленно направился в кафедральный собор, где и принёс следующую торжественную присягу:
«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом перед Святым Его Евангелием и Животворящим Крестом Господним в том, что принимаемое мною по воле и избранию Приамурского Земского Собора возглавление на правах Верховной Власти Приамурского Государственного Образования со званием Правителя я приемлю и сим возлагаю на себя на время смуты и нестроения народного с единой мыслью о благе и пользе всего населения Приамурского Края и сохранения его как достояния Российской Державы. Отнюдь не ища и не преследуя никаких личных выгод, я обязуюсь свято выполнить пожелание Земского Собора, им высказанное, и приложить по совести всю силу разумения моего и самую жизнь мою на высокое и ответственное служение Родине нашей Рос сии, - блюдя законы её и следуя её историческим исконным заветам, возвещённым Земским Собором, памятуя, что я во всём том, что учиню по долгу Правителя, должен буду дать ответ перед Русским Царём и Русской Землёй. В удостоверение сей моей клятвы я перед алтарём Божиим и в присутствии Земского Собора целую слова и Крест Спасителя моего. Аминь».
Таким образом, впервые за время Белой борьбы, вожди которой почти повсеместно стояли на позициях «непредрешения», был открыто выдвинут монархический лозунг, преобладавший затем в среде военной эмиграции. Это свидетельствовало о глубочайшем разочаровании в принципах демократии и народоправства, которое испытали рядовые участники Белого движения за годы борьбы. Действительно, представители левых партий успели за это время показать свою полную неспособность к созидательному государственному строительству и вообще к чему-либо, кроме всеобщей критики и разрушения. Соответственно, у белых бойцов всё более крепло стремление возвратиться к нравственным истокам, к вековым русским традициям Православия и Монархии. И все происходящие с Россией беды они теперь склонны были рассматривать как возмездие, Божию кару за отступничество, совершенное Россией в феврале 1917 года.
В этом отношении чрезвычайно показательна идейная эволюция самого Дитерихса от «сторонника демократии» и сотрудника (пусть и невольного) Керенского в 1917-м и «чешского добровольца» в 1918-м - к твёрдой и открытой демонстрации своих внутренних убеждений монархиста и верующего Православного человека в 1922 году. Может быть, значительную роль в таком переосмыслении сыграло его участие в расследовании убийства Царской Семьи, а потом работа над книгой об этом? Сам же Дитерихс в своей программной речи на заседаниях Собора излагал свои взгляды так:
«В несчастную ночь с 27-го на 28-е февраля под влиянием дурмана Россия встала на революционный путь... И вот, господа, заслуга Земского Собора заключается в том, что начало нашей религиозной идеологии он решил смело, открыто, во всеуслышание. Эта идеология зиждится не только на том, что мы сейчас снова должны вернуться к идее России монархической. Но этого мало. Первой нашей задачей стоит единственная, исключительная и определённая борьба с советской властью, свержение её. Далее - это уже не мы. Далее - это будущий Земский Собор...»
Как же оценивали поступки и заявления Дитерихса его соратники и современники? По-разному. Одни видели в этом политическую мудрость, возвращение к устоям общества и нравственности. Другие, как, например, изрядно «покрасневший» генерал Болдырев - «нечто близкое к простому предательству по отношению к Народному Собранию» и «воинствующий мистицизм». Красные, разумеется, писали о «сумасшедшем Дитерихсе», объявившем против них «Крестовый поход».
Но, независимо от политических симпатий и антипатий, в первую очередь бросается в глаза предельная политическая честность Дитерихса в этот период. Раз приняв какое-либо решение, генерал уже не отступал, пусть даже лично для него в данный момент оно становилось невыгодным. И похоже, что он действительно верил в Чудо, в то, что его порыв увлечёт за собой окружающих и что в результате, вопреки всем материальным расчётам, удастся переломить даже самую безнадёжную ситуацию.
В соответствии со своими воззрениями Дитерихс строил и подчинённые ему органы власти. В помощь Правителю был создан Приморский Поместный Совет, состоящий из владивостокского городского головы, председателя областной земской управы, Атамана Уссурийского Казачьего Войска; возглавлял его, на правах министра внутренних дел, генерал Бабушкин. Законодательная власть должна была осуществляться Приамурской Земской Думой, куда вошли представители от всех церковных приходов Владивостока и Никольска-Уссурийского, от сельского самоуправления, профсоюзов, Уссурийского казачества и несоциалистических организаций, - всего 34 члена. Местом пребывания Думы был назначен город Никольск-Уссурийский. Основой же местного самоуправления должны были стать церковные приходы. Утвердив эту структуру власти, Земский Собор и завершил свою работу 10 августа 1922 года.
Не менее насущной была реформа в армии. И здесь Дитерихс за короткий срок успел сделать довольно многое. Во-первых, благодаря авторитету в войсках ему удалось добиться определённого паритета между «каппелевцами» и «семёновцами», не давая при этом преимущества ни одной из групп, и тем самым притушить соперничество, вновь вспыхнувшее было в дни «недоворота». Во-вторых, все части, изрядно поредевшие в дни боев под Хабаровском, были свёрнуты в более мелкие единицы, в соответствии с их численным составом.
Но далее последовал целый шквал переименований. Белоповстанческая Армия была переименована в «Приамурскую Земскую Рать», а Дитерихс, как её Главнокомандующий, стал называться «Воеводой Земской Рати». Корпуса были переименованы в рати, полки - в отряды, батальоны - в дружины. Соответственно, все они получили новые наименования. «Земская Рать» теперь была разделена на четыре «Рати» или «Группы»: Поволжскую Рать генерала Молчанова, Сибирскую (стрелковую) Рать генерала Смолина, Сибирскую Казачью Рать генерала Бородина и Дальневосточную Рать генерала Глебова. Если Дитерихс, подыскивая для воинских частей и соединений «древнерусские» термины, надеялся, что в ряды «ратей» мощным потоком хлынут новые добровольцы, то в этом он ошибся. Зато новые названия, несомненно, до крайности затруднили текущую работу штабов и ведение деловой переписки.
Однако все затеянные преобразования и внедрение новой идеологии могли дать результат лишь с течением времени. А его у Дитерихса как раз и не было.
На Вашингтонской конференции в январе 1922 года Япония под давлением Соединённых Штатов дала обязательство вывести свои войска из Приморья, и 24 июня японское правительство объявило сроки намечаемой эвакуации. Вся территория Приморья была разделена на три «зоны эвакуации»: 1-я - от станции Свиягино до Никольска-Уссурийского, должна была быть эвакуирована в сентябре; 2-я - от Никольска-Уссурийского до станции Угольная - в октябре, и 3-я зона - непосредственно город Владивосток - в ноябре 1922 года.
Было ясно, что только присутствие японских войск сдерживало красных от немедленного наступления на Приморье. По поручению Дитерихса владивостокский городской голова генерал А. И. Андогский ездил в Токио с просьбой отменить эвакуацию или, по крайней мере, перенести её на более поздний срок; но эти переговоры закончились безрезультатно. Так что теперь к началу сентября надо было ожидать вторжения с севера.
* * *
26 августа генерал Дитерихс с Полевым Штабом переехал в Никольск-Уссурийск, чтобы быть поближе к будущему театру военных действий. На 1 сентября Земская Рать насчитывала в своих рядах 7 315 бойцов при 22 орудиях и 3 бронепоездах. Поволжская Группа генерала Молчанова (2 835 человек при 8 орудиях) была сосредоточена в Никольске-Уссурийском с тем, чтобы принять Спасский район, как только его покинут японцы. Сибирская Группа генерала Смолина (1 450 человек и 7 орудий) перемещалась в Гродековский район для очистки от партизан Приханкалья, затем она должна была поддержать Молчанова. Сибирская Казачья Группа генерала Бородина (1 230 человек и 3 орудия) действовала против партизанской базы в Анучино, а Дальневосточная Казачья Группа генерала Глебова (1 800 человек, 4 орудия) - против Сучана. Пограничная стража и Железнодорожная бригада с бронепоездами охраняли железную дорогу.
3 сентября 1922 года последние японские эшелоны ушли из 1-й зоны эвакуации во Владивосток. Соответственно Штаб Воеводы считал 4 сентября датой начала своего последнего похода.
Генерал Дитерихс всё ещё рассчитывал на чудо, он надеялся поднять русских людей на борьбу с большевиками под лозунгом «За Веру, Царя и Отечество!» И он требовал от окружающих той действенной жертвенности, которую ощущал в себе. Правитель планировал ряд крестьянских съездов, намереваясь зажечь боевым духом приморских крестьян и казаков. Был объявлен призыв военнообязанных в Никольске и Владивостоке; предполагалось, что призывники будут экипированы на средства городского самоуправления. Молодёжь из учебных заведений подлежала призыву в первую очередь. Города должны были создать у себя самооборону, чтобы ею можно было заменить воинские части, несущие охрану в тылу. Одновременно в городах был объявлен сбор средств на нужды армии.
Воевода надеялся, что его Земская Рать, пополненная бойцами всенародного ополчения, усилится настолько, что сможет от обороны перейти к наступлению. Но очень скоро он осознай, что призывы его падают в пустоту. Никто и ничем не хотел жертвовать. Владивосток, ставший за последние годы городом спекулянтов, дал в армию всего 160 человек, да и то часть из них пришлось отлавливать прямо на улицах. Никольск дал 200 человек, причём ни одеть, ни снабдить их города не смогли. Учащиеся и вообще интеллигенция при известии о призыве ринулись не на фронт, а как можно дальше от него - в полосу отчуждения КВЖД. Собранная самоохрана была ненадёжна, часть её откровенно сочувствовала большевикам. Те немногие дружинники, которые попали в армию, не столько усилили, сколько ослабили боевые части. И, наконец, как только стало известно о сборе средств, городские самоуправления начали активное обсуждение... как получше уклониться от своих обязанностей!
Была и ещё одна проблема, имеющая для армии жизненное значение: в частях катастрофически не хватало винтовочных патронов. Между тем их запасы имелись на складах Владивостока, находившихся в ведении японцев. Дитерихс неоднократно обращался к японскому командованию с просьбой открыть эти склады и выдать патроны русским войскам. Но ни оружия, ни боеприпасов от японцев получено не было, и в течение всей последней кампании русские части в отношении патронов сидели «на голодном пайке».
Раздражение действиями японцев было у Дитерихса столь велико, что вылилось в не слишком продуманную демонстрацию. По оставлении японцами Спасска Правитель 5 сентября лично приехал в этот город. По словам очевидцев, «растроганный, со слезами на глазах, Воевода припал к “освобождённой от интервентов русской земле”, после чего тут же произнёс перед толпой встречавших его официальных лиц и народа речь на эту тему». Этот жест вызвал недоумение даже у многих его ближайших сподвижников.
Противник Земской Рати, Народно-Революционная Армия ДВР, также деятельно готовилась к открытию боевых действий, в первой линии на станциях Иман и Уссури сосредоточив 2-ю Приамурскую стрелковую дивизию: 4 640 штыков, 450 сабель, 20 орудий и 151 пулемёт при трёх самолётах и четырёх бронепоездах. Для гарантированной победы эти силы считались недостаточными, однако проблема резервов всегда решалась в НРА ДВР очень просто и надёжно: в армию этого «независимого государства» по мере необходимости передавались из Иркутска части 5-й армии РККА. И теперь из Забайкалья были переброшены 104-я бригада 35-й стрелковой дивизии, переименованная в 1-ю Забайкальскую стрелковую дивизию НРА, а также отдельная кавбригада. Таким образом НРА разом увеличилась на 5 000 штыков и сабель, 143 пулемёта и 18 орудий. На должность Главнокомандующего 15 августа 1922 был прислан из Москвы И. П. Уборевич.
В качестве поддержки НРА располагала в тылу белых мощной сетью партизанских отрядов. Не полагаясь на одну только «самодеятельность масс», командование НРА ещё в дни перемирия отправило «партизанить» несколько батальонов регулярных войск с артиллерией. Вследствие малочисленности белых сил партизаны являлись в сельской местности хозяевами положения. Они жили за счёт местного населения и зачастую вели себя, как бандиты. Впрочем, красными партизанами часто именовали себя и самые настоящие китайские и корейские бандиты - хунхузы: руководители партизанского движения охотно принимали помощь подобных «интернационалистов»...
Дитерихс, готовясь к открытию военных действий, в свою очередь рассчитывал на белых партизан, так называемую Амурскую военную организацию. Штаб Земской Рати надеялся, что они своими действиями смогут прервать движение по железной дороге и не допустить переброски красных частей в Приморье. Но белые партизаны были слишком слабы, чтобы реально помешать воинским переброскам. Если бы всё это происходило год назад, когда барон Унгерн действительно мог угрожать Забайкалью! Но то время было безвозвратно упущено. Теперь же красные отлично подготовились к последнему броску, и у Земской Рати просто не оставалось никаких шансов.
Спрашивается, зачем же в этих условиях Дитерихсу вообще надо было давать сражение, идти на заведомо напрасные жертвы? Единственное сравнение, которое напрашивается в данном случае, - сражение русских кораблей «Варяг» и «Кореец» с японской эскадрой в порту Чемульпо 27 января 1904 года. Нужно ли было тогда капитану В. А. Рудневу принимать заведомо неравный бой? Не проще ли было сразу затопить и взорвать корабли и тем сберечь жизни многих матросов? На что он рассчитывал - получить за свой подвиг «белый крестик»? Или что подвиг «Варяга» потом непременно прославят в песнях? Нет, просто он не мог иначе. И точно также не могли иначе генералы Дитерихс, Молчанов, Смолин, солдаты и офицеры Земской Рати. Они вовсе не были самоубийцами и не желали гибнуть понапрасну. Но Земская Рать была истинной носительницей традиций Российской Императорской Армии и потому не могла уйти, не приняв последнего боя, пусть даже в самых тяжёлых и неравных условиях.
Первые схватки на реке Уссури разгорелись 6 сентября. Для овладения железнодорожным мостом через реку из состава Поволжской Рати был выделен специальный отряд генерала Никитина численностью 1 300 штыков и 500 сабель при 4 орудиях. В двухдневном встречном бою он отбросил красные части прикрытия, но на подходе к мосту встретил превосходящие силы врага и должен был повернуть обратно. Мост остался цел, и путь для красных бронепоездов на юг был открыт.
Вторая половина сентября прошла в отдельных мелких стычках: обе стороны накапливали силы. К 1 октября Поволжская Рать Молчанова полностью сосредоточилась в Спасске и 6 октября предприняла новую попытку перейти в наступление, завершившуюся встречным боем у станции Свиягино. Хотя к вечеру Молчанову удалось потеснить красных, но решающего успеха достичь не удалось, а потери в частях оказались довольно значительными. Учитывая всё это, Молчанов решил не продолжать бой, а отойти назад на заранее подготовленные позиции Спасского укреплённого района.
Спасский укреплённый район был сооружён японцами в 1921 году, это был крупный опорный пункт, рассчитанный примерно на дивизию. При эвакуации он был передан японскими войсками частям Земской Рати, и Дитерихс рассматривал его как основной узел своей обороны в Приморье. Основу укрепрайона составляли семь фортов полевого типа, соединённые окопами с блиндажами и прикрытые 3-5 рядами колючей проволоки. Разумеется, это был не Верден, не Оссовец и не Новогеоргиевск, но по масштабам Приморья - очень мощные укрепления. Однако любая позиция может считаться неприступной только при достаточном количестве войск, её защищающих, снабжённых достаточным количеством орудий и боеприпасов. Здесь же многочисленные грозные форты занимало чуть больше двух тысяч человек, причём почти без патронов. Таким образом, вся тяжесть обороны ложилась на артиллерию, а её в Поволжской Группе было... целых девять стволов на все форты, плюс два поддерживающих бронепоезда, которые служили в качестве подвижных батарей. Если после этого советские историки твердят о «неприступности белых позиций под Спасском», - значит, они просто искажают истину.
К вечеру 7 октября головные части красных вышли на подступы к Спасску. По плану Уборевича, правая колонна Покуса должна была атаковать город с севера, колонна Вострецова наносила основной удар с востока, а отдельная кавбригада направлялась в обход Спасска, чтобы перехватить железную дорогу в тылу. С рассветом 8 октября бой закипел по всей линии. На севере красным удалось несколько потеснить оборонявшихся и ворваться на северную окраину Спасска, но здесь атакующие попали под огонь форта № 1 и дальше продвинуться уже не смогли. В центре, на железной дороге, все атаки красных стойко отражались. Наконец, попытка обхода красной конницы закончилась для неё тяжёлым поражением - два эскадрона были полностью разбиты. Однако уже в темноте Вострецов, сосредоточив огонь двадцати орудий по форту № 3, затем атакой двух полков, ценою потери 250 человек и двух подбитых пушек, сумел овладеть фортом. Контратака белых не удалась.
За ночь ударный отряд красных около форта № 3 был усилен из резерва пехотой и артиллерией. В свою очередь, Молчанов ночью донёс Воеводе о том, что его бойцы утомлены до крайности, патроны на исходе и что у него нет свободных сил, чтобы парировать новый удар. Дитерихс прекрасно понимал, что в этих обстоятельствах дальнейшая оборона Спасена теряет всякий смысл, и в ночь на 9 октября отдал приказ войскам Поволжской Группы оставить Спасск и отходить к югу. На другой день белые, сдерживая противника огнём и контратаками, постепенно эвакуировали свои укрепления, а следом за ними на оставленные позиции вступили части НРА. К 6 часам вечера Спасск был полностью оставлен.
Это была серьёзная неудача. Для прикрытия отходящих частей была назначена Сибирская Рать генерала Смолина, и ей в течение трёх последующих дней пришлось принять ряд тяжёлых арьергардных боев. В одном из таких боев, 12 октября, погиб один из белых бронепоездов.
В те же дни произошёл и ещё один бой, куда менее известный, однако надолго запомнившийся как наступавшим, так и оборонявшимся, и напрочь затмивший для них легендарные «штурмовые ночи Спасска». В ночь на 8 октября отряд красных партизан Шевченко совместно с четырьмя регулярными батальонами предпринял попытку овладеть деревней Ивановкой. Гарнизон «Белой Ивановки» состоял из 314 человек (Сибирских и Енисейских казаков из состава Рати генерала Бородина) и двух пушек; в деревне располагался раньше японский пост, так что несколько домов были заранее укреплены и обнесены колючей проволокой. Белый гарнизон, заслышав среди ночи шум приближающихся многочисленных шагов, едва успел занять свои места, как был атакован со всех сторон. Красные решили раздавить врага числом; они шли во весь рост ровными густыми рядами прямо на проволоку и массами гибли на ней. Это были регулярные части, присланные на помощь местным партизанам и решившие показать им, как надо расправляться с «белобандитами». Жесточайший бой длился более суток и завершился лишь под утро следующего дня.
Первые атаки белые отражали залповым огнём, но, так как патроны вскоре стали подходить к концу, к вечеру почти все они были отданы пулемётчикам, а остальные казаки в основном действовали ручными гранатами. Орудия лихорадочно били по всем направлениям, выпуская шрапнель за шрапнелью. Подпоручик Б. Б. Филимонов, впоследствии (в эмиграции) - историк Белой Сибири, исполнявший в тот день обязанности рядового номера одного из орудийных расчётов, потом вспоминал, как уже вечером, в темноте, его орудие стояло возле фундамента сгоревшей церкви, и при каждом выстреле сноп огня освещал забытую на перекладине церковных ворот икону Богоматери. Рой картечи пролетал прямо над ней, а артиллеристы у орудия молились про себя, понимая, что пришёл их последний час. Как бы невероятно это ни прозвучало, но в тот момент, когда красные, наконец, выдохлись и отхлынули - в винтовках у казаков оставалось по 2-3 патрона, а в передке орудия - две последние гранаты, которые предназначались, собственно, для подрыва самой пушки.
Потери красных в этом бою были более трёхсот человек, а в рядах гарнизона оказалось всего двое убитых и пятеро раненых.
На другой день артиллеристы, осматривая ближайшие окрестности своей ночной позиции, увидели, что церковные ворота были изрешечены шрапнельными пулями, но на самой иконе не было ни царапинки. А у фундамента сгоревшей церкви, в десятке метров от позиции орудия, обнаружили несколько трупов красных гранатомётчиков, скошенных случайной шрапнелью в тот момент, когда они подбирались к орудию. Воистину, Сам Господь хранил в эту ночь Своих воинов!
Победа под Ивановкой на время ликвидировала угрозу тылу Земской Рати, что дало возможность Дитерихсу собрать все силы для последнего решающего удара. Эта попытка вылилась во встречное сражение 13-14 октября 1922 года под Монастырищем и Халкидоном.
Вечером 12 октября Дитерихс отдал приказ: на следующее утро перейти к активным действиям, стараясь обойти и разбить наступающего противника. Для этого Группам Молчанова и Глебова при поддержке части сил Бородина и бронепоездов атаковать деревню Монастырище, группе Смолина - обходить фланг красных, действуя на Халкидон. В конце приказа Дитерихс приписал: «Активность и решительность до предела». В свою очередь, директива командования НРА намечала фронтальный удар в сочетании с обходом левого фланга белых.
С утра 13 октября густая белесоватая мгла застилала всю землю, так что с двадцати метров едва можно было рассмотреть контуры деревьев и домов. И в этом тумане наступающие белые внезапно столкнулись с наступающими красными. Упорный бой стоил больших потерь обеим сторонам. У белых особенно велики потери были в Группе Глебова, там был смертельно ранен командир Пластунской дружины полковник В. Буйвид. Им противостояла дивизионная школа 2-й Приамурской дивизии НРА - из 240 её курсантов остались в живых лишь 67 человек, причём в большинстве легко раненных. Позднее все выжившие курсанты за этот бой были награждены орденами Красного Знамени.
Результат целого дня боя не принёс перевеса ни одной из сторон, и на другой день Дитерихс решил повторить атаку. Но утром, когда рассеялся туман, белые увидели, что противостоящие им силы увеличились почти вдвое — Уборевич ввёл в дело все свои резервы. Командир Прикамского полка полковник А. Г. Ефимов рассказывал: «Покатился назад весь фронт. У ижевцев потекли сначала ратнички. Остановить было невозможно. Шли в беспорядке, перемешавшись... Красные наступали без задержки».
Ещё тяжелее пришлось отряду полковника Аргунова из Сибирской группы генерала Смолина у Халкидона. Один из белых бойцов вспоминал потом: «Наша цепь поднялась - в атаку. Встали и красные, встали и пошли на наших. У красных три цепи, а сзади колонна вплоть до самого Халкидона, в её хвосте видны обозы. - "Белые бандиты, сдавайтесь", - раздались крики красных. Наши бойцы открыли стрельбу и этим временем стали отходить. Выиграли шагов двести, потом ещё шагов сто. Красные наступают не отрываясь. Под уклоном стоит пулемёт Иркутской дружины. Он открыл огонь, благодаря чему красные отстали шагов на 400. Так, сохраняя примерно эту дистанцию, мы и отходили с боем к Вознесенке». В результате отряд полковника Аргунова потерял до 150 человек. Наконец, в Лучках Омская пешая дружина полковника Мельникова при двух орудиях была внезапно атакована конной бригадой красных силою до 800 сабель. Из-за густого тумана белые не успели даже подготовиться к атаке, и в результате из 600 человек этого отряда спастись удалось лишь 240 бойцам, оба орудия были брошены.
К вечеру уже в полной мере выявились размеры поражения, и Михаил Константинович Дитерихс вынужден был признать, что дальнейшее сопротивление невозможно. Следовало как можно скорее вывести части из боя, оторваться от красных и далее организовать, по возможности, правильную эвакуацию войск, их семей и беженцев в Китай и Корею.
17 октября правитель Приамурского Земского края издал свой последний указ:
«Силы Земской Приамурской Рати сломлены. Двенадцать тяжёлых дней борьбы одними кадрами бессмертных героев Сибири и Ледяного похода, без пополнения, без патронов, решили участь земского Приамурского края. Скоро его уже не станет. Он как тело умрёт. Но только как тело. В духовном отношении, в значении ярко вспыхнувшей в пределах его русской исторической, нравственно-религиозной идеологии — он никогда не умрёт в будущей истории возрождения Великой Святой Руси. Семя брошено. Оно упало сейчас ещё на мало подготовленную почву, но грядущая буря ужасов коммунистической власти разнесёт это семя по широкой ниве земли Русской и при помощи безграничной милости Божией принесёт свои плодотворные результаты. Я горячо верю, что Россия вновь возродится в Россию Христа, Россию Помазанника Божия, но что теперь мы были недостойны ещё этой великой милости Всевышнего Творца...»
* * *
Красные преследовали очень неуверенно, и это дало возможность легко оторваться от них и спокойно отступать по заранее намеченному плану. Группа генерала Смолина отходила в район станции Пограничной; Группы Молчанова и Бородина - вдоль Западного берега Амурского залива на Посьет, а Группа Глебова - на Владивосток, где она должна была сесть на суда. Владивосток пребывал в панике, но 16 октября в город приехал Дитерихс и, насколько это было возможно, навёл в нём порядок. Поскольку русских кораблей не хватало, Воевода добился разрешения использовать для перевозки семей военных и беженцев японские транспорты. Сам Дитерихс со своим Штабом выехал из Владивостока в Посьет вечером 21 октября на маленьком пароходе «Смельчак», а 24-го туда же прибыл со своей Группой генерал Глебов. Часть людей сошла на берег, а остальные направлены морем в корейский порт Гензан. Сибирская флотилия адмирала Старка уходила из Владивостока последней 25 октября, в тот же день, когда город окончательно покидали японцы. Группа Смолина перешла в полосу отчуждения КВЖД у станции Пограничная, столкнувшись здесь с откровенной неприязнью китайских властей. Через несколько дней после перехода границы и сдачи оружия солдаты были отделены от офицеров и отправлены в эшелонах в сторону станции Маньчжурия (к границе РСФСР); по дороге большинство из них бежало. Офицеры были отправлены в лагерь в Цицикар. 26 октября во Владивосток торжественно вступили части НРА, а 14 ноября 1922 года «независимая» Дальневосточная Республика была ликвидирована за ненадобностью и присоединена к РСФСР.
Белым бойцам пришлось свыкаться с мыслью, что период открытой борьбы завершён и нужно как-то устраиваться на чужбине. В Гензане, в Корее, собралось около 5 500 человек, в основном Забайкальцев из Группы Глебова, из них 2 500 бывших воинских чинов, 1 000 гражданских и около 2 000 членов их семей. Флотилия адмирала Старка ушла в Шанхай, а затем на Манилу. Наиболее крупная группа во главе с самим Дитерихсом, около 9 000 человек, пробыла в районе Посьета до тех пор, пока не закончилась эвакуация Владивостока и из Посьета не ушли на Гензан последние суда. Выслав вперёд 700 женщин, 500 детей, 400 больных и инвалидов, основная масса 1 ноября перешла границу и прибыла в китайский город Хучун, где и было сдано оружие. В феврале месяце вся группа была перемещена в Гирин, где были устроены лагеря, в которых беженцы и существовали до осени 1923 года. Всего там разместилось 7 535 военных чинов, 653 женщины и 461 ребёнок.
В мае 1923 года китайскими властями генералы Дитерихс, Вержбицкий и Молчанов были удалены из беженских лагерей. Потом и остальные начали в поисках работы разъезжаться кто куда, в основном в Харбин и Шанхай; некоторые перебрались в Америку.
Михаил Константинович направился в Шанхай, куда ещё в декабре 1922 года, после угроз и требования выдачи со стороны советских властей, перебралась из Харбина вместе с «Очагом» его жена София Эмильевна. Здесь они и зажили вместе. София Эмильевна целиком посвятила себя своим воспитанницам, пока в 1930-е годы они все не выросли и не разъехались. После этого, используя свой педагогический талант, она стала преподавать в женской гимназии Лиги Русских Женщин, а также открыла детский сад для приходящих детей. Одна из воспитанниц-«очаговок» впоследствии писала: «Мы никогда не смотрели на Михаила Константиновича как на важного генерала, для нас до конца его жизни он был заботливым добрым отцом, а София Эмильевна - любящей матерью».
В июне 1930 года М. К. Дитерихс принял от генерала М. В. Ханжина руководство 9-м Дальневосточным Отделом Русского Обще-Воинского Союза. Это было время, когда в РОВС разрабатывались идеи «активизма» - подпольной террористической борьбы против Советского Союза, а на Дальнем Востоке, кроме того, создавались партизанские отряды из бывших белых воинов для действий на территории СССР. Дитерихс как новый глава Дальневосточного Отдела РОВС обратился к своим бывшим товарищам по оружию с призывом сплотиться для новой борьбы с Советской властью. Но широкого отклика призыв не встретил, а некоторые вообще отказались ему подчиниться. Тогда Дитерихс выдвинул на первый план своего заместителя генерала Вержбицкого, которому поручил вести организационную работу, а сам, объезжая эмигрантские колонии по всем крупнейшим городам Маньчжурии и Китая, занялся сбором пожертвований на партизанское движение.
Но эта деятельность продолжалась недолго. В сентябре 1931 года Маньчжурию оккупировали японцы, создав на её территории марионеточное государство «Маньчжу-Ди-Го». К деятельности Дитерихса японцы отнеслись неодобрительно, а генерала Вержбицкого просто выслали из Маньчжурии. Михаилу Константиновичу ничего не оставалось, как только вернуться обратно в Шанхай. Здесь он и скончался в октябре 1937 года на шестьдесят четвёртом году жизни от туберкулёза (в разных источниках называются различные даты смерти: 8-е, 9-е или 12 октября).
М. К. Дитерихс был погребён в Шанхае на кладбище Локавей; позднее рядом с ним похоронили и его супругу. Сейчас это кладбище срыто, и на его месте построены жилые дома.
Дети Михаила Константиновича от первого брака остались в России. Сын избрал себе театральную карьеру под сценическим псевдонимом Горчаков, был режиссёром МХАТ, а затем художественным руководителем Московского театра сатиры. Дочь, Н. М. Полуэктова, была арестована НКВД и тринадцать лет пробыла в лагерях и ссылке. Скончалась она в Москве, уже в глубокой старости. Дочь Михаила Константиновича и Софии Эмильевны Агния умерла в Австралии в 1978 году.
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ Е. К. МИЛЛЕР (Очерк: Н. Калиткина)
Евгений-Людвиг Карлович Миллер, один из самых талантливых генералов Императорской Армии, сыграл значительную роль в борьбе с большевизмом на Севере России. Родился он 25 сентября 1867 года в городе Динабурге (Двинске) Витебской губернии, в старинной дворянской семье, и на русской службе сохранившей лютеранское вероисповедание. Уже будучи в эмиграции, Миллер писал: «В доме моих родителей с детских лет я был воспитан как верующий христианин, в правилах уважения к человеческой личности, - безразлично, был ли человек в социальном отношении выше или ниже; чувство справедливости во взаимоотношениях с людьми, явное понимание различия между Добром и Злом, искренностью и обманом, правдой и ложью, человеколюбием и звериной жестокостью - вот те основы, которые внушались мне с детства». Это воспитание заложило основы его личности, определило судьбу и его выбор места в годы Смуты.
После окончания Николаевского кадетского корпуса, 31 августа 1884 года Евгений Карлович поступил в Николаевское кавалерийское училище, которое окончил вахмистром эскадрона, и в 1886 году был произведён в корнеты Лейб-Гвардии Гусарского Его Величества полка. «Кадетский корпус, кавалерийское училище и полк, в котором я имел честь и счастье служить, заострили во мне чувство любви к Родине, чувство долга перед Россией и преданности её Государю как носителю верховной державной власти, воплощающему в себе высший идеал служения России на благо русского народа», - вспоминал он.
В том же году произошло и другое знаменательное событие в жизни Евгения Карловича - он женился на Наталии Николаевне Шиповой, дочери генерал-адъютанта Н. Н. Шипова. «Тата», как ласково называл её Миллер, унаследовала имя и красоту от своей родной бабушки Наталии Николаевны Пушкиной, дочерью которой от второго брака была мать Наталии Шиповой, София Петровна. Любовь к супруге Евгений Карлович пронёс до конца своих дней.
После необходимых трёх лет в строю Миллер поступил в Николаевскую Академию Генерального Штаба, окончив её по первому разряду в 1892 году. Но уже в следующем году он был «уволен от службы для определения к штатским делам, с переименованием в коллежские ассесоры», правда, «сохранив при этом все права и преимущества военной службы». В июле 1896 года Миллер был Высочайшим приказом переименован в капитаны со старшинством с 30 августа 1891 года, после чего начинается его служба по Генеральному Штабу. Важной ступенью военной карьеры Миллера стала должность военного агента (атташе) в Бельгии и Голландии (с 12 февраля 1898 года). В этом качестве Евгений Карлович принимал участие в подготовке первой Гаагской мирной конференции, созванной в 1899 году по инициативе России и выработавшей конвенции «О мирном решении международных столкновений», «О законах и обычаях сухопутной войны», «О применении к морской войне начал Женевской конвенции 1884 года о раненых и больных». 14 августа 1901 года Миллер был назначен российским военным агентом в Риме, а 6 декабря 1901 года за отличие по службе произведён в полковники. В Италии он находился до 1908 года.
В 1908-1909 годах Миллер вновь на строевой службе - командир 7-го гусарского Белорусского Великого Князя Михаила Михайловича полка и (временно) 7-й кавалерийской дивизии. В 1909 году за отличия по службе он был произведён в генерал-майоры и возглавил Отдел 2-го обер-квартирмейстера Главного управления Генерального Штаба, который руководил всеми военными агентами за границей и изучал театры военных действий и армии как возможных противников, так и союзников. Один из подчинённых Миллера в эти годы так характеризовал своего начальника: «Спокойной и приятной была также общая атмосфера во всём нашем отделе благодаря Е. К. Миллеру. Образованный и светски воспитанный, бывший лейб-гусар... Миллер принёс с собою обычаи и привычки человека общества, офицера хорошего гвардейского полка и европейца, плюс своё природное доброжелательство. Он завёл в помещении отдела общие завтраки, на которых председательствовал сам и которыми пользовался, чтобы короче узнать своих офицеров и сближать их между собою».
С1910по1912 год Миллер занимал пост начальника Николаевского кавалерийского училища. Обучение для юнкеров было довольно тяжёлым, но, как вспоминал один из выпускников училища, «отношение начальства и корнетства (юнкеров выпускного года. - Н. К.) было отличное... Как приятно было иметь начальником училища генерала Миллера, который сам когда-то был корнетом школы и “Земным Богом” (вахмистром. - Н.К.)». Миллер прекрасно понимал юнкеров и даже на «цук» (беспрекословное подчинение юнкеров-первогодков старшим юнкерам, выполнение любых их команд и приказаний) смотрел сквозь пальцы, считая, что это необходимо для воспитания будущего офицера. Другой воспитанник училища рассказывал о традиционном «вечернем обходе», когда командовавший пародийным шествием юнкер был не только загримирован под любимого начальника училища, но и... одет в шинель самого генерала. Единственным приказанием Миллера было - не производить шума в помещениях, расположенных над его квартирой.
В ноябре 1912 года Миллер стал начальником Штаба Московского военного округа, войсками которого командовал генерал П. А. Плеве. По мобилизационному плану из войск округа формировалась V-я армия, а Штаб округа во главе с Миллером должен был образовать её Штаб.
* * *
Летом 1914 года жизнь войск округа шла обычным чередом. В мае все они перешли для летних занятий в лагеря; один из полков Гренадерской дивизии и несколько других частей стояли лагерем на Ходынском поле под Москвой, куда приехал и командующий войсками округа генерал Плеве со своим Штабом. По воспоминаниям Миллера, он «не ощущал никаких тревожных признаков; к половине июля Сараевский выстрел, вызвавший всеобщее негодование, казалось, уже принадлежал истории...»
10 июля Миллер собрал в лагерь на Ходынке большинство офицеров Генерального Штаба со всего округа - командиров корпусов, начальников дивизий и младших офицеров - капитанов Генштаба для полевой поездки (это было предусмотрено заранее разработанным планом). 11 июля группа численностью около тридцати офицеров выехала в район в 40-45 вёрстах от лагеря и весь день 12 июля провела в поле; «в военных кругах царило полное спокойствие и уверенность в нерушимости мира». Лишь на следующее утро, в воскресенье, около шести часов, Миллер получил присланное с нарочным распоряжение немедленно вернуться в Москву, а всем генштабистам — разъехаться по своим местам службы. Колесо войны было запущено, и не в силах России оказалось остановить его, хотя Императором Николаем II были сделаны для этого все усилия, испробованы все пути, совместимые с честью и достоинством Сербии и её покровительницы России.
О том, что Императорское Правительство сделало всё возможное для предотвращения войны, писал Миллер в статье по поводу 20-летия её начала. Но в те же годы в частном разговоре со своим подчинённым по Русскому Обще-Воинскому Союзу князем С. Е. Трубецким он горячо нападал на тогдашнего министра иностранных дел С. Д. Сазонова и всё русское правительство: «Надо было во что бы то ни стало сохранить тогда мир, даже если для этого нам пришлось бы пойти на большие уступки. Лет через 10-15 Россия была бы настолько сильна, что могла бы диктовать Германии и Австрии свои условия... Надо было тогда бросить Сербию, и войны бы не было, а потом, усилившись, мы могли бы воздать той же Сербии сторицей». Генерал считал, что, бросив Сербию, Россия купила бы этим десятилетие мира... История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Трудно сказать, к чему бы привела такая позиция России; скорее всего, в тех условиях война всё равно разразилась бы, но честь России потерпела бы урон.
Генерал Миллер выступил на войну в должности начальника штаба V-й армии, которая вместе с III-й, IV-й и VIII-й армиями образовала Юго-Западный фронт. Задачей их было - ударить по главным линиям сообщения австрийских армий в северо-западной части Галиции и таким образом отрезать войска, собранные в Восточной Галиции, от Австро-Венгрии и союзников-немцев. Развернулась Галицийская битва, принёсшая первый успех русскому оружию. Она определила и первый успех Миллера как талантливого генштабиста.
Русские войска одержали решительную победу, после которой генерал Плеве заставил заговорить о себе как о выдающемся военачальнике, толковом, чутком в отношении планов противника, решительном, настойчивом и храбром. Но его подчинённым, и особенно ближайшему сотруднику - генералу Миллеру, было с ним нелегко в силу его педантичности, излишней требовательности и мелочности.
В конце 1914 года германская армия предприняла наступательную операцию, чтобы остановить русское продвижение по левому берегу реки Вислы. Генерал Миллер в качестве начальника Штаба V-й армии принимал участие в отражении наступления немцев на Варшаву, а затем - в Лодзинской операции. С декабря весь русско-германский и русско-австрийский фронт превратился в стабильную линию, на которой велась позиционная война и которая не изменялась до конца января 1915 года.
За боевые отличия Миллер был 31 декабря 1914 года произведён в генерал-лейтенанты. В январе 1915 года он формировал Штаб ХII-й армии Западного фронта (в командование ею вступил генерал Плеве) и с этой армией в должности начальника её Штаба принимал участие в дальнейших военных действиях.
1915 год не принёс России желаемых побед: в январе на Юго-Западном фронте началось новое наступление австрийских войск, и почти одновременно, в феврале, германские армии в Восточной Пруссии двинулись на Августов - Гродно, где бои шли до марта. А уже с конца апреля началось германское наступление в Курляндии, и эта операция растянулась почти на пять месяцев, в течение которых русские войска отступали с тяжёлыми боями. С мая 1915 года двинулись вперёд в верховьях Вислы, на Дунайце, австрийские армии, что также привело к затянувшемуся до осени отступлению русских.
Генералы Плеве и Миллер в начале мая были переведены на Риго-Шавельское направление (Северо-Западный фронт), где V-й армии - теперь они вновь её возглавили - была поставлена задача ликвидации наступления немцев на Митаву и Ригу. Разыгралось сражение под Шавлями, результатом которого стала оккупация немцами почти всей Курляндии.
Тяжесть обстановки сочеталась с тяжестью службы под началом П. А. Плеве, обладавшего выдающимся стратегическим талантом, силой воли и упорством, но в общении умевшего быть невыносимым. Служивший летом 1915 года ординарцем генерала Миллера штаб-ротмистр А. А. Карамзин рассказывал: «Павел Адамович смотрел на всех, в том числе и на Евгения Карловича, как на мальчишек и требовал невероятной чёткости исполнения приказов, словно командир эскадрона у нижних чинов. Начальник штаба нёс на себе не только все нелёгкие обязанности, присущие должности, но и помогал командующему, как мог, был своеобразной “записной книжкой”, дневным и ночным чтецом донесений, и даже... нянькой, а потому уставал ужасно». Другое свидетельство мы находим в воспоминаниях последнего Протопресвитера Русской Армии и Флота отца Георгия Шавельского, который застал как-то Миллера в совершенно удручённом состоянии, с жалобами на своего командующего по поводу его мелочного и придирчивого характера. «Сил у меня больше не хватает служить с ним... У меня весь дневной отдых сводится к получасу от 8.30 до 9 ч[асов] утра. Этими 30-ю минутами я пользуюсь для верховой прогулки, после чего в девять часов иду с докладом к командующему. Сегодня я запоздал ровно на 5 минут. И командующий разразился градом упрёков по поводу моей “неаккуратности”... Силы совсем оставляют меня. Я готов куда угодно пойти, хотя бы и в командиры бригады, лишь бы избавиться от этой каторги», - говорил Миллер Шавельскому. Последний этот разговор с Миллером передал его старому сослуживцу Лейб-Гвардии по Гусарскому полку - самому... Императору Николаю II, который якобы пообещал Миллера выручить.
В августе 1915 года продолжалось непрерывное отступление русских войск на стратегически важном, центральном участке Западного фронта: были оставлены без боя Варшава, Иван-Город, Ковно, Новогеоргиевск (Модлин), Оссовец, Брест-Литовск, Гродно... 23 августа произошла смена верховного командования: Николай II Сам стал Верховным Главнокомандующим, а начальником Своего Штаба назначил бывшего Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта генерала М. В. Алексеева. Генерал Плеве был назначен осуществлять общее руководство группировкой в составе V-й, Х-й и ХII-й армий. Командование V-й армией было передано генералу В. И. Гурко, у которого Евгений Карлович оставался начальником Штаба до августа 1916 года. А вскоре, истощив свои силы, обе воюющие стороны стали зарываться в землю. Ноябрь— декабрь 1915 года прошли в неподвижной окопной войне на фронте, установившемся по линии Карпаты - Пинск - Двинск - Рига.
Начальник Миллера генерал Плеве с декабря 1915 года по февраль 1916 года командовал армиями Северного фронта, заменяя болевшего генерала Н. В. Рузского. Князь С. Е. Трубецкой вспоминал впоследствии, что престарелый Плеве в это время уже «ничего толком не понимал в самом простом деле и говорил вещи, которые я предпочитаю назвать наивностями, чтобы не употребить более резкого слова». Много лет спустя Миллер в разговоре с Трубецким признался, что уже и при командовании Плеве V-й армией «с ним случались такие моменты впадания в детство»... Тем выразительнее характеризует Миллера тот факт, что он никогда во время войны не говорил об этом и поддерживал пиетет по отношению к Плеве. По состоянию здоровья в феврале 1916 года генерал Плеве был, наконец, освобождён от командования, а в марте он скончался.
Генерал Миллер продолжал состоять начальником Штаба V-й армии при генерале Гурко, а с августа - при сменившем его генерале А. М. Драгомирове. 28 декабря 1916 года Евгений Карлович был назначен на Румынский фронт, в IX-ю армию генерала П. А. Лечицкого, на должность командира XXVI-го армейского корпуса. В январе частями корпуса под командованием Миллера было проведено наступление, увенчавшееся полным успехом - занятием укреплённой позиции в Карпатах, взятием большого числа пленных, пушек и пулемётов. Это была последняя успешная боевая операция на фронтах Великой войны, в которой он участвовал.
* * *
В конце февраля 1917 года на Румынском фронте неожиданно поползли зловещие слухи о беспорядках в Петрограде, затем пришло сообщение об отречении Императора Николая II от Престола. Армия была ошеломлена внезапно свалившейся на неё революцией. Присяга новому Временному Правительству произвела тягостное впечатление в IX-й армии, а командовавший ею генерал Лечицкий в конце марта подал в отставку.
В Действующую Армию к тому времени был передан преступный «приказ № 1», убивавший дисциплину и способствовавший потере контроля над Армией со стороны офицеров. Реформы по инициативе военного министра А. И. Гучкова начались с увольнения огромного числа генералов. Затем пошли братания, особенно в пехотных частях. В полках появились провокаторы, начались гонения на офицерство и генералитет. Всюду было неспокойно.
Печально закончились эти дни и для генерала Миллера. На второй день Пасхи, 3 апреля 1917 года, в городе Кимполунги, где стояли Штабы XXVI-го армейского и V-го кавалерийского корпусов, Евгений Карлович был избит и арестован «революционными солдатами». Взбунтовалась маршевая рота, прибывшая на пополнение в его корпус и подстрекаемая писарями Штаба корпуса (чем не угодил Миллер писарям?). Этот эпизод запечатлелся в памяти одного из командиров полков: «На меня эта зверская расправа произвела ужасное впечатление, и я пришёл к заключению, что всё кончено. Больше нет Армии, а есть толпа каких-то бессознательных животных... я уехал с разбитым сердцем к себе на позицию».
По приказанию военного министра генерал Миллер был отправлен в распоряжение Главнокомандующего Петроградским военным округом. В августе 1917 года Евгения Карловича назначают представителем Ставки при Итальянском Главном Командовании, куда он и отбывает. Но вскоре, после перехода власти в России в руки большевиков, генерал отказался поддерживать сношения с Главным управлением Генерального Штаба и Ставкой, которые первые недели новой власти ещё продолжали функционировать. За это Миллер заочно был предан суду революционного трибунала. После заключения Брест-Литовского мира Евгений Карлович покинул Италию.
С сентября 1918 года он находился в Париже, выясняя возможности сформировать боевую часть из чинов русских бригад, которые раньше дрались на французском фронте. Четыре Особых пехотных бригады были по просьбе союзников посланы Императорским Правительством во Францию и на Салоникский фронт ещё в 1916 году. В связи с революцией в России солдаты 1-й и 3-й бригад, находящихся во Франции, в июле 1917 года отказались воевать и подняли бунт, который был подавлен, а бригады - расформированы. Из бунтовщиков были созданы рабочие команды, часть отправлена на работы в Африку. Во Франции Евгению Карловичу пришлось бездействовать больше года: постепенно выяснилось, что никакого дела для него здесь не будет. Но в октябре и начале ноября 1918 года русским послом в Париже В. А. Маклаковым были получены из Архангельска телеграммы, содержащие просьбу о немедленном выезде генерала Миллера на Русский Север, где с августа разворачивалась борьба против большевиков.
11 ноября было заключено перемирие - Первая мировая война окончилась. Впоследствии, в 1930-е годы, Евгений Карлович так оценивал её последствия: «Все государства, все народы, принявшие в ней участие - и победители, и побеждённые - вышли из неё израненными и покалеченными... Что дала война миру?.. Она привела весь мир к большому падению в моральном и материальном отношении... Моральное падение даже не осознается; но оно-то и является источником всех кризисов - и экономических, и политических, и социальных, ибо, когда люди и правительства забыли все человеческие и Божеские законы - честность, человечность, когда безответственность и безнаказанность вводят в принцип управления людьми, народами и государствами, то наступает эпоха постоянного кризиса - кризиса доверия. Но не этим одним определяется характер нового периода мировой истории, начавшейся 1 августа 1914 года». И далее Миллер пишет об уроке, «данном культурному миру нашей несчастной родиной», - коммунизме, победа которого стала возможна в России в результате мировой войны. Его он определяет как главного врага Христианской европейской цивилизации, призывая всеми силами бороться с «вождями коммунистического интернационала, которые уничтожают всё - семью, веру, собственность, личную свободу, и низводят человека до состояния бессмысленного животного, хуже, чем раба и невольника».
В конце 1918 года Миллер отправился для борьбы с коммунизмом в Архангельск. За несколько дней до выезда из Парижа он получил телеграмму от Временного Правительства Северной Области, уведомлявшую, что его хотят назначить генерал-губернатором. Из-за общего недостатка информации о событиях в России для Миллера оставалось не очень ясным, «что представляет собой Северная область»...
По пути в Архангельск Миллер остановился в Лондоне, где посетил начальника британского Генерального Штаба генерала Г. Вильсона, чтобы от него узнать о силах союзного английского контингента в Северной Области и о военных планах союзников на будущее. То, что он услышал, повергло его в глубокое разочарование. Конец мировой войны совершенно изменил точку зрения английского правительства на десантные операции на Севере России: если раньше, опасаясь проникновения туда немцев, англичане готовы были принимать участие в борьбе против немецких ставленников - большевиков, то с заключением мира ни о каких активных действиях не могло быть и речи. Миллеру стало ясно, что англичане теперь могут оставаться там только временно, и не для борьбы с большевиками, а для политического и экономического захвата Области. Дальнейшие события в целом подтвердили эти мрачные прогнозы.
С тяжёлым чувством Евгений Карлович взошёл на корабль, который должен был доставить его в Мурманск. Его спутники - английские офицеры с искренней ненавистью говорили о большевиках: многие из них уже побывали в России и составили себе о них определённое мнение. Но, к сожалению, решающий голос имели не они, а лондонские политики...
10 января 1918 года Миллер пересел в Мурманске на русский ледокол «Канада», где был встречен капитаном ледокола со всеми почестями как старший представитель военной власти. Мог ли генерал тогда предположить, что всего через 14 месяцев эта же «Канада» под командой этого же капитана будет пытаться артиллерийским огнём потопить ледокол «Козьма Минин», на котором он покинет Россию, уходя в изгнание?
Сейчас Евгению Карловичу предстояло начинать свою работу в Архангельске, куда он прибыл 13 января 1919 года.
* * *
К моменту прибытия на Север генерала Миллера там были сформированы русские части следующей численности: в Архангельске - около 2 000 штыков и сабель; на Мурмане - 800 штыков и сабель; в долине реки Онеги - около 400; в Селецком районе - регулярная рота численностью около 800 человек и партизанские отряды - более 600 человек; в Двинском районе - около 400; на Пи- неге - около 400; наконец, в Мезенско-Печорском районе - около 600 человек. Во главе Области стояло Временное Правительство во главе с народным социалистом Н. В. Чайковским, предпринявшее попытку создать на Севере особую модель политического режима, характеризующуюся демократичностью и союзом всех антибольшевицких сил. Позднее Чайковский, подводя итоги построения власти в Северной Области, видел её сущность в том, «1) что во время войны политическое управление, т. е. вся организация правительства должна быть направлена к обслуживанию главного командования в его оперативных действиях и 2) и в то же время оно должно сохранять за собой самостоятельность в глазах населения, являясь для него защитником его прав и свобод и посредником между ним и военным командованием».
В составе Правительства был образован орган военного тылового управления в лице военного генерал-губернатора, который являлся в то же время и главой министерств: военного, путей сообщения и почт и телеграфов. В его же подчинении, в организационном (но не оперативном) отношении, состоял и командующий русскими вооружёнными силами; в оперативном же отношении последний подчинялся непосредственно союзному командующему, которым в тот момент был английский генерал У.-Э. Айронсайд.
Прибытие Евгения Карловича Миллера явилось значительным политическим событием для Северной Области, в январе обедневшей на две яркие личности - отбыл в Париж глава Правительства Чайковский (а из оставшихся членов Правительства никто не обладал авторитетом в глазах союзников) и уехал французский посланник Ж. Нуланс, дуайен дипломатического корпуса и преданный друг России. С его отъездом на первый план выдвинулось английское командование.
Особым праздником был приезд Миллера для командующего войсками Северной Области генерала В. В. Марушевского, поскольку тот «жаждал отдать часть работы в опытные руки Евгения Карловича» и с его прибытием «приобретал и старшего опытного товарища, и доброжелательного начальника».
Вопрос о функциях Миллера в правительстве разрешился очень быстро. Постановлением Председателя Временного Правительства он назначался «Генерал-Губернатором Северной Области с предоставлением ему в отношении русских войск Северной Области прав Командующего отдельной армией». Этим же постановлением генерал Марушевский назначался «командующим русскими войсками Северной Области с подчинением его Генерал-Губернатору и с предоставлением ему в отношении русских войск Северной Области прав Командующего армией». Разделение функций Миллера и Марушевского прошло, видимо, легко. В непосредственном подчинении Марушевского оставались:
«1. Все войсковые части, управления, учреждения и заведения Военного Ведомства, находящиеся в пределах Северной Области.
2. Добровольческие и партизанские отряды.
3. Офицерские школы.
4. Штаб командующего войсками Северной Области, каковой реорганизуется в Управление Командующего войсками.
5. Архангельская местная бригада, на каковую возлагается призыв и учёт военнообязанных...
6. Главный Военный Прокурор с Военно-окружным Судом», - приказ же генерал-губернатора от 18 января 1919 года объявлял, что в непосредственном подчинении ему состоят: Командующий войсками Северной Области; командующий флотилией Северного Ледовитого океана; управляющий отделом внутренних дел по должности губернского правительственного комиссара; помощник генерал-губернатора Северной Области по управлению Мурманским районом; заведующий путями и сообщениями Северной Области; комендант города Архангельска; Военная канцелярия генерал-губернатора, юрисконсульт и чины для поручений. Кроме этого, перед своим отъездом в Париж, 21 января 1919 года Чайковский возложил на Миллера исполнение обязанностей управляющего Отделом иностранных дел.
Этот последний Отдел был важным звеном управления Северной Областью: занимая эту должность, генерал выступал от лица Временного Правительства по вопросам экономической и военной помощи Области, снабжения боеприпасами и продовольствием, вербовки добровольцев заграницей, освоения природных богатств Северной России и т. д. Миллеру пришлось вести обширную переписку с высшими политическими, военными и финансовыми кругами иностранных государств о стабилизации курса выпускаемых для Области «северных рублей» и других финансовых операциях. Кроме того, ежемесячно необходимо было сноситься с белогвардейскими посольствами заграницей, с военными агентами во Франции, Сербии, Дании, Англии, Голландии. Последним по приказу Миллера делались значительные денежные переводы.
Главной же заботой для Миллера, так же как и для его предшественника Марушевского, оставалась мобилизация. К концу марта 1919 года численность русских войск достигла 14 000 человек, половина которых находилась на фронте; к концу апреля белые уже имели на Севере 16-тысячную армию. Кроме того, с приездом Миллера Марушевский получил сведения о состоянии офицерского запаса заграницей, который оказался огромным; впрочем, на призыв ехать на Север не откликнулся почти никто. Лишь в мае прибыло небольшое количество офицеров, навербованных в Стокгольме, и к концу июля - около 350 офицеров и чиновников из Лондона. Продолжалась организация полков из находившихся на фронте отдельных русских рот. Первоначально все Северные стрелковые полки были двухбатальонного состава, а батальоны - двух- и трёхротные. Марушевский надеялся перевести все батальоны в трёхротный состав, а затем переходить к трёхбатальонному составу в полках.
В конце мая 1919 года в русских войсках Северной Области началось формирование высших соединений. Приказом Миллера от 30 мая 3-й и 4-й Северные стрелковые полки были сведены во 2-ю, а 5-й и 6-й полки - в 3-ю Северную стрелковую бригаду (в июле в 3-ю бригаду временно был включён также 7-й полк из Селецкого района). В июне формирование продолжилось: приказом Миллера были образованы 9-й (на Мурмане) и 10-й (на Печоре) Северные стрелковые полки, а в июле из 2-го и 9-го полков приказом Миллера была сформирована 5-я Северная стрелковая бригада. В итоге летом русская армия состояла из одиннадцати полков численностью около 20 тысяч человек. Это был максимум, т. к. за год напряжённой работы под ружье было поставлено почти всё боеспособное население края, и далось это с большим напряжением. Генерал Айронсайд отмечал, что русские войска по своим качествам превосходили большевиков, а их военачальники Миллер и Марушевский пользовались авторитетом у британских командиров.
Формируемые русские части всё довольствие получали с английских складов. Снабжение было организовано на широкую ногу, но англичане отказывались передать необходимое снаряжение в распоряжение русского Штаба, и Марушевскому каждый раз приходилось предоставлять отдельное ходатайство для снабжения формируемой единицы. Когда же однажды он самостоятельно повысил оклады некоторым чинам своей армии, последовала отповедь, что такие вопросы может решать только английский Штаб. Русские части отправлялись на фронт на менее ответственные и более глухие позиции, т. к. основные были заняты союзниками. Кроме того, сосредотачивать русские части как отдельные крупные единицы на отдельных участках фронта не допускалось.
В марте 1919 года в Архангельске было создано так называемое Национальное Ополчение Северной Области, предоставлявшее возможность «стоять на страже государственного порядка» в тылу тем, кто не мог отправиться на фронт. Неся караульную и патрульную службу, оно освобождало от этих обязанностей регулярные войска. В Ополчение зачислялись все способные носить оружие жители, обучение которых велось офицерами резерва (больные, отдыхающие) и штабов, находящимися в городе. По свидетельству современника, «архангельские жители начали спать спокойно», а Миллер в своём приказе от 6 июля 1919 года отмечал, что со своей задачей Национальное Ополчение справлялось блестяще. Сам он в июне стал его начальником. Генерал подчёркивал, что «только при обеспеченном тыле, при полной уверенности войск, что сзади, в спину нам не может быть нанесён удар, работа их будет спокойной, уверенной, а потому и плодотворной». Большие надежды возлагал Миллер на Ополчение и в будущем, считая, что «с продвижением войск вперёд, по мере очищения страны от явных большевиков, яд большевистской заразы не скоро ещё исчезнет, он только сделается невидимым, зароется в подполье и будет ждать случая, чтобы снова разлить свою отраву по всей стране», чему и будут противодействовать дружины.
Участники и очевидцы военных действий на Северном фронте утверждают, что по своим качествам Белая Армия там приближалась к старой, дореволюционной армии; во всяком случае, руководившие ею генералы Миллер и Марушевский стремились сделать всё возможное для достижения этого. Главная трудность заключалась в катастрофическом недостатке офицерских кадров. Всё держалось на небольшой группе кадровых офицеров, основную же массу составляли «офицеры военного времени» (произведённые в течение Великой войны). Из них часть не была склонна к активной борьбе и старалась устроиться в тыловых и хозяйственных учреждениях. Другая группа, напротив, принадлежала к самым доблестным и самоотверженным бойцам, вышедшим из простой среды партизан-добровольцев. Одну из самых важных задач при формировании армии Миллер видел в том, чтобы «всеми силами стараться восстановить полное уважение к офицерскому мундиру и поддержать офицерское достоинство в возможной чистоте, как символ возрождающейся русской армии».
Нельзя не отметить постоянную заботу Миллера о материальном обеспечении офицеров и солдат, их питании, досуге, быте. Ни на одном Белом фронте не было такого содержания, как на Севере, причём оклады изменялись в зависимости от падения курса «северного рубля» и повышения цен; семьи же офицеров, находившиеся за границей, получали пособия в валюте. Разница окладов на фронте и в тылу была значительна, с точным указанием фронтовых районов. После принятия Миллером должности Главнокомандующего им был открыт в лучшем общественном здании Архангельска - Коммерческом собрании - русский солдатский клуб, где имелись читальня, биллиардная, столовая, кухня, солдатская лавочка, зрительный зал. Деятельность клуба помогала солдатам скрасить их досуг; здесь читались лекции, давались концерты и спектакли. Как отмечал очевидец, Миллер пользовался в солдатской массе заслуженной популярностью. Солдат он «подкупал не пышными речами и игрой на популярность, а своей неустанной заботливостью об улучшении... быта и материальных нужд, что более всего ценит наш народ».
* * *
По мере формирования и роста русской армии нарастала напряжённость в отношениях между русским и союзным командованиями. Весной 1919 года Марушевский старался доказать, что в некоторых районах он уже не нуждается в англичанах. Как пример он приводил ситуацию на Онеге, где 5-й Северный стрелковый полк в апреле насчитывал три батальона, а английские взводы были микроскопическими, но командование здесь оставалось в британских руках. Айронсайд же, напротив, с опаской смотрел на то, что некоторые фронтовые районы стали «ужасающе русскими».
В оперативном отношении, как мы уже знаем, русская армия была полностью подчинена союзному командованию. Достаточно сказать, что до эвакуации союзников в русском Штабе даже не было сформировано оперативного отделения. Марушевский пытался вмешиваться в дела оперативного характера, но его советы попросту игнорировались. Русскими офицерами было высказано немало серьёзных претензий к англичанам, которые обвинялись в неумении и нежелании воевать и даже в трусости. В качестве примера приводились митинги в Йоркширском полку, не пожелавшем идти в бой, или боевые действия на Пинеге, когда русские в назначенный срок перешли в наступление и нанесли сильный удар противнику, взяв несколько сот пленных и очистив от красных несколько деревень, действия же английской колонны ввиду её крайней удалённости не оказали никакого влияния на успех операции. Мало того, англичане тогда утопили огромное количество продовольствия и боевых припасов.
Итак, весной 1919 года русские части уже были вполне способны решать самостоятельные боевые задачи, но инициатива их командования сковывалась союзниками. Больше всего русских раздражал способ ведения войны, принятый англичанами, - позиционный, оборонительный, без наступательных операций, по образцу Западного фронта Великой войны. Марушевский свидетельствовал: «Русское военное командование исполняло предначертания союзного штаба. Все мои указания на необходимость наступления, особенно на Двинском и Мурманском фронтах, отклонялись союзниками по мотивам недостаточности войск и ненадёжности населения, сочувствующего большевикам». В свою очередь, Айронсайд впоследствии заявлял: «Наступать мы, конечно, не могли, русские войска были ненадёжны, а нас было очень мало».
Только однажды англичане пожелали проявить наступательный порыв в военных действиях против большевиков. В апреле 1919 года, при энергичном продвижении вперёд армий адмирала А. В. Колчака, появилась надежда, что войска его северного фланга достигнут Вятки. Союзниками был разработан план соединения Северного фронта с сибиряками путём наступательной операции вверх по Двине в направлении на Котлас. С конца апреля в Архангельск морем доставлялись запасы обмундирования, патроны, пулемёты для передачи сибирякам.
В Правительстве Северной Области царило приподнятое настроение. 30 апреля Миллер как генерал-губернатор совместно с Правительством принял решение о своём подчинении Верховному Правителю Колчаку. Нужно сказать, что для установления непосредственной связи с Колчаком ещё 8 марта был послан «Сибирский экспедиционный отряд» («1-я Сибирская экспедиция») в составе двух русских и одного британского офицеров, двух британских и семнадцати русских солдат. Отряд, тщательно подготовленный к далёкому путешествию, ежедневно покрывал на оленях 70-80 вёрст и весь путь до Чердыни в полторы тысячи вёрст преодолел за 40 суток. Начальник отряда есаул Н. Н. Мензелинцев по прибытии в Омск сделал подробный доклад о Северном фронте и о союзниках в Ставке Верховного Правителя, а затем с частью солдат перевёлся в войска, непосредственно ему подчинённые. Остатки же Сибирского экспедиционного отряда были подчинены поручику Жилинскому, который отправился из Омска 28 мая с документами для Временного Правительства Северной Области, русского и союзного командования, и прибыл в Архангельск 22 июня (постановлением Временного Правительства Жилинский был за удачное окончание экспедиции произведён в штабс-капитаны). Позднее путь в Сибирь из Архангельска повторил небольшой отряд генерала В. А. Кислицина, который в начале июля отправился на соединение с армиями Верховного Правителя. В конце июля отряд прибыл в Березов. Вскоре состоялись и встреча Кислицина с Колчаком и передача Верховному письма и пакета с документами из Архангельска. Ещё в апреле 1919 года отправился в Сибирь и управляющий отделом финансов князь И. А. Куракин, который должен был представлять северное Правительство в Омске и координировать действия с Сибирью.
Тогда, в апреле, Миллер и его сотрудники были полны оптимизма, и, обсуждая с Айронсайдом планы наступления на Котлас, Евгений Карлович уверял его, что стоит только союзникам прорвать фронт, а остальное русские части доделают сами. Айронсайд, однако, справедливо замечал, что войска Верховного Правителя могут оказаться в более плачевном состоянии. Встречаясь и обсуждая предстоящие планы с Миллером почти ежедневно, Айронсайд отмечал, что они стали «близкими друзьями». Евгений Карлович очень напряжённо работал, по 16 часов в сутки, и Айронсайд с тревогой отмечал, что ни один человек не выдержит подобного темпа. Вспоминая его «прибалтийский характер, ровный и выдержанный, не страдающий резкими перепадами настроения от оптимизма к пессимизму», английский генерал сожалел, что по натуре Миллер всё-таки был администратором, а не вождём. И можно только согласиться с Главнокомандующим союзными войсками, что настоящего лидера среди русских военачальников в Северной Области не нашлось.
Напряжённый труд Миллера был отмечен Временным Правительством, которое 30 мая 1919 года за «особые заслуги по воссозданию русской армии» произвело его в генералы-от-кавалерии. Но Миллер этого производства не принял и продолжал именоваться генерал-лейтенантом.
В мае ещё сохранялись надежды на скорое соединение с Колчаком. 22-го была получена телеграмма от представителя союзников в Сибири генерала А. Нокса, которую довели до сведения всех русских командиров: «Казань и Вятка должны быть заняты Сибирской армией, одно подразделение отправляется для соединения с войсками в Архангельске», после чего «армиями будет организовано наступление на Москву. Колчак считает необходимым открытие пути по Двине, чтобы в летние месяцы не зависеть от Сибирской железной дороги». Но Айронсайд трезво отнёсся к этой телеграмме и запросил своё военное министерство о точных сроках колчаковских операций. Главной его целью в это время была мирная эвакуация союзных войск до наступления зимы, и предполагаемое соединение с Колчаком не могло изменить оперативных планов эвакуации - могли измениться лишь сроки её проведения (решение было принято британским правительством ещё в марте 1919 года). Для выполнения поставленной задачи Айронсайду нужны были спокойный фронт, чтобы сменить уставшие части, и свобода действий, чтобы расчистить территорию перед английскими позициями от противника и передать фронт русским войскам, отступив к низовьям рек. Поэтому предполагаемое наступление на Котлас было ему выгодно в любом случае.
Но спокойного фронта в мае не получилось из-за внутреннего брожения в русских частях. И хотя противник был слабым (в конце мая к белым хлынул поток красных дезертиров - грязных, плохо одетых, голодных), разбавление белых частей пленными, не прошедшими нужной фильтрации, и непопулярность некоторых экономических мер правительства привели к тому, что май ознаменовался двумя восстаниями. В результате генерал Марушевский стал склоняться к выводу, что, если союзные войска уйдут, молодая русская армия, лишённая к тому же материальной поддержки, не устоит. На эту тему он не раз беседовал с Миллером, видя выход в усилении офицерского состава, без которого невозможно было поставить полки на ноги и устроить тыл. Главнокомандующий же союзными войсками опасался, что боевой дух русских может испариться, если поступят плохие вести с колчаковского фронта.
Пока, правда, плохих вестей не было. Указом от 10 июня 1919 года Верховный Правитель назначил Миллера «Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами России, действующими против большевиков на Северном фронте», и Миллер уже поздравлял свои войска, считая это «первым шагом по осуществлению объединения России в лице единой армии под главенством одного Верховного Главнокомандующего». Но фактическое вступление Евгения Карловича в должность Главнокомандующего было отложено до лучших времён. В то же время приближение армий Колчака подняло престиж Миллера в Области, и Временное Правительство подумывало о своём уходе. 1 июля 1919 года оно приняло постановление «войти с ходатайством к Верховному правителю России адмиралу Колчаку», чтобы «сложить имеющиеся у него (Правительства. — Н. К.) полномочия и всю предоставленную ему Всероссийским правительством власть передать Главнокомандующему... на Северном фронте Генерал-Губернатору Северной области Генерал-Лейтенанту Е. К. Миллеру, с возложением на него дальнейшей организации военного и гражданского управления областью». Военные круги продолжали считать единоличную диктатуру необходимой и позже: Марушевский в докладе Правительству от 19 июля 1919 года, оценивая состояние области как критическое, настаивал на немедленной передаче всей полноты власти в руки Главнокомандующего. Он делал вывод, что весь правопорядок в Области держится исключительно на военной силе и что «если удалось заставить население драться, то успех этого дела был достигнут только силой и крутыми мерами».
В июне обнадёживающие вести были получены из английского военного министерства: Айронсайду предписывалось подготовиться к нанесению сильного удара по большевикам, так как «Колчак по-прежнему намерен взять Вятку». В то же время говорилось, что наступление адмирала на Север скорее всего будет отложено из-за поражений на юге и в центре Восточного фронта. Но Айронсайд уже считал, что его планы боевых действий нужно рассматривать как часть операции не по соединению с Колчаком, а по размещению русских войск на позициях и передаче командования Миллеру, причём «основная тяжесть операций ляжет на плечи русских».
С прибытием новых подкреплений Айронсайд 20 июня начал наступление на Двинском направлении. Большевики не могли удержать линию фронта, настроение в русских войсках было приподнятым, они были полны решимости продвигаться дальше. Но порыв армий Верховного Правителя в это время был уже сломлен и начался их отход на восток. Известие об этом дошло до Северной Области в начале июля.
В эмиграции Миллер обвинял англичан в неисполнении плана по соединению с армиями Колчака: «Не хватило сердца, настойчивости, желания, упорства в достижении этой цели, и первое же известие об отходе сибиряков от Глазова пресекло сразу исполнение англичанами так хорошо задуманного и методически подготовленного плана... Вследствие несогласованности действий по времени и вялости английского командования не была разрешена задача, которая одна оправдала бы жертвы, понесённые на севере». Два дня они с Айронсайдом пытались найти компромиссное решение. Англичанин убеждал Миллера, что ни о каком наступлении на Котлас уже не может быть и речи. Единственное, что он мог обещать, - это прорыв большевицкого фронта, чтобы дать укрепиться на позициях русским войскам, после чего союзники должны будут уйти.
Евгений Карлович мужественно встретил плохие новости о Колчаке. «Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда я сообщил ему дурную весть, - вспоминал впоследствии Айронсайд. - Лишь по его светло-голубым глазам я мог догадаться, как ужасно он устал. Пару минут он смотрел на меня, не говоря ни слова. Я протянул ему руку, и он сжал её мёртвой хваткой». Айронсайд обещал, что пробудет в Области ещё три месяца и оставит позиции на Двинском фронте не позднее 1 октября. Он также обещал снабдить русские войска всем необходимым. Продолжение борьбы в этот момент и Айронсайдом, и Миллером мыслилось как уже принятое решение. О собственном наступлении на фронте ни Миллер, ни Марушевский вопроса перед союзным командованием в этот момент не поставили.
Айронсайда ждало ещё одно потрясение: взбунтовался так называемый Дайеровский батальон Славяно-Британского легиона, прибывший на Двинский фронт 4 июля. Впрочем, в этом мятеже был виноват сам союзный Главнокомандующий, который в качестве эксперимента набрал в батальон «добровольцев» - пленных красноармейцев и арестантов-большевиков из тюрем Архангельска. С солдатами батальона интенсивно занимались английские офицеры, одеты они были щегольски, кормили их великолепно, командир батальона (англичанин) был выше всяких похвал. Но Миллер с самого начала отнёсся к подобной затее резко отрицательно и не ждал от неё благоприятных результатов ни при каких условиях. «Зачастую самые плохие и опасные солдаты - те, которые выглядят самыми дисциплинированными», - предупредил он Айронсайда. И действительно, по прибытии на фронт Дайеровский батальон восстал, показав справедливость опасений Миллера и всю «ценность» английского эксперимента.
Вскоре последовало восстание в русских войсках на Онеге и раскрытие ещё нескольких заговоров. Потеря из-за этого Онеги и Чекуевского района привела к разрыву сухопутных связей с Мурманом. Кроме того, Онежский тракт на Архангельск был совершенно открыт и никем не защищался. Для Айронсайда эти мятежи были «последней каплей».
По словам Миллера, английский Главнокомандующий стал неузнаваем, впал в преувеличенный пессимизм и проявлял явное недоброжелательство. Самым энергичным образом он стал настаивать на эвакуации и предлагать эту меру и для русского командования. В своём приказе Айронсайд обратился к русским войскам: «Если русские солдаты будут столь легко поддаваться изменнической пропаганде большевиков, продающих Россию и разоряющих всё её население, то я тоже приму такие меры, что всякая попытка измены будет немедленно подавлена... Всякая попытка к беспорядку в войсках будет подавлена крутыми мерами».
Миллер также отдал приказ по поводу восстаний, но угрожал не своим солдатам, а тем, кто вёл пропаганду и разлагал фронт: «В моих руках находится несколько сот лиц, замешанных в грязном деле большевицкой пропаганды... Ныне пусть знают все негодяи и изменники, что за каждое покушение на офицерскую жизнь будут своей жизнью отвечать эти большевики, незаслуженно пощажённые. Каждый волос с головы погибшего при исполнении служебного долга офицера будет оплачен жизнью большевицких предателей».
Миллер не потерял самообладания и после этих мятежей, он готовил войска для повторного захвата Онеги, но экспедиция (небольшой отряд с двумя орудиями и около 500 человек десанта под прикрытием английского монитора[52]) потерпела неудачу, так как с союзниками пришлось торговаться из-за каждого выстрела с монитора.
Как раз в это тяжёлое время в Область прибыл транспорт из Англии, привёзший около 400 русских офицеров, набранных заграницей. Это был итог длительной деятельности Миллера как управляющего иностранным отделом и его иностранных агентов по «вербовке добровольцев». Лучшие офицеры тут же попали на фронт. Среди прибывших было и семеро генералов, в том числе престарелый М. Ф. Квецинский, сыгравший впоследствии печальную роль в судьбе Северного фронта.
* * *
В июле 1919 года окончательно решился вопрос об эвакуации союзников из Северной Области. На него повлияли и одностороннее решение Президента США В. Вильсона о выводе американских войск с Севера, принятое ещё в феврале (американская эвакуация прошла в два этапа - 27 июня из Архангельска и 28 июля из Мурманска), и провал плана соединения с армиями Верховного Правителя весной - летом 1919-го, и серия мятежей в русских войсках. Впоследствии англичане так оценивали положение: «Северная Россия не давала надежд на самостоятельные результаты, а с неудачей генерала Колчака (так! — Н. К.) все военные действия на этом участке были обречены на бесплодность, и даже более того - положение там было обескураживающим».
Для руководства эвакуацией всех союзных сил в Архангельск прибыл лорд Г. Роулинсон. Миллер тут же получил предложение от английского командования эвакуироваться вместе с союзниками. В этот же день, 11 августа, в его кабинете состоялось совещание с участием представителей фронта и Штаба. На их обсуждение были поставлены вопросы: следует ли русским войскам оставаться в Области; можно ли будет впоследствии благополучно эвакуироваться; возможно ли проведение наступательных операций без поддержки союзников. Представители фронта откровенно заявили о невозможности продолжения борьбы в одиночестве, аргументируя свою позицию тем, что с уходом союзников фронт ослабляется ровно наполовину - из 25 000 остающихся русских солдат на позициях могут находиться только 12 000, остальные должны обслуживать тыл; кроме того, войска разлагаются большевицкой пропагандой; и, наконец, немаловажным фактором становится разобщённость «фронтов» (операционных направлений) и колоссальное расстояние до баз - в случае прорыва одного фронта гибнет и вся Область (что в конце концов и произошло). Командиры строевых частей предлагали распустить ненадёжный элемент по домам, а лучшую часть армии, не менее 10 000 человек, перевезти к Юденичу, Деникину или, наконец, сняв всё лучшее с Архангельского фронта, усилить Мурманский. Миллер, выслушав всех, остался при твёрдом убеждении, что русской армии нужно продолжать борьбу с большевиками здесь: имея полный успех на фронте и поддержку в тылу, без натиска противника оставить позиции - такого примера в истории ему неизвестно. Он считал, что выход из строя Северной Области в то время был равносилен измене Белому Делу и нанёс бы непоправимый моральный удар по всем остальным Белым фронтам.
Вечером 11 августа строевые офицеры в беседе с Главнокомандующим ещё раз обрисовали положение фронтовых частей, «бывших всецело в строевом, хозяйственном и техническом отношении на попечении англичан, и указали, что с уходом последних они останутся без всего, так как наш штаб не позаботился о своевременном оборудовании и подготовке их к самостоятельной жизни, обнаружив полное бездействие в этом отношении и предоставив всё англичанам». Миллер, с большим вниманием выслушав командиров, объяснил, что не может принять на себя всю ответственность за предыдущую деятельность штаба, так как высшее командование находилось не в его руках. Он обещал исправить положение и позаботиться о духовном и материальном благополучии войск.
12 августа на объединённом заседании союзного и русского командования Миллер подтвердил своё решение остаться на Севере. Он заявил, что действительно сможет продержаться недолго, но и это короткое время, возможно, станет поворотным пунктом в судьбе России, и что, если потребуется, он будет продолжать борьбу до последней капли крови. Предложение Роулинсона о немедленной переброске русской армии на Мурман и эвакуации до 10 000 населения Области также были отвергнуты. Айронсайд резко заявил, что оставление русской армии в Области - чистейшая авантюра, поскольку за благонадёжность русских частей нельзя было ручаться, да и в техническом отношении они совершенно не были подготовлены для самостоятельных боевых действий. С ним был согласен начальник союзной контрразведки полковник К. Торнхилл, заявивший: «Вашему Главнокомандующему надо было иметь гораздо более мужества, чтобы уйти из Архангельска, чем [чтобы] остаться в нём».
Категорически отвергнув эвакуацию русской армии вместе с союзниками или переброску всех сил на Мурман, всю ответственность за судьбу Области и оставшихся войск генерал Миллер взял на себя. Англичанам он сообщил, что предполагает провести несколько наступательных операций для прикрытия их эвакуации, а те, в свою очередь, обещали широкую поддержку техническими и материальными средствами. В те же самые дни, когда шло совещание по поводу эвакуации, на Двине заканчивалось наступление, начатое 10 августа. Оно увенчалось полным успехом: вся живая сила большевиков в этом районе была разгромлена, взято в плен 3 000 человек, вся артиллерия (18 орудий различного калибра) и множество пулемётов стали трофеями белых, получили повреждения три канонерские лодки большевиков. Потери русско-британских отрядов составили 145 убитых и раненых. Дорога на Котлас была свободна, разъезды безо всякого сопротивления доходили вдоль Двины до самой Тотьмы. Русский фронт ликовал, но... ему ещё предстояло узнать, что вся эта операция нужна была союзникам лишь для того, чтобы отойти к Архангельску и эвакуироваться без напора противника.
Двинская операция была первым успехом после вступления Евгения Карловича 6 августа в должность Главнокомандующего войсками Северного фронта (Марушевский отчислялся в распоряжение Миллера; начальником Штаба Главнокомандующего назначался генерал М. Ф. Квецинский). 11 августа Миллер установил разделение фронта на районы: 1) Мурманский; 2) Двинский; 3) Пинежско-Мезенский; 4) Печорский. Командующим русскими войсками в указанных районах он присвоил права командиров корпусов с непосредственным подчинением ему, хотя пока они всё ещё оставались в оперативном подчинении союзному командованию.
В 20-х числах августа Миллер собрал офицеров гарнизона и объявил о своём решении продолжить борьбу в Северной Области. Он обещал принять все меры к спасению офицеров в случае худшего варианта развития событий и последним покинуть Область. Речь Миллера была встречена мрачно, офицеры с резкой критикой отнеслись к новым чинам Штаба, особенно Квецинскому. Стали ходить слухи даже о военном перевороте. Резко отрицательное отношение у офицеров вызвал и уход союзников: англичане прямо обвинялись в предательстве. Если Миллер при первом известии об эвакуации союзников мог только спросить у Айронсайда: «Неужели Верховный Совет предал Белое дело в России? » - то начальник Оперативного отдела Штаба Главнокомандующего, Генерального Штаба полковник Л. В. Костанди выразил отношение русских офицеров к союзникам более полно. Он попросил о встрече с Айронсайдом и в его кабинете, отдав честь, положил на стол британский орден, которым ранее гордился как наградой за выдающиеся заслуги в весеннем наступлении на Мурмане. «За две минуты он высказал... всё, чтодумает о союзниках и их поведении. Потом снова отдал честь и вышел вон. Долго я сидел в полном молчании, глядя на отвергнутый орден, которым в своё время была отмечена беспримерная доблесть», - вспоминал Айронсайд. Свой поступок Костанди объяснял так: «...считаю ниже достоинства русского гражданина и офицера носить орден страны, представители которой вынуждаются своим правительством изменить данному им[и] слову и своим союзникам» (в своё время Айронсайд обещал оставаться на Севере столько, сколько будет нужно для упрочения положения белых). Однако Миллер, слывший большим дипломатом и склонный всегда искать компромиссы, отметил по этому поводу: «Не могу одобрить такое демонстративное выступление, так как выражение таким способом своего неудовольствия Английским правительством не могу считать соответствующим интересам России вообще. ...Нам оставили средства для борьбы англичане, а не кто другой».
Перед последним этапом эвакуации английское командование действительно сдавало русскому интенданству богатые склады снаряжения и обмундирования. Но в то же время, руководствуясь своими пессимистическими прогнозами относительно скорого прихода в Область большевиков, англичане очень много военного имущества просто уничтожили. Оружие, снаряды, автомобили топились в Двине, аэропланы сжигались. Айронсайд признавал, что было затоплено два монитора и испорчено большое количество восьмидюймовых гаубиц. По докладу главного интенданта Временному Правительству, «ценность потопленного в Двине исчислялась в сотни тысяч фунтов стерлингов».
Перед своей эвакуацией англичане продолжали всеми доступными средствами убеждать и русское командование, и правительство прекратить борьбу, распустить солдат по деревням, а офицеров и желающих жителей вывезти из Области. В русских частях на Двине английским командованием проводился опрос для выявления желающих эвакуироваться, на улицах Архангельска вывешивались объявления, где населению предлагалась единственная мера спасения - записываться на огромные пароходы, прибывшие из Англии. «Бог помог: Северная Область не запятнала себя дезертирством... Она нашла в себе силы молчанием ответить на соблазнительные, шкурные зазывания английского командования», - писал Миллер в эмиграции. Мало того, русские войска под его командованием сделали всё возможное для успешной эвакуации союзников, стабилизировав фронт перед их уходом. Наконец, 25 сентября 1919 года в своём оперативном приказе Миллер отменил подчинение союзному командованию командующих Мурманского и бывших Железнодорожного, Селецкого, Двинского и Пинежского районов.
26-е и ночь на 27 сентября были последними часами погрузки на суда и ухода из Архангельска английских войск, и в 4 часа утра 27-го вереница кораблей потянулась с рейда. До этого из Области уехали дипломатические представители, французы, американцы, итальянцы. По различным источникам, вместе с союзниками эвакуировались от 5 до 6 тысяч русских граждан и 1 845 русских военнослужащих.
В связи с уходом союзных войск Миллер, воспользовавшись исключительными правами Главнокомандующего, принял энергичные меры к очищению Архангельска от большевицких элементов, выслав до 1 200 человек на Иоканьгу, изолированный остров на Мурмане. Эта мера произвела сильное впечатление на население города, убедившееся в твёрдости оставшейся власти. Для усиления боеспособности Архангельского гарнизона все, имевшие право носить оружие, были призваны в Национальное Ополчение, возросшее до 2 000 человек. Кроме того, из штабных офицеров и чиновников была сформирована особая офицерская рота. 27 сентября, в день ухода союзников, Миллер объявил своим приказом осадное положение, отменив его через неделю и выразив благодарность населению за порядок и дисциплину, «проявленные в критический момент существования Области».
Перед окончательным уходом союзников Миллер счёл нужным попрощаться с Айронсайдом и рано утром 27 сентября прибыл к нему на яхту со своим адъютантом. Впоследствии английский генерал вспоминал: «Он беседовал со мной и адмиралом... минут двадцать, но все мы чувствовали некоторую неловкость и натянутость в разговоре. Миллер благодарил адмирала и меня за то, что мы сделали для России, просил передать слова признательности лорду Роулинсону и британскому правительству. Затем я благодарил его за то, что он сделал для обеспечения безопасности нашей эвакуации. Я говорил Миллеру, что никогда не забуду его верности Отечеству и любезности по отношению ко мне... Я желал ему удачи в предстоящей кампании. В ответ на это он кивал». Затем Миллер с адъютантом сошли на берег. Айронсайд надеялся, что генерал обернётся для прощального приветствия, но «он ни разу не оглянулся, глядя прямо перед собой, и вскоре они скрылись между домами. Да, это был очень гордый и отважный человек».
Через некоторое время адмиральская яхта снялась с якоря и медленно пошла по Северной Двине, нагоняя ушедшие вперёд суда с английскими войсками. Генерал Миллер и его войска остались в одиночестве. Начался новый период в истории Северной Области.
* * *
Решимость продолжать борьбу с большевиками не мешала Миллеру оценивать состояние Области как крайне опасное. «С уходом союзников для Области создаётся весьма тяжёлое положение, - телеграфировал он русскому посланнику в Белграде В. Н. Штрандману, - ввиду сравнительной малочисленности русских войск по отношению к большому протяжению линии фронта и неблагоприятного впечатления, производимого на молодые формирования оставлением союзников, в которых они видели надёжную опору». Миллер просил содействия Штрандмана для задержки в Области Сербского батальона, присутствие которого он считал важным моральным фактором, - ведь, кроме них, никаких союзных контингентов не оставалось. При личном участии Королевича Александра просьба генерала была удовлетворена, и сербы поступили в его распоряжение как Главнокомандующего до конца октября 1919 года.
Военное положение Области осложнилось тем, что на Двинском фронте в конце сентября под натиском большевиков началось отступление к Архангельску. Однако назначенный Миллером новый командующий, генерал И. А. Данилов, сумел переломить ход борьбы и закрепиться на промежуточном рубеже. На Железнодорожном фронте в октябре проводились широкие и успешные наступательные операции. Открылись возможности дальнейшего продвижения на юг. В октябре белыми были заняты отстоящие от Архангельска на сотни и тысячи вёрст местности в Мезенском, Пинежском и Печорском районах. О результатах красноречиво свидетельствовали тысячи пленных и большие трофеи.
Казалось бы, был достигнут действительно значительный успех, и позиции упрочились. Но на самом деле с захватом новых громадных территорий фронт удлинился, а живую силу, ресурсы которой были весьма ограничены, приходилось рассредотачивать. Увеличился расход транспорта, а главное - продовольствия. Нормы хлеба и сахара стали урезаться не только в тылу, но и в войсках. Главнокомандующий вёл интенсивную переписку с военными агентами и русскими посольствами в Европе, прося их содействия в переговорах с военными министерствами европейских стран о присылке в Северную Область необходимых запасов для фронта - муки, сахара, консервов, обмундирования, боеприпасов... Но, очевидно, никакие заграничные поставки так и не попали в Область.
Собственные трудности Северного фронта совпали с получением печальных известий о поражениях на других Белых фронтах, которые вызвали большую тревогу у населения и сильно подействовали на моральное состояние войск, так что Миллеру как Главнокомандующему пришлось выступить в печати с пространными объяснениями сложившегося положения. Может быть, к этому времени относится и свидетельство о явлении в Архангельске Божией Матери с Младенцем Иисусом. Группа гимназистов от 10 до 13 лет видела, как невысоко над горизонтом Пресвятая Богородица простирала руки ладонями вниз, благословляя город. Богомладенец, сидящий на Её коленях, крестообразно осенил Архангельск, благословив Белые войска, - возможно, на жертвенность и мученичество. Об этом был составлен протокол, засвидетельствованный архангельским духовенством, в том числе Епископом Пинежским, викарием Архангельской Епархии, Павлом (Павловским).
В декабре 1919 года всякая боевая деятельность на Северном фронте прекратилась из-за снежных заносов. В тылу же бурлила политическая жизнь и происходили события, наносившие прямой вред фронту.
Миллер как генерал-губернатор и Главнокомандующий всеми русскими вооружёнными силами сосредоточил в своих руках огромную власть. Однако в Правительстве после ухода союзников произошёл значительный сдвиг влево: введённые в его состав представители земско-городских организаций принадлежали к партии эсеров, и, обладая правом решающего голоса, мешали принятию нужных Главнокомандующему решений. «Министр без портфеля», Председатель губернской земской управы эсер П. П. Скоморохов выступал с критикой действий власти, завершая свои речи предложением мира с большевиками, и эти предательски-соглашательские идеи становились достоянием солдатской массы.
В интересах Области и защиты её от большевиков Главнокомандующий мог бы установить открытую военную диктатуру, устранив Правительство и сосредоточив всю полноту власти в своих руках. К этому его прямо подталкивала полученная ещё 10 сентября радиограмма из Омска об утверждении 29 августа Верховным Правителем Колчаком «Положения об управлении Северным краем» и присвоении Миллеру прав Главного Начальника края. Но Евгений Карлович посчитал, что предусматривавшееся «Положением» упразднение Правительства повлекло бы за собой внутренние осложнения в Области в момент ухода союзников, и не стал проводить в жизнь решений Верховного Правителя. Это согласуется со свидетельствами о том, что генерал всегда стремился «уловить пульс общественно-политической жизни» и «найти линию компромисса». С другой стороны, те же, кто одобрял Миллера за это, считали его всё-таки «скорее администратором, чем Главнокомандующим».
В январе 1920 года, когда ясно обозначились катастрофы на всех других Белых фронтах, в Северной Области усилилась агитация большевиков, в своих прокламациях угрожавших, что они могут «в любой момент сбросить с вашего пятачка пинком ноги в море» русские войска. Специальные обращения к офицерам с подписями некоторых бывших царских генералов уверяли, что у большевиков офицеры восстановлены в прежних правах, получают отличное вознаграждение, а их семьи обеспечены пайком. И эти призывы производили довольно сильное впечатление. Агитацию за прекращение войны развернули и эсеры, смыкаясь в этом с большевиками и разваливая фронт. Вновь начались волнения и измены в полках, ранее считавшихся надёжными.
В связи с возможным падением Северного фронта среди командного состава остро встал вопрос об эвакуации армии. В том, что он оказался плохо разработанным и большинство защитников Области в конце концов было брошено на произвол судьбы, прямая вина Главнокомандующего генерала Миллера. Он полностью доверился своему начальнику Штаба Квецинскому, который не смог ни грамотно разработать, ни тем более успешно провести эвакуацию войск. Намеченный Квецинским план сухопутного отступления на Мурман носил крайне несерьёзный характер и вызывал насмешки и негодование у фронтового командования.
С морским транспортом дело обстояло совсем плохо, поскольку ледоколы были всё время заняты перевозкой продовольствия. На растерянные вопросы Правительства, как же эвакуироваться, адмирал Л. Л. Иванов посоветовал запастись валенками, указывая, что он своевременно предупреждал обо всём. Было неблагополучно и на Мурмане. После ухода союзников Начальник Мурманского края В. В. Ермолов совсем потерял голову: в администрации царили хаос и неразбериха, а он считал нужным забрасывать Главнокомандующего телеграммами с резкой критикой Временного Правительства и угрозой поднять бунт и отделиться. Миллер спокойно складывал телеграммы в ящики письменного стола, считая их очередной истерикой, хотя было известно, что Ермолов высказывается за образование на Мурмане отдельного штата под покровительством англичан.
Миллер был полон решимости продолжать борьбу и в 1920 году, но возможности обороны он ставил в прямую зависимость от поставок в Область боевого снаряжения, подчёркивая в своих январских телеграммах русскому послу в Лондоне Е. В. Саблину, что «без получения дополнительного снаряжения борьба невозможна», так как разведка указывает на значительное усиление красных войск, и что английские поставки - «вопросы первостепенной важности, решающей судьбу области». Однако переговоры закончились безрезультатно: 13 февраля 1920 года Саблин сообщил о своей уверенности в том, что «достать снаряжение не удастся» в связи с новой, примиренческой политикой Англии по отношению к большевикам.
В начале февраля 1920 года в Архангельске открылось Губернское Земское Собрание, оппозиционно настроенное и к генералу Миллеру, и к остаткам прежнего Правительства и призывавшее население к заключению мира с большевиками и выдаче им офицеров, после чего большевики якобы признают Северную Область самостоятельным государством. Фронтовые начальники на собранном Миллером совещании высказались за арест и предание суду зачинщиков-демагогов, пригрозив в противном случае своей отставкой. Но этим же вечером было получено донесение с Двинского фронта, что большевики начали наступление, а 7 февраля на Железнодорожном фронте восстал один из лучших полков - 3-й Северный.
Эти события произвели страшное впечатление на Миллера и на Земское Собрание. Главнокомандующий был вынужден пойти на уступки, в результате чего сформировалось объединённое, из различных групп и политических партий, правительство, названное «Правительством Спасения». Оно выпустило воззвание к населению с призывом к борьбе, хотя в это время думать можно было уже только об эвакуации. На фронте разложение перекидывалось от одного полка к другому, и они отходили к Архангельску. За несколько дней, с 8 по 16 февраля, перестали существовать Онежский, Селецкий, Двинский фронты.
Тем не менее 16 февраля на заседании Городской Думы и общественных организаций Миллер выступил с речью, заверяя, что на фронте положение серьёзное, но не безнадёжное, и призвал думцев ехать на фронт для воодушевления солдат. При этом он скрыл от аудитории, что накануне уже были начаты радиопереговоры с большевиками о сдаче Северной Области. Обратился Миллер и к английскому правительству с просьбой о посредничестве, приказа же об эвакуации он пока не отдавал, хотя 15 февраля во всех тыловых учреждениях Архангельска уже поднялась паника. Фронтовые офицеры, прослышав о частичной эвакуации штаба, выражали беспокойство о судьбе своих семей, на что Миллер ответил: «Пусть господа офицеры не беспокоятся, я беру на себя заботу об их семьях».
Главнокомандующий прекрасно осознавал свои обязательства перед офицерами и солдатами-добровольцами, но не сумел проявить в эти последние дни Белого Севера ни распорядительности, ни мужества. Уход из Архангельска был назначен на 19 февраля, а пока на прибывший утром 18-го ледокол «Козьма Минин» тайком были погружены Штаб и моряки с семействами. Утром 19-го погрузка шла на яхту «Ярославна», но об этом не были осведомлены даже все воинские учреждения Архангельска. Утром 19 февраля 1920 года «Ярославна» и «Минин» отошли от пристани...
Миллер позорно бежал, с ним выехало всего около 650 человек. В Белом море «Минина» нагнал оставленный в порту и захваченный там вышедшими из подполья большевиками ледокол «Канада», который открыл было огонь по беглецам, но после недолгого боя повернул назад. В жизни Евгения Карловича перевернулась самая яркая страница, которая могла бы стать и самой славной и доблестной, если бы не это постыдное оставление солдат своего фронта на растерзание большевикам. В своё оправдание он писал на борту ледокола: «Может быть, другой, более опытный, более предусмотрительный и государственно развитый руководитель мог бы сделать лучше и больше... [Я] сделал, что мог и как умел, и в одном только чувствую угрызение совести, что в критический момент я оказался не с теми, кто всем рискует на фронте, а на пароходе, отвёзшем меня, правда вопреки моим намерениям, не в Мурманск, а в Норвегию, за что меня вправе будут упрекать те, кто с таким трудом ныне пробивается в Финляндию». Трудно сказать, намеревался ли он в самом деле следовать в Мурманск, а тем, кто в снегах без дорог отходил в Финляндию, было не легче от его угрызений совести. Бегство Главнокомандующего офицеры приняли близко к сердцу, среди них было даже несколько самоубийств. От Печоры до Мурмана войска распадались, подчас арестовывая и выдавая большевикам своих начальников, сдаваясь на милость победителя, хотя на самом деле милости ожидать не приходилось. «Штабы предали фронт», - подводило офицерство итог борьбы на Севере.
Красный комиссар Н. Н. Кузьмин считал столь лёгкую ликвидацию Северного фронта «удивительно счастливой». По его мнению, белые могли бы без особых затруднений выполнить план эвакуации и дойти до Мурманских позиций благодаря плохому состоянию советских войск, обессиленных тяжёлой зимой. Расстояние между ними и отступающими измерялось десятками вёрст. Но не было лица и центра, которые бы координировали эвакуацию отдельных участков Белого фронта. После бегства Штаба и Главнокомандующего его бойцы пали духом и во всём видели измену. Из многотысячной армии удалось уйти в Норвегию и Финляндию лишь немногим более 1 200 военнослужащих.
* * *
Находясь в Норвегии, генерал Миллер, как мог, содействовал обустройству заграницей своих бывших подчинённых, помогал денежными средствами, способствовал переходу к мирной жизни. Его заботы были, хотя и в малой степени, искуплением той вины, которую он чувствовал по отношению к тем, кто был брошен на Северном фронте. Евгений Карлович пытался добиться разрешения на отправку русских беженцев из Норвегии в Великобританию, но это не удалось, и 28 февраля было решено интернировать русских в Варнесмуене, военном лагере недалеко от Трондхейма. Норвежское правительство взяло на себя расходы только по охране лагерей, а затраты на питание и размещение должны были впоследствии компенсировать сами беженцы. Поэтому Миллер сразу же выделил на это около 100 000 крон из средств Северной Области, но данной суммы оказалось недостаточно, и расходы удалось покрыть только с помощью кредита, выданного по королевской резолюции.
Как писал Миллер, беженцы в большинстве своём - «беспомощные люди, к заграничной жизни мало приспособленные и едва ли [они] найдут там себе заработок». 26 февраля 1920 года бывшим Главнокомандующим была создана специальная комиссия для разрешения вопросов, связанных с устройством русских за рубежом, а 11 июня он учредил Временный Комитет по делам беженцев Северной Области в Норвегии и Финляндии, задачами которого стали руководство лагерями беженцев, содействие в отправке военнослужащих в армию П. Н. Врангеля, обмен «северных» ценных бумаг на иностранную валюту, выдача денежных пособий нуждающимся и помощь в трудоустройстве лиц, остающихся в Норвегии и Финляндии. Комитет непосредственно подчинялся Миллеру и был ответственен только перед ним.
Командование полагало, что большинство офицеров отправится на Юг России для продолжения борьбы с большевиками, но многие, как отмечал Евгений Карлович, предпочли остаться «самоопределяющимися беженцами, которые мечтают устроиться заграницей, не возвращаясь в Россию». Мало кто помышлял и об отъезде в Советскую Республику, однако их бывший военачальник генерал Миллер почему-то считал это возможным, обращаясь в марте 1920 года к бывшему министру иностранных дел С. Д. Сазонову за содействием «для получения международной гарантии личной и имущественной безопасности для лиц, желающих вернуться в Советскую Россию». И хотя Сазонов ответил 20 марта на эту просьбу совершенно недвусмысленно: «Получение от советских властей, хотя бы при посредстве союзных держав, гарантии... представляется при нынешних условиях совершенно непостижимым», - всё же из финского лагеря около двух десятков русских солдат были высланы в конце марта в РСФСР. На замечание одного из офицеров о том, что никто не давал Миллеру права выдавать беженцев на расстрел или смерть в тюрьме, Миллер не смог ничего ответить, а лишь, «сильно волнуясь, встал и стал ходить из угла в угол по комнате»...
Большинство же интернированных получило визы на выезд в другие европейские страны или на Юг России (туда, однако, отправилось только 36 человек из Норвегии и 609 - из Финляндии). 15 июня 1921 года в связи с тем, что все денежные средства, находившиеся в распоряжении Комитета, закончились, приказом Миллера он был упразднён.
Сам Евгений Карлович ещё летом 1920 года отбыл в Париж для исполнения обязанностей представителя генерала Врангеля во Франции (Главноуполномоченного по военным и морским делам Главнокомандующего Русской Армией). Важность деятельности Миллера на этом посту с июля 1920 по апрель 1922 года можно понять, помня о политике Франции по отношению к Русской Армии, эвакуированной в ноябре 1920 года из Крыма. «Под угрозой голода была сделана попытка распылить армию», — констатировал впоследствии Миллер. Предполагалась перевозка войск на Балканы, и генерал развил энергичную деятельность по поиску лиц, могущих финансировать этот переезд. Через бывшего посла А. Бахметьева было получено 400 000 долларов; впоследствии было найдено ещё 200 000 долларов и 1,5 миллиона франков, а осенью - ещё 500 000 долларов от «Совета послов». С получением этих средств создавалась некоторая база для переговоров представителей Врангеля с правительствами балканских стран.
Оказал Миллер помощь и приехавшему в середине июля 1921 года в Париж начальнику Штаба Русской Армии генералу П. Н. Шатилову. «В высшей степени воспитанный человек, большой эрудиции, скромный, спокойный, хорошо владеющий многими языками» (воспоминания Шатилова), Миллер сопровождал его при необходимых визитах. Начальник Штаба маршала Фоша генерал Вейган обещал содействие в сохранении в русских лагерях нужного пайка и в давлении на французские власти в Константинополе, чтобы они не препятствовали распоряжениям генерала Врангеля.
С конца 1921 года Врангель начал делать попытки к объединению вокруг армии широких политических сил и в связи с этим произвёл кадровую перестановку в своём Штабе: его начальник генерал Шатилов был заменён генералом Миллером. Приказ об этом вышел 7 марта 1922 года. Шатилов был неспособен к ведению переговоров дипломатического характера, отличался излишней прямолинейностью и категоричностью, имел многочисленных недоброжелателей, в том числе среди союзников. Миллер же, напротив, пользовался широкими симпатиями французских военных кругов, «по настоянию которых якобы и [был] назначен Начштабом при Врангеле» (так считала чекистская агентура в Европе). Чекисты также указывали, что Миллер не считается в армии «ярым сторонником наступательных тенденций», хотя в других донесениях смену начальника Штаба связывали именно с тем, что «штаб Врангеля стал усиленно готовиться к весенним операциям». На деле же Миллеру приходилось больше заниматься сглаживанием различных конфликтов, как, например, в 1922 году - с правительством Болгарии, заподозрившим командование Русской Армии в подготовке государственного переворота. Принимал Миллер участие и в обсуждении вопроса об объединении «всех националистически, государственно мыслящих людей» вокруг Великого Князя Николая Николаевича.
15 мая 1923 года Евгений Карлович был, в соответствии с его личной просьбой, направлен к Великому Князю. Миллеру поручалось доложить о взглядах Врангеля на значение и характер будущего политического объединения. В полученной Миллером инструкции отмечалось, что после объединения Врангель предполагает остаться вне политики, с него должна быть снята всякая политическая, финансовая и другая работа, не связанная непосредственно с жизнью Армии.
Кроме того, Миллеру и Шатилову Врангель поручил вести переговоры с общественными и политическими организациями по созданию общего национального объединения заграницей. Но вскоре вокруг них как представителей Врангеля (Миллера - официального и Шатилова - негласного, в роли «доверенного лица») стали плестись интриги, что затрудняло их контакты с общественностью. Врангель был вынужден откровенно написать Миллеру: «Что же касается Шатилова, то убедительно прошу тебя... удержать его от участия в политической работе... Умный, отличный работник и горячо преданный нашему делу, он лишён качеств, необходимых для общественно-политической деятельности - тех самых качеств, которыми в полной мере обладаешь ты».
Но вскоре и деятельность Миллера, активно занявшегося координацией разведывательной работы, которая велась в различных странах, вызвала нарекания Главнокомандующего, считавшего её чрезмерно самостоятельной. «Всю жизнь я привык нести ответственность за свои действия и никогда не подписывал имени моего внизу белого листа, хотя бы этот лист был в руках самого близкого мне человека», - писал Евгению Карловичу Врангель 29 июля 1923 года. 13 ноября в направленном Миллеру циркуляре Главнокомандующий требовал «размежевать работу и ответственность» (разведывательные и информационные функции должны были перейти к лицам, названным Великим Князем).
К этому времени встал вопрос о переезде Миллера в Сербию, в Сремски Карловцы, на должность начальника Штаба Русской Армии. Но Врангель, хотя и благодарил 9 сентября 1923 года Миллера и Шатилова за их работу по объединению национально-мыслящих людей, был к этому времени уже убеждён не только в несоответствии Миллера функциям своего помощника, но и в отсутствии у него необходимых качеств при отстаивании позиции Главного Командования перед Великим Князем, политическими и общественными кругами. Миллер сам откровенно признавался, что не сочувствует последним решениям Врангеля, и «надеялся при проведении их в жизнь в значительной степени их обойти». «Ты - человек борьбы, - писал он барону, - я же принял за правило - ни одного лишнего усилия». Реакция Врангеля была вполне адекватной: «Подобное чистосердечие поистине трогательно, - писал он Шатилову. - Но как при таких условиях вести работу?! Письмо кончается страшной угрозой - вернуться в Карловцы. Голубчик, выручай! Со своей стороны пишу ему, бросая все цветы своего красноречия. Из двух зол приходится выбирать меньшее и решаюсь последовать твоему совету - поручить Е[вгению] К[арловичу] объединение деятельности военных представителей Западной Европы. Решение это, конечно, неправильное, однако другого выхода нет - отход Е[вгения] Щарловича] от нашей работы в настоящих условиях дал бы громадный козырь в руки наших врагов, возвращение же его в Карл овцы грозило бы мне воспалением печени и выбытием из строя, отчего дело также не выиграло бы. Исполняя твои пожелания и возлагая на Е[вгения] Щарловича] объединение военных представителей Западной Европы, на тебя одновременно возлагаю задачу - сыпать ему перцу в ж...» 8 февраля 1924 года Врангель освободил Миллера от обязанностей начальника Штаба (отмечая всё же в своём распоряжении: «В течение двух лет, не зная личной жизни, работая без устали, генерал Миллер мягко, но настойчиво проводил в жизнь мои указания»), одновременно возложив на него как своего помощника руководство офицерскими обществами и союзами в странах Западной Европы и поручив представлять Армию в зарубежном Национальном Объединении, а затем доверив ему и деятельность по трудоустройству и улучшению материального положения чинов Армии.
После официального принятия Великим Князем Николаем Николаевичем верховного руководства русским зарубежным воинством Миллер был определён к нему «докладчиком по сметным предложениям». 24 декабря 1924 года генерал освобождался от должности помощника Главнокомандующего и был назначен заведующим финансовой частью при Великом Князе.
После кончины барона П. Н. Врангеля основанный им в 1924 году Русский Обще-Воинский Союз возглавил генерал А. П. Кутепов, 29 апреля 1928 года назначивший Миллера старшим помощником Председателя РОВС. Но уже 26 января 1930 года Кутепов, горячий сторонник немедленной и активной борьбы с большевизмом, был похищен в Париже чекистами...
63-летний генерал Евгений Карлович Миллер стал новым Председателем Русского Обще-Воинского Союза. По свидетельствам современников, он встал во главе РОВС не в силу личных амбиций, а лишь из чувства служебного долга. Миллер часто говорил своим близким сотрудникам и друзьям, что принял эту должность как тяжёлый крест. Добросовестно и честно исполняя свои обязанности, он с истинно христианским смирением продолжал дело, начатое Главнокомандующим генералом Врангелем.
Вступив в должность, Миллер совершил инспекционные поездки - в апреле в Югославию и Чехословакию и в ноябре в Болгарию, - во время одной из которых заявил: «...РОВС нельзя уже мыслить в пределах его членов — это действенное волевое ядро русской эмиграции, вокруг которого группируются всё больше и больше общественных организаций. Идея РОВС жизненна и отвечает чаяниям русского национального движения». РОВС действительно оставался крупнейшей эмигрантской организацией, способной бороться с коммунистическим режимом в Советской России и потенциально опасной для него, а потому привлекавшей к себе все антибольшевицкие слои эмиграции. Безоружная армия в штатском продолжала жить, мечтая о решительном бое с большевиками. И Миллер прилагал все усилия, чтобы сохранить её кадры, содействовал военному образованию и воспитанию русских солдат, офицеров, невоенной молодёжи.
«Работоспособность Миллера была поразительна, - отмечал современник, - он занимался делами с 8 часов утра и до позднего вечера. Не было почти ни одного собрания - военного, общественного, национально-политического, - на котором бы не появлялся Евгений Карлович». Он находил также время заниматься делами объединений своих однокашников и однополчан по Николаевскому кавалерийскому училищу, Лейб-Гвардии Гусарскому Его Величества полку и 7-му гусарскому Белорусскому полку.
РОВС казался Миллеру твёрдым монолитом, сплочённым единой целью и Белой Идеей. Но с начала 1930-х годов эта организация стала подтачиваться внутренними подводными течениями, ослабляться интригами.
* * *
Многие ждали от Миллера продолжения активных действий в кутеповском духе. Так, решительный сторонник «активизма» (боевой работы на территории СССР) генерал А. В. Туркул считал, что, «прекративши активную работу, [Обще-Воинский] Союз будет подобен живому трупу, так как ни школами, ни курсами его оживить нельзя... Если же придётся работать, то я уверен, что мы не осрамим нашего оружия и сделаем всё возможное для скорейшего низвержения власти товарищей[53] в СССР». Но генерал Миллер не мог оправдать этих надежд в силу нескольких обстоятельств. Он не был посвящён в секретную деятельность Кутепова, да и большая часть кутеповских боевиков уже погибла в СССР; иностранные штабы и разведывательные центры, помогавшие боевикам проникать на советскую территорию, после ряда провалов отказывались от сотрудничества с эмигрантскими организациями; не способствовала продолжению активной борьбы и ограниченность материальных возможностей РОВС. В 1932 году РОВС понёс значительные финансовые потери после самоубийства известного шведского капиталиста И. Крегера, в предприятия которого генералом Миллером были вложены крупные суммы. Оставшиеся деньги должны были идти в первую очередь на помощь нуждающимся воинам-инвалидам, финансирование руководящего аппарата воинских обществ, входящих в РОВС, и оплату арендуемых Союзом помещений. Миллеру не удалось найти серьёзных источников финансирования организации, по своей сути монархической и выступающей за возрождение Российской Империи как одной из ведущих стран мира.
Свою роль играла и сама личность Миллера: человек старшего поколения, очень осторожный и осмотрительный, он в первую очередь думал о бытовом обеспечении деятельности Воинского Союза, трудоустройстве и правовой защите офицеров и солдат. Кроме своего долга перед Родиной, Миллер ощущал в весьма сильной степени долг именно перед массой эмигрантского русского офицерства. Как и на Северном фронте, Миллер многим казался прежде всего администратором, но не вождём.
Генерал делал ставку на поддержку широкого народного движения внутри самой России. Казалось, эти надежды начинают сбываться, когда в 1930 году дошли сведения о крестьянском движении в Восточной Сибири, направленном против насильственной коллективизации. В одном из интервью Миллер говорил: «Эмигранты убеждены, что рано или поздно русский народ сам свергнет советскую власть, а их задача - содействовать контрреволюционному движению, нарастающему в стране. Настоящий момент они считают особенно благоприятным для таких действий, т.к. весьма вероятно, что движение из Сибири распространится на всю Россию». «Для оказания помощи в районе восстания» собирались деньги, которые были переведены на Дальний Восток, в распоряжение председателя тамошних воинских организаций генерала М. К. Дитерихса. Но с жестоким подавлением крестьянского сопротивления надежды на широкое народное движение рухнули.
Всё же Миллер решил приступить к созданию внутри СССР тайных опорных пунктов и ячеек, которые в нужный момент смогли бы сыграть решающую роль в предполагаемых восстаниях народа против коммунистической власти, тем более что часть видных деятелей PОBC - генералы Туркул, Фок, Пешня, Скоблин - 10 мая 1933 года представили Миллеру меморандум, в котором требовали возобновления активной борьбы в СССР. Однако попытки использовать в качестве плацдарма Финляндию сорвались, возможно, из-за слишком хорошей информированности об этом генерала Н. В. Скоблина, к тому времени ставшего тайным сотрудником Разведывательного управления РККА.
Неудачи Миллера в попытках организации нелегальной работы в СССР накладывались в то же время на все возраставшие в самом РОВС требования выработки национальной политической идеи и активизации антибольшевицкой борьбы. Ещё в январе 1931 года появляется «доверительная записка, вышедшая из кругов, близких к руководящему центру Русского Обще-Воинского Союза», в которой указывалось: «Идеология РОВС довольно примитивна, будущее туманно, неясно и уже предопределяет какую-то пассивную позицию». Такие настроения были связаны с тем, что строго соблюдавшийся Миллером и его предшественниками принцип невмешательства в политику противоречил реально складывающемуся положению вещей, вызывал разочарование тех, кто был готов продолжить вооружённую борьбу.
23 февраля 1935 года произошёл так называемый «бунт маршалов»: тринадцать старших начальников РОВС во главе с генералами Туркулом, Фоком и Скоблиным предъявили Миллеру ультимативное требование превратить Союз в политический центр всего национально настроенного Зарубежья. В частной переписке Скоблин отзывался о Миллере так: «Его туманная политика в Союзе в последнее время сильно пошатнула его авторитет в среде наших офицеров». Подразумевалась и отставка Миллера с поста Председателя РОВС. Миллер отверг требования «маршалов», но его авторитету был нанесён сильный удар. Когда в апреле 1934 года Миллер взял отпуск, влиятельные эмигрантские газеты «Возрождение» и «Последние Новости» стали наперебой обсуждать дела Союза и преподносить одну сенсацию за другой - как о неизбежном уходе генерала, так и о новой кандидатуре на его пост. По возвращении Миллеру пришлось принять решение об отставке генерала Шатилова (Начальника 1-го Отдела РОВС и руководителя контрразведки Союза - так называемой «внутренней линии»), деятельность которого вызывала у него беспокойство, а в апреле 1935 года Евгений Карлович, ссылаясь на необходимость экономии денежных средств, принял обязанности Начальника 1-го Отдела на себя. Одновременно руководство «внутренней линией» во Франции Миллер возложил на Скоблина...
Деятельность «внутренней линии» от Миллера ускользала и фактически была ему неподконтрольна. 26 декабря 1936 года он освободил Скоблина от обязанностей её начальника во Франции, а 28 декабря предписал личному составу «линии» по всем вопросам обращаться к нему непосредственно, категорически запретив исполнять приказания других лиц, даже и тех, кто руководил ими в прошлом. Но ни руководить деятельностью своей контрразведки, ни распустить её Миллер уже не мог.
Разногласия привели к расколу. Радикально настроенный генерал Туркул в 1936 году организовал Русский Национальный Союз Участников Войны, не порывая с Обще-Воинским Союзом, но считая его только военно-бытовой организацией, а свой союз – военно-политической. Тем самым были грубо нарушены уставные принципы РОВС, запрещающие его чинам участвовать в политических организациях. В ответ Миллер исключил чрезвычайно популярного в эмигрантских кругах Туркула из списков РОВС, что отнюдь не способствовало росту авторитета самого Евгения Карловича. Ещё большей критике, чем изнутри, РОВС подвергался со стороны, в том числе эмигрантскими фашистскими организациями, несмотря на то, что Миллер требовал от своих подчинённых обязательного изучения фашистской теории и практики, характеризуя международное положение в мире к концу 1930-х годов как эпоху борьбы «новых фашистских форм государственного устройства с отживающей формой “парламентского демократизма”» и считая, что чины Русского Обще-Воинского Союза являются как бы «естественными идейными фашистами». В то же время Миллер ясно отдавал себе отчёт о том, как относятся к РОВС германские национал-социалисты, констатируя: «там не хотят пожать протянутую нами руку», «их связи и даже их деньги направляются типам вроде Туркула с тем, чтобы в результате было разложение РОВСа», и проч.
Планы вооружённой борьбы против коммунизма удалось реализовать только в Испании, где в июле 1936 года вспыхнула Гражданская война. Участие в ней чинов Обще-Воинского Союза на стороне националистов Миллер объявил продолжением Белой борьбы. 25 декабря 1936 года им был опубликован циркуляр о порядке приёма в армию Ф. Франко, причём добровольцы должны были иметь подписанные Миллером удостоверения о благонадёжности. Когда 1 апреля 1939 года «Национальная Испания» победила, генерал Франко в своём приказе воздал должное русским белым добровольцам, но председатель РОВС генерал Миллер об этом уже не смог узнать. 22 сентября 1937 года он был похищен советской разведкой с помощью своего ближайшего сотрудника генерала Н. В. Скоблина и его жены певицы Н. В. Плевицкой. Вероятно, расчёт советских спецслужб строился на том, чтобы убрать неподкупного Миллера и посадить на его место своего агента: тогда вся военная эмиграция оказалась бы в руках чекистов. РОВС был бы добит страшнейшей провокацией, если бы не записка, оставленная Миллером в день похищения.
В этот роковой для себя день, 22 сентября 1937 года, уходя на деловое свидание из управления РОВС на улице Колизе, он вручил генералу П. В. Кусонскому запечатанный конверт со словами: «Вот что, Павел Васильевич, сохраните это. Вы подумаете, может быть, что я сошёл с ума... Но если что-нибудь случится, вскройте тогда это письмо». Пакет Кусонский вскрыл только в 11 часов вечера, после того, как исчезновение Миллера было обнаружено чинами Общества Северян, которые напрасно прождали своего всегда аккуратного председателя с 8-ми до 9 часов 20 минут вечера в помещении РОВС, где было назначено очередное заседание. Записка Миллера гласила: «У меня сегодня в 12.30 часов дня свидание с генералом Скоблиным на углу улиц Жасмэн и Раффэ. Он должен отвезти меня на свидание с германским офицером, военным атташе при лимитрофных государствах, Штроманом и с Господином] Вернером, прикомандированным к здешнему германскому посольству. Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, что это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку. 22 сентября 1937 г. Генерал-лейтенант Миллер». Допрошенный Скоблин пытался отрицать своё свидание с Миллером в этот день, был изобличён, однако сумел ускользнуть...
В 2 часа 30 минут 23 сентября соратники Миллера заявили в полицейском участке об исчезновении генерала и бегстве Скоблина. Немедленно была поставлена на ноги вся парижская полиция... но было уже поздно.
Французскому следствию удалось реконструировать точную картину и хронологию похищения. Встреча Скоблина и Миллера произошла недалеко от того места, где советское посольство арендовало несколько домов для своих сотрудников и других советских служащих; из окна ближайшего дома человек, знавший Скоблина и Миллера, видел их, стоявших у входа в пустующее здание советской школы, а также третьего человека, стоявшего спиной к свидетелю. Через 10 минут после того, как все трое вошли в здание школы, серый закрытый грузовик с дипломатическим номером припарковался перед зданием. Этот же автомобиль 3 часа спустя прибыл в Гавр и остановился у дока, рядом с советским торговым судном «Мария Ульянова». Из грузовика был вытащен и перенесён на судно массивный деревянный ящик размерами в человеческий рост. Вскоре «Мария Ульянова» снялась с якоря и ушла в открытое море, не известив предварительно администрацию порта. Однако официальная французская версия во имя соображений «высшей политики» обошла роль советского посольства и сделала упор на участие в похищении Скоблина и Плевицкой. Оба они были осуждены - Скоблин заочно, а Плевицкая скончалась в тюрьме в 1940 году.
* * *
По чудом сохранившемуся свидетельству самого Миллера, сразу после похищения он был связан, усыплён хлороформом и в бессознательном состоянии отвезён на советский пароход, где очнулся лишь 44 часа спустя - на полпути между Францией и Ленинградом.
По свидетельству одного из участников похищения, уже здесь Евгений Карлович показал свою силу духа: на пароходе он дрожал от холода, т. к. был одет в летний костюм, и, приняв предложенную ему тёплую рубашку, сказал: «Я очень Вам благодарен за одежду, без которой я бы дрожал от холода, а они могли бы подумать, что я дрожу от страха». И далее, в ответ на советы дать ложные показания и тем купить себе спасение, Миллер говорил: «Я врать не буду. Так как мои противники - большевики, троцкисты и сталинисты ненавистны мне в одинаковой степени, то я, как Царский генерал, не позволю себе играть на руку одной из этих банд убийц».
29 сентября 1937 года, ровно через неделю после похищения, состоялся первый допрос Миллера во Внутренней тюрьме на Большой Лубянке. Генерала поместили в наиболее строго охраняемую одиночную камеру № 110. Он, вероятно, ещё надеясь, что ему удастся дать знать о себе в Париж, пишет два письма - сначала 29 сентября жене «Тате», затем начальнику Канцелярии РОВС генералу Кусонскому. Из писем видно, что больше всего Евгения Карловича беспокоили состояние его жены, которой он не мог сообщить, что жив и здоров («Прошу тебя поскольку возможно, взять себя в руки, успокоиться, и будем жить надеждой, что наша разлука когда-нибудь кончится...»), а также заботы РОВС (в письме Кусонскому - сведения о незаконченных благотворительных делах и тревога, чтобы это «не забылось, не затерялось»; письмо заканчивается словами: «Будущее в руке Божией. Может быть, когда-нибудь и увидимся ещё в Париже»). 4 ноября 1937 года Миллер пишет начальнику тюрьмы заявление с просьбой хотя бы кратко известить жену, что он жив, и тем успокоить её, но просьба эта была напрасной.
Всю осень 1937 года следователем Н. П. Власовым велись допросы Миллера. 27 декабря в одиночную камеру № 110 явился лично Нарком внутренних дел Н. И. Ежов. На следующий день Миллер направляет ему заявление и прилагает 18-страничную записку о повстанческом движении в СССР, которую следователь ещё 10 октября посчитал недостаточной и которую Миллер с тех пор дополнил некоторыми сведениями. Из содержания записки Миллера «Повстанческая работа в Советской России» можно было сделать вывод, что ни РОВС, ни сам генерал Миллер не имели ровно никакого отношения к организации и руководству антисоветскими выступлениями внутри страны. Для советских спецслужб такие данные не представляли никакой ценности, поэтому следователь Власов и вернул их Миллеру сразу.
Миллер никого не предал из своих соратников, и ничего конкретного о работе РОВС чекисты из уст Миллера не узнали. Они, видимо, добивались от него согласия выступить с призывом к эмиграции отказаться от борьбы с большевиками и с этой целью внушали ему легенду о том, что похищенный ими генерал Кутепов жив. В ответ на это Миллер 10 октября 1937 года в письме Ежову выдвинул контрпредложения: Кутепову и ему как лицам, «мнения которых для чинов РОВСа и для других офицерских и общественных организаций несомненно авторитетны», дать возможность объехать хотя бы часть страны и убедиться, что население СССР не враждебно к Советской власти, что оно довольно установившимся порядком и что материальное и моральное положение народа в СССР действительно улучшается. «Нужны по крайней мере 2 голоса - Кутепова и мой, чтобы эмиграция... по крайней мере прислушалась и задумалась бы о дальнейшем», — писал генерал. Но что могли ответить на это Миллеру убийцы Кутепова и сотен тысяч других русских людей?! Без ответа остались и постоянные просьбы Евгения Карловича об отправке жене весточки из неволи.
Миллер ещё надеялся хоть на какое-то человеческое отношение со стороны своих врагов, не понимая до конца, к кому же в руки он попал. В письме от 30 марта 1938 года он просит Ежова разрешить ему побывать в церкви, чтобы «отговеть на ближайшей неделе» и «в течение одной недели во время Великого поста», ссылаясь на... декларации советского правительства и даже на Ленина, провозглашавших свободу вероисповедания. Не дождавшись ответа на это письмо, 16 апреля 1938 года Миллер вновь пишет Ежову: «...решаюсь дополнительно просить Вашего разрешения на передачу Его Высокопреосвященству Митрополиту Московскому приложенного при сем письма». Но послание Миллера Владыке Сергию (Страгородскому) с просьбой о передаче в тюрьму Евангелия на русском языке и «Истории Церкви» и со словами «болезненно ощущаю невозможность посещения церкви» также не было передано адресату. Никакого духовного утешения в последние месяцы своей жизни Евгений Карлович не получил.
Последний по времени документ, написанный Миллером, датирован 27 июля 1938 года. Письмо Ежову полно тревоги о своей жене: «Меня берёт ужас от неизвестности, как отразится на ней моё исчезновение. 41 год мы прожили вместе!» Миллер взывал к чувству милосердия Народного Комиссара, напоминая, сколько раз уже пытался получить разрешение послать письмо Наталии Николаевне, просил «прекратить те нравственные мучения, кои с каждым днём становятся невыносимее». «Неужели Советская власть... захочет сделать из меня средневекового Шильонского узника или второе издание “Железной маски” времён Людовика XIV? » - спрашивал Миллер Ежова.
Но судьбу генерала решил уже другой Нарком внутренних дел - Л. П. Берия, причём в экстренном порядке и в течение нескольких часов. 11 мая 1939 года в 23 часа 05 минут по приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР Евгений Карлович Миллер был расстрелян, а в 23 часа 30 минут тело его сожжено. «Дело», заведённое на него в НКВД, тогда же было уничтожено, как будто бы и не было вовсе в Москве генерала Миллера. Но несколько документов уцелели: письма Миллера и последние скорбные бумаги, относящиеся к нему, оказались присоединёнными к совершенно другому делу. Это и сохранило их для истории.
С момента похищения и до своей смерти Евгений Карлович проявил необычайную выдержку, силу воли и несокрушимую крепость духа. Вера в Бога и преданность Церкви выражена словами генерала: «Я не покончу самоубийством прежде всего потому, что мне это запрещает моя религия». Поставив себя уже за черту жизни, генерал Миллер продолжал числить себя на прежнем посту, убеждённый, что даже в безнадёжности своего положения он может служить светлым извечным идеалам: «Я докажу всему миру и моим солдатам, что есть честь и доблесть в русской груди. Смерть будет моей последней службой Родине и Царю. Подло я не умру». Он отдал свою жизнь «За Веру, Царя и Отечество».
ГЕНЕРАЛ-ОТ-ИНФАНТЕРИИ Н. Н. ЮДЕНИЧ (Очерк: Василий Цветков)
В 1931 году на полках русских магазинов в Париже появилась малозаметная, на первый взгляд, брошюра: «Генерал от инфантерии Н. Н. Юденич. К 50-летнему юбилею». Её составителем был особо созданный по этому случаю Юбилейный комитет, включавший в себя видных деятелей Белого движения, представителей Русского Обще-Воинского Союза, ветеранов Великой и Гражданской войн. Возглавил его генерал П. Н. Шатилов, членами стали генералы А. М. Драгомиров, А. М. фон Кауфман-Туркестанский, П. А. Томилов, секретарём - редактор журнала «Часовой» капитан В. В. Орехов. Выход в свет этого издания сопровождался двумя торжественными собраниями, состоявшимися в Париже 22 августа и Ницце 4 октября 1931 года.
Юбилей, о котором шла речь, был необычен. Отмечалось производство генерала-от-инфантерии Николая Николаевича Юденича в первый офицерский чин. Цель торжества определялась так: «Успехи прошлого всегда составляют залог славного и радостного будущего; напоминание о них, поддержание и укрепление веры в самих себя - вот что знаменует собою чествование юбилейного дня Генерала Юденича, личного по внешности, но глубоко государственного по существу...»
Опубликованные в брошюре доклады посвящались анализу операций Кавказского фронта в годы Великой войны. Но помимо этого немало внимания уделялось и личной биографии юбиляра. Разумеется, было бы неправомерно считать данные оценки проявлением какого-либо «культа». В характеристиках, данных Юденичу, содержалось стремление не только разобраться в его заслугах, в стратегических итогах его кавказских операций; нужен был, выражаясь современным языком, некий «информационный повод», чтобы вывести настроения русской военной эмиграции из жёстких рамок борьбы за существование, переосмыслить опыт прошедших военных операций начала XX века, опыт, нужный для разработки будущей военной доктрины, в которой будут учтены все положительные и отрицательные стороны стратегии и тактики Российской Армии.
Военным действиям, которые вела под началом Юденича в годы Гражданской войны Северо-Западная Армия, в брошюре уделялось гораздо меньше внимания. Вообще в литературе Русского Зарубежья, равно как и в советской историографии, Северо-Западному фронту не везло. Объем исторических публикаций о нём невелик. В СССР оценка Белого движения на Северо-Западе повторяла по сути оценку часто цитируемого эмигрантского публициста А. Ветлугина: «...Белое движение зарождается вроде гомункулуса: таинственные опыты, таинственные совещания, ночные бдения - и внезапно появляется крошечный человечек, бросающий вызов всей ледяной пустыне...»
Развивая характеристику этого «гомункулуса», советские авторы делали убийственный вывод: «сгруппировавшаяся “у врат Петрограда” контрреволюция ничем не отличалась от деникинщины, колчаковщины и врангелевщины. Но здесь как-то особенно ярко проявились все основные черты белого движения - оторванность от широких народных масс, авантюризм и бездарность вождей, своекорыстность поддерживавших движение групп, готовность купить любой ценой, любыми унижениями помощь интервентов. Все политические Хлестаковы, Репетиловы, Собакевичи и Скалозубы как бы нарочно собрались “у врат Петрограда”, чтобы продемонстрировать перед всем миром лицо российской Вандеи...» Иными словами - никакой социальной базы, никакой причины для зарождения, развития и тем более никаких перспектив победы у белых на Северо-Западе России не было и быть не могло.
Что же привело в этот «стан обречённых» генерала Юденича? Каковы были причины, заставившие его закончить свою военную карьеру именно на этом «авантюрном» фронте Гражданской войны? Попытаемся ответить на эти вопросы.
Бессмысленно искать на них ответ в советской исторической литературе. Из-за напластований идеологических мифов имя талантливого полководца столь же незаслуженно забыто, как и имя адмирала Колчака, генералов Деникина, Маркова, Врангеля. И всё же мы вспомним сегодня слова из доклада бывшего начальника штаба Кавказского фронта генерала П. А. Томилова, прочитанного им в Ницце 4 октября 1931 года: «...Не заслуги мирного времени и даже не боевые подвиги и опыт в роли частных военных начальников выдвигают вождей, способных самостоятельно и независимо проводить крупные военные операции. Настоящих полководцев “Милостию Божьею” рождает сама война, и по большей части в её критические минуты... История не забудет славных деяний Генерала Юденича и отметит их как классические примеры искусства побеждать...»
Николай Николаевич Юденич родился в Москве 18 июля 1862 года в семье коллежского советника. Его род принадлежал к малороссийскому дворянству. Военная карьера не была изначальным призванием будущего генерала: своё совершеннолетие он отметил поступлением в Межевой институт. Правда, проучившись в нём меньше года, Николай перешёл в Александровское военное училище. 8 августа 1881 года 19-летний взводный портупей-юнкер Юденич был произведён в первый офицерский чин.
По воспоминаниям товарищей, он был худощавым, светловолосым юношей, весёлым, совершенно не похожим на молчаливого Главнокомандующего Северо-Западной Армией. Строгий, размеренный и в то же время беззаботный, весёлый училищный быт, столь хорошо отражённый на страницах «Юнкеров» А. И. Куприна, окружал Николая Юденича. Отличное окончание училища гарантировало поступление в Гвардию. И молодой подпоручик вышел Лейб-Гвардии в Литовский полк, квартировавший в Варшаве. Варшавским военным округом в то время командовал герой Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов генерал И. В. Ромейко-Гурко.
Однако гвардейская «лямка» не стала для Юденича венцом карьеры. В 1884 году он успешно выдержал вступительные экзамены и стал слушателем Николаевской Академии Генерального Штаба. В Академии, как вспоминали современники, Юденич не любил тратить время на доработку одного задания, а старался побыстрее сдавать его, чтобы получить новое. От однажды принятых решений он не отказывался. Юденич был общительным офицером, никогда не чуждался компании своих товарищей.
В 1887 году он окончил Академию Генерального Штаба по первому разряду с производством в штабс-капитаны. После службы на различных штабных и строевых должностях в XIV-м армейском корпусе, в Варшавском военном округе, его в 1892 году произвели в подполковники и перевели в Туркестан. Здесь Юденич принял должность начальника Штаба Памирского отряда.
Тридцатилетний подполковник, по воспоминаниям его сослуживца Д. В. Филатьева, отличался «прямотой и даже резкостью суждений, определённостью решений, твёрдостью в отстаивании своего мнения и полным отсутствием склонности К каким-либо компромиссам». К этому уже добавилась его немногословность. «Молчание - господствующее свойство моего тогдашнего начальника», - писал о нём генерал А. В. Геруа.
Карьера развивалась успешно. Этому Юденич был обязан не каким-то протекциям или связям, а исключительно своим собственным способностям и талантам. После того как в 1896 году он был произведён в полковники, Юденич вступил (в 1902 году) в командование 18-м Восточно-Сибирским стрелковым полком. Началась Русско-Японская война, и полк отправился на фронт. Примечательно, что накануне войны Юденичу, как бывшему «туркестанцу», предложили должность дежурного генерала при Штабе Туркестанского округа. Однако он отказался от спокойной тыловой жизни, предпочитая ей фронтовые будни «на сопках Маньчжурии».
Полковник Юденич был уверен, что личный пример начальника всегда будет лучшим способом воспитания подчинённых. Это качество его характера ярко проявилось в боях Русско-Японской войны. В сражении при Сандепу, несмотря на уже начавшееся отступление русских войск, Юденич на свой страх и риск лично повёл в штыковую контратаку 5-ю стрелковую бригаду и отбросил противника. Скупой на похвалу Главнокомандующий генерал А. Н. Куропаткин специально выделил этот поступок как редкий пример смелости и инициативы среди старших командиров.
В штыковую атаку поднял свой полк Юденич и в решающем для русской армии сражении под Мукденом. Здесь также, несмотря на безнадёжность положения, он попытался прорвать фронт значительно превосходящих японских частей. Получив серьёзное ранение в грудь навылет, он был отправлен в госпиталь.
За Русско-Японскую войну Юденич был награждён Золотым оружием, а также орденами Святого Владимира III-й степени с мечами и Святого Станислава I-й степени с мечами и произведён в чин генерал-майора (1905), приняв должность командира 2-й бригады 5-й стрелковой дивизии. Однако уже на следующий год строевая служба для Юденича временно закончилась: он получает важное и ответственное назначение генерал-квартирмейстером Штаба Кавказского военного округа. С этого момента Кавказ стал для Юденича главным местом его военной карьеры.
Мирная, размеренная жизнь на Кавказе, казалось бы, не предвещала никаких потрясений. Прибывший к месту назначения боевой генерал быстро приобрёл симпатии сослуживцев. Вот как вспоминал об этом впоследствии генерал Б. П. Веселовзоров: «От него никто не слышал, как он командовал полком, так как генерал не отличался словоохотливостью; георгиевский темляк (на Золотом оружии. - В. Ц.) да пришедшие слухи о тяжком ранении красноречиво говорили, что новый генерал-квартирмейстер прошёл серьёзную боевую страду. Скоро все окружающие убедились, что этот начальник не похож на генералов, которых присылал Петербург на далёкую окраину, приезжавших подтягивать, учить свысока и смотревших на службу на Кавказе как на временное пребывание... В самый краткий срок он стал и близким, и понятным для кавказцев. Точно всегда он был с нами. Удивительно простой, в котором отсутствовал яд под названием “генералин”, снисходительный, он быстро завоевал сердца. Всегда радушный, он был широко гостеприимен. Его уютная квартира видела многочисленных сотоварищей по службе, строевое начальство и их семьи, радостно спешивших на ласковое приглашение генерала и его супруги.
Пойти к Юденичам - это не являлось отбыванием номера, а стало искренним удовольствием для всех, сердечно их полюбивших».
Так же мирно и размеренно протекала семейная жизнь четы Юденичей. Их гостеприимный дом на Барятинской улице в Тифлисе вскоре стал одной из достопримечательностей местного света. Хозяйка, Александра Николаевна Юденич (урождённая Жемчужникова), родилась в 1871 году. Несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, жили они очень дружно, а живой, энергичный характер супруги несколько уравновешивал спокойную немногословность Николая Николаевича.
Дружеские отношения, установившиеся между генерал-квартирмейстером и его сослуживцами, способствовали росту авторитета Юденича. «Работая с таким начальником, - писал Веселовзоров, — каждый был уверен, что в случае какой-либо порухи он не выдаст с головой подчинённого, защитит, а потом сам расправится как строгий, но справедливый отец-начальник... С таким генералом можно было идти безоглядно и делать дела. И война это доказала: Кавказская армия одержала громоносные[54] победы, достойные подвигов славных предков...»
Юденич никогда не стремился к мелочной опеке и начальственному «окрику». Вот как говорил об этом начальник Штаба Кавказского фронта генерал Д. П. Драценко: «Он всегда и всё спокойно выслушивал, хотя бы то было противно намеченной им программе... Никогда генерал Юденич не вмешивался в работу подчинённых начальников, никогда не критиковал их приказы, доклады, но скупо бросаемые им слова были обдуманны, полны смысла и являлись программой для тех, кто их слушал». Прямота и твёрдость в отстаивании своей позиции также были характерными чертами его личности.
За выслугу лет Юденич в 1909 году получил орден Святой Анны 1-й степени, а в 1912 году - чин генерал-лейтенанта. Тогда как большинство будущих лидеров Белого движения вступили в Великую войну в малых или средних офицерских чинах, Юденич был уже авторитетным высокопрофессиональным начальником.
Юденич учитывал и сложность национального вопроса на Кавказе. Он был одним из немногих военачальников, полностью поддержавших проект создания дружин из армянского населения. А мировая война вскоре принесла генералу заслуженную славу и известность.
* * *
20 октября 1914 года началась война России с Оттоманской Империей. Кавказская армия, сформированная на базе Кавказского военного округа, должна была принять на себя основную тяжесть боевых действий. Наместник Кавказа, генерал граф И. И. Воронцов-Дашков, стал Главнокомандующим, генерал А. 3. Мышлаевский - его помощником и фактическим командующим войсками, а начальником Штаба - генерал Н. Н. Юденич.
Турецкая армия под командованием молодого и талантливого военачальника, прошедшего школу немецкого Генерального Штаба, Энвер-паши стремилась захватить Карс и Эривань, рассчитывая впоследствии выйти к Грузии и Азербайджану. Турецкая разведка активно стремилась установить контакты с азербайджанскими и горскими сепаратистами. Перешедшие в декабре 1914 года границу турецкие дивизии быстро выдвинулись на линию Карс - Ардаган. Кавказская армия попала в сложное положение под Сарыкамышем. Воронцов-Дашков приказал генералам Мышлаевскому и Юденичу следить за ситуацией вокруг Сарыкамышского отряда. Прибыв на место, Юденич высказался против решения начальника отряда генерала Г. Э. Берхмана об отступлении к Карсу, считая необходимым действовать во фланг наступавшей турецкой группировке. Произошёл конфликт начальника Штаба с его начальником Мышлаевским, так как тот также настаивал на отступлении.
В конце концов Мышлаевский приказал отступать и выехал обратно в Тифлис, даже не поставив Юденича в известность о своём решении. Узнав об этом, последний фактически проявил самовольство. Исходя из того, что отступление в условиях окружения, отсутствия коммуникаций, суровой зимы приведёт к разгрому, Юденич решил оборонять Сарыкамыш. Приняв на себя командование Сарыкамышским отрядом, он сосредоточил все усилия на подготовке контрудара. Все 25 дней обороны генерал лично контролировал положение дел на передовой, разделяя с солдатами и офицерами тяготы окружения.
Постепенно на фронте назревал перелом. Накануне Рождества русский гарнизон мощным ударом прорвал блокаду, практически полностью разгромив при этом части 9-го турецкого корпуса. Узнав о Сарыкамышской победе, Воронцов-Дашков поддержал «самоуправство» своего начальника Штаба, представив его к чину генерала-от-инфантерии. Помимо очередного повышения Юденич был награждён орденом Святого Георгия IV-й степени назначен командующим Кавказской армией. Но главные его победы были ещё впереди.
Вскоре начались бои в Персии. И здесь Юденича ждала новая награда - орден Святого Георгия III-й степени «за разгром “правого крыла” 3-й турецкой армии в числе около 90 батальонов в Евфратской операции, закончившейся 30 июля 1915 г.».
Не обошла стороной война и семью Юденича. С первых же месяцев после отъезда мужа на фронт Александра Николаевна все силы отдавала организации особого лазарета, оборудованного в соответствии с последними достижениями хирургической науки. Она практически «с нуля» создала лечебное заведение, где тысячи раненых находили внимание и уход. Ею же была организована помощь жёнам мобилизованных солдат и офицеров. Создавались мастерские по пошиву обмундирования, изготовлению военного снаряжения. При мастерских были открыты ясли для детей работниц.
Следующим этапом полководческой карьеры Юденича стал штурм крепости Эрзерум. С началом нового, 1916 года Кавказская армия вплотную подошла к казавшейся неприступной твердыне. Стратегически взятие Эрзерума означало примерно то же самое, что и взятие Перемышля на Юго-Западном фронте: нельзя было продолжать наступление, выходить на равнины Анатолии, имея в тылу мощную крепость с многочисленным гарнизоном. Юденич, снова проявляя нестандартность оперативного мышления, решает взять крепость без длительной осады, что называется, с ходу. Однако против проведения операции выступили как Верховный Главнокомандующий, Император Николай II, так и сменивший Воронцова-Дашкова на посту Главнокомандующего Кавказским фронтом Великий Князь Николай Николаевич.
Окружённый горами, хорошо защищённый артиллерией, Эрзерум представлял собой серьёзный укреплённый район. Положение осложнялось ещё и тем, что штурм происходил зимой, в условиях обледенения немногочисленных дорог, засыпанных снегом горных перевалов. Но ничто уже не могло заставить Юденича отказаться от принятого, стратегически рассчитанного и оправданного (а в этом у него не возникало сомнений) решения. Определённую роль сыграли дошедшие до него известия о том, что после поражения десанта союзников в Галлиполийской операции освободившиеся турецкие войска начали перебрасываться на Кавказ.
Хорошую оценку этому решению Юденича дал генерал Б. А. Штейфон, участник Эрзерумской операции: «В действительности каждый смелый манёвр генерала Юденича являлся следствием глубоко продуманной и совершенно точно угаданной обстановки. И, главным образом, духовной обстановки. Риск генерала Юденича - это смелость творческой фантазии, та смелость, какая присуща только большим полководцам». Ему вторил генерал- квартирмейстер Кавказской армии генерал Е. В. Масловский: «...Генерал Юденич обладал необычайным гражданским мужеством, хладнокровием в самые тяжёлые минуты и решительностью.
Он всегда находил в себе мужество принять нужное решение, беря на себя и всю ответственность за него, как то было в Сарыкамышских боях и при штурме Эрзерума. Обладал несокрушимой волей. Решительностью победить во что бы то ни стало, волей к победе весь проникнут был генерал Юденич, и эта его воля в соединении со свойствами его ума и характера являли в нём истинные черты полководца».
Помимо чисто стратегических расчётов Юденич прекрасно чувствовал и моральную обстановку, сложившуюся в те дни на Кавказском фронте. А она была ещё весьма далека от того хаоса и развала, которые охватят полки и дивизии всего лишь через год. Не испытавшая пагубного влияния «окопного сидения» Кавказская армия готова была идти вперёд. У войск был порыв, и именно его чувствовал командующий, когда принимал решение об атаке неприступного Эрзерума.
Взяв на себя всю ответственность за последствия операции, Юденич начал штурм. В течение двадцати дней прошла перегруппировка сил. Для взятия крепости было сосредоточено две трети личного состава Кавказской армии и большая часть артиллерии. Подготовка велась в обстановке повышенной секретности. 29 января 1916 года после мощной артиллерийской подготовки, ночью, в сильную метель и мороз штурмовые отряды пошли на приступ. Юденич приказал вести атаку круглые сутки, без перерыва. Сам он с небольшим конвоем и штабными офицерами разместился прямо на передовой. Несмотря на значительные потери штурмовавших, отчаянное сопротивление турецкого гарнизона было сломлено, и уже к утру 3 февраля Эрзерум выкинул белый флаг.
Великий Князь Николай Николаевич, поздравляя войска с победой, снял перед строем папаху и, повернувшись к Юденичу, низко поклонился ему, после чего провозгласил, обратившись к войскам: «Герою Эрзерума, генералу Юденичу ура». За эту беспримерную в истории русского военного искусства Великой войны операцию Юденич был награждён орденом Святого Георгия II-й степени (один из редких случаев в последние десятилетия Российской Империи).
Развивая успех Эрзерумской операции, Кавказская армия во взаимодействии с кораблями Черноморского флота овладела Трапезундом - крупным морским портом на черноморском побережье Турции. После поражения турецкой армии в Эрзинджанской операции и в Огнотском сражении русские войска освободили всю Армению и были готовы продолжать наступление в Анатолию и Персию. За время боев на Кавказском фронте в 1914-1916 годах войска под командованием Юденича не проиграли ни одного сражения и заняли территорию, по площади превышавшую современные Грузию, Армению и Азербайджан вместе взятые. Подводя итог «Кавказскому периоду» боевой карьеры Юденича, генерал Масловский отмечал:
«...Армия малочисленная, всегда численно слабейшая противника, армия с ничтожными техническими средствами и имевшая перед собой противника с превосходными боевыми качества ми, непрерывно одерживает победы над врагом. Что за причина этого неизменного успеха её в течение всей войны, пока яд революции не развалил могучую Русскую армию?
Тот, кто внимательно будет исследовать последнюю русско-турецкую войну, подметит, что все операции Кавказской армии, руководимой генералом Юденичем, всегда покоились на основных принципах военного искусства, на принципах вечных и неизменных во все времена и эпохи, — принципах, особенно исповедованных всеми великими полководцами.
Этот же исследователь отметит то громадное значение, которое придавалось на Кавказе духовному элементу в бою. И во всех операциях Кавказской армии всегда используется эта сторона боевой деятельности.
Вот почему всегда сражение начинается поражением воображения противника неожиданностью удара, и всегда длительным напряжением до предела сил бойцов в чрезвычайно упорных и непрерывных атаках создавалось нарастание впечатления, которое потрясало противника, и он сдавал...
Весь проникнутый активностью, только в проявлении крайней степени её видя решение, генерал Юденич признает лучшим способом ведения войны - наступление, а выгоднейшим средством последнего - манёвр. И этот взгляд свой он и проводит с начала до конца войны. В соответствии с духом активности генерал Юденич обладал необычайным гражданским мужеством, хладнокровием в самые тяжёлые минуты и решительностью».
Но ход истории свёл на нет все военные усилия, все победы русского оружия в Великой войне. Отзвуки событий Февраля 1917 года, «демократизации армии» докатились и до Кавказа. 5 марта 1917 года Юденич получил высшую должность в своей карьере, став Главнокомандующим Кавказским фронтом (как говорили фронтовые острословы, одного Николая Николаевича сменил другой). Однако ему не удалось остановить начавшееся падение дисциплины, деморализацию воинских частей. Учитывая всё это, а также отсутствие активности со стороны противника, Юденич отказался от наступательных операций, и фронт перешёл к обороне. Это решение стоило ему слишком дорого, ведь он «игнорировал требования момента» и ничего не предпринимал для «решительного наступления революционной армии». Пробыв Главнокомандующим лишь два месяца, Юденич был отстранён от должности и вызван в Петроград. Получив здесь задание «ознакомиться с настроениями» в казачьих областях, Юденич выехал в Москву, а затем в Могилёв.
Полностью выполнить порученное задание Юденич не смог, да, очевидно, и не очень стремился. В августе 1917 года фоторепортаж фиксирует его участие в работе Государственного Совещания в Москве. Именно к этому времени и можно отнести начало участия Юденича в российской политической борьбе. Его поддержка выступления генерала Л. Г. Корнилова означала, что симпатии Юденича были полностью на стороне тех, кто считает возможным восстановление русской государственности и армии только путём жёстких мер военной диктатуры.
Снова в Петрограде Юденич оказался уже после большевицкого переворота Октября 1917 года. Сразу же перейдя на нелегальное положение, генерал всё своё время стал отдавать деятельности подпольной офицерской организации, благо сохранившиеся связи в Гвардейской среде и Штабе Петроградского военного округа к этому располагали. Но, несмотря на все усилия, предпринять выступление против большевиков в Петрограде не удалось, и в конце ноября 1918 года Юденич с женой, в сопровождении двух офицеров, по фальшивым документам переезжают в Финляндию. Здесь ему предстояло вплотную заняться подготовкой базы для возможного наступления на «красный Петроград» с помощью бывших союзников России по Великой войне.
* * *
Установленные Юденичем контакты с антибольшевицким подпольем не пропали даром. Они стали одной из основ для создания в последующем организации петроградского «Национального Центра». Следует иметь в виду, что при малой изученности Белого движения на Северо-Западе вообще, деятельность антисоветских подпольных центров в Петрограде известна ещё меньше, до сих пор оставаясь одним из многих «белых пятен» в истории Гражданской войны в России.
Создание антибольшевицких организаций на Северо-Западе Юденич вёл при тесном контакте с разведкой Великобритании и финским Генеральным Штабом. Делались попытки установить более тесные контакты и с правительством Швеции, для чего генерал выезжал в Стокгольм. Активно помогал Юденичу посол России в Стокгольме К. Г. Гулькевич.
В Териоках на основе бывшей военно-морской базы Балтийского флота действовала группа офицеров, отправлявших добровольцев на Мурман и занимавшихся сбором информации о состоянии Балтийского флота. Эта группа являлась, по существу, единственной относительно активной структурой, которую можно было бы использовать в борьбе с большевиками. С ней же поддерживал тесные контакты бывший председатель совета министров Российской Империи А. Ф. Трепов. За исключением отправки офицеров из Петрограда на Мурман, реальной антисоветской работы в Финляндии не велось.
Пользуясь нейтральным отношением политического руководства Финляндии к формированию русских частей на территории страны, к началу 1919 года из местных крестьян-карелов под руководством русских офицеров удалось собрать отряды, действовавшие на Карельском перешейке впоследствии, во время осеннего наступления на Петроград. Эти отряды сражались под знаменем «Свободной Ингерманландии», надеясь на получение независимости в случае победы Белой Армии. Но и они оказались слишком малочисленными для того, чтобы занять сколько-нибудь серьёзное место в антисоветском фронте на Северо-Западе.
Нужны были более крупные, хорошо вооружённые, обученные формирования. Нужны были серьёзные политические структуры, организации, способные осуществить руководство сопротивлением большевизму. Наконец, нужен был авторитетный лидер, человек, который устроил бы всех - и союзников, и политических деятелей и, особенно, военных. В сложившейся ситуации кандидатура Юденича представлялась наиболее перспективной. Пятидесятивосьмилетний генерал-от-инфантерии, про которого говорили: «генерал, который никогда не знал ни одного поражения», немногословный и надёжный, он, как тогда казалось, мог сплотить вокруг себя все силы антибольшевицкого движения на Северо-Западе России. Правда, многие «политические деятели» оценивали своего «лидера» довольно иронично. Достаточно привести слова одного из видных масонов, члена ложи «Великий Восток Франции», петроградского присяжного поверенного М. С. Маргулиеса, позднее ставшего министром снабжения и народного здравия в составе Северо-Западного Правительства: «...Юденич предпочитал жить в комфортабельной гостинице то в Гельсингфорсе, то в Ревеле, и по целым дням читал вслух романы своей супруге - самые обыкновенные французские романы в традиционной жёлтой обложке...»
Вскоре стали формироваться первые политические структуры Белого Северо-Запада. В январе 1919 года в Гельсингфорсе был создан Русский Политический Комитет под председательством члена конституционно-демократической партии, бывшего министра исповеданий в составе Временного Правительства, а впоследствии, в эмиграции, - известного историка Русской Церкви, профессора А. В. Карташева. Финансовую сторону деятельности Комитета взял на себя «русский Рокфеллер», нефтепромышленник С. Г. Лианозов. Ему удалось получить в финских банках около 2 миллионов марок, составивших начальный капитал будущей Северо-Западной власти. Миллионер Ю. Гессен предпринимал попытки получить аналогичный кредит в Лондоне. При содействии X. Лича, совладельца петербургской посреднической фирмы «Лич и Файербрэйс», предполагалось учредить англо-русский банк, который монополизировал бы валютные операции. Лич организовал также встречу Гессена с дядей английского Короля принцем Баттенбергским, который обещал передать ходатайство Юденича о поддержке своему Августейшему племяннику.
Карташев взял на себя всю политическую работу, создавая власть даже без необходимой для этого территории. В своих письмах Верховному Правителю России адмиралу А. В. Колчаку и министру иностранных дел С. Д. Сазонову Карташев всячески подчёркивал важность поддержки авторитета генерала Юденича как представителя общероссийской власти в регионе, в частности, настаивая на необходимости оказать Политическому Комитету финансовую помощь (эквивалентную 300 000 фунтов стерлингов) из российского золотого запаса. 21 января 1919 года телеграмму с аналогичными просьбами направил Колчаку и сам Юденич. Деньги предполагалось получить путём перевода их на счета английских банков, как посредников, с целью последующего финансирования создаваемой армии; но средства так и не дошли до войск, застряв в паутине банковских структур Лондона и Стокгольма.
Телеграмма, в копии посланная также генералу А. И. Деникину, давала характеристику той «военно-политической базы», на которой предполагалось построить Северо-Западный фронт. В этой телеграмме Юденич предстаёт не только как военный руководитель, но и как политический лидер со вполне определённой позицией: «...С падением Германии открылась возможность образования нового фронта для действия против большевиков, базируясь на Финляндию и Прибалтийские губернии... Около меня объединились все партии от кадет[ов] и правее. Программа тождественна с Вашей. Представители торгового класса, находящиеся в Финляндии, обещали финансовую поддержку. Реальная сила, которою я располагаю в настоящее время - Северный корпус (3 тысячи)[55] и 3-4 тысячи офицеров, находящихся в Финляндии и Скандинавии... Я рассчитываю также на некоторое число - до 30 тысяч - военнопленных офицеров и солдат... Без помощи Антанты обойтись нельзя, и в этом смысле я вёл переговоры с союзниками, но положительного ответа ещё не имеется. Необходимо воздействие союзников на Финляндию, дабы она не препятствовала нашим начинаниям и вновь открыла границу для русский беженцев, главным образом офицеров. То же в отношении Эстонии и Латвии... Необходима помощь... вооружением, снаряжением, техническими средствами, финансами и продовольствием не только на армию, но и на Петроград... Вооружённая сила не требуется - достаточно флота для обеспечения портов. Но если таковая будет, то это упростит и ускорит решение. Благоволите поддержать моё ходатайство перед Антантой...»
Отправляя копию этой телеграммы Деникину, Юденич писал: «...Я обращаюсь к Вам с просьбой - помогите мне. Не можете уделить из имеющихся у Вас средств - я знаю, до последнего времени Вы сами во всём нуждались, - убедите наших представителей в Париже, убедите союзников, сообщите - я отойду в сторону, передав дело другому, но не губите самое дело».
В этих последних словах, очевидно, и можно найти ответ на вопрос - почему Юденич согласился взять на себя руководство Белым движением на Северо-Западе России. Не карьерные, не честолюбивые замыслы влекли его. Главная цель - «самое дело», как он его понимал. «Дело», у истоков которого он стоял, «дело» организации сопротивления Советской власти. Успех «дела» сомнительный, шансов на победу мало. Но отступить, бросить начатое - не в характере Юденича. Пусть хотя бы один шанс из сотни - всё равно стоит продолжать борьбу, борьбу, ставшую теперь смыслом жизни не только для него, но и для тысяч тех, кто связал свою судьбу с Белым движением. И ради этого шанса можно и должно сделать всё возможное.
Следующим шагом в организации Белой власти стали создание при Русском Политическом Комитете особого телеграфного агентства «для информации заграничной печати», начавшийся выпуск газеты «Русская жизнь», издание двух бюллетеней «Голос Всероссийской власти», где были опубликованы программные документы Всероссийского Правительства адмирала Колчака. И здесь цель была очевидной - добиться дипломатического признания со стороны союзников (говорилось даже о возможности признания Комитета Англией и Францией de jure) и получить столь необходимую для продолжения Белой борьбы помощь деньгами и военным снаряжением.
Сам Николай Николаевич во многом разделял оптимизм политиков. Учитывая то, что большая часть красных сил действовала на Восточном и Южном фронтах и их переброска потребовала бы значительного времени и средств, Юденич считал, что наступление на Петроград силами небольшой, хотя бы 50-тысячной армии может привести к крупному успеху.
Юденичем совместно с Треповым ещё в декабре 1918 года был составлен проект об организации Белой армии на Северо-Западе. Содействие союзников при этом должно было выразиться в политической и материальной форме. Основные положения этого проекта были перечислены генералом М. Е. Леонтьевым в его выступлении на парижском собрании в августе 1931 года: «1) В области политической помощь союзников требовалась в создании благоприятного идее белой борьбы настроения среди граничащих с советской Россией новообразований - Финляндии и Эстонии; в соответствующем на них давлении для получения их согласия предоставить их территорию как плацдармы для организации и развёртывания вооружённых сил; и наконец, в привлечении этих стран к активному участию в начинающейся борьбе. 2) В материальном отношении помощь союзников должна была вылиться в предоставлении создаваемой армии необходимых вооружения, снаряжения и обмундирования, соответствующего тоннажа коммерческих судов для подвоза всего необходимого для армии и в содействии английского флота, находившегося в Финском заливе, по обеспечению действий армии с моря...»
Серьёзные проблемы возникали и при формировании армии. Дело в том, что к моменту, когда Юденич стал фактически лидером Белого движения на Северо-Западе, против большевиков на территории Эстонии и Латвии уже действовали части Северного корпуса (о них Николай Николаевич упоминал в процитированной выше телеграмме). Части были немногочисленные, весьма пёстрые по своему составу. В оперативном отношении они подчинялись Главнокомандующему армией Эстонской Республики, генералу И. Я. Лайдонеру. Действовали же они под началом своих признанных командиров (нередко в очень малых чинах), скептически относившихся к перспективе единого руководства и подчинения.
Мобилизационные возможности Северного корпуса исчерпывались приграничными с Эстонией губерниями и контингентами бывших военнопленных Российской Армии, возвращающихся из Германии. Как следует из цитированного доклада генерала Леонтьева, Юденич предполагал опереться при формировании армии на следующие источники: «1) Русские отряды полковника Дзерожинского, уже сражавшиеся с большевиками в Эстонии в так называемом отдельном корпусе Северной армии, численностью до 2 500 штыков и сабель. 2) Русские части, формировавшиеся в Латвии Светлейшим Князем Ливеном (их, а также отряды полковника П. Р. Бермондт-Авалова, до конца 1918 года активно поддерживало немецкое оккупационное командование. - В. Ц.). 3) Русское население Финляндии, численностью до 15 тысяч, среди которых было до 3 тысяч офицеров. 4) Русское население освобождаемых по мере наступления армии местностей. Это главным образом расчёт на использование мобилизационных возможностей Санкт-Петербургской и Псковской губерний. 5) Русских военнопленных в Германии. От этого последнего источника пришлось совершенно отказаться, когда выяснилось, что наши военнопленные оказались в большей части распропагандированными...»
И тем не менее с начала 1919 года началась активная вербовка офицеров-добровольцев, их обучение, снаряжение в специально создаваемых лагерях в Швеции. Оттуда через Стокгольм они переправлялись в Гельсингфорс и Ревель.
Развивать наступление на Петроград предполагалось возможным с двух направлений. Либо со стороны Финляндии, по Карельскому перешейку, либо со стороны Эстонии, через Псков и Ямбург. В первые месяцы 1919 года из этих двух оперативных линий Юденич явное предпочтение отдавал «финляндскому варианту». Расчёт строился в первую очередь на краткости расстояния от финской границы до Петрограда. Восточная Карелия, в чём убеждали донесения финской разведки, была настроена антибольшевицки, и поэтому можно было бы надеяться на быстрое пополнение армии местными крестьянами. Кроме того, Юденич отмечал возможность тесного взаимодействия с частями Северного фронта, руководимыми генералом Миллером, которые базировались на Архангельск и Мурманск, и с так называемой Олонецкой Армией из финских добровольцев, действовавшей в направлении на Петрозаводск. В случае успеха можно было бы рассчитывать на создание единого антибольшевицкого фронта на Севере России.
Примерно в это же время на Белом Юге северо-западное направление также рассматривалось в качестве одного из наиболее важных. Так, бывший лидер партии «октябристов» и военный и морской министр Временного Правительства, уполномоченный представитель Красного Креста А. И. Гучков в письме к генералу Деникину от 17 января 1919 года отмечал, что прибалтийские республики могли бы стать опорным районом против красного Петрограда. И хотя данный театр военных действий имел и свои недостатки - «большая дальность пунктов формирования и сосредоточения от основного объекта всех операций - Петрограда», замерзание Ревельского порта на период навигации, - эта база должна была быть использована, так как она, «во-первых, угрозой Петрограду в этом направлении отвлечёт на себя часть советских сил и облегчит операцию со стороны Финляндии, и, во-вторых, даст возможность предпринять наступление на Псков - Бологое, угрожая отрезать Петроград. Это последнее направление представляет ещё и ту выгоду, что армия на первых же шагах окажется среди великорусского населения таких губерний, которые и в своих крестьянских массах, и даже в своём городском населении окончательно переболели большевизмом и только и ждут избавителей, которые помогли бы им сбросить с себя большевистский гнёт...»
Подготовка Белой базы на Северо-Западе интенсивно проходила в течение января - апреля 1919 года. Однако вскоре, несмотря на всю активность как Политического Комитета, так и самого Юденича, стало ясно, что жить лишь надеждами на то, что в ближайшем будущем начнётся полномасштабное наступление на Петроград, уже бесперспективно. Полученная поддержка (пока, правда, не более чем декларативная) Англии, наметившиеся перспективы (пока, правда, весьма неопределённые) вступления в войну на стороне Белого движения Финляндии, Эстонии и Латвии (последних - после неудачных попыток их оккупации Красной Армией в начале 1919 года), наконец, очевидные успехи Белых армий на Юге и Востоке России - всё это вместе взятое давало хоть и небольшой, но все- таки шанс для начала успешных действий и на Северо-Западе.
В такой ситуации, не дожидаясь развёртывания сил ингерманландских отрядов на Карельском перешейке, Юденич принял решение открыть военные действия наличными силами Северного корпуса полковника Дзерожинского в Эстонии, насчитывавшего к началу первого наступления на Петроград немногим более 5 000 бойцов, главным образом добровольцев и бывших красноармейцев, 18 орудий и 74 пулемёта.
* * *
Конечно, надеяться на победу с такими ничтожными силами было невозможно. Тем не менее большинство в военном и политическом руководстве белых было уверено, что это наступление, во-первых, подтолкнёт англичан к оказанию более существенной помощи; во-вторых, отвлечёт на себя часть сил Красной Армии и тем самым ослабит её сопротивление наступавшей Армии адмирала Колчака; в-третьих, позволит создать плацдарм на территории собственно российских губерний (Псковской и Санкт-Петербургской) и увеличит ряды армии за счёт местных добровольцев и мобилизованных.
Первоначальное наступление Северного корпуса оказалось, вопреки ожиданиям, довольно удачным: быстрым ударом белые прорвали фронт большевиков под Нарвой, а движением в обход Ямбурга принудили красные полки к беспорядочному отступлению. 15 мая, после бомбардировки с кораблей эстонской Чудской флотилии, был освобождён Гдов, первый крупный город на пути к Петрограду. 17 мая пал Ямбург, узловой пункт на пути наступления корпуса. Тем временем подразделения эстонской армии (2-я дивизия), содействуя успеху Северного корпуса, продвинулись вперёд и 25 мая заняли Псков; вместе с ними в город вошли части отряда полковника С. Н. Булак-Балаховича. С 1 июня корпус возглавил генерал А. П. Родзянко (родственник последнего председателя Государственной Думы), скоро получивший известность как один из общепризнанных лидеров Белой борьбы на Северо-Западе. Он фактически и руководил всеми операциями Северного корпуса (Отдельного корпуса Северной Армии), переименованного с 19 июня в Северную, а с 1 июля в Северо-Западную Армию.
В ночь на 13 июня началось антисоветское восстание на форту «Красная Горка», защищавшем подступы к Петрограду. Восставшие заняли штаб, телеграф и телефонную станцию, помещение ЧК, арестовали комиссаров и красных командиров. Морякам Кронштадта и корабельным командам Балтийского флота были посланы обращения-призывы присоединяться к восстанию. Вскоре Красную Горку поддержали соседние форты «Серая Лошадь» и «Обручев».
Восстания на балтийских фортах были заранее подготовлены, о чём имелись сведения и в контрразведке Северного корпуса. Однако практически ничего не предпринималось для того, чтобы поддержать восставших. А ведь в случае удачи можно было бы гораздо успешнее наступать на Петроград. В результате, хотя выступление на фортах началось в момент, когда белые части оказались в непосредственной близости к ним, повстанцы не смогли скоординировать свои действия с корпусом генерала Родзянко. По воспоминаниям коменданта Красной Горки Н. Неклюдова, командование Восточно-Ингерманландского полка, к которому были направлены связные, пассивно реагировало на призывы к проведению совместной операции, а донесения восставших в Штаб Северного корпуса отправлялись с большим опозданием.
16 июня 1919 года восстание на Красной Горке было подавлено. К 20 июня к петроградским большевикам прибыла большая часть воинских пополнений, направленных из центра страны и с Восточного фронта, а 21 июня 7-я армия красных при поддержке кораблей Балтийского флота начала контрнаступление.
И тем не менее первоначальная цель операции была достигнута - Северный корпус создал столь необходимый для последующих наступательных действий плацдарм, имевший 200 вёрст по фронту и 75 вёрст в глубину. Опираясь на треугольник Гдов - Ямбург - Псков, командование корпуса, как и политическое руководство Белого Северо-Запада, считало, что этого не только вполне достаточно для того, чтобы развивать наступательные действия на Петроград, Новгород, но и для побуждения к полномасштабной поддержке Антанты, новообразованных прибалтийских республик и Финляндии.
30 июня Карташев в письме к московским представителям «Национального Центра» сообщал: «Твёрдо уверены во взятии Петрограда не позднее конца августа». Его помощник Г. И. Новицкий отмечал, что и этот срок может сократиться в случае помощи деньгами, оружием, снаряжением. «Весьма вероятно, - продолжал он, - что в ближайшие дни Юденич, с которым мы в полном единении, и все мы перейдём на русскую почву, на тот берег (то есть начнём работать в «освобождённом от большевиков Петрограде». — В. Ц.), чтобы включиться в непосредственную работу».
Такой оптимизм в тот момент показался англичанам вполне объективным, и принципиальное решение о военной помощи было принято. К Юденичу отправилась особая миссия генерала Гофа для выяснения вопроса о нуждах армии и правительства.
По существу с этого момента Северо-Западная Армия стала уже не просто одним из звеньев общего противобольшевицкого фронта, но и элементом международной политики, со всеми вытекающими отсюда последствиями. С одной стороны, помощь союзников существенно возросла, но с другой - любой неуспех мог бы расцениваться представителями Антанты как полный провал всего Белого движения в регионе. «Ваша задача, - писал А. В. Карташев П. Б. Струве, переехавшему по заданию «Национального Центра» из Лондона в Париж, - поддержать всеми средствами (признаний авторитета, дипломатических сношений и всякого рода материальной и государственной помощи) именно нашу лояльную, ортодоксальную комбинацию Юденича, Карташева и Ко».
В предвкушении скорого овладения Петроградом в политических «сферах» Белого Северо-Запада всё чаще стали раздаваться заявления о «неправомерности переноса» большевиками российской столицы в «красную Москву». «Петроград для большинства из нас по-прежнему был символом единого российского государства», - писал Карташев.
Продолжались перемены в правительственных структурах. В мае Политический Центр преобразовался в Политическое Совещание. «Первейшая задача Политического совещания, - отмечал Карташев, — это быть представительным органом, берущим на себя государственную ответственность в необходимых переговорах с Финляндией, Эстонией и прочими новоявленными малыми державами. Без таких ответственных переговоров и договоров невозможна никакая кооперация наша с ними против большевиков». Следующей задачей Политического Совещания признавалось выполнение функций «зачаточного временного правительства для Северо-Западной области». «Пришлось ограничиться, - писал Карташев, - подбором минимального количества лиц, не могущих вызвать против себя возражений и в русской среде, и в Париже, и у Антанты. Таким образом в Совещании оказались: Юденич - как председатель Совещания, я (Карташев) - заместитель председателя (иностранные дела), Кузьмин-Караваев (юстиция и агитация), генерал Кондырев - начальник штаба Юденича, генерал Суворов (работавший в Петрограде с Национальным Центром и стоящий на его платформе) - военные дела, внутренние дела и пути сообщения; Лианозов (промышленник-нефтяник, юрист по образованию, человек прогрессивный) - торгово-промышленность, труд и финансы... Так готовимся к событиям».
Тем временем не дремало и антибольшевицкое подполье в самом Петрограде. Политическое Совещание и сам Юденич через курьеров постоянно поддерживали тесные контакты с Петроградским отделением «Всероссийского Национального Центра». Эту организацию возглавлял инженер В. И. Штейнингер, бывший совладелец патентной конторы «Фосс и Штейнингер», председатель Петроградского комитета Биржи труда, гласный Петроградской городской думы.
Петроградский отдел «Национального Центра» пытался контролировать не только Северо-Запад, но и Север России. Наиболее перспективными в этом отношении стали действия Петроградского отдела «Союза Возрождения России» (руководители - меньшевик В. Н. Розанов и член ЦК партии народных социалистов В. И. Игнатьев). Именно при «Союзе» с первых же месяцев после большевицкого переворота создавалась военная организация под руководством генерала М. Н. Суворова и полковника Постникова. Благодаря ей в 1918 году в Мурманск было отправлено около тысячи офицеров и добровольцев. Сбором информации о положении в Петрограде и переброской на Северный фронт занималось также особое разведывательное бюро, образованное по инициативе представителей союзного командования - французского капитана Ватье и английских полковника Войса и капитана Ватсона. С бюро активно сотрудничал известный русский контрразведчик В. Г. Орлов (бывший следователь по особо важным делам при Штабе Западного фронта), под чужим именем работавший в то время в Петроградской ЧК. Противников Советской власти объединял в своих рядах и «Комитет петроградских антибольшевицких организаций» под руководством А. Ф. Трепова и Н. Е. Маркова 2-го, и «организация генерала А. В. Шварца» (позднее переехавшего на Юг России), которая имела поддержку среди офицеров-«военспецов» Штаба советской 7-й армии. В повседневной работе можно было рассчитывать на существовавшие ещё с осени 1917 года подпольные офицерские ячейки в бывших Гвардейских частях.
В марте 1919 года «Национальный Центр» активизировал работу. «Мы взялись за объединение всех военно-технических и других подобных организаций под своим руководством... - доносил Штейнингер в Штаб Юденича, - и эта работа продвинулась уже далеко... Идёт ответственная работа по организации исполнительных органов и набору технически опытных сил в области продовольствия и милиции». Таким образом петроградское подполье всё больше заявляло о себе как о факторе, с которым необходимо считаться и который вполне в состоянии взять на себя функции управления экономикой не только Петрограда, но и всего региона.
Продолжались и контакты с британский разведкой, в частности с её агентом Полем Дюксом. Аппарат белой разведки и контрразведки стремился использовать в своей работе подпольные антибольшевицкие организации как в самом Петрограде, так и в красноармейских частях на фронте и в ближайшем тылу. «Национальный Центр» сообщал из Петрограда: «Город отдадут легко, войска сражаться не будут по всему фронту... Сопротивления почти не будет». Своеобразным подтверждением этого стал переход на сторону белых нескольких воинских частей 7-й армии, среди них бывшего Гвардейского Семёновского полка («полка Городской охраны Петрограда»). Ещё осенью 1918 года существовавшая при нём конспиративная офицерская организация капитана В. А. Зайцова установила контакты с английской контрразведкой через командированных в Финляндию офицеров (штабс-капитана Рыльке и поручика Гилынера). Позднее контакты приняла на себя контрразведка Северного корпуса. В конце мая 1919 года план перехода был окончательно подготовлен, и 27 мая полк почти в полном составе перешёл на сторону белых, открыв тем самым фронт на одном из наиболее опасных его участков.
«Пролетарский гнев» требовал сурового наказания виновников поражения весной 1919 года. Из Москвы на имя Г. Е. Апфельбаума (известного в исторической литературе под фамилией Зиновьев) приходили грозные телеграммы с требованиями «навести порядок» в Петрограде. И «надлежащие меры» не заставили себя ждать. Вскоре Петроградская ЧК начала массовые аресты среди служащих различных военных и гражданских учреждений города. По донесениям контрразведывательной части Штаба Северного корпуса, аресты, проведённые чекистами весной и летом, нарушили регулярную связь с Петроградом и сильно поразили агентурную сеть. Чекисты не очень утруждали себя поиском доказательств для того, чтобы «выйти на след» Белого подполья. Был использован традиционный и по существу беспроигрышный способ борьбы с «врагами народа» - метод повальных, повсеместных обысков и арестов, при которых в «сети» ЧК попадали все - и виновные, и безвинные.
Блюстители «пролетарской бдительности» особенно постарались, устроив «Варфоломеевскую ночь для контрреволюции». С 12 на 13 июня с 10 часов вечера до 7 часов утра в Петрограде и его окрестностях были произведены тотальные обыски в частных домах, квартирах, учреждениях. В обысках под руководством чекистов участвовало около 20 тысяч рабочих, красноармейцев и матросов. В итоге, если верить официальной статистике, было найдено и изъято 5 пулемётов, 6 тысяч винтовок, 644 револьвера, пироксилиновые шашки, различное военное снаряжение и др. Вскоре был арестован и расстрелян руководитель «Национального Центра» Штейнингер.
Для петроградской интеллигенции, представителей «бывших», наступили чёрные дни. Родственники и знакомые арестованных обращались во все официальные инстанции, к Н. И. Бухарину, А. В. Луначарскому, М. Горькому. Но ничего не помогало. Ведь «борьба с контрреволюционной гидрой» велась под личным контролем Зиновьева, отнюдь не склонного к проявлениям «слабости» и категорически убеждённого, что «церемониться не надо» и что «вся эта сволочь не стоит даже хорошей пули». Да и сам «вождь мирового пролетариата» писал, что «...нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей кадетской и околокадетской публики. Она способна, вся (!!!), помогать заговорщикам. Преступно не арестовывать её ».
* * *
Продолжало меняться и положение на фронте. В середине июля части 7-й армии красных возобновили наступление на Ямбургском направлении. В ходе тяжёлых боев им удалось оттеснить поредевшие части Северо-Западной Армии за реку Лугу. А в конце августа, после отхода 2-й эстонской дивизии с позиций в районе Пскова, перешедшие в наступление большевики овладели городом и закрепились в нём. Таким образом плацдарм для возможного наступления на Петроград уменьшился почти в два раза и представлял собой лишь небольшой район Петроградской губернии, упиравшийся в Нарву и Чудское озеро.
Северо-Западникам пришлось менять тактику борьбы. Англичане потребовали замены принципа «военной диктатуры», проводимого Юденичем, «демократическим» правительством. Одна из основных задач, которую должна была выполнить новая «власть», - признание Белым движением независимости Эстонии, поскольку политическая ситуация в регионе стала меняться чрезвычайно быстро.
11 августа 1919 года большинство членов Политического Совещания при Юдениче (сам он в это время находился на фронте) были неожиданно вызваны через английское консульство из Гельсингфорса в Ревель. В числе приглашённых оказались члены конституционно-демократической партии, представители «Национального Центра», «Союза Возрождения России», местной общественности: А. В. Карташев, С. Г. Лианозов, М. Н. Суворов, В. Д. Кузьмин-Караваев, М. С. Маргулиес, Н. Н. Иванов, К. А. Крузенштерн, К. А. Александров, В. Л. Горн и М. М. Филиппео. Один из них (Маргулиес) оставил описание процесса «формирования правительства». Английский бригадный генерал Ф. Марч обратился к собравшимся с короткой речью на русском языке: «Положение северо-западной армии катастрофическое. Без совместных действий с эстонцами продолжать операцию на Петроград невозможно. Эстонцы требуют для совместных действий предварительного признания независимости Эстонии. Русские сами ни на чём между собой сговориться не могут. Русские только говорят и спорят. Довольно слов, нужно дело! Я Вас пригласил и вижу перед собой самых выдающихся русских людей, собранных без различия партий и политических воззрений. Союзники считают необходимым создать правительство Северо-Западной области России, не выходя из этой комнаты. Теперь 6 с четвертью часов; я вам даю время до 7 часов, так как в 7 часов приедут представители эстонского правительства для переговоров с тем правительством, которое вы выберете. Если правительство не будет к 7 часам образовано, то всякая помощь со стороны союзников будет сейчас же прекращена. Мы вас будем бросать...»
Итак, правительству предстояло заключить договор с Эстонией на основе признания её независимости взамен получения военной помощи Северо-Западной Армии. Казалось бы - стоит ли заключать договор с представителями Белого движения, если его победа ещё весьма проблематична? Но подобное внимание к этому со стороны иностранных государств — лишнее подтверждение того, что вера в успех Белых армий к осени 1919 года была действительно очень велика. И хотя на улицах Москвы и Петрограда ещё не развевались русские трёхцветные флаги, существовала убеждённость в том, что время это недалеко, а поэтому Эстонии и другим «новообразованиям» стоит заранее «подстраховаться», заручившись гарантиями собственной независимости.
Образованное таким необычным путём Северо-Западное правительство по своему составу можно было с полным основанием назвать коалиционным. Премьер-министром стал Лианозов, военным министром - Юденич. В состав вошли также два правых эсера и двое социал-демократов меньшевиков. Конституционно-демократический, правоцентристский вектор политической программы уходил в прошлое. Оказавшийся совершенно неожиданно для себя в «отставке», оскорблённый Карташев заявил, что «устраивать власть на основах партийной коалиции в период анархии и революции - это государственное преступление». Военный человек, сторонник жёстких мер в политике, Юденич также скептически оценивал перспективы правительства. Он соглашался с мнением, что «лианозовский кабинет» воскрешает времена «недоброй памяти политической коалиции, сгубившей Временное правительство». Карташев отмечал «два первородных греха» лианозовского кабинета — «подписание акта об абсолютной независимости Эстонии» и «обязательство собрать в Петербурге какую-нибудь учредилку». Именно он считается автором заявления: «Северо-западное правительство должно умереть у ворот Петрограда». Безусловно, эта позиция, а Карташева поддерживало и подавляющее большинство военных, имела все перспективы стать реальностью по мере приближения к «севернойстолице».
Сразу же после «создания» Правительства было утверждено заранее подготовленное решение о признании - «в интересах нашей родины» - «абсолютной независимости Эстонии». И хотя Лианозов пытался доказать Марчу, что договор необходимо согласовать с Юденичем, английский генерал безапелляционно заявлял, что в этом случае у них всегда найдётся новый Главнокомандующий. Расчёт делался либо на Родзянко, либо на Булак-Балаховича. И хотя Юденич по-прежнему продолжал считаться Главнокомандующим, подчиняясь непосредственно Колчаку как Верховному Правителю России, его статус диктатора был существенно ограничен.
Но зато теперь, как считалось, отпали последние препятствия для организации широкой союзнической помощи Северо-Западу. Эстонии взамен за признание следовало «оказать немедленную поддержку русской Северо-западной области вооружённою силою, чтобы освободить Петроградскую, Псковскую и Новгородскую губернии от большевицкого ига». Две эстонских дивизии должны были прикрывать фланги Северо-Западной Армии со стороны Нарвы и Пскова. А 7 августа в Ревельском порту были разгружены первые транспорты, доставившие долгожданные танки, бронеавтомобили, скорострельные и тяжёлые орудия, 10 000 винтовок. В начале сентября было привезено ещё 39 000 снарядов, 20 миллионов патронов, 20 000 шинелей, 48 000 пар сапог, 100 000 пар американской обуви. Правда, вместо винтовок и патронов в ящиках иногда находили... теннисные ракетки и шары для гольфа, подписанные как «подарок от английских докеров», проявлявших таким образом «солидарность» с «борющимся за свою свободу российским пролетариатом ».
Крайне остро стоял вопрос с обмундированием. Интересный факт: 5-я («Ливенская») дивизия Северо-Западной Армии выделялась среди других новыми, добротными... немецкими мундирами (основой для неё послужил Русский добровольческий отряд светлейшего князя А. П. Ливена, сформированный в дни эвакуации германских оккупантов из Прибалтики, доблестно сражавшийся под Ригой в мае и прибывший на Нарвский фронт в июле 1919 года). Получалось, что вчерашние враги помогали русским белым лучше, чем вчерашние союзники. Снабжение армии велось, по существу, за счёт средств, отбитых у большевиков. Денежное довольствие получалось от эстонского правительства, и, чтобы хоть как- то улучшить положение солдат и офицеров, интендантству приходилось заниматься перепродажей американской муки, предназначенной для «населения западной России».
Правда, к началу осени части на фронте всё-таки получили новое английское снаряжение и по праву гордились им перед военнопленными красноармейцами. Получили и продовольственные наборы, и медицинские комплекты. Многие подразделения, особенно бронетанковые отряды, артиллерийские батареи, инженерные части, были вооружены и снаряжены по нормам английской армии.
Что же касается непосредственной военной помощи, то в ночь на 18 августа семь британских торпедных катеров провели внезапную торпедную атаку Кронштадта. И хотя далеко не все выпущенные торпеды достигли цели, а три катера погибли, её результатом стали повреждения нескольких кораблей красного Балтийского флота, в частности линейных кораблей «Петропавловск», «Андрей Первозванный», крейсера «Рюрик», эсминца «Гавриил». Была потоплена плавбаза подводных лодок, старый крейсер «Память Азова». Ещё раньше английский катер потопил крейсер «Олег». Несколько раз британские лётчики наносили бомбовые удары по Кронштадту и Красной Горке. Но на этом непосредственное участие в военных действиях пока ограничивалось.
Более определённым стало финансовое положение Северо-Западного Правительства. Основой стали частично полученные от Всероссийского Правительства кредиты и кредитные обязательства. Появились и собственные денежные знаки. «Родзянки» и «юденки» (их просторечные названия) обеспечивались, как шутили в тылу, только «шириной генеральских погон». Но в особом «разъяснении» Правительства указывалось, что они «обеспечены всем достоянием государства Российского» и будут оплачиваться впоследствии Петроградским отделением Госбанка по расчёту 40 рублей за фунт стерлингов. Примечательно, что на купюрах 1000-рублёвого достоинства, помимо символики Белого движения на Северо-Западе (равноконечного белого креста, двуглавого орла с «Медным Всадником» на груди вместо изображения Святого Георгия Победоносца), были напечатаны, правда едва заметные, изображения с нимбами над головами, в которых «общественность» увидела убитых большевиками Государя Императора Николая Александровича и Государыню Императрицу Александру Феодоровну. Красивый символ, выражение политической позиции или нечто большее - предвосхищение канонизации? (Правда, считали это и всего лишь изображениями древнегреческих богов «земного благополучия» - Гермеса и Геры.)
«Абсолютная независимость» Эстонии давала ощущение пусть и небольшой, но всё-таки уверенности в перспективах продолжения борьбы. И вдруг внезапный удар в спину: всего лишь через две недели после подписания декларации Северо-Западного Правительства, 31 августа советский наркоминдел Г. В. Чичерин обратился к Эстонии с предложением начать переговоры о заключении мирного договора. «Надёжные союзники» белых эстонцы согласились. На конференции представителей прибалтийских государств, состоявшейся 13 сентября в Ревеле, был открыто поднят вопрос о поддержке советских дипломатических инициатив и остальными новообразованиями. Уже сам факт, что подобного рода переговоры начались с эстонским правительством, означал, что большевики готовы, очевидно, признать de facto независимость республики. В таком случае признание эстонской независимости Северо-Западным Правительством теряло бы всякий смысл. «Эстонское правительство вступило с большевиками в переговоры о мире, - писал Карташев, - остаётся повернуть на единственно реальный путь, сосредоточив всю помощь, всё внимание на Русской силе... северо-западной армии. В руках Англии все возможности. Если бы она решила взять Кронштадт, то этим самым, кроме морального давления на петербургское гнездо “коммунистов”, был бы сорван снова фланг красной армии по берегу моря до Красной Горки, и Русская армия легко бы пошла на Гатчину».
Оставался в запасе ещё и «финляндский вариант». С конца 1918 года Юденич имел непосредственные контакты с «регентом Финляндии» генералом бароном К.-Г. Маннергеймом, бывшим офицером-Конногвардейцем. К середине 1919-го в самой Финляндии уже отошла в прошлое жестокая гражданская война с местными большевиками, получавшими поддержку из РСФСР. Отряды финской Красной Гвардии были разгромлены, однако Маннергейм считал необходимым обезопасить Финляндию от «советской угрозы» со стороны столь близкого к границе Петрограда (его опасения подтвердились впоследствии в ходе советско-финляндской войны 1939-1940 годов). Поэтому Маннергейм охотно поддерживал намерения Юденича координировать военные усилия на путях к Петрограду.
Первоначально переговоры с Маннергеймом шли успешно. Он не только дал согласие на организацию борьбы на территории Финляндии, но и сам выразил готовность предоставить для «похода на Петроград» части своей армии. Взамен Маннергейм потребовал присоединения к Финляндии района Печенгского залива (на основе плебисцита местного населения) и западной Карелии. При этом Финляндия обязывалась оставить во владении России участок Мурманской железной дороги, проходящей в этом районе.
Юденич в целом согласился с условиями Маннергейма и передал их Верховному Правителю России адмиралу Колчаку. Колчак также не высказал принципиальных возражений. Но российский представитель в Париже, бывший министр иностранных дел в Императорском Правительстве С. Д. Сазонов, категорически заявил о неприемлемости требований Маннергейма («прибалтийские губернии не могут быть признаны самостоятельным государством. Также и судьба Финляндии не может быть решена без участия России...»). В результате Колчак ответил Юденичу отказом, и последнему ничего не оставалось, как только подчиниться. Переговоры с Маннергеймом затянулись.
В итоге Маннергейм, полностью поддерживавший идею Белой борьбы, обещал придти на помощь даже в случае единоличного заявления Юденича о признании его условий. Главнокомандующий Северо-Западной Армией, отступая от принципа «Единой Неделимой России», заверил Маннергейма в своей полной лояльности, и вскоре началась подготовка к совместному наступлению Белой и финляндской армий на Петроград.
Однако и здесь Белому Делу на Северо-Западе не повезло. В Финляндии сменилось правительство, пост президента занял Стольберг - политический оппонент Маннергейма, большинство же получили социалисты. Новая власть прервала переговоры с Юденичем и запретила формировать русские воинские части на финской территории.
Результатом подобного дипломатического поражения стало отсутствие угрозы красным со стороны финской границы. За исключением самостоятельных действий всё тех же отрядов ингерманландских добровольцев (Северо-Ингерманландский полк) под Лемболово, Куойвзи и Матоксой, никаких серьёзных операций на Карельском перешейке в 1919 году не велось.
Разумеется, переговоры с Финляндией не могли не вызвать настороженности и у политиков Белого Северо-Запада. Вот как писал об этом Карташев в Омск В. Н. Пепеляеву: купить помощь Финляндии «можно будет лишь ценой невероятно тяжёлых уступок, мучительных для национального сознания и нашей совести. И в этом для нас заключается необычайный драматизм нашего положения. С одной стороны, избавление... Петрограда и Севера... с другой - ужас согласия на дневной грабёж самых коренных прав России».
Генералу Юденичу вместо работы по организации Армии и руководству вооружённой борьбой фактически приходилось все силы и энергию направлять в область внутренней и внешней политики. По характеристике генерала А. В. Геруа, «...изобильно облепленный иностранными воздействиями, русской, так называемой, “революционной общественностью”, которую лучше было бы переименовать “полуреволюционной”, представителями сбежавшего заграницу русского капитала, также не чуждого полуреволюции и здесь ставшего “спекулятивным капиталом, плутократией”, генерал Юденич был, конечно, не в своей тарелке.
Неудивительно, что, по выражению окружавших его “демократов”, “умный, крайне молчаливый генерал”, впал в крайнее безмолвие. Вообще ген[ерал] Юденич явно избегал политических разговоров...»
* * *
Наступила осень. На фронте пока ничего не менялось. Эстония держалась неопределённо. Английская помощь, хотя и поступала в достаточном количестве, не могла продолжаться долго. В политическом руководстве Великобритании выявились серьёзные разногласия между военным министром У. Черчиллем и премьер-министром Д. Ллойд-Джорджем. Глава кабинета всё более и более скептически оценивал перспективы военной и дипломатической помощи Белому движению: «Я верю, - писал он, - что кабинет не допустит вовлечения Англии в какую-либо новую военную акцию в России... Что касается “огромных возможностей” для взятия Петрограда, который, как нам говорят, “у нас уже почти в кулаке” и которого нам никогда не схватить, то мы слишком часто слышали о других “огромных возможностях в России”, которые так никогда и не реализовались, несмотря на щедрые расходы для их осуществления. Только за этот год мы уже истратили более 100 миллионов на Россию...»
Крайне низко расценивались британским премьером и полководческие таланты самого Юденича: «У него нет никаких шансов захватить Петроград... Он ничем не зарекомендовал себя как военачальник, и у нас нет доказательств, что он способен осуществить задуманное... Тот факт, что из населения в несколько миллионов антибольшевики смогли набрать только 20 или 30 тысяч человек, - ещё одно свидетельство полнейшего непонимания ситуации в России, на котором строится наша военная политика... Россия не хочет, чтобы её освобождали. Давайте поэтому займёмся собственными делами, а Россия о своих делах пусть печётся сама...»
Черчилль, однако, был убеждён, что военная помощь Юденичу должна оказываться в нарастающих размерах. В беседе с А. И. Гучковым он отмечал, что одним из главных направлений военной политики Англии станет помощь Юденичу, и даже утверждал: «...Если бы мы направили на этот фронт хотя бы половину того, что мы дали на Мурманско-Архангельский фронт (имелась в виду помощь войскам генерала Е. К. Миллера. - В. Ц.), то Петроград был бы давно взят...»
Сам Юденич возлагал на помощь Англии большие надежды. В конце сентября он писал Черчиллю: «...От имени русского народа, борющегося за свержение ига большевизма, я приношу вам искреннейшие благодарности за своевременную помощь снаряжением и обмундированием, любезно предоставленную вами. Она избавила нас от страха перед надвигающимися зимними морозами и намного подняла дух наших войск. Прилагая все усилия в борьбе против общего врага, мы надеемся, что столь великодушная всегда Англия будет продолжать оказывать нам моральную и материальную поддержку...»
Наступившая осень 1919 года стала переломной не только для Белого дела на Северо-Западе, но и для всего общероссийского антибольшевицкого сопротивления. С одной стороны - близость победы, успешное продвижение к Москве, с другой - тревожное, напряжённое ожидание возможной неудачи, неопределённость, неуверенность в прочности фронта, в стабильности достигаемых успехов. На Северо-Западе положение усугублялось постоянными ожиданиями предательства - страшного для продолжения борьбы мирного договора между Советской Россией и прибалтийскими государствами. Эстония официально предупредила, что если до зимы Северо-Западная Армия не перейдёт к боевым действиям, то «правительство не в силах будет воспрепятствовать народным настроениям, требующим мира с большевиками». В случае его заключения у Северо-Западной Армии исчезал тыл, с ней перестали бы считаться как с партнёром, пусть и неравноправным, во внешней политике. Англичане со своей стороны также настойчиво требовали нового наступления армии на Петроград, заявляя о готовности оказать содействие с моря для захвата Красной Горки и Кронштадта.
В сложившейся ситуации наступление на Петроград становилось для Северо-Западной Армии неизбежным. Если бы оно имело успех, настроения и Англии, и прибалтийских государств могли бы измениться в сторону поддержки Белого движения. К тому же Юденичу были известны впечатлявшие достижения «похода на Москву» Вооружённых Сил Юга России. Налицо была возможность комбинированного удара Белых армий (единственного за всю историю Гражданской войны) на Петроград и Москву.
И решение о «походе на Петроград» было принято. Не дожидаясь дополнительного снабжения и подготовки, Северо-Западная Армия должна была перейти в наступление. К октябрю 1919 года её состав вырос до 17 000 человек, 40 орудий, 6 танков, 2 броневиков и 4 бронепоездов («Адмирал Колчак», «Адмирал Эссен», «Талабчанин», «Псковитянин»). Реальные силы не достигали даже штатной численности дивизии военного времени (несмотря на это, Армия формально включала в себя 2 корпуса, состоявших из 5 дивизий), но ведь на большинстве Белых фронтов Гражданской войны было то же самое.
Что же представляли собой полки армии Юденича? Контингенты местного населения и добровольцев были практически полностью исчерпаны ещё во время первого, весеннего наступления. Большой процент армии составляли военнопленные красноармейцы и даже целые части, добровольно перешедшие на сторону белых (назовём Семёновский и Вятский полки). Выделить же один преобладающий элемент (офицерский, казачий или «рабоче-крестьянский») вряд ли было возможно. Армия была крайне пёстрой по социальному признаку. Но "это не умаляло её боевых качеств, а наоборот, демонстрировало пример содружества рядовых солдат и офицеров в их общей цели - победе над большевиками и освобождении Петрограда.
Формировались полки буквально «на ходу». В качестве примера можно назвать один из наиболее известных в армии Талибский полк. 1-й батальон, кадровую основу полка, составили восставшие осенью 1918 года рыбаки с Талибских островов (на Псковском озере). Во 2-й батальон вошли крестьяне-старообрядцы, жители сел Гатчинского уезда Петроградской губернии. 3-й батальон был сформирован из военнопленных красноармейцев - солдат и матросов. И во всех трёх батальонах полка служили учащиеся Ямбурга и уездных сел - городская и крестьянская молодёжь, мобилизованные и добровольцы. Талибский полк (1 000 штыков) под командованием полковника Б. С. Пермикина был наиболее многочисленным из всех полков 2-й дивизии Северо-Западной Армии, остальные - Островский, Уральский, Семёновский - насчитывали всего по 400-500 бойцов.
Штабу Юденича предстояло теперь определиться с направлением главного удара. Большинство командиров во главе с генералом Родзянко предлагали начать наступление, опираясь на так называемый «псковский плацдарм». Для этого следовало бы вновь захватить Псков и «оседлать» тем самым железнодорожные линии Псков - Луга - Петроград и Псков - Луга - Новгород. По мнению сторонников этого плана, он гарантировал бы, с одной стороны, стабильный тыл, опираясь на который можно проводить мобилизации, пополнять ряды армии и создавать местный административный аппарат; с другой - обладание Псковом позволило бы наносить удары по расходящимся направлениям на Новгород и на Петроград. Тогда можно было продвигаться к Петрограду хотя и более медленными темпами, на зато с гораздо большими шансами на успех, глубоко охватывая «колыбель революции» с юга и юго-востока и отрезая её одновременно от Центральной России. К тому же защищённым становился правый фланг армии, что обезопасило бы наступление на Петроград от Нарвы.
Фактически этот план повторял расчёты Северо-Западников ещё со времени весенней кампании. Безусловно, с точки зрения классической стратегии он имел хорошие перспективы. Но для этого, во-первых, численность Северо-Западной Армии должна была быть в несколько раз большей, ведь только тогда она могла бы и «держать» столь широкий фронт, и наступать на Петроград и Новгород одновременно. Во-вторых, тыл должен был быть достаточно прочным, чтобы можно было без серьёзных опасений предпринимать столь глубокие операции против большевиков. А всё это в условиях безвластия и хаоса, царившего в России, в условиях хозяйственной разрухи, - невозможно было осуществить. Кстати, похожая альтернатива стояла несколькими месяцами ранее и перед Вооружёнными Силами Юга России, накануне «похода на Москву», когда звучали предложения укрепиться на Дону и Кубани и, лишь обустроив тыл, двинуться на Москву.
Но в том-то и заключалась специфика Гражданской войны, что следовать традиционным стратегическим расчётам, как правило, не удавалось. И, так же как и на Юге, Главнокомандующий Северо-Западной Армией принял иной план действий. Юденич решил ударить на Петроград, не дожидаясь, когда будут «укреплён тыл» и «обеспечены фланги». На военном совете в сентябре он твёрдо заявил, что «расстояние от Ямбурга до Петрограда короче, чем расстояние от Пскова до Петрограда», и наступать надо по кратчайшему направлению. В этом случае только стремительность и неожиданность удара могли бы обеспечить победу.
Правильность принятого Юденичем решения подтверждали впоследствии даже красные командиры. Действительно, иного выбора в условиях малочисленности армии и оперативной необходимости взятия Петрограда и быть не могло. Решение о наступлении на Петроград во многом напоминало стратегический «стиль» Юденича, столь ярко проявившийся в Сарыкамышской операции, в штурме Эрзерума и Эрзинджана. Тот же расчёт на быстроту и непрерывность наступления, на силу и внезапность удара. Только целью на этот раз было не просто удачное взятие некоего, пусть даже и очень важного, населённого пункта, а освобождение Петрограда, второй «красной столицы». Ставка была слишком велика, и любая, даже самая небольшая ошибка в предстоящем сражении могла привести к катастрофе. Лишь мощный и быстрый удар должен был разорвать «цепи большевизма».
Принимая своё решение, Юденич учитывал и настроения на фронте. Солдаты и офицеры, в большинстве своём получившие хорошее вооружение и обмундирование, верили в успех наступления, были готовы на многие жертвы ради близкой победы. Армия жила одним словом «Петроград», дух её был ещё очень высок, тем более что официальные сводки, не жалея радужных красок, живописали успехи армий Деникина и Колчака под Тулой и Тобольском. А если бы наступление пришлось отложить хотя бы на несколько недель, в армии мог наступить перелом настроений, причём отнюдь не в пользу продолжения борьбы с большевиками.
* * *
Юденич не стал отказываться и от «псковского варианта», но принял его лишь в форме нанесения демонстративного удара силами 4-й дивизии генерала князя А. Н. Долгорукого. 28 сентября части правого фланга Северо-Западной Армии перешли в наступление на участке Варшавской .железной дороги Псков - Луга и 4 октября взяли станцию Струги-Белые, перерезав тем самым железнодорожное сообщение между Петроградом и Псковом. Демонстрация вполне удалась, красное командование решило, что Юденич будет наступать на Псков, и в этот момент развернулся основной удар на Петроград. 9 октября перешли в наступление главные силы Северо-Западной Армии. 11 октября Родзянко занял Ямбург, выйдя в тыл обороняющейся красной группировке и создав опорный пункт для атаки по линии Ямбург - Красное Село.
Итак, второе наступление на Петроград началось. Темп, темп, темп, наивысшая, максимально возможная скорость продвижения - таковым был своеобразный лейтмотив осеннего похода. Для обеспечения быстроты движения Армия отказалась от обозов. Составы с предоставленными англичанами продуктами так и остались в Эстонии, и на все обращения управления продовольствия об их передаче на фронт следовал неизменный ответ: «Продукты будут отправлены для снабжения жителей освобождённого Петрограда». Ещё более заметной для фронта стала задержка за рекой Лугой бронепоездов и танков (были взорваны мосты). Но даже несмотря на это, наступление успешно продолжалось.
Части красных в беспорядке отступали, многие сдавались в плен. 13 октября 4-я дивизия заняла узловую станцию Лугу, а 16 октября, всего через неделю после начала наступления, белые полки вышли на ближние подступы к Петрограду, захватив Гатчину. 20 октября подразделения 2-й дивизии генерала М. В. Ярославцева заняли Павловск и Царское (переименованное большевиками в Детское) Село. 5-я Ливенская дивизия вступила в предместья Лигово на крайнем левом фланге. Белые вышли к Пулковским высотам, а разъезды разведчиков, по некоторым данным, доходили даже до Ижорского завода. Наступили решающие дни в битве за Петроград.
В сумрачные, дождливые осенние дни редкие лучи солнца освещали купол Исаакиевского собора, видный с высот Красного Села и Дудергофа. Овладение Пулковом, этим «замком» к Петрограду, позволяло взять под обстрел южные окраины города. Все были убеждены, что через день-два Петроград будет занят. Даже вечный критик своих коллег по правительству Маргулиес писал в эти дни: «...Спасены: Питер виден на горизонте. Без немцев берём. И честь правительства спасена. Не даром унижались и боролись!.. Взяты Лигово и Пулково, осталось 15 вёрст до Петрограда. Завтра, быть может, войдут...»
20 октября в Омск и Таганрог было передано радио: «Петроград взят. Власть Советов свергнута». Газеты Белого Юга во время решительных боев на Московском направлении, под Орлом и Воронежем, вышли с широкими, во всю полосу заголовками: «Доблестными войсками генерала Юденича освобождён Петроград». Уже был назначен губернатор города - генерал П. В. Глазенап. В русских типографиях Гельсингфорса печатались листовки-воззвания к горожанам Петрограда с призывом «встречать своих доблестных освободителей колокольным звоном».
Но большевицкое руководство не собиралось сдаваться. Ещё 16 октября в городе была объявлена всеобщая мобилизация рабочих. На фронт уходили последние резервы. Был сформирован даже полк из женщин-работниц Петрограда, своего рода аналог женским ударным батальонам 1917 года. Выступил на фронт и прибывший с Восточного фронта Башкирский конный полк. Ленин телеграфировал в Смольный: «Покончить с Юденичем (именно покончить - добить[56]) нам дьявольски важно... Надо кончить с Юденичем скоро; тогда мы повернём всё против Деникина».
В сентябре 1919 года, накануне наступления Северо-Западной Армии, Петроградская ЧК раскрыла ещё один антисоветский заговор. Трудно предположить, что после июньских арестов и расстрелов подпольные структуры «Национального Центра» ещё могли функционировать. Тем не менее агентами «Центра» и одновременно - сотрудниками английской разведки были объявлены начальник штаба 7-й армии, бывший Генерального Штаба полковник В. Я. Люндеквист, и адмирал М. К. Вяхирев. По обвинению, выдвинутому в ЧК, они не только имели непосредственные контакты с командованием Северо-Западной Армии, передавая ему сведения о дислокации красных частей и кораблей Балтийского флота, но и в случае взятия Петрограда должны были занять должности начальника Штаба Белых «сухопутных сил» и командующего морскими силами соответственно. ЧК заявила также о раскрытии состава «подпольного правительства», призванного в перспективе заменить собой «лианозовский кабинет». На пост министра-председателя, в частности, якобы намечался петроградский кадет, профессор Технологического института, бывший статский советник А. Н. Быков, министра религиозных культов - А. В. Карташев, министра внутренних дел - один из ближайших сотрудников генерала Корнилова ещё по 1917 году - В. С. Завойко.
В отчётах ЧК говорилось и о вполне реальном плане антибольшевицкого восстания в Петрограде. Город был разделён на 12 секторов, в каждом из которых предполагалось формирование боевых отрядов. По «плану» следовало захватить Смольный, гостиницу «Астория», телефонную и телеграфную станции, водопровод. Сигналом могла бы стать бомба, сброшенная с белого аэроплана на Знаменской площади, или выход войск Юденича на окраины города. Инкриминированные преступления позволяли ЧК провести ещё одну серию обысков и арестов. Трудно сказать, насколько соответствовали действительности выдвинутые обвинения. Так или иначе, после этого Петроград с полным основанием можно было считать полностью «очищенным» от «внутренних врагов» Советской власти.
Близкий успех армии Юденича усилил позиции сторонников активной поддержки Белого движения в английском правительстве. 17 октября Черчилль во время встречи с Гучковым просил поздравить Юденича с «заметными успехами в начавшемся наступлении». В отправленной в Ревель телеграмме говорилось об очередной партии военного снаряжения для Северо-Западного фронта: танки, винтовки и снаряжение на 20 000 человек, 20 тяжёлых артиллерийских орудий и 60 000 снарядов к ним, 16 гаубиц. Большая часть этого снаряжения должна была быть доставлена на пароходе «Кассель». На нём же предполагалось прибытие 400 русских офицеров, бывших военнопленных, из Ньюмаркетского лагеря. Отправленному к Юденичу представителю английской военной миссии генералу Р. Хэйкингу Черчилль передал «набросок инструкций». В случае взятия Петрограда Юденичу следовало «обставлять свои действия с возможно большей видимостью опоры на конституционные начала».
Но Северо-Западное Правительство и не собиралось вести «реакционную политику». Очень медленно, но всё же восстанавливалась местная власть, опиравшаяся на структуры земского и городского самоуправления. В декларации Северо-Западного Правительства предполагалось проведение радикальных преобразований. В частности, в законопроекте министра земледелия, социал-демократа меньшевика П. А. Богданова, было провозглашено «сохранение земельных отношений, которые имели место к приходу белых войск», то есть фактически защищались земельные «захваты» крестьян 1917-го и последующих лет. После занятия Петрограда было решено созвать даже некое подобие парламента - Учредительное Собрание Северо-Западной области, призванное решить вопрос о «конструкции власти на освобождённой от большевиков территории Петроградской, Псковской и Новгородской губерний».
Но для реализации всех этих проектов требовалось главное - взятие Петрограда. Несколько дней продолжались упорные бои за удержание Пулковских высот. Белые полки ожесточённо рвались вперёд, сходились в штыки с подошедшими красными подкреплениями, частями красных курсантов, латышских стрелков и моряков с кораблей Балтийского флота. Красные линкоры, поддерживавшие огнём обороняющихся, вскоре прекратили стрельбу: невозможно было различить своих и чужих. И становилось очевидным - темп наступления потерян, силы на исходе, шансы на победу уменьшаются с каждым днём, с каждым часом непрерывной, тяжёлой борьбы. Большевики смогли сосредоточить против Северо-Западной Армии до 50 000 свежих войск, переброшенных с других участков фронта. Предреввоенсовета Л. Д. Троцкий взял оборону Петрограда под личный контроль. Под Ижорой отбивал атаки тяжёлый бронепоезд «Ленин», прекрасно оснащённый, закованный в прочную стальную броню, вооружённый дальнобойной артиллерией. Его поддерживали бронепоезда «Троцкий» и «Черномор». Белые же бронепоезда так и не смогли подойти к фронту, остановившись у взорванного моста под Ямбургом. Английские и французские танки хорошо помогали при наступлении, но часто выходили из строя. Фактически единственным «бронесредством» Северо-Западной Армии были многократно чиненные, но героически державшиеся на линии огня бронеавтомобили «Россия» и «Гроза» (последний был отбит у красных весной 1919 года).
Получив свежие подкрепления, Красная Армия подготовилась к контрудару. План Троцкого, возглавившего оборону города, сводился к созданию «мешка», во многом сходного с тем, который пыталось руководство красного Южного фронта создать для Добровольческой Армии под Орлом. Планировалось нанести два удара по сходящимся направлениям: со стороны Петрограда - Тосно и Луги. Ударные группировки красных, соединившись в Ямбурге, должны были полностью окружить Северо-Западную Армию.
21-23 октября под Пулковом продолжались беспрерывные бои. Решалась судьба Петрограда. Неожиданный прорыв красными позиций Вятского полка заставил белых немного сдать назад. В этой ситуации нужен был ещё один, быть может, последний рывок. Юденич почти полностью обнажил фланги, были сняты части 4-й дивизии от Луги и подтянуты резервы от Ямбурга. Собрав все силы в ударную группу под началом молодого командира Талабцев полковника Пермикина, командование Армии попыталось восстановить утраченное положение. 27-30 октября бои возобновились с новой силой. Пермикин и Родзянко лично водили в атаки поредевшие батальоны. Поддержал их и русско-английский танковый отряд полковника Карсона. 25 октября части 5-й (Ливенской) дивизии контратаковали красных матросов под Русским Копорским. Фланговый контрудар от Гатчины на Ропшу удался, и Пермикин телеграфировал, что «дорога на Петроград открыта». Но достигнутый успех, увы, уже не мог переломить ход всей операции. Армия выдыхалась, её дух падал.
В этот момент красные подкрепления ударили по обнажившемуся правому флангу Северо-Западной Армии. 1 ноября большевики вышли к Луге. Её комендант, полковник Григорьев, имея в распоряжении лишь тыловые команды запасных, не мог остановить натиск красных полков, и Луга была сдана. Железная дорога Псков - Петроград снова оказалась под контролем большевиков.
Наступление завершилось. Дерными безлунными ночами белые полки отходили с прежних позиций. Фронт быстро сокращался. От Пскова на Гдов и Нарву наступали части советской 15-й армии. Уже были оставлены Красное Село, Павловск, Ропша, Детское Село. 3 ноября без боя сдали Гатчину. 11-я советская дивизия вышла в тыл Северо-Западной Армии и по шоссе двигалась на Ямбург. И только в этот момент эстонская армия, наконец, напомнила о себе. 1-я эстонская дивизия нанесла внезапный удар в тыл наступавшим от Петергофа красным и заставила их быстро отойти на исходные позиции. С моря по красным открыл огонь английский монитор. Но эта «помощь», конечно, уже ничего не решила.
В трёхнедельных непрерывных боях погибла почти половина и без того небольшой Северо-Западной Армии. В её рядах теперь оставалось не более 8 000 штыков. 7 ноября красные, наступая от Гатчины, заняли станцию Волосово, а 8-го пал Гдов. Остатки войск Юденича отходили к Ямбургу. Здесь произошли последние бои, однако город удержать не удалось, и 14 ноября Ямбург, последний крупный центр, находившийся под контролем белых, был оставлен. Вся Северо-Западная Армия оказалась прижатой к реке Нарове и к эстонской пограничной полосе у города Нарвы.
Сильные холода, пронизывающий северный ветер делали положение белых критическим. Солдаты и офицеры мёрзли в наспех вырытых окопах и землянках. Началась страшная эпидемия тифа, фактически уничтожившая остатки Армии. Юденич и Родзянко пытались расширить плацдарм частным наступлением правого фланга, но тщетно. Сотни солдат сдавались в плен. Эстонское правительство убедилось, что политические интересы диктуют ему необходимость мира с Советской Республикой, а не поддержки обречённого Белого движения. Переговоры с советскими дипломатами быстро завершились подписанием 31 декабря 1919 года перемирия, а 2 февраля 1920-го - и мирного договора. Большевики признали независимость республики, но с условием (оговорённым отдельным пунктом), что Эстония отказывается от предоставления своей территории для Белых правительств и армий. Мир между РСФСР и Эстонией означал конец Белого движения на Северо-Западе России.
Теперь вся Армия должна была перейти на беженское положение. Полки разоружались, солдаты и офицеры направлялись в спецлагеря. Здесь из них формировали бригады и отправляли на лесозаготовки и торфяники. Так, ещё задолго до сталинского ГУЛАГа, на территории «буржуазной республики» уже установилась система дешёвой эксплуатации бесправных людей. А в 1940 году, после ввода в Эстонию советских войск, оставшиеся в живых Северо-Западники оказались под пристальным вниманием управлений НКВД и местных коммунистов и очень скоро испытали на себе лагерные ужасы советской системы.
Vae victis[57] - жестокий приговор истории XX века...
* * *
В чём же причины поражения «осеннего наступления»?
В литературе Русского Зарубежья перечислялись самые разные факторы - от геополитических до тактических просчётов. Один из офицеров Северо-Западной Армии, Д. Д. Кузьмин-Караваев, выделял три основные причины: отсутствие надлежащей помощи со стороны Эстонии, отсутствие необходимой поддержки со стороны английского флота и неожиданное наступление Западной Добровольческой Армии Бермондта-Авалова на Ригу, «эти три фактора... и следует считать краеугольными основаниями неудачи похода на Петроград. Дезорганизованный и без того наш тыл оказался ещё более ослаблен..., на фронт своевременно не подвозились снаряды и патроны, из-за этого производилась задержка в доставке продуктов населению и армии, создавалась масса тыловых недоразумений...»
Одной из тактических ошибок Северо-Западной Армии многие белые мемуаристы считали однодневную остановку в Гатчине, днёвку 17-го октября. Отдых наступавшим частям был необходим, но в результате произошедшей задержки были потеряны почти целые сутки.
Другая тактическая ошибка - не перерезанная вовремя Николаевская железная дорога, по которой к красным подошли подкрепления. Вину за неё возлагали на начальника 3-й дивизии генерала Д. Р. Ветренко, который получил приказ выслать после занятия Гатчины сильный заслон на станцию Тосно Николаевской железной дороги. В этом случае прервалась бы связь Петрограда с Москвой, и «северная столица» почти полностью блокировалась. Однако Ветренко не выполнил этого приказа, так как, считали белые историки, торопился войти первым в Петроград. Николаевская дорога осталась под контролем большевиков, которые сохранили возможность беспрепятственно получать подкрепления из центра России.
Ветренко многие считали едва ли не самым главным виновником поражения «похода на Петроград», говорили даже о его сотрудничестве с ЧК. Такие утверждения, пожалуй, не могут считаться исчерпывающими. Действительно, реальная возможность занятия Тосно белыми существовала, станция была практически не защищена. Но дивизия Ветренко наносила основной удар на Колпино и, в случае дальнейшего успешного наступления, захватив эту станцию, разрешала одновременно две задачи - перерезала ту же Николаевскую железную дорогу почти у самого её основания и полностью блокировала Петроград, отрезая город с востока, по линии Северной железной дороги от Петрозаводска. Когда ещё была уверенность в быстром взятии Петрограда, удар Ветренко на Колпино (а это также был вариант «кратчайшего направления», столь популярного осенью 1919 года) стал бы гораздо более результативным. Справедливости ради стоит заметить, что частная неудача Ветренко вряд ли изменила бы общую стратегическую неудачу на фронте.
Некоторые склонны видеть одну из серьёзных причин поражения в недостатке офицеров Генерального Штаба на командных должностях Северо-Западной Армии. То, что в ней преобладали молодые, энергичные, но порой недостаточно опытные командиры, приводило к излишней поспешности, неосмотрительности при ведении боевых операций. Но опять же - это положение было типичным для всей Гражданской войны.
Гораздо более серьёзной причиной неудачи можно считать отсутствие резервов для поддержки наступления. Роль резерва могли бы сыграть части Западной Добровольческой Армии под командованием полковника Бермондта-Авалова. Эта армия начала формироваться ещё с 1918 года на средства немецкого оккупационного командования. Разумеется, в своей политической ориентации «бермондтовцы» в подавляющем большинстве были на стороне Германии. В то время как Северо-Западная Армия шла на Петроград, Бермондт-Авалов с таким же энтузиазмом повёл свою армию на штурм Риги. Пренебрегая приказами Юденича об отправке на фронт, он решил «разгромить латышских социалистов» и «восстановить» принцип «Единой Неделимой России» с помощью артобстрела столицы Латвии. Части Западной Армии, гораздо лучше вооружённые и оснащённые, численностью около 30 000 человек (напомним, что под Петроградом сражалось в два раза меньше бойцов), могли бы, конечно, стать тем символическим мечом, благодаря которому чаша весов истории склонилась бы в сторону Белого Дела. Но 20 октября 1919 года, в разгар боев на Пулковских высотах, Бермондт-Авалов безуспешно пытался форсировать Двину...
В результате латвийские правительственные части, вступив в бой с армией Бермондта, обратились за военной поддержкой к Эстонии, правительство которой вместо обещанной помощи Юденичу начало переброску подразделений своей армии к Риге. Разгорелся международный скандал. Белых объявили «агрессорами», готовыми уничтожить «хрупкую независимость» прибалтийских новообразований. С резким осуждением действий Бермондта выступили также правительства Англии и Франции. Как отмечал генерал Деникин, «великая борьба между европейскими державами продолжалась, и в орбиту её в качестве бессильных пешек вовлекались русские и балтийские элементы...»
Возможно, что Бермондт-Авилов, как он позднее писал в своих мемуарах, руководствовался исключительно государственными интересами России и собирался позже «пробиться» на Северо-Западный фронт. Но в тех условиях его выступление было полностью авантюрным. Помимо антипатий к белым, в Латвии усилилась неприязнь к русским вообще. Акция Бермондта, несомненно, дискредитировала Белое Дело. Вполне обоснованным в такой ситуации можно было считать заявление Верховного Правителя адмирала Колчака о том, что в случае отказа подчиниться Юденичу Бермондт «не может считаться русским подданным и офицером русской армии».
Так или иначе, несмотря на поражение похода на Петроград, можно отметить, что возможности белых были весьма велики для того, чтобы овладеть бывшей столицей. Очевидно, главной причиной неудачи следует всё-таки признать несвязанность, несвоевременность совместных действий русского Белого движения, Эстонии и Финляндии. Это признавал и Ленин: «Нет никакого сомнения, что самой небольшой помощи Финляндии или - немного более - помощи Эстляндии было бы достаточно, чтобы решить судьбу Петрограда». Но, как известно, история не знает сослагательного наклонения, и «героическая оборона пролетарского Питера» стала ещё одной «легендарной» победой большевиков.
Нельзя, конечно, отрицать стойкости сопротивления красных частей, особенно курсантов и матросов. Нужно отдать должное и энергии Троцкого, сумевшего за короткое время создать из Петрограда в буквальном смысле слова «цитадель революции». Его абсолютно не беспокоил тот факт, что в случае прорыва белых исторический центр города превратился бы в театр военных действий. Пусть «пролетарский Питер погибнет, но белые звери захлебнутся своей и нашей кровью» - эти слова одной из большевицких листовок как нельзя лучше передавали настроения, с которыми советское руководство собиралось защищать город. Очевидно, подобная участь ожидала бы и Москву, если бы Добровольческая Армия подошла к ней. Большевицкий режим готов был на любые жертвы.
Вернёмся теперь к уже цитированному выше выступлению генерала Томилова на юбилее Юденича (кстати, именно Томилову бывшим Главнокомандующим был поручен сбор материалов для книги об истории Северо-Западного фронта, но в свет она так и не вышла). Давая свою оценку причин поражения, генерал отмечал, что Главнокомандующий сделал всё, чтобыло в его силах, чтобы одержать победу. Но «полководческие дарования генерала Юденича попали в непреодолимо тяжкие условия. Ни своей территории, ни базы не было, попытка опереться на Финляндию не удалась, пришлось базироваться на Эстонию, правители которой считали торжество Белого движения более опасным для самостоятельности
Эстонии, чем советская власть в России. Почти никаких средств для ведения военных операций также не было. Была полная зависимость от англичан, на которых Антанта возложила помощь здесь Белому движению, а в правительственных кругах Англии вскоре уже взяли верх тенденции, что интересы её на Северо-Западе России ограничиваются лишь задачей укрепления самостоятельного бытия лимитрофных новообразований.
Маленькой Северо-Западной армии не по силам, конечно, была задача овладеть и удержать за собой столицу. Вынужденное, жертвенное во имя общих интересов всего Белого движения, внезапное молниеносное наступление её к самым предместьям Петрограда выполнило задачу отвлечения на себя сил противника: большевики вынуждены были спешно оттянуть с других фронтов к Петрограду до 50-ти тысяч войск, тогда как Северо-Западная армия в это время насчитывала всего 8 000 бойцов...»
Несколько иную характеристику Юденичу давал знаменитый писатель А. И. Куприн. Будучи в Гатчине, он добровольно (вопреки уверениям советских литературоведов) вступил в ряды Северо- Западной Армии, стал редактором её газеты «Приневский Край». В своей замечательной повести «Купол Св[ятого] Исаакия Далматского» автор «Поединка» и «Юнкеров» писал: «...Формальный глава армии существовал. Это был генерал Юденич, доблестный, храбрый солдат, честный человек и хороший военачальник. Но... генерал Юденич только раз показался на театре военных действий, а именно тотчас же по взятии Гатчины. Побывал в ней, навестил Царское Село, Красное, и в тот же день отбыл в Ревель. Конечно, очень ценно было бы в интересах армии, если бы ген[ерал] Юденич, находясь в тылу, умел дипломатично воздействовать на англичан и эстонцев, добиваясь от них обещанной реальной помощи. Но по натуре храбрый покоритель Эрзерума был в душе - капитан Тушин, так славно изображённый Толстым. Он не умел с ними разговаривать, стеснялся перед апломбом англичан и перед общей тайной политикой иностранцев... Единый вождь в этой особенной войне должен был бы непременно показываться как можно чаще перед этим солдатом. Солдат здесь проявлял сверхъестественную храбрость, неописуемое мужество, величайшее терпение, но безмолвно требовал от генерала и офицера высокого примера...»
Куприн во многом был прав. Армия должна осознавать, чувствовать присутствие своего командующего. Нужно постоянно быть вместе с армией, жить её жизнью, понимать её проблемы, разделять славу её успехов и горечь неудач. И всё же, хотя Юденич не появлялся на фронте осенью 1919 года, не водил за собой в атаки полки и дивизии, как водили их те же Родзянко и Пермикин, - можно ли упрекнуть за это Главнокомандующего? Ведь его пребывание в тылу диктовалось насущной необходимостью. Дипломатическая, политическая борьба, участником и руководителем которой пришлось стать Юденичу, требовала от него не меньшей самоотдачи, чем руководство операциями на фронте. Стоит отметить, что при всех разногласиях, спорах со своими подчинёнными командирами корпусов и дивизий он им полностью доверял, был абсолютно чужд интриг и конфликтов. Тем более никто не посмел бы обвинить генерала в отсутствии личной храбрости, достаточно вспомнить его штыковые атаки в Русско-Японскую войну.
* * *
После окончания борьбы на Северо-Западе Юденич принял решение перебросить сохранившиеся кадры армии на Юг, к Деникину. С этой целью он настаивал на предоставлении союзниками транспортных судов для перевозки Армии из Балтийского в Чёрное море. Однако все его усилия оказались тщетны. Ни с Армией, ни с её Главнокомандующим никто уже не хотел считаться.
Перед Юденичем оставался, по существу, единственный выход. 22 января 1920 года генерал издал приказ о роспуске Армии и создал ликвидационную комиссию, передав в её распоряжение оставшиеся средства бюджета. В ночь на 28 января в гостиницу «Коммерс» в Ревеле, где проживал Юденич, явилось несколько белых офицеров во главе с Булак-Балаховичем и трое эстонских полицейских и арестовали бывшего Главнокомандующего. Номер его опечатали, а самого генерала препроводили на вокзал, посадили в вагон и увезли в направлении советской границы. Вскоре, правда, он был освобождён и переехал в помещение английской военной миссии. Трудно сказать, чем был вызван этот инцидент - желанием расправиться с потерявшим свою власть военачальником или за этим стояли более серьёзные политические и дипломатические причины. Формальным предлогом было объявлено нежелание Юденича отчитаться о расходовании полученного от Колчака кредита. Ясно одно - действия Булак-Балаховича и эстонских властей выражали собой, с одной стороны, «партизанское самоуправство», а с другой - стали следствием изменившейся политики Эстонской Республики. Теперь считаться со своими бывшими союзниками по борьбе против большевиков не имело смысла, а в условиях заключения мирного договора с РСФСР становилось и крайне нежелательным.
Позднее, уже летом 1920 года, часть Северо-Западников смогла всё-таки продолжить борьбу в рядах армии П. Н. Врангеля. Многие сражались в рядах так называемой Русской Народной Добровольческой Армии генерала Булак-Балаховича и 3-й Русской Армии произведённого в генералы Пермикина.
Семья же Юденичей вскоре переехала во Францию, в Ниццу. Здесь, в доме на маленькой улице Кот д’Азур, потянулись размеренные дни эмигрантского бытия, спокойные и в общем лишённые той остроты борьбы, тех противоречий, которыми жило в 1920—1930-е годы Русское Зарубежье. Юденичу не суждено было разделить участь лидеров Русского Обще-Воинского Союза генералов А. П. Кутепова и Е. К. Миллера, многих других генералов и офицеров, продолжавших верить в новый «весенний поход» против большевиков. Сказывался и возраст и, очевидно, общая усталость. Юденич посильно помогал оказавшимся во Франции чинам Северо-Западной Армии. Для эмиграции он стал своего рода символом, вернее - одним из символов славы русского оружия в годы Великой войны, славы побед на Кавказском фронте. Не стоит забывать и тот факт, что генерал был единственным кавалером ордена Святого Георгия II-й степени в Зарубежьи, последним в истории награждения этим орденом.
Юденич был председателем Ниццкого Общества ревнителей русской истории (в других источниках - Кружка ревнителей русского прошлого), на собраниях которого неоднократно выступал с докладами об операциях на Кавказе. Он также активно участвовал в работе ниццких просветительных организаций, помогал кружку молодёжи по изучению русской культуры, русскому лицею «Александрино». Николай Николаевич состоял почётным членом приходского совета в церкви при Франко-Русском доме в Сент-Морис. Не случайно к его юбилею настоятель храма преподнёс ему икону Святителя Николая Чудотворца.
Николай Николаевич Юденич умер 5 октября 1933 года. Александра Петровна надолго пережила своего мужа, скончавшись в 1962 году. Ею был сохранен и затем передан в США, в Гуверовский институт, семейный архив.
...На кладбище в Ницце есть выщербленная солнцем и солёными морскими ветрами могила. Массивная плита из серого камня, многие буквы уже потерялись, стёрлись. Над ней Православный Крест из чёрного гранита. Простая надпись: «Главнокомандующий Войсками Кавказского фронта Генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич». Ниже - «Александра Николаевна Юденич - урождённая Жемчужникова». Могила расположена почти на самом верху кладбищенского холма. С неё открывается обширный вид на залив тёплого Лигурийского моря. Символично, что бывший Главнокомандующий Кавказским фронтом вечно покоится на вершине, пусть даже и небольших гор Французской Ривьеры.
ГЕНЕРАЛЫ С. Н. и И. Н. БАЛАХОВИЧИ (Очерк: Андрей Кручинин)
Есть биографии, в различных вариантах которых разночтения и расхождения начинаются с первых же страниц, если не с первых строк. Таково жизнеописание и генерала, вошедшего в историю Гражданской войны как Станислав Никодимович Булак-Балахович, хотя едва ли не каждое слово здесь может быть подвергнуто обоснованному сомнению.
Прежде всего, изначально фамилия была просто «Балахович». В одном из сегодняшних исследований указывается, что прозвище «Булак» («“облако”, “туча”, в переносном смысле - “человек, которого ветер носит”»[58]) было добавлено к ней Станиславом после первой женитьбы, очевидно подразумевая как «украшательскую» роль новой половины фамилии, так и то, что выбрана она была «со значением». Однако, даже если её владелец и пытался сделать это дополнение официальным, - попытки не увенчались успехом: в годы Первой мировой войны в Высочайших приказах и большинстве документов он по-прежнему остаётся Балаховичем.
В большинстве, да не во всех. Станислав Никодимович явно не успокаивается, экспериментируя с родовым прозванием и как бы примеривая, какой вариант ему больше подойдёт, - а поскольку первая графа в наградных листах нередко заполнялась самим представляемым к награде или с его слов, в них на равных соседствуют и «Балахович», и «Булак-Бэй-(или «Бей»)-Балахович», и «Бэй-Булак-Балахович»... хотя в подписи владелец столь заковыристой фамилии ещё не решается на усовершенствования, и красивый росчерк гласит лишь: «Cm. Н. Балахович». Скромнее был младший брат генерала (также ставший в годы Гражданской войны генералом), Иосиф, так и оставшийся просто Балаховичем даже в документах, написанных Станиславом. Зато в послужном списке графу «Из какого звания происходит» Балахович-младший исправил коренным образом, первоначальное «из крестьян» заменив на «из дворян Ковенской губ[ернии]», - хотя старший так и остался крестьянином «Ковенской губернии, Ново-Александровского уезда, Видзской волости».
Приставка «Бэй» и по-тюркски звучащее «Булак», наряду со внешностью (по описанию очевидца - «ловкий, гибкий молодец, жгучий брюнет, с несколько хищным выражением лица») позволяют с некоторой долей вероятности выводить генеалогию генерала из литовских татар - потомков ногайцев, с XV века проживавших на землях бывшего Великого Княжества Литовского, в том числе и под Видзами, и в последующие столетия до определённой степени ополячившихся, хотя и сохранивших ряд характерных этнических черт и, нередко, магометанское вероисповедание. К семье Балаховичей последнее, однако, не относится - в начале XX века они были римо-католиками, и отец генералов носил двойное имя Никодим-Михаил (разумеется, без недоразумений не обошлось и здесь, и в одном документе Станислав, вопреки всем нормам, назван «Михайловичем» по второму имени отца...). Старший из братьев полностью был наречен Станиславом-Марианом (а не «Станиславом-Марией», как иногда утверждается), и то, что это не привело к очередной путанице, выглядит удивительным исключением. Скорее всего, второе имя было и у Иосифа, но в документах оно ни разу нам не встречалось, а в обиходе все, сколько-нибудь близко соприкасавшиеся с Балаховичем-младшим, именовали его попросту «Юзик» - на польский манер.
Итак, окончательно запутавшись со всем, что касается фамилии, имени и отчества «Батьки-Атамана», как любил именовать себя Станислав Никодимович, попробуем проследить дальше его судьбу, вполне достойную по своей непредсказуемости всей неразберихи, изложенной выше в качестве своеобразной увертюры.
* * *
Станислав Балахович родился 10 февраля 1883 года - встречающаяся дата 29 января получена ошибкой при переводе календарного стиля - в Мейштах Видзской волости, где его отец, по рассказу самого генерала, служил поваром, а мать - горничной в господском доме польской шляхетской семьи Мейштовичей. Произошедшие с тех пор политические и географические изменения и «переделы мира» оказались столь существенными, что определить сегодня, к какому же из нынешних государств и народов отнести «Батьку», тоже не так-то просто, и белорусские и польские историки подчас не могут «поделить» генерала Балаховича, считая его своим национальным героем или по крайней мере «выдающимся земляком». Впрочем, саму правомочность этого вопроса можно поставить под сомнение.
Родным наречием Станислава с детства было, очевидно, всё же белорусское. Позже он рассказывал, что его «сначала учили любить Польшу, а уж потом правильно говорить по-польски», но адресовалось это польской и весьма шовинистически настроенной аудитории, а в качестве примера патриотического воспитания генерал привёл своё увлечение романами Г. Сенкевича, которые, будучи переведёнными на русский язык, имели в России широкое распространение, образами благородных и мужественных героев увлекая едва ли не каждого гимназиста, независимо от его происхождения. С другой стороны, мемуарист, общавшийся с «Батькой» в 1918-1919 годах, не без иронии писал: «Эта личность, занимавшая ответственное положение, увлекалась романтикой ещё с гимназических времён и считала своим призванием следовать по стопам любимых ею героев средних веков, особенно она увлекалась образом Тараса Бульбы». И надо сказать, что суровый гоголевский казак в числе кумиров рядом с блестящими шляхтичами Сенкевича выглядит довольно странно для пылкого польского патриота... но отнюдь не для простого мальчишки, привлекаемого прежде всего красотою воинских подвигов, удалью и славой, а национальные раздоры ставящего на последнее место (если он вообще о них задумывается).
Пройдёт ещё немало лет, прежде чем выросший гимназист начнёт сознательно разыгрывать национальную карту, громогласно объявляя себя сторонником то «национальной Руси», то «Белорусской Державы», то «Второй Речи Посполитой»[59], и это, по рассказу Б. В. Савинкова, даже даст «Начальнику Польского Государства» Ю. Пилсудскому основание сказать, что Балахович - «человек, который сегодня русский, завтра поляк, послезавтра белорус, а ещё через день - негр». Пока же представляется правдоподобным предположить, что Станислав был человеком пограничной культуры, смешанного русско-польского диалекта и... романтической натуры, питавшейся смутными родовыми преданиями, в которых якобы участвовавшие в польском мятеже 1831 года предки выглядели не намного достовернее какого-нибудь «Булак-Бея», быть может, и вправду волновавшего воображение юноши.
Разумеется, утверждение одной из советских статей о «белобандите Балаховиче», будто у этого «помещика» «были имения в Польше и, кажется, где-то под Гатчиной» (?!), действительности не соответствует; существуют, однако, более достоверные упоминания, что отец будущего генерала не то арендовал, не то даже имел в собственности фольварк Стоковиево (или Стокопиево), причём в обоих случаях ссылка даётся на семейные источники. Вообще, путаница и противоречия, с которыми мы уже имели случай столкнуться, продолжаются и далее - чего стоит хотя бы приписываемый опять же самому генералу рассказ, будто его мать «умерла от побоев после допроса в ЧК в 1919 году», в то время как польский офицер летом 1920-го видел эту «милую старую пани» в добром здравии и специально подчёркивал в воспоминаниях: «никто ни разу не донёс большевикам, что это мать сыновей-“партизан”».
И подобные разночтения, требующие, очевидно, самостоятельного исследования, будут сопровождать нас ещё долго...
Семью Балаховичей нужно считать крепко укоренённой в католичестве, коль скоро старшему сыну родители прочили духовную стезю. Быть может, он потом расскажет об этом кому-либо из соратников по белогвардейской Северо-Западной Армии, и как знать, не оттого ли у генерала А. П. Родзянко под горячую руку сорвётся: «Он не военный человек, он - ксёндз-расстрига, он разбойник...» А герой этого «отзыва» вскоре отрекомендуется так: «Я белорус, католик, но я сражался за Россию, и я буду делать русское дело...»
Как бы то ни было, средства дать сыну приличное образование у Никодима Балаховича нашлись: Станислав, по утверждению его послужного списка, окончил в Петербурге частную мужскую гимназию, носившую имя его небесного патрона, - что вновь расходится с мемуарным свидетельством, будто после «четырёхлетнего практического агрономического курса» (должно быть, имеется в виду сельскохозяйственное училище) он с 1902 года, то есть с девятнадцати лет, начинает самостоятельную жизнь. Можно предположить лишь, что в выборе, сделанном старшим сыном, что-то насторожило родителей и отбило у них охоту впредь посылать детей в столицы - Иосиф, младший Станислава на одиннадцать с лишним лет (родился 17 октября 1894 года), окончил только четырёхклассное городское училище в Видзах, хотя в послужном списке и переправил его на Ковенское среднее сельскохозяйственное училище. О среднем из трёх сыновей - а кроме них, в большой семье Балаховичей было ещё шесть дочерей, - Мечиславе, 1889 года рождения, неизвестно практически ничего: старший писал, будто в годы Гражданской войны тот боролся с большевиками на Дальнем Востоке, однако следа в истории, в отличие от своих братьев, он не оставил.
Если толкование прозвища «Булак» как «человек, которого ветер носит», справедливо, то нужно признать, что начало штатской биографии Станислава вполне соответствовало этой характеристике. Он переменил несколько мест службы, пока не устроился управляющим в имение, расположенное неподалёку от его родных мест - в Дисненском уезде Виленской губернии. Там же он женится; впрочем, неясно, был ли брак его с Генрикой Гарбелль освящён Церковью, а если да, то почему впоследствии Балахович, уходя на военную службу, не представил официального свидетельства, позволившего бы его семье (от этого брака было трое детей) пользоваться установленными льготами: в послужном списке в графе «Холост или женат» деликатно помечено лишь - «сведений не имеется».
Большое влияние, по собственному признанию Балаховича, оказали на него события 1905-1906 годов. Аграрные волнения охватывали прибалтийские и привислинские губернии, и отзвуки их доходили и до Дисны. Станиславу не раз приходилось выступать арбитром при возникавших земельных конфликтах, и якобы именно тогда двадцатидвухлетний агроном получил от местных крестьян уважительное прозвище «Батька», которое будет сопровождать его в течение самых ярких и легендарных лет его жизни. Впрочем, гораздо больше политических вопросов Станислав Балахович был занят своими обязанностями управляющего имением. На этой должности он и встретил Первую мировую войну.
* * *
Нельзя сказать, чтобы братья Балаховичи устремились в ряды русской армии с первых же дней мобилизации. Скорее всего, это произошло лишь 15 ноября, когда, по формулировке послужного списка, «в службу вступил охотником (то есть добровольцем. - А. К.) на правах [вольноопределяющегося] 1[-го] разряда, [явившись] к Дисненскому Уездному Воинскому Начальнику», младший - Иосиф. Он был направлен в 53-й пехотный запасный батальон, в то время как старшего после короткого испытания сочли вполне пригодным для немедленной отправки на фронт, в кавалерийскую часть[60]. Уже 18 ноября, с назначением из Штаба Двинского военного округа, Станислав прибывает на службу во 2-й Лейб-уланский Курляндский Императора Александра II полк и зачисляется охотником в 5-й эскадрон. Отныне и до последних дней война будет его жизнью, его делом, его призванием.
Солдатом Станислав Балахович оказался храбрым, но с боевыми наградами ему явно не везло. После войны он рассказывал, что за первые же полгода службы получил Георгиевскую медаль и Георгиевские Кресты IV-й, III-й и II-й степеней, однако движение наградных документов, очевидно, было чем-то осложнено, и в результате официальное подтверждение в послужном списке нашла только III-я степень. Поскольку, однако, по существовавшим правилам представления к степеням Креста должны были делаться строго в порядке очереди, от низшей к высшим, приходится считать, что дурную шутку с лихим кавалеристом сыграла... многочисленность его подвигов, за которыми не поспевало делопроизводство.
Уже 4 июня 1915 года доброволец был произведён «за отличия в делах против неприятеля» в младшие унтер-офицеры, а на четвёртый день своего пребывания в новом звании - представлен к производству в первый офицерский чин прапорщика «за боевые отличия». Вскоре он заслужил в бою ордена Святой Анны IV-й степени с надписью «За храбрость» и III-ей степени с мечами и бантом, а в октябре - покинул ряды Курляндских улан в поисках наилучшего приложения своих сил и способностей.
При Штабе Северного фронта -1 ноября началось формирование партизанского отряда, получившего пышное наименование «Конного отряда особой важности (или «особого назначения»)». На зов формировавшего его поручика Л. Н. Пунина собираются отчаянные, энергичные, беспокойные офицеры, и среди них - прапорщик Станислав Балахович, состоящий в Отряде с первого дня его официального существования, и сразу же, несмотря на малый чин, назначенный командиром 2-го эскадрона.
Освоившись, Станислав организует вызов к себе «на сослужение» брата Иосифа, к тому времени окончившего Ораниенбаумскую Школу прапорщиков и год прослужившего в 7-м пехотном Ревельском Генерала Тучкова IV-го полку, восемь с половиной месяцев из этого срока командуя ротой. Обычно младший Балахович теряется в блеске старшего брата, более яркого, темпераментного, авантюристичного, однако, восстанавливая справедливость, следует признать, что офицером он был, по-видимому, ничуть не худшим. За период службы в пехоте он был награждён орденами Святой Анны IV-й степени с надписью «За храбрость», Святого Станислава III-й степени с мечами и бантом и произведён в подпоручики, а также зачислен в списки офицеров Ревельского полка. Последняя подробность выглядит немаловажной: состоять в полку ещё не значило быть включённым в полковую семью, и Станислав Балахович, например, так и оставался «прапорщиком армейской кавалерии, состоящим во 2-м Лейб-уланском Курляндском полку, прикомандированным к Отряду Особой Важности», - в то время как Иосиф числился «подпоручиком 7-го пехотного Ревельского полка». 29 мая 1916 года младший брат прибывает в отряд Пунина и получает назначение под команду старшего, во 2-й эскадрон. Вскоре приходит производство Иосифа в поручики, и он снова на один чин обходит Станислава, к тому времени произведённого в корнеты армейской кавалерии.
По наградным представлениям «Атамана отряда» (так официально именовался Пунин) Иосиф Балахович получает орден Святой Анны III-й степени с мечами и бантом, а для Станислава испрашиваются производства в корнеты и поручики, дополнительный год старшинства в чине, ордена Святого Станислава II-й степени с мечами, Святой Анны II-й степени с мечами и Святого Владимира IV-й степени с мечами и бантом. Но мы уже знаем, что старшему Балаховичу с наградами не везёт, - «шейные» (II-й степени) ордена Станислава и Анны, как и Владимира, он получит, похоже, не ранее чем через год, надолго отложится и производство в поручики, а неизбежно сопровождающая его путаница делопроизводства приведёт к тому, что на замену одного из испрашиваемых орденов Станиславу дадут... Анну III-й степени с мечами и бантом, уже давно у него имевшуюся. Не менее странным выглядит также, что Балахович не поднял дела о замене имеющегося ордена следующим по старшинству - обычная процедура в случае такой ошибки, - так и оставшись «дважды кавалером Святой Анны III-й степени», что резко расходилось с нормами наградной системы Российской Империи. Очевидно, сочувствуя неудачливому герою, Пунин в одном из представлений разражается настоящим панегириком своему подчинённому: «В течение 7-месячного периода (очевидно, с первых чисел февраля 1916 года, когда началась активная боевая работа Отряда при XLIII-м армейском корпусе. - А. К.) Корнет Балахович показал себя с самой выдающейся стороны, выказав безусловно огромную храбрость, решимость и редкую находчивость и предприимчивость. В боевой партизанской работе это лихой незаменимый офицер, везде и всюду идущий охотником и всегда впереди. За всю огромную боевую работу, понесённую этим доблестным выдающимся офицером, он заслуживает всяческого поощрения и награждения. Отличаясь неутомимостью (в течение 9 V2 мес[яцев] не был ни разу в отпуску) и громадной энергией, Балахович, будучи произведён в офиц[ерский] чин из вольноопределяющихся] и несмотря на отсутствие военной школы, показал себя талантливым офицером, свободно управляющим сотней людей в любой обстановке, и с редким хладнокровием, глазомером и быстротой оценки обстановки. Постоянно ведёт работу с минимальными потерями».
Нельзя не увидеть в этой характеристике многие из черт, которые будут отличать С. Н. Балаховича и в генеральских чинах, где он останется всё тем же лихим партизаном. А в дополнение к перечисленным мужеству, предприимчивости, глазомеру и проч. стоит подчеркнуть ещё одно важное качество: постоянную заботу командира 2-го эскадрона о своих солдатах, нашедшую как нельзя более яркое отражение в эпизоде разведки 23 января 1916 года, также запечатлённой одним из наградных листов.
«Он сам выскочил на полотно [железной] дороги, - пишет о Балаховиче Пунин, - и увидал, что фланг уже обойдён и перед глазами лежат около 8 немцев в 150 саженях с нацеленными винтовками. Оставалось было броситься лечь, - но тогда все пули попадут в людей цепи, стоящей сзади в шагах 30[ти]. Корнет Балахович, памятуя свой начальнический долг, - делает вид, что не видит немцев, - оборачивается и шипит: “ложись”. Люди легли. Сам же корнет делает ещё полуоборот и бросается в канаву. Немцы дают залп и ранят Балаховича. 3 пули попадают в Балаховича (2 в одежду), и корнет падает без чувств[61]...»
Корнет Балахович показал в этом деле, кроме испытанной своей храбрости и громадного самообладания, что он весь проникнут сознанием начальнического долга перед своими людьми. Своей грудью он защитил от неминуемой опасности своих людей».
А такое солдат запоминает накрепко. И когда в начале осени 1916 года погиб в бою Атаман отряда поручик Пунин, у Станислава Балаховича - удачливого, заботливого, самоотверженного и лихого командира, пользующегося безусловным авторитетом у подчинённых, - очевидно, были все основания претендовать на должность начальника[62] отряда, однако ему пришлось довольствоваться прежней должностью до середины апреля 1917 года, когда - не на «революционной» ли волне, как любимец солдат? - он становится помощником начальника отряда по строевой части. В революционных условиях карьеры делаются быстрее, и не исключено, что надежды на это лелеял Балахович-старший, сдавая 2-й эскадрон Балаховичу-младшему, который к тому времени успел получить орден Святого Станислава II-й степени с мечами, пулю в левое колено и производство в штабс-капитаны, обогнав брата уже на два чина[63] (старшего произведут в поручики лишь 24 июня).
В тяжёлые дни середины - конца августа, когда трещал под ударами немцев разложенный Советами и комитетами Северный фронт и в спешке эвакуировалась Рига, отряд имени Лунина, как он теперь назывался, сражался в числе последних, кто прикрывал общее отступление, и даже поздней осенью продолжал боевые разведки, за что Станислав Балахович в октябре и ноябре испрашивал для своих солдат Георгиевские Кресты. В свою очередь, и подчинённые выразили свою любовь и уважение к боевому офицеру, на общем собрании эскадрона присудив ему солдатский Георгиевский Крест IV-й степени с лавровой ветвью на ленте[64]. Награждение было утверждено приказом по корпусу от 7 ноября, уже после большевицкого переворота, и примерно в это же время состоялось долгожданное производство поручика Балаховича в штаб-ротмистры, но... 30 ноября большевицкий Военно-революционный Комитет при Ставке Верховного Главнокомандующего издаёт «Положение о демократизации армии», один из пунктов которого гласит: «Офицерские, классные чины и звания и ордена упраздняются, впредь выдача орденов не разрешается, ношение орденов отменяется, кроме Георгиевских крестов и медалей, кои носить разрешается».
Судьба вновь жестоко посмеялась над Балаховичем - но не чрезмерной ли уже станет её ирония, когда вскоре мы увидим этого доблестного офицера и будущего Белого генерала... под красными знамёнами?
* * *
Сроднившийся со своими партизанами и выбранный, наконец, начальником отряда Станислав Балахович оставался с ними весь последний период мировой войны на Восточном фронте (ноябрь 1917 - февраль 1918 года), когда сама война носила уже какой-то странный характер. Официально она не была окончена, хотя перемирие вроде бы было заключено; несмотря на это, немцы то и дело рывками продвигались вперёд, не особенно оглядываясь на идущие в Брест-Литовске переговоры; что же касается фронтовых частей, то они - всё равно, желали ли демобилизоваться и ринуться по домам, делить «землю и волю», или ещё видели в наступающем «германце» прежнего врага, - должны были в своих поступках считаться по меньшей мере с одним немаловажным фактом: не воюя по-настоящему, немцы тем не менее с врождённым педантизмом продолжали брать в плен тех, кто, не сопротивляясь, попадался на их пути.
Для партизан отряда имени Лунина это обстоятельство имело значение гораздо большее, чем для остальных солдат и офицеров развалившейся армии, — ведь их лихие действия были слишком хорошо памятны противнику. И неважно даже, существовал ли на самом деле приказ германского командования не считать партизан военнопленными и захваченных расстреливать на месте, и вздёргивали ли немцы на виселицу тела убитых, которые попадали к ним в руки: это уже было отрядной легендой, и, быть может, и вправду романтически настроенная офицерская молодёжь именовала себя «рыцарями смерти» и имела при себе ампулы с ядом на случай плена... так что и теперь, несмотря на крушение большого фронта, сдаваться в плен им явно не приходилось.
Надо сказать, что «пунинцы», которых с этого момента можно уже называть «балаховцами», были не одинокими в своём «индивидуальном» сопротивлении продвигавшемуся врагу. То и дело отдельные полки или батареи, с боями или без них - как повезёт - отрывались от противника и глухими прифронтовыми дорогами, в относительном порядке, вновь возвращаясь от «революционной дисциплины» к дисциплине воинской и поневоле по-старому подчиняясь остававшимся ещё на своих местах, вчера ещё униженным офицерам, — двигались вглубь страны, чаще всего, наверное, вообще не понимая, что придут-то они не просто «домой», а к большевикам.
К началу марта сильно поредевший отряд - ещё в ноябре в нём насчитывалось лишь два эскадрона вместо прежних пяти, а сейчас оставалось всего около полусотни всадников во главе с братьями Балаховичами, - осаживая под натиском продвигающихся вперёд германских войск, был прижат к узкой водной перемычке, соединявшей Чудское и Псковское озера. Растеряв значительную часть отряда при отступлении, его командир не растерял боевого задора, огрызаясь весьма активно и чувствительно и сумев, несмотря на давление противника, переправиться на «русский» берег с «лифляндского», но после этого всё же вынужден был отправить посыльного за помощью к советским властям в Гдов. В последовавшем 5 марта бою с немцами Станислав Балахович был тяжело ранен и эвакуирован для лечения в Петроград, а остатки отряда принял Иосиф.
Два с лишним месяца старший Балахович, очевидно, перебирает различные варианты своего дальнейшего поведения. Сначала он присматривается к начавшимся формированиям польских национальных частей, которые, однако, вскоре прекращаются большевиками, а затем едет в Москву и начинает добиваться «аудиенции» у Народного Комиссара по военным и морским делам и Председателя Высшего Военного Совета - Троцкого.
Похоже, что встреча и в самом деле имела место - по крайней мере, полномочиями на формирование конного полка Станислав заручился неотразимыми; тогда же, однако, он устанавливает отношения и с французской миссией, представители которой должны были подталкивать его к поступлению на советскую службу, ещё надеясь восстановить рухнувший Восточный фронт против немцев и будучи готовыми для этого сотрудничать хоть с большевиками, хоть с их противниками. Драться с немцами Балахович очень хотел, тем более что его родные места, где оставалась и семья (жена его, Генрика, умерла от рака в том же 1918 году[65]), оказались оккупированными; но, очевидно, всеядная политика бывших «союзников» вызвала у него разочарование, потому что одновременно Балахович нащупывает связи с тайными офицерскими организациями.
Попытка большевиков уже тогда разыграть патриотическую карту и под лозунгом борьбы с немцами и охраны русских рубежей привлечь к себе офицерство имела крайне неоднозначные последствия. Кто-то попадался на приманку и оказывался на Волге или Дону - против своих же недавних соратников по Великой войне, но кто-то и использовал открывающуюся возможность для легализации тайных кружков, вынашивавших антибольшевицкие замыслы. Прикрываясь девизом «Армия вне политики» и испытывая, очевидно, к немцам не менее жгучую ненависть, чем к их ставленникам большевикам, штаб генерала А. В. фон Шварца планировал формирование одиннадцати полков, при удобном случае выступивших бы против Советской власти. Конечные результаты подобной деятельности, должно быть, уже никогда не будут известны, но о том, что конный полк Балаховича, формировавшийся в Лужском уезде Петроградской губернии и первоначально именовавшийся «1-м Лужским партизанским», включался в свои расчёты «организацией генерала Шварца», - существует совершенно определённое свидетельство генерала Б. С. Пермикина[66], который в чине штаб-ротмистра вместе со своим старшим братом зачислился к Балаховичу, укрывшему их от угрозы ареста Чрезвычайной Комиссией. Ещё одним свидетельством того, что все революционные иллюзии Станислава, если они у него и были ранее, оказались изжитыми уже к концу весны, можно считать начало антибольшевицких восстаний под Лугой... сразу после приезда туда из столицы командира нового полка.
Было ли это случайным совпадением? Или, быть может, своеволие и разгул самих балаховских партизан, обижавших мирное население, провоцировали недовольство? Такие предположения можно было бы строить, если бы не существовало свидетельства одного из агентов Станислава - молодого морского офицера - о том, что он «по поручению полковника Балаховича подготовлял крестьянские восстания в мае - июне 1918 года»[67]. Не исключено, что Балахович, к этому времени, возможно, уже имеющий кадр для будущего формирования, рассчитывал на крупномасштабные выступления, которые позволили бы быстро развернуть значительные силы и свергнуть Советскую власть, однако надежды не оправдались: народное движение было ещё слишком слабым, да и неизвестно, кого крестьяне в те дни боялись сильнее - большевиков, ещё не обрушивших на деревню грабительскую продразвёрстку, или немцев, оккупировавших Псков и имевших в нескольких переходах от той же Луги целую пехотную дивизию...
А для Балаховича медаль поворачивалась оборотной стороной: коль скоро организовать и возглавить массовые восстания не удавалось, приходилось в качестве командира советского полка и начальника гарнизона Луги эти же восстания подавлять. Вернувшись из одной такой экспедиции, пьяный Балахович якобы говорил: «Теперь-то наверно не будут сомневаться в том, что я сторонник советского строя», и рассказавший об этом большевицкий автор в его словах услышал «иронию», хотя скорее можно было бы предположить в них горечь человека, вдруг ощутившего себя запутавшимся... И конечно, подобная обстановка способствовала развитию в людях худших качеств, тем более что подлинные цели формирования, по словам Пермикина, «держались в секрете даже от большинства офицеров».
Слово «офицер», крамольное на советской территории, здесь является скорее не оговоркой, а «проговоркой» и свидетельствует о том, что шило в мешке несдержанному на язык Балаховичу утаить было крайне трудно. Подозрительным для всякого «сознательного товарища» должен был казаться и сам внешний вид Лужского полка, многие из партизан которого, по воспоминаниям очевидца, «производили впечатление юнкеров».
«Через окно, выходящее во двор, видна группа спешивающихся всадников в защитных солдатских рубахах, со шпорами, при шашках и винтовках, - рассказывает другой, сам человек военный. - Все рослый, бравый народ, с драгунской выправкою. Всё будто по-старому - и форма, и седловка. Не хватает только погон на плечах, да вместо царской кокарды тёмное пятно на околыше.
Слышится обычная ругань, матерщина, прибаутки, смех...»
Генерал Г. И. Гончаренко, чьему перу принадлежит процитированное описание, в своих воспоминаниях, - правда, беллетризованных и не всегда достоверных, - вообще утверждает, что при первой же случайной встрече, только установив наличие общих знакомых по 2-й кавалерийской дивизии (куда входили Курляндские уланы), Балахович сразу разоткровенничался:
«— Черти полосатые!.. Посадили на собачий паек!.. Разведка (расположения немцев, - А. К.) - это только так, для блезиру!.. Усмиряй мужичье, не то на Волгу пошлём против чехов!.. Или на Дон, против деникинских белогвардейцев!.. Как вам это пондравится?
Он советуется со мной относительно предстоящего похода, чтобы “мужичье ненароком не взяло его в переплёт”... Ведь он же, ей-Богу, единомышленник, белогвардеец, контр!..»
«Троцкий - шеф, а в карманах у молодцов и господ офицеров до сих пор царские вензеля лежат!..» - вспоминает Гончаренко ещё одну откровенность Балаховича, который, если сказал именно так - скорее всего приврал (какие и почему вензеля должны были оказаться у вновь набранных партизан?); но вот построение его отряда на вечернюю молитву мемуарист якобы видел своими глазами, а это демаскировало «советский полк» не хуже любых вензелей...
С другой стороны, на крестьян привычная по «царской службе» команда «На молитву, шапки долой» перед строем балаховцев должна была производить впечатление благоприятное, и оно находило дальнейшее подтверждение, ибо командир Лужского полка быстро научился даже в ходе карательных экспедиций демонстрировать свою «контрреволюционную сущность»: во время лихих расправ страдали... местные коммунисты или работники «комитетов бедноты», а за Балаховичем всё прочнее и прочнее укреплялось прозвище «Батька» (самому же ему оно нравилось ещё и оттого, что заменяло невыносимое для уха «товарищ командир»...).
Но у центральной власти появлялись на его счёт определённые подозрения. Благонадёжность уже ставилась под сомнение, командира полка нервировали угрозами отправить на «междоусобный» Волжский фронт, и если сначала удавалось, ссылаясь на Троцкого, обходиться без комиссара, то к октябрю в полк, именовавшийся теперь «Особым конным полком 3-й Петроградской дивизии», стали присылать коммунистов. Беспокоил и Штаб Петроградского военного округа, придиравшийся к денежной отчётности (вполне вероятно, и вправду небезупречной). Балахович должен был чувствовать себя волком, окружённым кольцом красных флажков...
Узнав о том, что во Пскове представителями русского офицерства достигнуто с местными оккупационными властями соглашение, по которому при поддержке немцев начиналось формирование русских белогвардейских частей, он командировал за демаркационную линию штаб-ротмистра Пермикина и поручика Видякина с поручением оговорить условия перехода Особого конного полка во Псков. Балахович просил оставить его во главе полка, произвести в ротмистры, подтвердить дореволюционные офицерские чины остальному командному составу и сохранить структуру своей части, обещая привести 500 штыков, 200 шашек и 8 конных орудий, что в принципе соответствовало численности значительно возросшего в течение лета - осени Особого полка. Очевидно, готовясь к переходу (вряд ли это можно было бы сделать в последний момент), он тайно печатает листовку-воззвание:
«Братья-крестьяне!
По вашему призыву я, батька Балахович, встал во главе крестьянских отрядов. Я, находясь в среде большевиков, служил Родине, а не жидовской своре, против которой я создал мощный боевой отряд...
Объявляю беспощадную партизанскую войну насильникам. Смерть всем, посягнувшим на веру и церковь православную, смерть комиссарам [и] красноармейцам, поднявшим ружье против своих же русских людей. Никто не спасётся.
С белым знаменем вперёд, с верой в Бога и в своё правое дело я иду со своими орлами-партизанами и зову всех к себе, кто знает и помнит батьку Балаховича и верит ему»...
Это ещё отражение колебаний, выступать ли самостоятельно или присоединяться к формирующимся во Пскове регулярным войскам, - но течение событий вскоре заставило «Батьку» сделать решительный выбор.
«...Осенью 1918 года ему стало скучно, и он решил переметнуться на другую сторону», - читаем мы сегодня в исследовании, претендующем на историчность. На самом же деле «ему» стало бы, наверное, не скучно, а страшно, если бы Станислав Балахович вообще склонен был испытывать подобное чувство. Большевицкая петля сжималась всё туже, и копившееся напряжение разрядилось 26 октября столкновением в Спасо-Елеазаровском монастыре.
Древняя обитель над болотистым восточным берегом Псковского озера была местом стоянки 1-го эскадрона, которым командовал старший из братьев Пермикиных. Официально задачей было наблюдение за побережьем и нейтральной зоной, на самом же деле через Пермикина осуществлялась связь с его братом, под фамилией «Орлов» возглавлявшим сейчас белый гарнизон Талабских островов (на Псковском озере, вёрстах в десяти напротив монастыря). Передовые позиции, занимаемые эскадроном, должно быть, заставляли советские власти относиться к нему с повышенным вниманием, и к Пермикину-старшему из столицы «были командированы три партийца для создания бюро и проведения политработы». Их угрозы «отправить его, Перемыкина, и любого из командиров на Гороховскую[68] в ВЧК» 26 октября спровоцировали командира эскадрона на переход во Псков, Балахович же всем произошедшим был поставлен в крайне щекотливое положение.
Ситуация ещё ухудшилась с уходом во Псков 28 октября трёх пароходов советской Чудской флотилии; Балаховича потребовали в Петроград, а оттуда, на случай его отказа, выехали чекисты для ареста «Батьки». Однако он, буквально под носом у столичных эмиссаров, собрал те подразделения Особого полка, какие успел, и, подбодрив «сынков»: «С Богом! Смелыми Бог владеет!» - 4 ноября прорвался через правый фланг соседнего боевого участка (находившиеся там части, похоже, просто расступились, пропуская балаховцев) и осчастливил своим появлением древний Псков.
Из альтернативы - «хоть с большевиками, да против немцев» или «хоть с немцами, да против большевиков», - Балахович, хорошенько присмотревшись к Советской власти, в конце концов выбрал всё же второе, - и теперь уже открыто стал «белобандитом».
* * *
Надо сказать, что бандитом его сразу посчитали и многие из новых соратников. Офицеры спешно формировавшегося «Псковского корпуса Северной Армии», всемерно старавшиеся придать своим отрядам вид регулярных полков и батарей, увидели в прибывающих с красной стороны балаховцах только внешнюю дезорганизованность (немедленно квалифицированную как «пропитанность тлетворным духом совдепщины»), заподозрив, что «красноармейская разнузданная банда внесёт разложение и только ослабит регулярные части». Кроме того, так и осталось до конца неясным, сколько же войска привёл с собою Балахович: называемые цифры варьируются от 850 человек, в том числе не менее 250 конных, и четырёх орудий (с учётом ранее перешедшего эскадрона Пермикина), - что, в общем, вполне соответствовало первоначальным обещаниям, - до 120 конных с двумя пушками, что якобы вызвало обвинения Балаховича в обмане и торговлю вокруг признания его чина и сохранения отряда в неприкосновенности.
Впрочем, условия, на которых была достигнута договорённость о переходе, несмотря на все эти недоразумения и недоверие, изменены не были. Бывший Особый полк стал называться теперь «отрядом Булак-Балаховича» - двойная фамилия отныне прочно закрепляется за его командиром, - а сам он был-таки произведён в ротмистры. Более того, появление на довольно тусклом псковском небосклоне столь яркой звезды привело и к образованию своего рода «балаховской партии», прочившей «Батьку» на высший военный пост в новых формированиях.
Про Балаховича рассказывали и что он отказывался от таких предложений, и что он чуть ли не готовил переворот - при посредстве в первую очередь своего недавнего подчинённого Видякина, пристроившегося к этому времени в Штаб Псковского корпуса. Как бы то ни было, считать неожиданно последовавшую 22 ноября отставку командующего Северной Армией генерала А. Е. Вандама исключительно следствием интриг балаховцев вряд ли правомерно. В результате закулисной игры, к которой у её устроителей хватило ума не привлекать широкие офицерские круги, свои посты покинули почти все старшие штабные чины, а для командования корпусом (из которого, собственно, и состояла грозная лишь по названию «Северная Армия») вызвали командира одного из стрелковых полков.
А положение было поистине угрожающим. У белых было три отряда, именовавшихся полками, и несколько мелких частей, именовавшихся отрядами, при двух артиллерийских батареях, испытывавших катастрофический недостаток амуниции, боеприпасов и конского состава. 9—10 ноября в Германии разразилась революция, и её армия стала с угрожающей быстротой разлагаться по тому же сценарию, что и русская полтора года назад, а Псковский корпус оказывался лицом к лицу с советской 7-й армией, значительно превосходившей его по численности. 23-24 ноября белая разведка установила накапливание большевицких войск в непосредственной близости от города, и к вечеру 24-го уже явно определилось их наступление на Псков. На позиции восточнее его предместий спешно выступили белые полки - каждый не достигавший численности нормального батальона, плохо вооружённые, ещё хуже одетые и практически совсем не обученные и не сколоченные.
Отдельная задача возлагалась на отряд Балаховича, который должен был скрытно обойти левый фланг наступающих советских войск и ударом по их ближним тылам дать сигнал к общей атаке. «Шашкам скучно в ножнах, через три часа вы обо мне услышите... Скорее драться, всё равно с кем, лишь бы драться!» - с присущим ему позёрством заявил Булак, уводя своих партизан в рейд, но... дело пошло так, что выдвинутой на позиции пехоте Псковского корпуса пришлось испытать красный удар раньше.
Главная советская группировка превосходила белых в четыре раза, будучи к тому же значительно лучше экипирована: достаточно сказать только, что некоторые части белых принимали штыковой бой, не имея штыков и отбиваясь прикладами. Прикрывавшие левое крыло германские войска, которых большевики остерегались задевать, без боя обнажили свои позиции и приступили к эвакуации. Псковскому корпусу угрожал обход левого фланга, начались беспорядки в самом городе, и войска, выдерживавшие в течение целого дня ожесточённый бой, начали отходить в общем направлении на Изборск, оставляя город к северу. К вечеру 26 ноября 1918 года Псков был занят передовыми частями Красной Армии.
Что происходило в это время с отрядом Балаховича, неясно и до сих пор. Возможно, натолкнувшись на сопротивление противника или просто оценив его численное превосходство над своими четырьмя сотнями штыков и шашек, «Батька» принял решение отходить, сделав при этом, очевидно, ещё больший крюк, чем отступающая на Изборск пехота, и вышел в конце концов к станции Нейгаузен, - фактически не выполнив задачу, быть может подведя тем самым основные силы, но сохранив боеспособным свой отряд, что теперь, когда остальные части оказались сильно потрёпанными, было очень важно. Скорее всего, руководствуясь именно этим, командующий корпусом произвёл ротмистра в подполковники «за удачное отступление от Пскова и за сохранение своего отряда при выполнении этой тяжёлой операции».
Окрылённые псковским успехом большевики, поощряемые беспорядочной эвакуацией германских войск, продолжали развивать своё наступление, и уже 28 ноября 7-й армии было приказано продвигаться левым флангом через Нейгаузен на Верро - Валк, а правым на Нарву - Ревель. После боев у Нейгаузена и Верро отряд Балаховича вместе с другими отступившими от Пскова белыми частями отходит к северу, на Юрьев. Казалось, что территория бывшей Эстляндской губернии прочно взята в красные клещи и если не дни, то недели белых здесь сочтены.
Однако получилось совсем не так. Главнокомандующий вооружёнными силами «самоопределившейся» Эстонии, полковник русского Генерального Штаба И. Я. Лайдонер, сумел организовать добровольческие отряды и приступить к мобилизации для отпора советскому наступлению. Командованием переименованной в корпус Северной Армии, вошедшей в соприкосновение с эстонскими войсками, 8 декабря был заключён с ревельским правительством договор об «общих действиях, направленных к борьбе с большевизмом и анархией», на условиях невмешательства Северного корпуса во внутренние дела Эстонской Республики и постановки русских войск на эстонское довольствие в счёт будущего государственного долга России. Корпус входил в оперативное подчинение Лайдонеру, главным же направлением будущих совместных операций называлась «Псковская область».
Но пока до этого было ещё далеко. По оценке стороннего наблюдателя, «“Северный Корпус” представлял жалкое подобие войска.
Без денег, без какого-либо хозяйственного обеспечения, без необходимого, часто без сапог, - люди “Корпуса” не разбегались единственно в силу энергии и своеобразного обаяния кучки офицеров: Булак-Балаховича, Пермикина, Ветренко, Видякина и др., рьяно настаивавших на борьбе с большевиками и не покидавших ни на минуту свои части». Силы корпуса в конце декабря 1918 года вряд ли превышали 4 000 штыков и шашек при 6 орудиях, причём до 20% боевого состава и треть артиллерии приходились на отряд «Батьки». В оперативном отношении корпус подразделялся на три небольших группы, одна из которых действовала на Валкском, другая - восточнее, на Юрьевском направлении (отсюда названия «Западная» и «Восточная» соответственно), а третья - на Нарвском («Северном»), в противовес чему Юрьевская группа могла именоваться также «Южной». Основу последней и составляли партизаны Балаховича.
С середины января 1919 года начинается контрнаступление русских и эстонских войск на южных направлениях, которое привело 31 января к занятию Валка и 1 февраля - Верро. Западный берег Чудского озера был также очищен от красных, а вдоль берега Псковского озера союзники продвинулись почти до уровня Печор. Успешные операции поднимали боевой дух, отразившийся в приветствии, которое 24 февраля адресовал соратникам Балахович-младший (он был произведён в ротмистры, числясь к тому времени по кавалерии), временно командовавший Южным отрядом вместо заболевшего брата: «В час великого народного испытания Эстония приютила на своей территории наш Отряд и дала нам возможность собраться с силами против общего врага. Сегодня в торжественный день празднования годовщины самостоятельности Эстонии от всей души приветствуем молодую Республику. Счастлива страна, начавшая свою историю столь блестяще. Храбрые сыны Эстонии показали всему миру пример геройской воинской доблести и мужественной стойкости своих мудрых военачальников и правителей. Наш Отряд счастлив быть в тесном союзе и дружбе с эстонскими и финскими войсками[69], с которыми он слился в единой воле к победе над разорителями народов - большевиками».
Этот пафос, быть может, преувеличенный, разделял и старший брат, приписавший от своего имени: «Вполне присоединяюсь к высказанным здесь пожеланиям и вполне разделяю выраженные здесь чувства. Начавшееся движение против большевизма в России и помощь дружественной Эстонии дают мне право крикнуть громкое ура за окончательную победу и союз с Эстонской Республикой»[70], хотя не только окончательная победа рисовалась лишь где-то в туманной дали, но и положение наступающих ещё нельзя было назвать прочным: район Юрьева оставался подверженным большевицким набегам по льду Чудского озера, выводившим противника в тыл всей Южной группировки.
Попытка переноса боевых действий на «эстонскую» территорию, предпринятая красными в конце февраля, не удалась - их передовые части были отбиты Балаховичем, но и ответная экспедиция за озеро сорвалась из-за того, что базировавшиеся на остров Норка партизаны не выступили вовремя и нарушили тем самым координацию действий с частями, продвигавшимися по берегу Чудского озера. Вину за это вступивший в командование Южным отрядом генерал А. П. Родзянко возложил персонально на Булак-Балаховича, который оправдывался тем, что на льду появились трещины «и нельзя было двигаться без большого риска».
Стремясь восстановить свою партизанскую репутацию, Балахович в ночь на 16 марта предпринимает дерзкий налёт на Раскопель - базу советской Чудской военной флотилии на восточном берегу озера. Сосредоточившись на острове Норка, партизаны численностью от 300 до 400 штыков и шашек под покровом ночной темноты прошли по льду более 20 вёрст и к рассвету достигли твёрдой земли, где, пользуясь нерадивостью охранения красных, позволили себе сделать остановку и напиться чаю (заметим, что никто из местных жителей не сделал попытки оповестить Раскопель, очевидно, сочувствуя балаховцам).
К 10 часам утра база была обложена со стороны суши и сдалась практически без сопротивления, не успев сделать ни одного выстрела из своих четырёх пулемётов и двух 75-мм орудий. В течение пяти часов Балахович довольно бестолково бил по окрестностям из захваченных пушек (вывезти их он всё равно не мог), а посчитав поднятый переполох достаточным - двинулся в обратный путь, уже будучи обременённым обозом из ста подвод, вывозивших с базы военное имущество, и тремя трофейными автомобилями. Не интересовавшие белых краснофлотцы в подавляющем большинстве разбежались, и их никто не тронул.
Проходит чуть более двух недель, и 5 апреля партизаны совершают ещё один набег, теперь уже на Гдов. «Он захватил казначейство, пленных, пулемёты, много снаряжения и благополучно, почти без потерь, вернулся в исходное положение», - признавал генерал Родзянко. В ответ большевики сделали попытку захватить остров Норка, но она была легко отражена Балаховичем и старшим Пермикиным, после чего выступившая на поверхности льда вода прекратила подобные операции.
Вскоре подполковник Булак-Балахович был произведён в полковники, что как будто говорило о признании его заслуг. «Подполковник] Балахович, - свидетельствовал даже неприязненно относившийся к нему Родзянко, - действовал весьма энергично; прекрасно налаженные команды лазутчиков проводили своего “батьку”, как они его называли, в тыл к противнику чрезвычайно искусно и почти всегда без потерь. В этих лазутчиках была главная сила и причина успехов отряда Балаховича: Балахович никогда, несмотря ни на какие приказания, не двигался вперёд, если его лазутчики не ручались ему за то, что набег можно произвести без риска потерпеть неудачу. Таковое отношение к приказаниям часто расстраивало задуманную операцию, иногда подводило соседей, но зато действительно подполковник] Балахович почти никогда не нёс потерь и часто самыми незначительными силами достигал больших результатов и захватывал большую добычу». Наряду с этим звучали и нарекания в адрес балаховских партизан, которые, кроме дележа трофеев и общей недисциплинированности, обвинялись и в расправе над несколькими финскими добровольцами, осмеливавшимися срывать с русских солдат погоны и кокарды - в их глазах символы «старого режима».
Далеко не лучшей была и репутация «Батьки» среди тех офицеров, кто не служил с ним вместе и не видел его в боевой работе. «Он человек низкой нравственности, нечестный и в политике оппортунист, он жесток, любит расстреливать собственноручно, не жалея в случае проступка и своих людей. Он весьма склонен к грабежу, но здесь на это смотрят снисходительно...» - записывал двумя месяцами позже первые слухи о Балаховиче офицер, только что прибывший на Северо-Западный театр, признавая, однако, его на основании тех же слухов одним из «наиболее выдающихся партизан». Стремлением генерала Родзянко оторвать «Батьку» от его «сынков» и привести последних в регулярный вид было вызвано учреждение фиктивной должности инспектора кавалерии Северного корпуса (в течение всего 1919 года белая конница на Северо-Западе не превышала двух полков), на которую и был назначен полковник Станислав Балахович. Его конным отрядом, ещё ранее переименованным в «Конный полк имени Булак-Балаховича», остался командовать Иосиф.
Последствия, впрочем, оказались противоположными ожидаемым: часть партизан, наиболее преданных «Батьке», после его повышения «рассеялась», и пришлось поручать Булаку собирать из них новый партизанский отряд, что было совершенно необходимо ввиду предстоявших боевых операций.
* * *
Боевой дух белых благодаря предшествовавшим небольшим, но в целом успешным операциям был довольно высок, с начала весны ожидалось увеличение помощи со стороны союзников по Антанте, опыт Гражданской войны обещал удачу дерзким и решительным, - и Северный корпус изготовился к броску на Петроград. Для этого русские части были сосредоточены в районе Нарвы, куда перешли и войска бывшего Южного отряда. Концентрируя все силы на кратчайшем направлении Нарва - Ямбург - Гатчина - Петроград, Родзянко, однако, не планировал в дальнейшем придерживаться исключительно его, а намечал после прорыва неприятельской обороны развести войска почти под прямым углом — на Петроград и вдоль берега Чудского озера на Гдов. Псковское направление было оставлено целиком на попечение 2-й эстонской дивизии полковника Пускара (1-я, генерала Теннисона, подпирала нарвский участок), что явилось вскоре источником многих нежелательных событий.
Наступление на Гдов было поручено Балаховичу, получившему в своё распоряжение, помимо Конного полка своего имени (под командой младшего брата) и вновь собранных партизан под командой капитана Григорьева, ещё и Балтийский полк полковника Вейсса, сформированный в Эстонии из остзейских немцев, но подчинённый командованию Северного корпуса. Ранним утром 13 мая 1919 года весь корпус перешёл в наступление, а уже 15-го, продвигаясь по территории, население которой относилось к нему с явным сочувствием, Балахович занял Гдов, где учредил местное гражданское самоуправление. Опираясь на поддержку крестьян, «Батька» разводил свои немногочисленные войска широким веером; рыскавшие по красным тылам партии разрушали мосты, вносили деморализацию, диверсией вновь парализовали советскую флотилию в Раскопели. Не переоценивая народное движение, чьи цели формулировались коротко и ясно - «долой войну, да здравствует свобода дезертиров и частная собственность, долой жидов и кровопийц-коммунистов», - Балахович предоставлял возможность тем, для кого намерение посчитаться с «кровопийцами» преобладало даже над главным лозунгом «долой войну», полную возможность осуществить это желание, и численность балаховских отрядов возрастала. А вскоре красным стало не до Гдова...
Среди войск советской Эстонской дивизии, расположенной на псковском участке, должно быть, начали возрождаться национальные чувства, и в ночь на 24 мая начальник дивизии, Штаб её 1-й бригады и один из полков перешли к «своим», оголив участок фронта, куда немедленно повёл наступление полковник Пускар. Деморализованные части соседней 10-й стрелковой дивизии обратились в бегство, во второй половине дня 24 мая принявшее массовый характер, и вечером 25-го эстонцы вошли в западное предместье Пскова, несколько задержавшись там из-за взрыва моста через реку Великую. Окончательно город был занят ими утром 26-го.
Когда генерал Родзянко узнал о начавшемся движении 2-й эстонской дивизии на Псков и о том, что находившиеся в Раскопели советские корабли также могут быть захвачены эстонцами, - он потребовал скорейшего наступления и от отряда Балаховича. Подобный «бег наперегонки» стал закономерным следствием апрельского отказа Родзянки от действий на псковском направлении и передачи последнего Пускару; теперь же это приводило к главенству эстонцев на южном участке фронта, не избавляя в то же время от разбрасывания русских сил: с продвижением Балаховича всё дальше и дальше к югу увеличивался разрыв между его отрядом и войсками ямбургского направления, куда пришлось направить отобранный у Булака Балтийский полк, вместе с несколькими новосформированными частями прикрывший этот пустующий сектор. У «Батьки» теперь оставались полк его имени, партизаны Григорьева и... включающиеся в борьбу крестьяне да перебегающие красноармейцы.
Правда, вряд ли он в те дни испытывал беспокойство по этому поводу: слишком сильна была эйфория удачного наступления. Опередить Пускара во Пскове не удалось (и в связи с этим Балахович просто вынужден был признать права эстонцев на захваченную в городе военную добычу и предоставить им торговые льготы при закупках псковского льна, что впоследствии, конечно, было поставлено ему в вину), но даже несмотря на это, прибытие «Батьки» во Псков 29 мая из Раскопели, по Чудскому, Псковскому озёрам и реке Великой, вылилось в настоящий триумф.
«Величественную и незабываемую картину, - неистовствовала от восторга местная газета, - представляла и самая встреча.
Когда на речной глади показались суда батьки-атамана, когда на носу передового судна обрисовалась его всем знакомая фигура, - взрыв приветствий, громовое ура, клики восторга и радости потрясли собравшуюся на пристани многотысячную народную массу.
Дети и старики протягивали руки, женщины плакали».
«Разбив главные силы противника, пытавшиеся прорваться к Пскову (не совсем понятно, что имеется в виду. - А. К.), 29 мая я прибыл в город и согласно приказа Главнокомандующего эстонскими войсками и командующего войсками Отдельного Корпуса Северной Армии принял командование военными силами Псковского района», - объявлялось в «Приказе № 1 по Псковскому району». Населению предлагалось «сохранять полное спокойствие»: «Мои войска победоносно продолжают своё наступление. Все попытки противника оказать сопротивление быстро ликвидируются».
«Я командую красными ещё более, чем белыми... Красноармейцы и мобилизованные хорошо знают, что я не враг им, и в точности исполняют мои приказания...» - говорил «Батька» поднявшей его на руки ликующей толпе, и в этих словах было много правды. Белые отряды дерзко шныряли по всему уезду, уже 31 мая Иосиф Балахович во главе Конного полка вошёл в Лугу (более 120 вёрст от Пскова и 110-ти - от Гдова), и в тот же день поступили известия об организованной сдаче в плен целого советского полка. Подобные случаи продолжались и в течение следующих недель, так что «Батька» мог даже позволить себе заявить пришедшим к нему крестьянам-добровольцам: «Нет у меня для вас ружей, вы вернитесь, запишитесь к большевикам, возьмите ружья и возвращайтесь ко мне». - «Так и сделали!» - не без самодовольства рассказывал он позже.
Не случайно поэтому, что противоборство на псковском участке фронта принимало подчас чисто пропагандистские формы. Приказы и обращения за подписью Булак-Балаховича выходили одно за другим и получали широкое распространение, вселяя надежды и призывая к борьбе:
«Дети, уйдите от негодяев.
С оружием, с артиллерией, со всем добром, связав комиссаров, смело переходите под народное знамя, которое я несу твёрдой рукой.
У нас для всех свобода. У нас все братья. У нас не только земля, но и хлеб принадлежит крестьянину.
У нас рабочий сыт.
У нас всего вволю.
Мы идём разрушить тюрьмы и уничтожить палачей.
Мы несём всему народу мир.
Нас много.
Знайте всё, чтоя воюю с большевиками не за царскую, не за помещичью Россию, а за новое всенародное Учредительное Собрание, и сейчас со мной идёт общественная власть.
Скорее ко мне, дети, скорей».
Правда, что касалось сытости и довольства, тут Балахович сознательно выдавал желаемое за действительное. На освобождённых территориях не было ни продовольствия, ни денег; оставалось надеяться лишь на содействие союзников, причём не эстонцев, поскольку те, сами действительно тоже не богатые, практически закрыли свои новоявленные границы для вывоза продуктов питания. Помощь же миссий Антанты, удивлявшихся и восхищавшихся беззаветной выносливостью нищих белогвардейцев, со дня на день, с недели на неделю всё откладывалась и откладывалась... Во Псков к Балаховичу являлись «ходоки» от фронтовых отрядов, просившие «хлеба и “грошей” на боевую работу»:
«- Уж шесть дней, батька, дерёмся, а почти не ели.
- Знаю, знаю, сынки, - отвечал Балахович. - Лихие вы у меня. Вам и десять проголодать нипочём. Задержались что-то союзники с доставкой. Потерпите ещё малость.
- Да не впервой терпеть-то. Больно есть хочется. Ведь не зря хотим. Работаем-то во как! Сам видишь.
- Вот и я говорю: не впервой вам, ещё раз и два потерпите. Не грабить же нам крестьян. Не отнимать и у них последнее.
Мы-то с вами уж на то пошли, чтобы всё вынести. Когда-нибудь своё наверстаем. Или грабить пойти мне с вами, освободители?
- Грабить не надо. Грабителей вешать, - отвечала группа.
- Ну то-то. Прошу вас, потерпите, сынки. Ничего сейчас не выходит. Пустой вовсе Псков. Знаете вы меня? Разве дал бы я голодать вам, когда б мог помочь?
- Ладно, батька, потерпим. Оставайся спокоен. Знаем тебя. Поторопи союзников только, - чтоб их чорт побрал!»
И конечно, трудно было ожидать от солдат, «варивших сочную траву» и вывесивших во Пскове объявление: «Граждане, мы голодаем, дайте что-нибудь», - чтобы они совсем воздержались от грабежей и насилий, особенно в боевой обстановке. Булак, должно быть искренне, всё же пытался бороться с этим, - рассказывали, будто он «застрелил собственноручно ординарца за кражу», - в то же время не будучи способен удержать тех, к кому в руки попадали деньги, от кутежей, которые выглядели на общем фоне вызывающе и оскорбительно. Сам любивший широкую жизнь, он, по-видимому, вообще легкомысленно относился к деньгам, не без рисовки рассказывая о себе: «У меня денег никогда нет - всё раздаю. Подчас солдаты мне свои деньги приносят - возьми, батька, на табак. Видя, что я себе ничего не беру из денег, солдаты говорят: на всё батька умён, а на деньги - дурак». При этом выглядит одинаково правдоподобной как необходимость требовать от имущих слоёв пожертвования на нужды войск, так и незавидная судьба собранных денег, значительная доля которых могла разойтись по псковским кабакам.
Не голословным осталось и прозвучавшее уже зловещее «вешать». Именно «балаховские казни» стали одним из самых ярких аргументов советских разоблачений «преступлений белогвардейщины» и поводом для возмущения либеральных мемуаристов и историков. Повествования о пребывании «Батьки» во Пскове действительно пестрят отталкивающими сценами публичных казней, после которых повешенные оставались на фонарях, а позднее - на специально сооружённой виселице, в течение многих часов. Утверждая, что «не надо казнить без суда; какой-нибудь суд всегда нужен», Балахович то и дело, инсценируя «суды», вступал в препирательства со смертниками или предлагал собравшейся толпе высказаться в пользу приговорённых. Мемуарист описывает, как на одну такую попытку заступничества Булак столь грозно крикнул: «Выходи сюда вперёд, кто хочет его защищать?» - что продолжать ходатайство желающих не нашлось, - но с другой стороны, нельзя обойти молчанием и эпизод с помилованным красноармейцем, на котором «Батька» заметил нательный крест: «Счастлив ты! Знать, молитва матки твоей дошла до Бога! Ты свободен! Отпустить его!»
Отрицать факт псковских казней невозможно. Следует, однако, заметить, что люди, пережившие обстановку красного террора, нередко склонны были не ставить их Балаховичу в вину; что, по словам самого «Батьки», «он повесил за 10 месяцев (то есть с ноября 1918 года по август 1919-го. — А. К.) “только 122 человека”, хотя красных прошло через его руки десятки тысяч», а по утверждению современника, за первые летние месяцы было «повешено им несколько десятков человек (большевиками за 6 месяцев [во Пскове] расстреляно около 300 человек, но ни одного публично)»; наконец, что одно из главных обвинений, будто Булак «приучил толпу к зрелищу казни» и тем «распалял самые зверские инстинкты», - выдаёт сознательное передёргивание его автора или же непонимание им состояния, в котором пребывает во время гражданской войны даже «мирное» население.
То, что основной накал противоборства приходился тогда на сравнительно немногочисленные воюющие армии, безусловно справедливо; но нет никаких оснований считать остальную массу благостным «богоносцем», смиренно страдающим от проходящих войск. На самом деле все слова о тлетворном влиянии междоусобицы следует отнести не к столкновению политических лагерей (борьбу защищающих Россию белых со стремящимися к мировой революции коммунистами по совести трудно признать «междоусобной»), а как раз к «мирному» населению, которое отнюдь не случайно, отравленное этим влиянием, выплёскивало накопившееся во многочисленных «пьяных бунтах», «бабьих бунтах», «бунтах дезертиров» или отвратительных сценах самосудов. Уже носящую в себе зерна безумия толпу вряд ли нужно было дополнительно «развращать» сценами казни, и какие инстинкты мог ещё «распалить» Балахович в людях, не просто сбегающихся посмотреть на объявленную казнь, но собиравшихся заранее в ожидании у виселицы и расходящихся недовольными, если казни в этот день не было? И, не перенося вышесказанного огульно на всё население Пскова, мы должны признать, что «кровавый разбойник» Булак-Балахович — солдат, привыкший за пять лет к тому, что лишь смерть врага полностью избавляет от угрозы, живущий в обстановке постоянного риска собственной жизнью, непосредственно соприкасающийся с последствиями большевицкого владычества, «обрекающий и обречённый», - и пресловутое «мирное население» в своём отношении к публичным казням вполне стоили друг друга...
Казни выглядели уже одной из деталей повседневности, и связанное с ними общее огрубление нравов как-то раз проявилось в том, что на виселице оказалась... вобла с прикреплённым объявлением: «Повешена как главная преступница, которая заменяет собою в Красной армии свинину, а поэтому подлежит ликвидации через намыленную верёвку», - и хотя приводящий этот текст советский автор считает его «насмешкой рабочих» над Булаком, явный антисемитский намёк (свинина как запретная пища) и подчёркивание бедности красноармейского пайка - вспомним «батькино»: «у нас всего вдоволь» - заставляют увидеть в этом «висельный юмор» самих балаховцев.
В принципе им же могли принадлежать и описанные тем же автором карикатуры, «изображающие, как толстый эстонец держит голую женщину на руках и подносит её в подарок стоящему Балаховичу. Под рисунком надпись: “подарок ‘батьке’ от города Юрьева белой Эстонии за пролитие крови псковичей”», - поскольку слова о «пролитии крови» вполне можно считать позднейшей и тенденциозной вставкой, а разворачивавшийся на глазах всего города роман своего командира с юрьевской баронессой Тёртой фон Герхард «сынки» действительно восприняли с ревностью, демонстративно горланя по улицам песню про Стеньку Разина, который, как известно, «нас на бабу променял». Вообще война получалась какая-то лёгкая, победоносная и весёлая, заключавшаяся в основном в неизменно удачных экспедициях против отступивших от Пскова большевиков и смелых партизанских поисках в их ближних тылах, и, по мнению современника, дававшая Балаховичу возможность «приблизиться к подвигам легендарного Тараса Бульбы». Вспомнить Гоголя заставляет и описание приёма добровольцев, в самом деле сходного с аналогичной процедурой в Запорожской Сечи, только «без особых религиозных вопросов, ибо само собой понималось, балаховец нехристем быть не мог». Проницательному наблюдателю, впрочем, должно было становиться ясным, что долго такая беспечальная жизнь балаховцев продолжаться не сможет, более того, что закончится она весьма и весьма скверно. И ещё более очевидным это должно было быть для тех, кто знал о зреющем в командных кругах корпуса недовольстве Балаховичем, которого уже открыто обвиняли в произволе, политиканстве, распускании своих подчинённых и, наконец... в печатании фальшивых денег.
* * *
На последнем придётся остановиться подробнее. И причина здесь не только в том, что Булак-Балахович оказался единственным из Белых военачальников его уровня, кого обвиняли в столь неприкрытой и вульгарной уголовщине; «дело о фальшивых керенках»[71] интересует нас скорее как самый сильный аргумент в том походе на «Батьку», который был летом 1919 года предпринят генералом Родзянко, - как козырная карта в игре, не больно-то честной, но от этого не менее успешно перевернувшей в очередной раз судьбу Балаховича.
Действительно, без грабежа в той или иной форме, в тех или иных размерах не обходится ни одна воюющая армия, тем более столь ужасающе нищая, как Белые войска на Северо-Западе (Северный корпус или Отдельный корпус Северной Армии, 19 июня переименованный вновь в Северную Армию, а 1 июля — в Северо-Западную): «Кроме 2 фунтов хлеба (1 1/2 муки) и четверти фунта сала, другие продукты выдавались лишь изредка. Приварка вовсе не было, а потому суп имел вид горячей сальной воды», - рассказывал строевой офицер, а о голодающих балаховцах мы уже знаем. Не выглядели чем-то особенным и расправы с коммунистами, практиковавшиеся во всех боевых частях и, по свидетельству участника событий, бывшие следствием единодушия офицеров и солдат, озлобленных на зачинщиков Гражданской войны (впрочем, говоря об этом, не забудем и о росте численности Белых полков за счёт поставленных в строй пленных). Таким образом, и здесь Булак ничем принципиально не выделялся, разве что стоявшей перед ним необходимостью, осуществляя военную администрацию во Пскове, карать не только государственных, но и уголовных преступников в более широких масштабах, чем это приходилось делать фронтовикам.
Намного предосудительнее были планы создания буферной «Псковской Республики», также приписываемые Балаховичу, который якобы готовился стать в ней военным министром или Главнокомандующим. Но когда напущенный вокруг этого предприятия туман был частично развеян эмигрантской мемуаристикой, стало ясно, что вся вина «Батьки» ограничилась в лучшем случае обсуждением этой темы в одном-единственном разговоре с английским представителем, главными же инициаторами предстают снискавший на Северо-Западе широкую известность присяжный поверенный Н. Н. Иванов, человек, быть может, по-своему искренний и... искренне беспринципный, - а также оппоненты Балаховича и будущие его пристрастные критики из числа псковской «общественности». Неопытным и не разбиравшимся в политике «Батькой» казалось легко манипулировать, но все манипуляции в сущности разбивались о его постоянное пренебрежение тылом ради боевой работы и стремление во имя общего дела оставаться лояльным даже к несимпатичному ему начальству. Булак действительно в большей степени, чем его соратники, склонен был к «демократической», «народнической» и даже «федералистской» фразеологии, но в реальные действия это не выливалось. Более того, после образования 11 августа 1919 года Северо-Западного Правительства (фактически областного), куда вошли некоторые инициаторы «Псковской Республики», говорить о какой-то особой роли Балаховича вообще не приходилось. А вот что касается фальшивых денег, то их фабрикация выглядела для всех нормальных людей настолько из ряда вон выходящим деянием, что решительно и бесповоротно компрометировала причастного к ней военачальника...
А впрочем, какого именно военачальника? Дело в том, что когда с продвижением вперёд белые убедились как в зыбкости собственного экономического положения (всесторонняя зависимость от союзников), так и в разорённом состоянии освобождаемых областей, — с военной прямотой предложил Главнокомандующему Юденичу и состоящему при нём Политическому совещанию «печатать фальшивые керенки» вовсе не Балахович, а Родзянко. К работе планировалось привлечь инженера Тешнера, уже вроде бы приступившего к подготовке оборудования. Сомнительный проект, однако, был Юденичем отвергнут, а нехватку денежных знаков решили восполнить эмиссией собственных. Происходило всё это в середине июня.
А уже 20 июня Родзянко, обеспокоенный тем, что оставшийся не у дел Тешнер был приглашён во Псков, возможно, имея при себе что-либо из оборудования или клише фальшивок, - обратился к Балаховичу с грозным запросом «будете ли вы подчиняться[72] корпусу» и требованиями, «что Иванов не будет во Пскове» и «что инженер Тешнер покинет Псков».
Командованию Северного корпуса (Северной Армии) Балахович подчинялся настолько, насколько само это командование могло руководить его действиями, что в тех условиях оказывалось делом непростым. Иванов, при участии «Батьки» или самостоятельно, вскоре исчез из Пскова, перенеся свою политическую активность в Ревель. А относительно Тешнера было отвечено, что пригласили его «для соорганизования областных бон, за отсутствием денег в городе», «никакой лаборатории» (?) при нём нет и слухи об этом ложны. На самом же деле в конце июня в № 1-м псковской гостиницы «Лондон» уже заработала подпольная «экспедиция», производившая фальшивые керенки 40-рублёвого достоинства.
Родзянко терпел ещё две-три недели, но 21 июля неожиданно для всех объявил вообще все керенки неполноценными («рубль керенскими деньгами приравнивается [к] полтиннику на царские и думские деньги»), а уже на следующий день, по случайному - или не случайному? - совпадению, на псковском рынке был схвачен за руку солдат, пытавшийся расплатиться фальшивками. Писаря, утянувшего их из балаховского штаба, на скорую руку повесили, 27-го уничтожили часть незаконного тиража, ликвидация же всех дел, связанных с этой аферой, по косвенном данным должна была завершиться не позднее первой недели августа. На этом всё вроде бы замирает.
Однако не проходит и двух недель, как генерал Родзянко, на непосредственно руководимом им участке с упорными боями отступивший за Ямбург, переходит в атаку... против белого Пскова и персонально против Булака, вновь вытащив на свет Божий, казалось бы, уже прочно похороненную историю с керенками. Эта неожиданная активизация выглядит настолько подозрительной, что стоит повнимательнее приглядеться к обстановке, сложившейся вокруг «Батьки».
Пока суд да дело, его формирования всё более и более принимали вид регулярных частей. 10 июля «из частей 1-ой Стрелковой дивизии и всех отрядов полковника Булак-Балаховича» был образован 2-й Стрелковый корпус со штабом во Пскове (1-й корпус действовал на ямбургском направлении под непосредственным командованием самого Родзянко). 1-я дивизия фактически так и не вошла в состав нового корпуса, прикрывая сектор между расходящимися операционными направлениями, отряды же Булака вскоре получают название «Особой дивизии», а 15 июля - «4-й Стрелковой дивизии». К этому времени во Псков прибыл генерал Е. К. Арсеньев, назначенный командиром 2-го корпуса и предполагавший помимо «Батькиной» сформировать ещё одну дивизию, на пост начальника которой прочили одного из главных соратников Балаховича, полковника Стоякина.
Арсеньев был креатурой Родзянки и, скорее всего, получил от него достаточно нелестную характеристику «Батьки»; однако именно по ходатайству Арсеньева в начале последней декады июля Балахович был произведён в генерал-майоры. Не менее прочной оставалась позиция Булака и в глазах союзников - как эстонцев, так и англичан, на чью военную миссию должен был производить самое благоприятное впечатление его «демократизм». Многое делалось, чтобы настроить против него Главнокомандующего, генерала Н. Н. Юденича, но без большого успеха - для нейтрализации негативных качеств Булака намечался безошибочный рецепт: произвести «Батьку» в генерал-лейтенанты, наградить орденом Святого Георгия IV-й степени и... бросить балаховских партизан на Новгород, в дальнейшее наступление, чтобы наилучшим образом использовать их боевые качества и, оторвав от тылового района, снять тем самым все возникшие вопросы и нарекания. «С военной точки зрения он преступник, но всё же молодец, полезен в теперешней обстановке», - якобы говорил Главнокомандующий о Булаке, невзирая на все слухи и сплетни о последнем.
В свою очередь, и «Батька», понимая, что имя Юденича «как большого боевого генерала» пользуется авторитетом в глазах солдат, вслух заявлял, что предпочитает его Родзянке, «потому что Родзянко - конченный человек, а Юденич ещё себя не показал». Правда, таким заявлениям в устах импульсивного Балаховича не стоит придавать слишком большого значения - ведь он то высокомерно утверждал, будто и Родзянко, «хоть и не Бог весть какой генерал, но может быть полезным, и потому его надо оставить», то собирался отказываться «от трёх последних чинов, полученных им “от этих господ”... но зато Родзянко и прочих (? - А. К.) разжалует в солдаты»; но решительная поддержка Балаховичем Главнокомандующего в смутные дни конструирования Северо-Западного Правительства и его первых деклараций («прислал к Юденичу своих офицеров сказать ему, что он всецело на его стороне») тоже говорила сама за себя.
Но Юденичу-то зачем был нужен Балахович? Разговоры штатских сотрудников Главнокомандующего, будто тот боялся своего подчинённого, просто не заслуживают серьёзного обсуждения (недалёкое будущее покажет, что как раз не боялся, и, может быть, зря). Юденич вполне мог по достоинству оценивать партизанские качества «Батьки», в лихих и дерзких операциях действительно всегда бывшего «молодцом». Но не менее важным представляется и ещё одно соображение на этот счёт.
Несмотря на формальное единство Белых войск на Северо-Западе, фактически, как мы уже убедились, театр военных действий разделялся на два направления, слабо связанных между собой как в смысле непрерывности линии фронта, так и в смысле единства управления. На деле получалось, что броском на Петроград по кратчайшему направлению всецело руководил Родзянко, проявивший себя там целеустремлённым и решительным боевым генералом, а распространением в пределы Псковской и, в перспективе, Новгородской губерний, связанным с фланговым обеспечением основного направления и привлечением к борьбе крестьянских масс, - Балахович, тоже бывший в таком качестве как нельзя более на своём месте. Сочетание же этих зависящих друг от друга, но вполне самостоятельных оперативных задач, наверное, и обещало наилучшие результаты всей кампании.
Однако генерал Родзянко - командующий корпусом, а затем и Армией, - исходя из общей картины его действий, представляется человеком лишь одной оперативной идеи. Сначала это безудержный лобовой удар на Петроград, при котором движение отряда Балаховича на гдовское направление постоянно угрожает окончательным разрывом фронта и вынуждает к отвлечению довольно значительных сил на слабо прикрытый промежуточный участок; а после неудач в июле - начале августа у Родзянки появляется новый план полностью свернуть ямбургское направление, уступить его эстонцам, как в мае им уступили псковское, и, собрав все наличные силы теперь уже во Пскове, - устремиться на Новгородчину.
Это не могло устраивать Юденича, который к началу августа вообще изъял из подчинения Родзянке 2-й корпус Арсеньева. Впрочем, всем было ясно, что главной фигурой на псковском участке остаётся не Арсеньев, а Балахович, - и именно поэтому Главнокомандующий, казалось бы, должен был поддерживать последнего против Родзянки. И вот в этой-то ситуации Родзянко заходит с козырной карты: явившись в Ревель, 13 августа на заседании Северо-Западного Правительства он рассказывает «о фальшивых деньгах, которые печатают в Псковской армии у Балаховича» (запомнившаяся одному из министров фантастическая «Псковская армия» как раз свидетельствует о значительной обособленности одного участка фронта от другого), и в те же дни доводит эту информацию до сведения генерала Лайдонера и английских представителей, немало их огорошив.
Юденич знал о том, что сам обвинитель в своё время не прочь был печатать керенки; знал и об антагонизме, существовавшем между Родзянкой и Балаховичем. Поэтому он, желая выслушать и другую сторону, 19 августа вызвал к себе в Ревель «Батьку», а 20-го... назначил его Командующим 2-м корпусом на место уехавшего в Гельсингфорс генерала Арсеньева. Столь неожиданное решение могло стать следствием как критической обстановки под Псковом, где с 14 августа шло активное красное наступление (эстонцы полковника Пускара пятились, оставляя противнику трофеи и пленных), так и вполне исчерпывающего ответа, данного Булаком по ключевому обвинению. «Юденич требовал, - записал в дневнике один из министров Северо-Западного Правительства, - предания суду офицера, печатавшего фальшивые керенки. Балахович ответил: “предавайте меня суду, я приказал печатать; мне нужно было что-нибудь дать тем моим партизанам, которых я посылал в тыл большевикам”».
Таким образом, незаконная эмиссия приобрела теперь вид отнюдь не уголовщины, а «нормальной» экономической диверсии, хотя и относящейся к числу запрещённых приёмов ведения войны, но вполне соответствовавшей напряжённому характеру противоборства и авантюристической натуре Булака. И действительно, фальшивки всплывали в большинстве случаев во фронтовых частях (Вознесенский и Конный имени Балаховича полки), ведущих излюбленные «Батькой» полупартизанские действия, - появление же этих керенок во Пскове, что было, конечно, деянием уголовным, никто, в общем, и не приписывал самому генералу.
Нетрудно вообразить, каким громом среди ясного неба стало решение Главнокомандующего для генерала Родзянко. Он собирает в Нарве «совещание начальников частей» Северо-Западной Армии, исключая, разумеется, балаховцев, и вновь громогласно объявляет о фабрикации Булаком керенок, оказывая явное давление на приехавшего из Ревеля Юденича. Возмущённые офицеры требуют «покончить с Балаховичем и со всеми лицами, его окружающими, предав их суду, т. к. они не могут быть более терпимы в рядах армии», и, очевидно, всё же убеждают Главнокомандующего, что даже если сам Балахович «не скверен», то «окружающие его - сплошь уголовные преступники». Родзянке удаётся вырвать разрешение арестовать этих «преступников», для чего предполагается использовать идущие во Псков подкрепления в составе 3-го стрелкового Талабского, 5-го стрелкового Уральского, Семёновского и Конно-Егерского полков во главе с хорошо известным Балаховичу полковником Б. С. Пермикиным. Прибыв в «балаховскую вотчину» утром 23 августа, младший соратник обратился к старшему с личным письмом, в котором, ссылаясь на «категорическое приказание» Юденича, сообщал, что должен «арестовать полк[овника] Стоякина и некоторых чинов Твоего штаба и разоружить Твою личную сотню, которая могла бы воспрепятствовать арестам... а на время арестов взять Тебя под свою охрану».
Ссылка на «приказание» Юденича тем более интересна, что, по свидетельству современников, на самом деле Пермикин имел на руках лишь «листок из полевой книжки, за подписью генерала Родзянки», - то есть распоряжение, очевидно, было сделано от имени Главнокомандующего, а официальный приказ последнего об аресте «чинов Штаба г[енерал] м[айора] Булак-Балаховича, замешанных в беззаконных действиях», датированный 22 августа, может таким образом оказаться отданным задним числом, когда стало известно, как развернулись события во Пскове.
Балахович возмутился отсутствием письменного приказа и позже утверждал, что подчинился «физической силе», но важнее было другое - возможность волнений преданных генералу полков, беспокоившая Пермикина, да, должно быть, и Юденича с Родзянкой. Опасения не были лишними: к оставшемуся на своей квартире «Батьке» вскоре стали являться представители полков, взволнованные начинающимися арестами. В сопровождении приставленного к нему адъютанта Талабского полка, прапорщика графа П. Шувалова, Балахович бросился к своим частям, увещевая их не устраивать междоусобицы и подчиниться тому начальству, которое будет назначено. Тем временем в голове его, очевидно, уже созревало новое решение, и, оказавшись за городом (должно быть, на позициях), генерал заявил Шувалову, что во Псков больше не поедет, и приказал ему возвращаться, а сам отправился в эстонский штаб, попросив там убежища. В течение дня к нему присоединилась Герта фон Герхард и собралось, по разным данным, от 150 до 300 человек из состава его личной сотни (конвоя) и подразделений, сформированных генералом по национальному признаку, - литовской и польской сотен.
Посланный вдогонку за братом Иосиф Балахович то ли не догнал его, то ли сделал вид, что не догнал, а двинувшиеся разъезды нашли «Батьку», видимо, уже по дороге из Пскова в Вал к, причём «генерал Булак-Балахович развернул цепь и громко сказал, что ничьих приказаний исполнять не будет, никого не признает, и если кто-нибудь будет приближаться, отдаст приказание стрелять», после чего беспрепятственно продолжил свой путь. К Юденичу же он обратился с угрозой отомстить за своих подчинённых в случае расправы над ними и телеграфировал о сдаче командования своему брату.
Вообще-то Булак закусил удила совершенно зря - как мы видели, Главнокомандующий отнюдь не собирался «выдавать» его, - но после всего учинённого «Батькой» Юденич уже не мог делать вид, что ничего не произошло, и издал громовой приказ, в котором, перечислив все вины строптивого подчинённого (самая тяжёлая из них, безусловно, - «во время боя покинул нашу армию и сделал это в виду противника»), объявлял: «Ген[ерала] Булак-Балаховича исключить из списков Армии и считать бежавшим». Приказ был широко распубликован, а генерал Родзянко мог торжествовать.
Торжество, однако, оказалось скверным: «псковское действо» не могло не деморализовать Белые полки, а эстонцы ещё с середины июля имели разрешение Лайдонера отступить на Изборск, что они теперь и выполнили. Распропагандированные эстонские солдаты уходили с пением Марсельезы и красными розетками на гимнастёрках, а их начальники, как бы не желавшие этого видеть, возмущались тем временем действиями русского командования, обидевшего генерала Балаховича. Результатом же явилось оставление Пскова, куда ранним утром 26 августа вступили части ещё недавно битой советской 10-й дивизии. Эстонцы отошли к Изборску, а русские полки - на Гдов.
На фоне шумихи, поднятой вокруг Булак-Балаховича, может показаться странным, что большинство его подчинённых так и не понесло наказания. Поплатился лишь полковник Стоякин, «убитый при попытке к бегству» (формулировка, в те годы часто бывшая эвфемизмом для обозначения бессудной расправы); Иосиф же Балахович не только остался в рядах Армии, командуя Конным полком, шефство которого тоже не было снято, но и давал Юденичу весьма интересные советы относительно личности своего брата и перспектив общения с ним: «Не отпускайте его, он вам поклянётся, что бросит интриги, и когда будет обещать, честно будет верить, что исполнит; а потом встретит кого-нибудь, и тот повернёт всё вверх ногами - уж очень он безволен...» Сам же «Батька», утверждая, что в день сдачи Пскова со своими людьми принял участие в бою на эстонском участке фронта, писал тогда:
«Кто знает мою работу в Северном Корпусе с прошлого года, тот никогда не отважится сказать: Балахович бежал.
И из самых обстоятельств моего ухода из Пскова нельзя сделать другого вывода, кроме моей преданности белой армии и белому делу».
Надо сказать, что Юденич, со своей стороны, похоже, склонен был простить бунтаря. Булак предлагает «третейский военный суд, которому заранее обязуется подчиниться», на что Главнокомандующий замечает: «...Если хочет объясниться, пусть подаёт мне рапорт», тем самым открывая бунтовщику путь для возвращения в ряды Армии. Одновременно возникает проект откомандировать Балаховича на Мурман, где его ещё не знают, но английский адмирал заявил, «что он больше русских офицеров никуда не будет перевозить, особенно с боевого фронта Северо-Западной армии», и от этой затеи пришлось отказаться. В конце первой недели сентября «Батька» устремляется в Изборск, крича, «что через несколько дней возьмёт Псков у большевиков», и у него находятся сторонники, готовые в это поверить, едва ли не в составе Северо-Западного Правительства, уже согласного ходатайствовать о реабилитации Балаховича при условии разрыва последнего с Н. Н. Ивановым, к тому времени покинувшим кабинет министров и ведущим какую- то непонятную, скорее всего проэстонскую политическую игру.
Именно Иванов и становится тем самым «кем-нибудь», кто, по мнению младшего Балаховича, мог сыграть роковую роль в судьбе старшего, «повернув всё вверх ногами». 18 сентября один из министров отмечает: «Юденич склоняется к прощению Балаховича, но как, в какой форме - ещё не решил», а уже через десять дней «Батька» совершает новый опрометчивый поступок.
Сейчас трудно с точностью сказать, выступил ли Булак-Балахович со своими верными партизанами на фронт, как о том писали ревельские газеты, или же двинулся на Нарву, где находился штаб генерала Родзянко, «с целью производства переворота и захвата власти», что утверждали сам Родзянко и выставлявший себя инициатором переворота Иванов. В последних утверждениях странно то, что оба автора единодушно иллюстрируют их донесением белой контрразведки - «Иванов и Балахович седьмого [сентября] выехали в Псков (занятый на самом деле красными! - А. К.). Иванов хочет делать переворот против генерала Юденича и генерала Родзянко и подчинить войска Балаховича Эстонскому Командованию», - как будто не понимая, что Псков - это не Нарва, а 7 сентября - далеко не 28-е. Как бы то ни было, даже после остановленного эстонцами продвижения Булака с партизанами на Нарву, когда Родзянко, по его собственным воспоминаниям, «в самой категорической форме настаивал на необходимости заглазно предать Балаховича суду или разжаловать», - Юденич не только «не нашёл нужным это сделать», но и, как считал Родзянко, остался подобными требованиями недоволен. Быть может, ещё сохранялись надежды на прекращение генеральской розни, но... сам Балахович в это время уже начал задумываться о своей национальности.
Правда, не совсем ясно, о какой именно?
* * *
По крайней мере, татарином генерал себя не объявлял. И литвином тоже, хотя его родные места — Ковенская губерния - были теперь в составе «самоопределившейся» Литвы, а среди «Батькиных» партизан мы уже видели литовскую сотню. Приглядываясь к «международной ситуации» среди государственных новообразований, он обратил внимание на проходившую осенью 1919 года в Юрьеве конференцию представителей балтийских государств, Украины и Белоруссии, где и познакомился с главой белорусской миссии полковником К. Иезовитовым. «Белорусская Народная Республика» к тому времени находилась в ещё худшем положении, чем даже петлюровская Украина, не имея ни войск, ни территории (что не досталось большевикам, было оккупировано поляками), ни даже сколько-нибудь серьёзного «правительства в изгнании», поскольку среди руководящих кругов «Республики» произошёл раскол и образовались две «Рады», взаимно друг друга не признававшие. Понятно поэтому, что Иезовитова не мог не заинтересовать Балахович, у которого было имя, небольшой, но преданный ему вооружённый отряд, хорошие отношения с эстонцами и... крайняя неопределённость положения, заставлявшая искать флаг, под которым можно было бы продолжать борьбу. В свою очередь и Булак с готовностью откликнулся на предложение перейти на «белорусскую» службу, заявив, что считает себя белорусом, и обратившись с официальной просьбой о принятии его «для защиты единства и неделимости моей Отчизны». А поскольку денег у белорусского правительства тоже не было, обеспечение балаховцев, занявших боевой участок под Изборском между позициями эстонских и латвийских войск, взяли на себя эстонцы, и «Особый Отряд БНР в Прибалтике» надел форму эстонской армии (сведения о поступлении Балаховича на эстонскую службу выглядят ошибочными ещё и потому, что генерал Лайдонер в середине сентября изъявлял готовность принять «Батьку», но чином, соответствующим числу его партизан, заметив: «До сих пор, по количеству набранных им людей, он не может рассчитывать и на капитанский чин», - что самолюбивого Булака, конечно, не устраивало).
К середине ноября Отряд насчитывал около 600 штыков и базировался на Верро, в оперативном отношении подчиняясь командованию 2-й эстонской дивизии. Тем не менее у руководителей «Белорусской Республики» были и собственные стратегические планы, предусматривавшие бросок Балаховича на Опочку - Невель - Себеж - Полоцк, дабы отрезать значительный кусок территории, с которого правительство могло бы, например, воззвать о помощи к Антанте: с английскими моряками Иезовитов и Балахович уже вели в Ревеле переговоры о вдруг появившемся на географической карте «12-миллионном белорусском народе», чьими представителями они, очевидно, себя объявляли.
Тем временем дела Белой Северо-Западной Армии окончательно испортились. Неудача нового похода на Петроград в сентябре - октябре 1919 года, когда наступление голодных и нищих полков захлебнулось на ближних подступах к городу, усугубилась политикой Эстонии, не имеющей иного определения, как удар ножом в спину. Пользуясь тем, что отступающие к Нарве под натиском Красной Армии русские белогвардейцы не могли вести боевых действий сразу на два фронта, вчерашние союзники при пропуске на «свою» территорию (весной спасённую от большевицкого нашествия русской кровью!) разоружали и грабили белых. Несмотря на начинавшуюся эпидемию тифа, русских оставили без всякой помощи, и Нарва вскоре превратилась в гигантский тифозный барак, где металось в бреду до десяти тысяч человек, значительная часть которых умерла. Для остальных же Правительством Эстонской Республики в начале марта был принят закон о принудительной мобилизации на лесо- и торфозаготовки, причём установившийся там режим, напоминавший о худших образцах рабства, не сильно отличался от режима будущих советских и нацистских концлагерей. А учитывая, что в это время (декабрь 1919 - февраль 1920 года) уже вовсю шли переговоры о мире между Эстонией и РСФСР, уместен вопрос, не стало ли сознательное умерщвление тысяч Белых воинов одним из негласных условий, которыми была куплена на два десятилетия эстонская независимость?
28 ноября генерал Юденич назначил Командующим Северо-Западной Армией генерала П. В. фон Глазенапа, на чью долю выпала лишь тягостная обязанность ликвидации всех дел Армии. 22 января 1920 года о ликвидации было официально объявлено, а ещё через пять дней «Батька» Булак-Балахович совершил поступок, который, наверное, следует считать самым предосудительным в его жизни.
В ночь на 28 января в ревельскую гостиницу «Коммерс», где остановился перед отъездом в Гельсингфорс генерал Юденич, явился Булак с несколькими партизанами, дабы арестовать своего недавнего Главнокомандующего. Вышедший навстречу Глазенап сказал, что находившиеся в гостинице офицеры не выдадут генерала без боя, но когда спустя некоторое время Балахович вернулся уже в сопровождении нескольких чинов эстонской полиции, за Юденича никто не заступился, и лишь стоящий с револьвером наготове личный адъютант последнего, капитан И. В. Покотило, племянник генеральши, пожелал сопровождать своего начальника, куда бы его ни повезли («Очень хотел бы иметь такого адъютанта», - позавидовал Балахович).
Юденич и Покотило под конвоем балаховцев были посажены в поезд, однако вёрст через 75, на узловой станции Тапс, картина изменилась: эстонцы арестовали теперь уже Булака, а Главнокомандующий с адъютантом благополучно вернулись в Ревель. Как выяснилось, там была поднята тревога, и главы военных миссий Антанты потребовали от местных властей немедленного освобождения русского генерала.
Жена Юденича, возможно, повторяя его догадки, утверждала позднее, будто Балахович хотел увезти генерала ни много, ни мало - в Москву, а Правительство Эстонии - «или выполнить один из [секретных] пунктов мирного договора с большевиками, или что- то выторговать от них ценою выдачи Генерала Юденича», однако такая версия не выглядит убедительной. Не говоря даже о том, что никогда позже Балахович не подавал повода обвинить его в склонности к сговору с Советской властью, тем более в столь гнусной форме (и напротив, в эти самые дни советское торгпредство в Эстонии было охвачено паникой, готовясь к поспешному бегству из страха перед «Батькой», «стянувшим и увеличившим свои банды»), - он, человек цепкого практического ума, не мог не понимать, что и сам ненавистен красным едва ли не больше любого Юденича - не зря его именем и его виселицами пугали население чуть ли не всей РСФСР; да, наконец, человек, бывший в советском стане и сознательно оттуда ушедший, а затем боровшийся с Советами столь эффектным и эффективным оружием пропаганды, - отнюдь не мог рассчитывать на их милость, и попадать в зону досягаемости большевиков ему было просто нельзя. Более вероятным представляется другое.
Распространённым было обвинение в неудаче похода на Петроград «штабов», «генералов», а нередко - и персонально Юденича, и Балахович вполне мог разделять это мнение. Теперь же в тифозных бараках и лагерях беженцев мыкались и умирали фронтовики, среди которых было немало и его «сынков», - а в Ревеле усиленно повторялись слухи о деньгах Северо-Западной Армии, якобы находившихся у бывшего Главнокомандующего.
В действительности все суммы, предоставленные Юденичу Всероссийским Правительством адмирала Колчака, лежали в лондонском банке, но известно это было немногим, а идея использовать эти средства для облегчения положения бойцов Северо-Западников (в том, что в Эстонии всё продаётся и покупается, больших сомнений не оставалось) вполне могла оказаться тем соблазном, перед которым не устоял решительный и авантюристичный «Батька».
Конечно, захват Главнокомандующего, дабы «убедить» его выдать армейские суммы, уже был бандитизмом чистой воды, тем более отталкивающим, что именно Юденич, как мы видели, доколе это было возможно, поддерживал Балаховича против Родзянки, и приходится вновь повторить, что в биографии Булака нет другого столь же позорного эпизода; однако ужасающее положение русских солдат и офицеров, кажется, стирало границы дозволенного, и мгновенно появившиеся слухи, будто «Батька» вырвал-таки у Юденича деньги, прибавили Балаховичу популярности, так что скоро мы увидим среди его подчинённых и тех бывших Северо-Западников, которых никто и ни в каком бандитизме не мог обвинить.
Полковник Иезовитов говорил позднее, что целью Балаховича было вынудить Юденича передать ему артиллерию Северо-Западной Армии, однако это утверждение звучит слишком глупо (войска были разоружены эстонцами гораздо раньше этих событий) и вряд ли даже повторяется со слов самого «Батьки». В то же время оно отражает нищенское состояние Особого Отряда, положение которого утратило всякую определённость после заключения 2 февраля 1920 года советско-эстонского мирного договора. Поэтому не проходит и недели, как Иезовитов обращается к «Начальнику Польского Государства» Ю. Пилсудскому с просьбой «предоставить Особому Отряду БНР участок фронта на левом фланге Польской Армии и возложить на Польское интендантство обязанность отпускать ему всё потребное». Но Пилсудский медлил с ответом, денег по-прежнему не было - по инициативе балаховцев Иезовитов даже заказал в Латвии тираж почтовых марок, дабы поправить финансовое положение Отряда, - а сам «Батька» в атмосфере вынужденного бездействия, по характеристике того же Иезовитова, «дурэу i niy».
Тем временем в Варшаве, должно быть, решили, что смогут договориться с Балаховичем без каких-либо посредников - и 24 февраля Главное Командование Польской Армии получило отчёт о состоявшейся беседе. Произведший благоприятное впечатление на собеседников генерал с готовностью заявил, что считает себя поляком, но на всякий случай предупредил: если до конца месяца ещё не состоится решение о принятии его на польскую службу, то он бросит 800 штыков Особого Отряда на Остров - Опочку - Полоцк, начав свою собственную игру. Решение было объявлено 1 марта, а вскоре командующий участком фронта, один из близких сотрудников Пилсудского бригадный генерал Э. Рыдзь-Смиглый, уже с почестями встречал балаховцев в Двинске. Теперь предстояло двигаться в указанный им район походным порядком, и этот 700-вёрстный марш немедленно был окружён легендами, так что много лет спустя один из польских авторов окрестит его «диким рейдом» и отнесёт к тем конным операциям, которыми завершилась история старой Европы.
Итак, Балахович стал поляком... надолго ли?
* * *
Впрочем, весной 1920 года можно было быть поляком или по крайней мере «пилсудчиком», оставаясь в то же время... белорусом: Первый Маршал Польши (этот титул был присвоен Пилсудскому 19 марта) вынашивал идею государства не мононационального, а федеративного, включающего в себя территории бывшего Великого Княжества Литовского, в том числе родные места Балаховича, на которые могли претендовать теперь и Польша, и Литва, и Белоруссия.
С белорусами, правда, на тот момент Булак порывает, для поляков мотивируя это мнимым «русофильством» полковника Иезовитова. С другой стороны, в разговоре с видными представителями русской интеллигенции - 3. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковским и Д. В. Философовым, пытавшимися играть в Варшаве политическую роль, - он говорил иначе: «Только мой один отряд Эстония выпустила вооружённым. Мои люди отказались разоружаться. В апреле я с ними опять иду на большевиков. Мне всё равно, хоть один - но на них. Поляки возьмут меня. Отряд уже в Брест-Литовске, я увижусь с Пилсудским и еду тотчас в отряд. Потом опять вернусь. Я белорус, католик, но я сражался за Россию, и я буду делать русское дело...» Так когда же «Батька» был искренним - и был ли он искренним вообще?
Прежде всего, на польскую службу он так и не перешёл, и трудно сказать, было ли это связано с опасениями «разбойничье-рыцарских традиций», которые усмотрел в балаховской среде польский военный наблюдатель, или же соответствовало настроениям самого Булака. Оглядывая проводившиеся с этого времени им формирования, мы должны будем признать, что они никогда не приобретали какой-либо национальной окраски, кроме... русской (российской). В самом деле, какие «поляки» могли бы получиться из Северо-Западника генерала Ярославцева, монархиста полковника Микоши, в феврале 1917 года в составе Георгиевского батальона рвавшегося на подавление мятежного Петрограда, или Оренбургских казаков, целым подразделением вошедших в подчинение Булаку в июле? И лукавил ли тот, когда летом говорил, «что его симпатии на стороне народа, а единственная цель - борьба с большевиками до последней возможности. Он готов, якобы, принести во имя этой цели всякие жертвы, поступиться самолюбием, подчиниться Врангелю или другому признанному вождю, войти в соглашение с Петлюрой. Он считал, что наиболее благоприятным театром военных действий является Украина», таким образом вообще допуская отрыв от хорошо знакомых ему областей?
«Балахович - интуит, дикарь и своевольник, - записывала проницательная Зинаида Гиппиус. - Ненависть к большевикам - это у него пламенная страсть. Но при том он хитёр, самоуверен и самолюбив. Совсем не “умён”, но в нём искорки какой-то угадки...» - и в этом определении, приблизительном и неточном, как все определения, тоже есть немало такой же «угадки».
Беспомощный и безвольный в отношении политическом (вспомним характеристику, данную ему братом), «Батька», как представляется, довольно тонко чувствовал настроения своих «сынков», подхватывая, оформляя и воплощая их с такой силой, энергией и искренней убеждённостью, что говорить, будто Балахович шёл на поводу у подчинённых, как это подчас делалось, вряд ли оправдано. Как всегда и бывает, влияние оказывалось взаимным, и если оглядка на настроение войск у их вождя была бесспорной, то зато он мог и позволить себе «прибегать к драконовским мерам, вплоть до бессудных расстрелов солдат и офицеров», для установления среди них «внутреннего порядка». Войска ни поляками, ни польскими не становились - не становился поляком и «Батька», и вряд ли соответствовали действительности рассказы, будто он «обещал полякам образовать из России 22 самостоятельных республики».
Вновь возвращаясь к записям Гиппиус, процитируем ещё один фрагмент о Балаховиче. «Да, он может быть нужным[73], хоть и может оказаться страшным, если на него положиться и оставить его распоряжаться, - рассуждает она. - Он - орудие, он - молот[74], хорошо приспособленный к большевизму, к большевицким лбам, но какая крепкая рука может держать этот молот, где она?» - Похоже, что так же думал и Первый Маршал, предпочитавший не испытывать крепость своей руки и, вместо того чтобы «держать» молот, «сделав Балаховича поляком», - «швырнувший» его в противника на правах совместно действующей, но до известной степени самостоятельной силы.
А до этого Балаховичу - нужно отдать должное польским властям - были предоставлены широкие возможности для вербовки добровольцев и открыты все каналы снабжения. Предполагалось формирование дивизии (хотя в дальнейшем чаще встречается термин «группа генерала Булак-Балаховича»), и если в середине апреля число балаховцев не превышало 700 человек, то к июлю боевой состав группы оценивается уже в 2 500 штыков и шашек, а в конце месяца военное министерство заказывает для неё 3 000 винтовок, 3 000 сабель, 1 500 пик, 10 000 смушковых шапок и планирует закупку 3 000 лошадей, явно имея в виду перспективы дальнейшего разворачивания. И эти надежды вполне подкреплялись боевой практикой балаховцев, которая приносила значительные пополнения из пленных и местных добровольцев.
Боевая работа группы начинается с конца июня и ведётся излюбленными «Батькой» партизанскими методами. Будучи придаваемыми то одному, то другому польскому войсковому соединению («летучая дивизия» - пишет современный польский историк), балаховцы дерутся в Полесьи, вклиниваясь между наступающими советскими частями, оперируя на их коммуникациях, громя тылы, захватывая обозы. Леса и болота, топкие берега Стыри, Стохода, Западного Буга благоприятствуют действиям партизан, и когда среди причин поражения «похода Тухачевского на Варшаву» справедливо называется как раз бедственное состояние советских тылов и коммуникаций, - не следует забывать, что достигнуто оно было во многом благодаря работе группы Булак-Балаховича или, как её иногда называли, «русского партизанского отряда». И уже после начала успешного польского контрнаступления, потрясшего весь советский Западный фронт, сам Пилсудский 17 августа в личном письме Булаку изъявляет «Пану Генералу моё наивысшее удовлетворение и похвалу».
К этому времени начинает определяться и подчинённость «Пана Генерала». 20 июля состоялась его беседа с Б. В. Савинковым, возглавлявшим так называемый «Русский Политический Комитет» в Польше, который номинально подчинялся Правителю Юга России и Главнокомандующему Русской Армией барону П. Н. Врангелю. Недавние конкуренты по набору русских добровольцев, Балахович и Савинков теперь пришли к соглашению, и последний писал на следующий день Первому Маршалу: «Генерал Булак-Балахович выразил полную готовность в политическом отношении подчиниться со своим отрядом возглавляемой мною группе русских политических деятелей»[75]. Руководитель Комитета выражал удовлетворение, что «таким образом все русские формирования на территории Польской Республики теперь объединены в моём лице», и этим опровергается его же позднейшее утверждение, будто Балахович в качестве командующего войсками был рекомендован, если не прямо навязан ему Пилсудским. Вопрос же о поступлении Булака на польскую службу был тем самым окончательно снят с повестки дня.
Польский историк в числе причин, сбивших генерала с «пути истинного», называет близость Савинкова к польским властям (Политический Комитет располагался в Варшаве), наличие в составе Комитета видных политиков, наконец - потребности балаховских войск в оружии, снаряжении, боеприпасах, обмундировании, для чего, «одним словом, нужны были деньги, а ими владел Савинков». Однако при ближайшем рассмотрении эта аргументация перестаёт выглядеть убедительно.
Близость к Пилсудскому? Но группа Булак-Балаховича находилась непосредственно в ведении польского военного министерства, а представителя Первого Маршала при Русском Политическом Комитете, К. Вендзягольского, можно не без основания считать и представителем при группе Балаховича.
Русские политики? Но когда же «Батька» по-настоящему считался с какими бы то ни было политиками, от Н. Н. Иванова до К. Иезовитова, тем более что, по утверждению того же автора, присылаемых к нему «эмиссаров и агитаторов» Савинкова генерал «регулярно прогонял»? И неужели Балахович собирался на коренных польских землях устраивать какие-либо политические конструкции - или, быть может, «общественные самоуправления» по гдовско-псковскому образцу?
Деньги и снабжение? Но пока балаховцы снабжались самими поляками, ни с кем не делясь и по большому счету не зная ни в чём отказа. «Во время пребывания нашей дивизии на фронте всё нужное для ней в смысле снабжения, обмундирования и провианта отпускалось своевременно и аккуратно M[inisterstwom] Spraw Wojskowych[76]. То, чего нельзя было достать для дивизии в магазинах польского Интендантства, покупалось за наличные деньги», - свидетельствовал начальник снабжения капитан М. Елин, рассказывавший, что сотрудничество с савинковским Комитетом началось как раз с попытки последнего наложить руку на балаховские склады и продолжилось «просьбой прекращения снабжения нас в отдельности, главным же образом денежными средствами», поступающими из военного министерства (поляки поддержали эти претензии, поведя снабжение исключительно через Политический Комитет). Впрочем, всё это происходило уже в сентябре, то есть было не причиной, а следствием соглашения Балаховича с Савинковым.
Кроме того, Савинков был не единственным, с кем Булак обсуждал этот вопрос: на русские общественно-политические круги он пытался выйти и через 3. Н. Гиппиус, в августе сообщив ей, что «хочет присоединить свой отряд к русской армии - как это сделать?» Посмотрим же теперь на обстановку, в которой генерал фактически подтверждает своё пребывание на русской службе.
Успешно развивается советское наступление. В Белоруссии Пилсудским потеряны практически все территориальные приобретения 1919 года и весны 1920-го, а красные продвинулись вперёд уже более чем на двести вёрст. В эйфории Троцкий и Тухачевский рвутся на Варшаву, через Варшаву - на Берлин, бросить в Европу пожар мировой революции, и в дни савинковско-балаховских переговоров советские военачальники планируют операцию, которая войдёт в историю как Варшавская. У Польши есть ещё, правда, надежда: Европе нужен санитарный кордон от большевизма, Европа может выступить посредником на переговорах или даже заступиться за Польшу, военная помощь которой сейчас спешно увеличивается...
За русских не заступится никто.
Врангель далеко. Поляки терпят поражения. Из Лондона и Парижа вряд ли видны слабые полки русских добровольцев...
И именно сейчас Станислав Балахович, Курляндский улан Императора Александра II, «белорус и католик», «а ещё через день - негр» (ах, ирония Первого Маршала!), - выбирает быть русским.
Да, в расширенном соглашении, заключённом им с Савинковым 27 августа, Булак оговаривает для себя возможность проявления самостоятельности в стратегических вопросах (точно так же он, не оговаривая официально, фактически отстаивал её и перед Родзянкой и Юденичем), но при этом сохраняет во всех случаях политическую и финансовую зависимость от Русского Комитета. Поэтому нет достаточных оснований видеть здесь следствие его «польской» или «белорусской» ориентации, тем более что в те же дни на штабных автомобилях группы генерала Балаховича спешно укрепляют национальные бело-сине-красные флажки: 15 августа в ходе кампании произошёл перелом, свершилось «чудо на Висле», красные покатились вспять, и в преследование, в самую, быть может, известную свою операцию на этом фронте балаховцы идут под Русским флагом. В течение месяца со дня подписания соглашения с Политическим Комитетом они отбросят войска Тухачевского на рубеж, с которого большевицкий полководец 23 июля заносил удар над Варшавой, и 26 сентября неожиданно для противника ворвутся в Пинск, взяв приблизительно столько же пленных, сколько штыков и сабель насчитывалось в собственных рядах, и разгромив Штаб советской 4-й армии.
«Во что бы то ни стало овладеть г[ородом] Пинск», — будет приказывать Тухачевский, но русский трёхцветный флаг так и останется над штабом Булак-Балаховича, не сдавшего города. С начала октября боевые действия на этом участке затихнут, 12-го будут подписаны предварительные условия перемирия, а с 24 часов 18 октября они вступят в силу. Советско-польская война окончится... но может ли окончиться русско-советская война?
Ещё 28 сентября польское командование официально признало повышение статуса «группы генерала Балаховича», для которой спешно формировалась из военнопленных вторая дивизия. По польской номенклатуре она стала теперь называться «Особой (или Отдельной) Союзной Армией».
А по-русски - Русской Народной Добровольческой.
* * *
«После заключения перемирия, - рассказывал Б. В. Савинков, - Пилсудский призвал меня и сказал: “Дайте в 24 часа ответ, будете ли вы воевать?”» Первый Маршал, очевидно, имел свои планы: ещё 9 октября, накануне приостановки боевых действий, польский генерал Л. Желиговский, офицер Российской Императорской Армии и русофил, инсценировав «неповиновение», двинул вперёд две дивизии и занял Вильну, отбросив слабые литовские войска и провозгласив образование «независимой Средней Литвы», через несколько лет вошедшей в состав Польши. Много позже Желиговский утверждал, что проектировалось создание «польско-белорусского Великого Княжества Литовского» - части будущей федерации. Подобными мотивами и должен был руководствоваться Пилсудский, подталкивая русские войска к продолжению войны после перемирия.
А были ли в этой игре свои мотивы у русских? - В первую очередь, для них речь шла о самом сохранении уже сформированных дивизий: предвидеть требования большевиков об интернировании или высылке белогвардейцев было не трудно, и решение Сейма от 15 октября о том, что до 2 ноября русские и украинские отряды должны разоружиться или покинуть территорию Польши, не могло оказаться неожиданным. Сами по себе переговоры, которые стали следствием тяжёлого положения Польской Республики, потрясённой летними сражениями и колеблемой политическими нестроениями, казались многим странными, - красных успешно били, и остановка победоносных польско-русских войск вызывала подозрения, нет ли здесь влияния левых сил в польских правительственных кругах; а если это было так, то ничего хорошего ждать не приходилось, и оставалась лишь одна дорога - вперёд.
Польско-советское перемирие, кроме того, оставляло в одиночестве боровшегося на Юге Врангеля, которому прямо подчинялась так называемая 3-я Русская Армия[77], формально - Савинков и его Политический Комитет и, как мы помним, изъявлял готовность к подчинению Булак-Балахович. Ходили слухи о готовящемся союзе Врангеля с Петлюрой, хотя обе заинтересованные стороны вряд ли до конца верили в это. Тем не менее создавалась не только возможность для объединения или хотя бы координации действий всех, кто не желал складывать оружие, но и объективная необходимость наступлением приковать к себе часть большевицких сил, которые в противном случае могли бы быть переброшены на Юг.
Возможно, существовали и прямые инструкции Врангеля, не называвшие конкретных дат, но определявшие условия перехода в наступление - не зря через три дня после возобновления Балаховичем боевых действий барон, узнавший о них «частным образом», телеграммой Савинкову и Булаку приветствовал их и выражал «полную уверенность, что общими усилиями и настойчивостью [мы] доведём до конца нашу совместную борьбу и освободим нашу исстрадавшуюся Родину от ига насильников», в те же дни предполагая направить в Польшу генерала Я. А. Слащова-Крымского для объединения военного руководства. Что же касается 3-й Армии, которой теперь командовал произведённый в генералы Б. С. Пермикин, то Савинков утверждал: «Врангель ему приказал [наступать], а он исполнял приказ начальства».
Были и некоторые основания для надежд и далеко идущих планов. Не прекращалась польская поддержка: «При дальнейшем развёртывании дивизии в армию, — свидетельствовал капитан Елин, - были организованы - кроме имеющихся всех частей - автоколонны и авиационные отряды. Автомобили были тоже отпущены польскими властями в исправном виде и высланы немедленно на фронт. Часть машин, требующая ремонта, была отдана в частные гаражи, быстро исправлена и тоже отправлена на фронт за исключением лишь 3-х машин, требуемых для интендантских складов». Балаховичу оказывалось содействие в пополнении его частей, формировании новых и накапливании их вблизи демаркационной линии. В результате к концу октября Армия состояла из трёх дивизий и отдельной бригады (всего 12 пехотных и 7 конных полков с артиллерией, общей численностью до 20 000 человек, из которых, однако, лишь немногим более половины относилось к боевому составу) и была самым крупным войсковым соединением, которое когда-либо подчинялось «Батьке».
Однако в то же время он совершает и большую ошибку, опубликовав «Программу Русской народной Добровольческой армии», кем бы она ни была составлена (на энергичные и убедительные «приказы Батьки» этот декларативный и полный «теоретизирования» текст отнюдь не походит): наряду с лозунгами, рассчитанными на импонирование народным массам, документ таил в себе и самую страшную угрозу - превращения национальных вооружённых сил в партийную организацию.
«1. Мы будем вести непримиримую борьбу с большевизмом во имя народного начала, - говорилось в нём, - ибо идея большевизма, не говоря о её нравственной и государственной несостоятельности, в корне противоречит делу народному.
Мы стремимся к освобождению России от всех насильников, самозванно распоряжающихся достоянием народа и не дающих ему свободы выявить собственную волю к устроению своей жизни.
Поэтому мы отвергаем не только большевизм, царящий в советской России и являющийся новым самодержавием слева, но также всякие реакционные попытки монархистов справа; большевистский монархизм и монархический большевизм неприемлемы в равной мере.
2. Мы станем бороться с большевизмом рука об руку со всеми другими народами, уже ведущими таковую борьбу, и с могущими вступить в неё.
Пусть знают эти народы, что мы не стремимся к восстановлению прежней России с насильно подогнанными в её пределы областями и государствами, ставшими ныне самостоятельными; мы стремимся к уничтожению большевизма, ибо он есть политическая и экономическая смерть страны.
Мы призываем все народы и страны, борющиеся ныне с большевиками порознь, сплотиться в военную коалицию на поле брани и в политический союз, ни в чём не стесняющий их самостоятельных суверенных прав, для борьбы совместной как с большевиками, так и с монархизмом, с этими двумя не только русскими, но и общемировыми опасностями.
Мы предлагаем конфедеративное сотрудничество национальностям, вовлечённым в борьбу с большевиками, на началах полной свободы, самоопределения и широкого проявления национальной инициативы, зная, что братская терпимость лежит в основе русского народного духа. Проявления иных чувств всегда являлись результатом искусственно привитых или насильственно навязанных убеждений.
3. Мы стремимся не к завоеванию России силою оружия, а к уничтожению понятия “Советская Россия”, которая является плодом самодержавной тирании захватчиков власти.
Поэтому мы боремся не против красной армии, состоящей из насильно мобилизованного народа, а против тех, кто произвёл эту мобилизацию, против комиссаров, коммунистов и их приспешников.
Против них мы будем бороться не только оружием, но и словом правды, обращённым к красной армии.
4. Борьба с советской властью исключительно силою оружия, завоевательным способом, терпела, начиная с чехословацкого движения в Июне 1918 года и кончая наступлением Северо-Западной армии в Октябре 1919 года, неудачу за неудачей.
Поэтому способы борьбы с советской Россией должны быть изменены коренным образом.
Борьба с большевизмом должна совершаться исключительно на добровольческом начале. Это подразумевает полную свободу выбора - идти с нами или нет. Но раз вступивший под наши знамёна отдаёт себя всецело на служение общему делу.
Мы требуем, особенно от переходящего к нам командного состава, решительного отказа от своекорыстных расчётов и бюрократических навыков, предупреждая, что нет суда неумолимее и дисциплины беспощаднее, чем суд и дисциплина братской народной Армии Свободы.
5. Проникновение в душу народную и сознание её особенностей заставляет нас признать, что Россию всегда одушевлял главным образом патриотизм местный, патриотизм области, губернии и даже уезда. Защита родины была особенно понятна как защита своего семейного очага. Рекрутчина была ужасна для народа как долговременная и далёкая разлука с родным кровом.
Ввиду этого практическая борьба с большевиками будет строиться на следующих началах:
а) Удар наносится особым добровольческим корпусом, составленным из бойцов, оторвавшихся от семейного крова и добровольно готовых отдать свою жизнь на борьбу с большевиками.
б) По занятии области производится демобилизация находящихся на территории этой области войск, не входящих в состав ударного корпуса; после чего призываются добровольцы в местное ополчение, которое призвано оставаться в пределах всей области и ни под каким предлогом, кроме добровольно выраженного желания, не выводится за её границы, а лишь защищает их с оружием в руках.
в) По очищении области от большевиков немедленно, без создания промежуточного временного военного управления, призываются для организации местной государственной жизни местные общественные силы; они образуют местные Учредительные Собрания, которым вручается на местах вся полнота власти, обеспечивающая завоевания революции.
6. Уничтожением большевизма на территориях России завершается задача народной добровольческой армии Свободы.
С твёрдой верой в жизненность провозглашённых нами начал и в неизбежность победы - подымаем мы наше знамя.
НАРОДНАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ»
Если считать «Программу» произведением Б. В. Савинкова, то её доктринёрство не выглядит чем-то необычным для человека, всегда бывшего, в сущности, больше литератором-эссеистом, чем серьёзным политиком, и способного поэтому легко увлекаться звучными фразами, которые имели весьма сомнительное содержание; но почему генерал, с его практическим умом, дал документу своё имя (листовки украшала виньетка с надписью «Русская Народная Добровольческая Армия Ген[ерала] Булак-Балаховича») - не совсем ясно. В самом деле, невелика была надежда на обаяние слов, адресованных простому народу, о котором участник войны писатель Иван Лукаш метко сказал: «А душа их теперь - ещё бродило». Всё равно, в красноармейской ли шинели, в роли дезертира или землепашца, - «они не верят ни красному, ни белому, ни чёрному. Они насмешливо скалят зубы на бешеный русский хоровод крови, огня и смерти. Петлюра им так же смешон, как противен заезжий комиссар. Интеллигентские слова их раздражают...» И попытки напугать мужика «монархистами» и «реакцией», равно как и отменённой полвека назад «рекрутчиной», о которой по деревням помнили только дряхлые старики, вряд ли могли достигнуть желаемого эффекта.
Как ни парадоксально, но военная часть «Программы», при всей её несомненной авантюристичности, выглядит более реальной. Опыт Гражданской войны показал - вопреки, кстати, измышлениям автора «Программы», - что никакие восстания и народные движения никогда не приводили к успеху без организованной помощи регулярными войсками извне. Поэтому идея корпуса-«детонатора», отряда, призванного проходить сквозь волнующиеся территории, как нож сквозь масло (остановка при такой тактике была равносильна смерти), включая в свой состав наиболее активных и готовых к борьбе местных добровольцев, могла бы оказаться даже плодотворной, но с одним важнейшим условием.
Очевидно, что «ударный корпус» неизбежно нёс и наибольшие потери, и потому на первый план должна была бы выступать забота об укреплении его кадра, поскольку самый сознательный новичок-доброволец становится солдатом далеко не сразу. А именно эти кадры и были поставлены «Программой» под удар - и дело даже не в отсутствии запасных частей или офицерского резерва, о которых умалчивает документ и которые вроде бы так и не были сформированы в действительности.
Уходящая от классического Белого «непредрешенчества», «Программа Русской народной Добровольческой армии» фактически вносила раскол в ряды офицерского корпуса, для определённой части которого огульное шельмование «реакционеров-монархистов» должно было стать тревожным сигналом. И если в самом начале работы «Батьки» с поляками польский наблюдатель писал, что «с политической точки зрения армия Балаховича является организацией в высшей степени оригинальной, не имея ничего общего с существовавшими до сих пор. Дух войска позволяет служить в нём всем, от монархистов до социалистов включительно», - то сейчас именно это боевое братство могло подвергнуться разрушению. Опасность усугублялась и начавшимся гонением на золотые погоны, что к исходу третьего года революции отдавало уже даже не «керенщиной», а прямым «большевизанством». И не случайно, наверное, начинал волноваться Савинков, подозревая наличие среди командного состава оппозиции и скрытого противодействия.
С другой стороны, все эти опасности оставались пока лишь в зародыше, лучшая часть офицерства готова была продолжать борьбу с большевизмом в любых условиях (пример - тот же монархист полковник Микоша, возглавивший в новой Армии 2-ю дивизию), а сам Балахович скорее всего вообще не придавал «Программе» большого значения, предпочитая говорить с населением своим обычным языком:
«Приказ батьки [78]
Я, Атаман Народной Добровольческой Армии, приказываю красным войскам и русскому населению:
1) Приготовиться к встрече моих войск, это значит: приготовиться к переходу из красной армии в Народную армию и выдать комиссаров и коммунистов.
2) Не стрелять по Моим Отрядам - тогда я никого не трону и сам стрелять не буду.
3) Помнить, что я Народный атаман, и потому народу меня бояться нечего.
Я воюю не за царскую и не за барскую, помещичью Россию, а за землю и хлеб для всего народа, за новое Всенародное Учредительное Собрание.
Я не допускаю ни грабежей, ни насилий.
Я хочу добыть народу полную свободу.
Я хочу прекратить гражданскую войну, а для этого надо разоружить красную армию и распустить её по домам.
4) Знайте[:] у меня служит только тот, кто хочет. За службу я плачу жалование, за обиды населению я жестоко наказываю.
5) Всякий может придти ко мне с своим горем и нуждой.
6) Все, кто хочет мира, порядка, свободы и хлеба, смело иди ко мне.
Меньше разговоров - больше дела.
Нам надо скорее кончать кровопролитие.
Все помогайте мне.
Я иду во имя народа, для народа и с народом.
Да здравствует освободительница России
НАРОДНАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ
Атаман Народной Добровольческой Армии Генерал-Майор Булак-Балахович»[79].
«Бьёт большевиков во многих случаях лучше, чем “штабные” генералы, - писал о Балаховиче Первый Маршал, - потому что сам большевик, в конце концов, из них и происходит. Не жалеет чужой жизни и чужой крови, совершенно так же, как и своей. Дайте ему быть собой, потому что другим он быть не сумеет». Польский революционер Пилсудский (ибо он несомненно был революционером, хотя революционность его и имела сильную национальную составляющую) был строже к «Батьке», чем русский интеллигент Мережковский, пристально вглядывавшийся в глаза своего собеседника - «мутно-голубые, жутко пьяные» - «но чем? Вином, кровью, славою, смертью? Нет. Так чем же? Не знаю. Может быть, судьбою, - своею судьбою, малою или великою, но которую надо ему совершить до конца. Где будет конец, погибнет ли “партизан” Балахович в Бобруйске, Смоленске, или дойдёт до Москвы “главковерхом”, - я опять-таки не знаю. Знаю только, что он уже идёт - летит и долетит до конца, не остановится. Вот этим-то концом он, может быть, и пьян». А генерал Гончаренко, вспоминая свои встречи с Булаком под Лугой, вздыхал:
«Сейчас этот непревзойдённый ландскнехт, по слухам, собирается идти на Москву.
Пожелайте ему всякой удачи.
Но держитесь от него на пушечный выстрел...»
Балахович и в самом деле был настроен решительно. «Сражаться с большевиками их оружием», «разлагать Красную Армию демократическими лозунгами», «поднимать народные восстания» - всё это было хорошо, но несмотря ни на что, он всё-таки в первую очередь был военным, рвущимся в драку, и именно так - «драться» - запомнил Савинков единогласное решение военного совета, на котором присутствовали оба брата Балаховичи, Пермикин, представитель Врангеля генерал П. С. Махров и другие «все такие высокопоставленные лица».
«Стояли мы тогда в полесских болотах, - рассказывает о Балаховиче один из персонажей польского писателя-эмигранта Иосифа Мацкевича. - Мокро. Кони грязные. Дождь идёт. Небо висит над головой, как старый потник. Уж как он ругался, так нам с тобой и за десять лет не выучиться. Приказал седлать, и пошли болотами, лесами на восток...»
* * *
5 ноября Русская Народная Добровольческая Армия перешла демаркационную линию, имея первоначальной задачей выдвижение на рубеж Овруч, Мозырь, Жлобин. Первый же удар потряс находившуюся на этом участке советскую 10-ю стрелковую дивизию - старых знакомых «Батьки» ещё по боям под Псковом. «Я помню, мы шли вначале очень удачно. Ваши части сдавались. Всё время бои, бои, бои, и для нас удачные», - рассказывал на советском суде Борис Савинков, выступивший в поход рядовым добровольцем 1-го Конного полка (злые языки говорили, правда, что на автомобиле, с любовницей и конным конвоем). Уже 10 ноября отборные части «1-й Партизанской дивизии смерти» с боя взяли Мозырь, углубившись на советскую территорию почти на сто вёрст, и рвались дальше - на Речицу, к Днепру. На Овруч двинул свою Крестьянскую бригаду «Атаман Искра» (генерал И. А. Лохвицкий), а на Жлобин пошёл от Мозыря полковник Микоша со 2-й дивизией. Спешно доформировывал и 3-ю генерал Ярославцев, комплектуя её пленными красноармейцами, которым давно уже была невыносима Советская власть.
«- Мы против коммуны, - вспоминает рассказ одного из них Савинков. - Нас гонят, а что дома-то делается?.. Карательные отряды хлеб отбирают, скот угоняют... Чем жить будем? А убежишь, поймают - сейчас расстреляют, не поймают - дом вконец разорят... Троцкий - тьфу!.. Комиссары - чорт бы их всех побрал... А ежели и вы против коммуны да за народ, так ваша программа - наша программа. Тогда мы с вами...
- Мы никого к себе не зовём. Хочешь, иди домой, хочешь, иди назад к красным, хочешь, иди в тыл, в Польшу, хочешь, поступай добровольцем к нам...
- Мы теперь это знаем. Домой пойдёшь - не дойдёшь... К красным - ну их в болото... В Польшу - незачем. С вами пойдём.
- И драться только до дому. Мозырский до Мозыря. Смоленский до Смоленска, Московский до Москвы.
- Вот-вот... правильно... Ну, я - Казанский. Мне далеко идти.
Не раз, не два, не десять раз слышал я такой разговор, всегда один и тот же, как две капли воды на себя похожий. Только менялись губернии: Казанский, Тульский, Псковский...»
И советское руководство было немало встревожено наступлением Булака, спешно передавая две новые дивизии командованию своей 16-й армии и подняв чуть ли не по всей Республике пропагандистскую кампанию.
Мчится Балахович со своими громилами, Мечтает Коммуну с корнем выломить, —стращали «Окна РОСТА»[80], на которых генеральский кулак душил кого-то маленького и щуплого, очевидно коммунара. А на другом плакате из-за горизонта зарился на Советскую Республику и сам, заботливо подписанный, «Балахович» - страшный, толстомордый, с длинными седыми усами и оскаленной пастью, в золотых генеральских эполетах... Что же заставляло большевиков проявлять такое беспокойство?
Прежде всего, похоже, здесь играла роль всё-таки боязнь возобновления польского наступления. Тяжёлые бои осени 1920 года, в результате которых тысячи красноармейцев оказались в плену, а чуть ли не вся 4-я армия вынуждена была перейти границу Восточной Пруссии и интернироваться там, - были слишком хорошо памятны руководителям РСФСР. Западный фронт Республики был если и не растерзан, то во всяком случае сильнейшим образом потрёпан, так что рассчитывать на энергичный и действенный его отпор, пожалуй, и не приходилось. И если бы за партизанами Булак-Балаховича, занимая освобождённую территорию, двинулись регулярные польские войска, - противостоять им было бы отнюдь не легко. Вряд ли сбрасывались со счетов и собственные качества балаховцев, - причём не столько военные (агентурная разведка Красной Армии ещё накануне «похода на Мозырь» установила, что из четырёх дивизий «Батьки» две находятся в стадии формирования; одна из них - кавалерийская - так, кажется, и не была сформирована до конца), сколько политические, о которых так громко трубили Савинков, Мережковский и их коллеги по перу. Кто, как не большевики, знал цену разрушительной пропаганде и социальной демагогии, - и потому их не могли не испугать лозунги «Программы», при всех их недостатках возбуждавшие симпатии крестьянства в неизмеримо большей степени, чем проводимая методами жесточайшего террора советская продразвёрстка.
И основания для такого беспокойства были: даже если критически подходить к утверждениям Савинкова, будто «Балахович больше революционер, чем солдат, хотя дай Бог, чтобы все были такие солдаты», а «любой солдат 1-ой дивизии, старый партизан-балаховец - пропагандист. На стоянке, в каждой крестьянской семье, в каждой хате солдаты 1-ой дивизии ведут пропаганду», - все- таки нельзя отрицать, что взаимодействие с населением безусловно было, хотя «пропаганда» устами рядовых партизан и шла, скорее всего, не по «Программе», а так, как описал её тот же Савинков:
«...Он протискался сквозь толпу, огромный, седобородый, похожий на раскольничьего попа, загремел, показывая корявый палец:
— Это что, огурец или палец? Палец... А я кто? Барин или мужик? Мужик... Так чего зубы-то заговаривать? Бери, ребята, винтовки! Бей их! бесов! Бей бесов окаянных, комиссаров и бар!.. Довольно поцарствовали над нами!.. Правильно ли я говорю?..
— Перекрестись, что против панов.
Егоров снял кубанку и перекрестился на церковь...»
Впрочем, одними митингами выиграть войну было нельзя. На северо-восточном и юго-восточном направлениях от Мозыря войска Русской Народной Добровольческой Армии начинали терпеть поражения в стычках с перебрасываемыми сюда советскими дивизиями, а зарвавшейся под Речицей ударной группе из «дивизии смерти» и недоформированной конницы угрожало окружение.
Б. В. Савинков вскоре по завершении «Мозырского похода», размышляя о причинах его неудачи, на первое место ставит «недостаточность пропаганды», не подтолкнувшей крестьянство к массовым восстаниям, а красноармейцев - к столь же массовым сдачам в плен или переходам на сторону белых. Не отрицая существования «пропагандистского фактора», подчеркнём всё же, что лучшей пропагандой всегда останутся боевые успехи, свидетельствующие о серьёзности и жизнеспособности новой силы и устанавливаемой ею власти. Балаховцы же в этом отношении оказались в явно невыгодном положении, особенно с 20 ноября, когда, по рассказу самого Булака, от пленных стало известно о крушении южного фронта белых (эвакуация Врангелем Крыма завершилась 15-16 ноября по новому стилю). С этим вряд ли могла потягаться любая пропаганда Армии, оказавшейся один на один со всей Советской Республикой и её вооружёнными силами и фактически не имевшей тыла.
Щедрая помощь Польши своему союзнику Балаховичу сошла на нет в условиях переговоров с большевиками: обещанная полякам контрибуция в тридцать миллионов золотых рублей (около 14% всего, что оставалось от золотого запаса Российской Империи) также стала весьма эффективным «способом пропаганды». В результате сила балаховской артиллерии так и осталась неопределённой, числящиеся в составе Армии бронепоезд и десять аэропланов, похоже, нигде себя не проявили (не говорит ли это об их реальном состоянии?), а внешний вид героев-партизан ярко запечатлел Савинков: «Какая гвардия сравнится с ними? Ночь без сна, день в бою, ночь снова без сна. Руки мёрзнут - перчаток нет, ноги мёрзнут - обмотки, на плечах - подбитая ветром шинель, но вместо фуражки меховая папаха и на папахе мёртвая голова. Новая народная русская форма. “Петушиная” - скажут мне. Я отвечу: “Заслужите её”».
Неблагополучно было и в собственном тылу. Начальник снабжения Армии капитан Елин не смог представить оправдательных документов на истраченные суммы (по общему мнению - просто проворовался), был отстранён, а позднее даже угодил под следствие, но и ревизия его деятельности велась каким-то странным способом - по рассказу самого Елина, например, «имущество интендантское выгружалось без всякой системы на полотно железной дороги. Мешки с мукой и сахаром складывали прямо на рельсы. Много мешков было намочено дождём и разорвано вагонами проходящих поездов »...
Много нареканий вызывает обычно и моральный облик фронтовиков-балаховцев, обвинение которых в грабежах, насилиях и, конечно, еврейских погромах стало уже общим местом. Бессмысленно рассуждать, что предшествовало чему: отказ евреев вступать в организуемую для них при штабе Балаховича «Отдельную Еврейскую Дружину» прапорщика Цейтлина — или бесчинства «батькиных» молодцов; вступление тех же евреев в Красную Армию (во время её наступления, в Белостоке, Седлицах и др.) - или убеждённость балаховца в том, что «все жиды - коммунисты»; но, вспоминая о вполне реальных и засвидетельствованных случаях убийств, грабежей и отвратительных издевательств, мы обязаны вспомнить и приказ, отданный Булаком ещё 20 октября и предававший военному суду не только участников погромов, но и командиров тех частей, в которых служили погромщики. Застигнутые же на месте преступления подлежали немедленному расстрелу, что неоднократно производилось и самим генералом и о чём тоже имеются конкретные свидетельства, с датами и именами расстрелянных. Кроме того, в ответ на легенду об «организованных свыше погромах балаховцев» необходимо заметить, что ни один военачальник в здравом уме не отдаст приказа об устройстве погрома, поскольку это во мгновение ока разложит и разрушит войска: «...Кто разбил дверь, тот уже не гость, а разбойник. Начинается неудержимый грабёж», - справедливо пишет Савинков. И лучшим свидетельством против обвинений Русской Народной Добровольческой Армии в массовых бесчинствах служит сохранение ею боеспособности до последних дней борьбы на своей земле.
Несмотря на тяжёлую обстановку, говорить об утрате балаховцами боевого духа отнюдь не приходится. «Ибо самое замечательное, что я видел в 1-ом конном полку, - улыбка на всех устах, - рассказывает тот же Савинков, проделавший с полком значительную часть похода. - Трусит рысью - улыбается во весь рот. Встаёт с зимней зарею, седлает коня - улыбается во весь рот. “Возьмёшь вот эту деревню”, - улыбается во весь рот. - Не преувеличиваю, говорю то, что видел, - лежит раненый, улыбается во весь рот. “Что ты?” - “Жил грешно и умираю смешно”». И это действительно кажется кощунственным преувеличением, «литературщиной», - но ведь и Балахович вспоминал партизан, умиравших с улыбкой и последней просьбой - похоронить с музыкой или закурить напоследок: «пусть-де знает Батько, как сынки умирают».
Несправедливо было бы перекладывать вину за проигрыш кампании и на соседей справа - 3-ю Русскую Армию, как попытался это сделать генерал: на самом деле даже первоначальный план наступления балаховцев предусматривал, что их правый (овручский) фланг будет загнут к демаркационной линии, опираясь на неё и не ставя наступление в непосредственную зависимость от положения на участке Пермикина. В то же время сам Балахович на волне своего первоначального успеха сделал шаг, который таил в себе опасность для Армии даже независимо от всех названных выше объективных и субъективных причин. «...А потом встретит кого-нибудь, и тот повернёт всё вверх ногами», - вспомним мы годичной давности предостережение младшего брата «Батьки», чтобы вновь убедиться в его правоте.
12 ноября Станислав Булак-Балахович объявил себя Начальником Белорусского Государства и Главнокомандующим, причём для формирования вооружённых сил новопровозглашённой республики из каждого полка было приказано выделить белорусов (кстати, этим опровергается утверждение современного минского историка, что армия Балаховича изначально имела в своём составе чуть ли не целую белорусскую дивизию). Такие изменения структуры сражающихся частей в условиях маневренной войны и непосредственного соприкосновения с противником были более чем рискованными и привели к размолвке Станислава с братом Иосифом, которому он оставлял командование Русской Народной Добровольческой Армией, произведя его в генерал-майоры (полковником младший Балахович стал ещё в Северо-Западной Армии). «Оба они были прекрасными и храбрыми офицерами, - вспоминал о братьях хорошо знавший их соратник, но Станислав был большим оригиналом - он носил белую свитку с генеральскими отворотами и приказывал именовать себя “батькой”, при его штабе находилось “белорусское правительство”, его же брат этого не поощрял и поэтому отношения между братьями были натянутыми».
О принципиальном характере размолвки может говорить и публикация в русской эмигрантской прессе заявления находившихся в Польше русских командиров, в том числе И. Н. Балаховича, о признании барона Врангеля верховным вождём всех антибольшевицких сил. Приведённый в заметке фрагмент текста, правда, вызывает сомнения (несколько странно звучит обещание «терпеливо и твёрдо до конца переносить все невзгоды и тяготы боевой жизни» из уст старых, многократно обстрелянных офицеров, уже доказавших эту готовность на деле); однако братья-генералы не перепутаны, как можно было бы ожидать, - среди подписавших значится «Командующий народной добровольческой армией генерал- майор Булак-Валахович 2-ой» - и это как будто доказывает хорошую осведомлённость публикаторов. Здесь же подчеркнём, что Иосиф Балахович, в отличие от брата не обладавший авантюрными наклонностями, представляется вообще более лояльным по отношению к верховному русскому командованию в течение всей Гражданской войны.
В отличие от Балаховича-младшего, Савинков как будто одобрил произошедшее, 16 ноября поставив свою подпись под договором о признании Белорусской Народной Республики, который откладывал определение «окончательной формы взаимоотношений между Россией и Белоруссией» до Учредительных Собраний обоих государств. Возможно, однако, что при этом имелось в виду создание великоросско-белорусской федерации, в составе Единой России, и Станислава Балаховича нельзя считать противником такого варианта: когда сегодняшние белорусские авторы восхищаются воззваниями 1920 года («Дык гей, беларускi народзе! Усе як адiн у шэрагi нашай армii пад штандар нашага правадыра бацькi Булак-Балаховича... Ачнiсь, Беларусь») и отмечают (ошибочно) участие в «Белорусском съезде», проходившем 15-16 ноября в Слуцке, Балаховича-младшего, - им следовало бы вспомнить, как посланцам Булака дали тогда понять, что белорусские сепаратисты «уже не верят никаким российским обещаниям» и склонны отмежеваться от «расейцев-балаховцев». Милее им была Польша, несмотря даже на то, что поляки и в 1919, и в 1920 годах вели себя в Белоруссии не как освободители, а как оккупанты, и - вспоминал участник событий - «не раз рассказывали балаховцы, как им приходилось заступаться за население, терроризируемое польскими войсками...»
Однако Белорусской Республике и в балаховском её варианте суждено было недолгое существование. 16 ноября начинается откат, в ночь на 18-е оставляется Мозырь, и с арьергардными боями, огрызаясь и выскальзывая из приготовленных для них «мешков», войска обоих братьев пятятся к демаркационной линии. Отступление продолжается до 28 ноября, когда основные силы переходят на польскую сторону и сдают оружие (существует упоминание, что разоружение происходило не безболезненно, а в отношении частей, предводимых младшим братом, - даже с боем, но эта версия сомнительна). Сам «Батька», в последних боях раненный в ногу и находившийся в тяжёлом состоянии, едва не застрял на советской стороне и лишь 30 ноября был выручен специально вернувшимся из-за кордона полковником Жгуном, с небольшим отрядом разыскавшим генерала и переправившим его за демаркационную линию. Для генералов Булак-Балаховичей начиналась эмиграция.
* * *
Эмиграция или... репатриация?
Мы уже достаточно слышали о Станиславе Балаховиче как о поляке, чтобы предполагать возможность и второго ответа, в пользу которого, казалось бы, говорят и настойчивые попытки генерала добиться польского гражданства, предпринимаемые в это время. Однако сама Польша отторгает его, в лице своих дипломатических представителей всячески стремясь не просто отмежеваться, а прямо избавиться от ненужного уже «Батьки».
Рижские переговоры РСФСР и УССР с одной стороны и Польской Республики - с другой, проходившие с октября 1920 по март 1921 года и завершившиеся подписанием 18 марта мирного договора, стали позорной страницей польской дипломатии и легли грязным пятном на шляхетскую честь « Второй Речи Посполитой ». Захваченное большевиками русское золото ослепило поляков, побуждая их не только к беззастенчивому разделу малороссийских и белорусских земель (отозвавшемуся Польше в сентябре 1939 года), хотя Минск был в прямой досягаемости польских и союзных русских дивизий, но и к предательскому поведению в отношении последних. В первый момент после перехода демаркационной линии польское командование ещё склонялось к сохранению войск Пермикина и Балаховичей как организованной боевой силы, но денег на это у Республики не нашлось, а Франция, к которой обращался за помощью Савинков (имея в виду, впрочем, в первую очередь 3-ю Русскую Армию, а не Балаховича, не оправдавшего его надежд), отказала недвусмысленно и категорично. Не была использована и возможность переброски Русской Народной Добровольческой Армии в «Среднюю Литву», к формально ещё «бунтовавшему» генералу Желиговскому, чего боялись большевики.
В результате русские формирования были интернированы в специальных лагерях, где местные власти предоставили полную свободу действий главе Русского Политического Комитета[81], начавшему чистку офицерского состава под предлогом «германской ориентации» последнего, которой поляки боялись, как огня. Таким образом, провозглашённый Пилсудским «поход против большевизма» оказался фикцией, да и государственные интересы самой Польши - товаром довольно дешёвым.
Ещё худшим было положение Балаховича: польская делегация предложила даже выдать его Советам в случае «гарантий амнистии»... К счастью для «Батьки», что-то помешало этому постыдному торгу, но настойчивые требования высылки генерала продолжались и в ходе переговоров, и по их завершении. Так, уже 7 октября 1921 года было подписано очередное советско-польское соглашение, по которому поляки обязались выдворить Булак-Балаховича из страны в течение двух недель. По странному совпадению — совпадению ли? - соответствующая крайняя дата - 20 октября - должна была стать началом одной из советских денежных выплат по Рижскому договору...
Очевидно, что в такой ситуации генерал не мог не стремиться к получению польского подданства, которое защитило бы его от подобных поползновений, тем более что тот же Рижский договор, определявший условия репатриации, предоставлял ему для этого все возможности. Балаховича поддержала определённая часть прессы, и высылки удалось избежать. В то же время неясным оставалось его положение - ходатайства о зачислении обоих братьев-генералов в резерв польской армии, как и о награждении их орденами «Virtuti Militari»[82], надолго повисли в воздухе (как мы помним, Станиславу Балаховичу с наградами никогда не везло...).
Впрочем, помимо невезения имелись и более веские причины. «Батька», разумеется, не мог так быстро успокоиться, и волнения советских представителей были, в общем, вполне оправданными. Сам он называл последним днём своих боев «за свободу Белоруссии» 18 марта 1921 года - как лояльному гражданину, к тому же стремившемуся в ряды Войска Польского, ему и нельзя было признавать, что борьба его на советской территории продолжалась после подписания мирного договора, - но приведённый выше «Приказ Батьки», отпечатанный перед ноябрьским наступлением, находили «расклеенным агентами Балаховича» в белорусских деревнях ещё в середине апреля... Недаром, очевидно, значительное число балаховцев - по оценке Савинкова, быть может преувеличенной, до 1 000 человек, - не ушло за демаркационную линию, а продолжало сражаться в красных тылах.
Некоторое время генералы пытались вести типично эмигрантскую деятельность, подписывая вместе со своими соратниками меморандум о том, что не «комитеты» и «общественные деятели» из Парижа и Берлина, а войсковые командиры, живущие одной жизнью со своими солдатами, должны представлять подлинное лицо русских эмигрантов и беженцев, или принимая участие в работе белорусских организаций, выбирая, впрочем, ориентацию определённо русофильскую. В связи с начавшимся расформированием лагерей интернированных Балахович-старший прилагал усилия к обеспечению работой своих бывших подчинённых, немалая доля которых не имела ничего общего с Польшей, и добился для этого получения концессии на лесные разработки в Беловежской Пуще, где поселился и сам вместе с братом.
Не сумев расправиться с генералом дипломатическими методами, его противники обратились к террористическим: в ночь на 13 июня 1923 года на лесной дороге в Беловеж выстрелом из винтовки был убит Иосиф Балахович, и расследование показало, что следы вели за кордон. Первое же сообщение прессы квалифицировало это преступление как покушение на старшего брата, но поскольку, как мы помним, Иосиф всегда занимал более правую позицию, чем Станислав, у советской разведки вполне могли быть к нему персональные счёты, и недаром близкий знакомый обоих братьев упоминал о признании схваченного год спустя убийцы, что «деньги от большевиков» он получил именно за младшего Балаховича. Нет сомнения, что подобные планы строились и в отношении «Батьки», но Бог миловал его.
Кипучая энергия генерала искала выхода. Отказавшись от попыток играть какую-либо политическую роль - исключением стали лишь дни военного переворота, совершенного Пилсудским в мае 1926 года, когда Булак с группой своих партизан решительно выступил на стороне Первого Маршала, вернувшего себе верховную власть в государстве, — он всё больше посвящает себя заботам о старых соратниках, выступлениям в печати, сплочению ветеранов, деятельности в организациях «комбатантов» (участников минувшей войны), широко раздавая учреждённый им самим «Крест Доблести», напоминавший по внешнему виду белый эмалевый орден Святого Георгия - его несбывшуюся мечту, — но с заменой в центральном медальоне изображения Победоносца на мёртвую голову со скрещёнными факелом и мечом. Романтика «рыцарей смерти» Великой войны («Звездой Рыцарей Смерти» именовалась высшая степень балаховского ордена), Христианская символика Адамовой головы — «смерть и Воскресение», память о Партизанской дивизии, носившей мёртвые головы вместо кокард... не объединяются ли все эти ностальгические ассоциации одним славянским словом - «тоска», как говорят, не имеющим точных синонимов в европейских языках?
Наверное, генерал тосковал. Вынужденное бездействие угнетало его. Он так и не научился жить мирной жизнью, не научился считать деньги и из-за этого несколько раз попадал в неприятные истории, выдавая векселя, по которым не мог расплатиться. Он писал польские и белорусские стихи, не блещущие, быть может, литературными достоинствами, но взволнованные и искренние — не главное ли это в стихах? — был ли это призыв «встать за отчизну» или грустная эпитафия любимым коням - вороному и белому, которым уже не суждено было понести хозяина в решительную битву или на победный парад; мечты и намерения слишком часто не сбываются в жизни, и лишь в конце земного пути, упорно ведущего генерала к неизменной цели, ожидал он, что «коn wrony i bialy» вновь встретят его для самой последней скачки...
Может быть, с таким состоянием Балаховича было связано и то, что брак его с Гертой фон Герхард оказался непродолжительным; позднее он женился в третий раз, и заботы о детях (всего двое сыновей и пять дочерей от трёх браков[83]) и семье погибшего брата тоже должны были занимать его в эти тягостные годы, которые мы с высоты своего исторического знания назовём сегодня межвоенными...
Могла ли война не найти своего «рыцаря смерти»? В последнее время появляются версии о его участии военным советником в Гражданской войне в Испании (1936-1939), где Балахович якобы делился своим партизанским опытом в штабе генерала Франко. Но, хотя было бы чрезвычайно заманчиво представить старого «Батьку» инструктирующим марокканскую конницу «войск Национальной Испании», скорее всего здесь мы имеем дело с очередной легендой. Помимо того, что наиболее подробная польская биография генерала просто не оставляет ему на это времени, не следует сбрасывать со счетов неприязненное отношение, которое он питал к Германии, активно поддерживавшей Франко. В эти годы Булак целиком в мечтах о новом славянском Грюнвальде[84], о войне с победным финалом в Берлине... Однако в действительности ему пришлось увидеть зарево над Варшавой.
Впрочем, не в одном Гитлере видел он угрозу. Один из старых балаховцев позже вспоминал речи, которые «Батька» вёл в кругу своих соратников. «Я знаю - некоторые из вас посмеивались над моим увлечением Тарасом Бульбой, который был естественный тип средневековья, - говорил он, - но любил я его не за это, а за упорную непримиримость к врагу, за стойкость в христианской вере, свободолюбие и преданность своим товарищам. — Он и погиб страшной смертью за эти идеалы... Я убеждён, что скоро настанут страшные времена, которые по силе человеконенавистничества, жестокости и преследования христиан и вообще верующих в Бога превзойдут не только средневековье, но и жуткую эпоху ассирийских и египетских царей... Да, господа, скоро ещё нам придётся отвечать на вопрос: “во Христа веруешь?”, причём утвердительный ответ будет требовать немедленной защиты с оружием в руках христианской цивилизации. Поверьте мне, вопрос будет так поставлен, или победить, или влачить жалкую жизнь раба и лизать пятки большевицкого хама!»
Вспомнил ли Балахович эти свои слова в сентябре 1939 года, когда в обливающейся кровью Польше, которую делили между собою нацисты и большевики, он бросился формировать новый партизанский отряд? К этому времени чин его был признан, и «Добровольческую Группу» (название менялось несколько раз) Булак-Балахович возглавляет уже не генерал-майором Русской Армии, а бригадным генералом Войска Польского. Почти две тысячи отозвавшихся на его клич добровольцев объединены в два пехотных батальона, два эскадрона кавалерии, противотанковый взвод и - отголосок минувшей войны? - юнкерский и офицерский отряды, действуя в дни обороны Варшавы на южном участке.
Кажется, возвращаются дела двадцатилетней давности. Вновь идут по тылам противника балаховцы; вновь стелется в карьере на пулемёты дикая конница; ближайший помощник Булака - есаул Яковлев (теперь он польский полковник), в 1920 году командовавший казачьей бригадой... Тогда они крепко не ладили - Яковлев не хотел подчиниться, - сегодня же стоят в общем строю: «скоро настанут страшные времена...», и встретить их надо, как прежде, с оружием в руках.
Позже рассказывали, будто Балахович «объявил о формировании отряда для похода против большевиков», и в какой-то мере можно этому поверить, поскольку генерал посылал своего эмиссара и в восточные области Польши - в Брест-Литовский, Люблин и Вильну для контакта с «формирующимися там моими отрядами», — а ведь Брест и Вильна входили уже в советскую зону раздела Польши. Но 30 сентября пала Варшава, открытая вооружённая борьба была окончена, и «Батьке» с его приближёнными пришлось переходить на нелегальное положение.
Ну, уж для этого он решительно не был создан. Попытки конспиративной работы Булак-Балаховича трудно назвать успешными - кружок лиц, собравшихся при нём, объединялся, очевидно, лишь обаянием самого генерала и за семь месяцев никакого вклада в подпольную борьбу внести не успел, «Батьке» же соратники в конце концов посоветовали выбраться из Варшавы. Но на прощание генерал, как рассказывал близко знавший его сослуживец, решил «“кутнуть” по своему обыкновению»... - «А кто два раза в день не пьян, тот, извините, не улан...»
Был или не был Балахович навеселе, когда 10 мая 1940 года у его дома, уже после комендантского часа, его остановил немецкий патруль? Наверное, это неважно, как неважно и то, была ли эта встреча случайной или кто-то донёс оккупантам о скрывающемся генерале, и его поджидали специально направленные гестаповцы. В конце концов, можно быть пьяным и не от вина - вспомним размышления Мережковского: «летит и долетит до конца, не остановится. Вот этим-то концом он, может быть, и пьян»; «есть упоение в бою» - и с одной только палкой в руках, на которую опирался он при ходьбе (тревожили старые раны?), партизан Балахович принял последний свой бой.
Он и сан не любил брать в плен настоящих врагов - не обманутых красноармейцев, а комиссаров и чекистов. Ещё на Великой войне он не ждал себе плена от немцев. Не пошёл он в плен и сейчас, предпочтя автоматную очередь и лёгкую смерть на месте.
«Жил грешно и умер смешно», - быть может, вспомнил бы слова смертельно раненного балаховца бывший соратник Балаховича Савинков. Быть может, и кому-то ещё эта случайная гибель в случайной стычке покажется нелепой и бессмысленной. Но бывает ли вообще не бессмысленная смерть? И не выбрал бы сам Станислав Балахович, предоставь ему кто-нибудь выбор, именно такой - отчаянной, задиристой, очень «балаховской» обстановки для финала своего жизненного пути? Он действительно, как и обещал в стихах, упрямо прошёл до конца, оставаясь самим собою, и ушёл одвуконь - на своих вороном и белом - на тот Суд, где только и будут справедливо взвешены его грехи и его подвиги.
* * *
К одиннадцатой годовщине Октябрьского переворота (что за круглая дата?) у древней псковской крепостной стены поставили памятник «борцам за дело Пролетарской Революции, замученным в 1919 году в гор[оде] Пскове белогвардейскими бандами Булак-Булаховича[85]». Несколько лет назад рельефные буквы имени «Батьки» были спилены и аккуратно закрашены под общий фон, так что остался лишь лёгкий намёк.
Однако «белогвардейские банды» были оставлены в неприкосновенности.
Знамение уже нашего времени?
* * *
И на той же Псковщине, тоже в наши дни, старый священник вспоминает о бесчинствах красных, убивших всех духовных лиц и сбросивших тела в озеро... «А потом пришёл Балахович и спустил всех комиссаров в ту же самую прорубь...»
- Батюшка, Булак-Балахович, мы слышали, был бандит?!
- Хоть и бандит был, а Царство ему Небесное...
1
Во всех последующих очерках даты до 1 (14) февраля 1918 года приводятся по старому, после - по новому стилю. - Ред.
(обратно)2
Впоследствии у Александра Васильевича и Софии Фёдоровны было трое детей. Сведения имеются лишь о двух - сыне Ростиславе (1910-1965, скончался во Франции) и дочери Маргарите, скончавшейся в 1915 году в возрасте двух лет. Сама София Фёдоровна умерла в 1956 году под Парижем. - Н. К.
(обратно)3
Командующего ХII-й армией. - Н. К.
(обратно)4
Сербов, хорватов, словенцев, македонцев - всех тех, кого сейчас принято именовать «югославами». - А. П.
(обратно)5
Гайда, очевидно, имеет в виду Великого Князя Николая Николаевича, Верховного Главнокомандующего в 1914-1915 годах, а затем Наместника Кавказа. - А. П.
(обратно)6
Более вероятным представляется иное объяснение: «европейское» Роберт могло использоваться в обиходе среди родственников Унгерна, менее, чем он, «русифицировавшихся». В каких-то случаях семейные или дружеские имена-прозвища накрепко приставали к человеку - так произошло, например, с одной из ближайших подруг Государыни Александры Феодоровны, фрейлиной Юлией Александровной Ден, в большинстве источников и даже библиографических ссылок навсегда оставшейся «Лили Ден». - А. К.
(обратно)7
В последние годы были опубликованы выдержки из аттестационной тетради Р. Ф. Унгерна, но публикатор не понял подлинной причины перемен в его поведении и, проигнорировав отметки об успеваемости, нарисовал тем самым неправильную картину обучения барона в Морском корпусе. - А. К.
(обратно)8
В первоисточнике - «айсаров». - А. К.
(обратно)9
Так Атаман называет барона уже начиная с весны 1917 года; Унгерн действительно был представлен к производству в этот чин, хотя достоверных сведений о том, что оно состоялось, у нас нет. — А. К.
(обратно)10
Правильнее - «маньчжуры и харачины». - А. К.
(обратно)11
Казнь каждого десятого в дрогнувших или чем-то провинившихся воинских частях; применялась в Красной Армии, хотя и не была в ней повсеместной. - А. К.
(обратно)12
На гауптвахту (армейский жаргон). - А. К.
(обратно)13
В первоисточнике — «боковую», но из контекста видно, что речь идёт о вагоне бронепоезда, в котором размещалась часть военного училища, эвакуированного из Читы в Даурию летом 1920 года. - А. К.
(обратно)14
В русских источниках его имя пишется по-разному: Чжан Ку-ю, Чжан-Куи-Ву, Джан-Кую, но несомненно, что речь идёт об одном и том же человеке. — А. К.
(обратно)15
Имеется в виду династия Цин, правившая Китайской Империей с XVII века и свергнутая «Синьхайской революцией» в октябре 1911 года. - А. К.
(обратно)16
Кстати, Унгерн был, кажется, единственным, кто попытался отомстить за Колчака. Он вполне серьёзно готовил уничтожение поезда одного из старших союзных военачальников (французского генерала Жанена или чешского - Сырового), небезосновательно считая их главными виновниками трагической гибели Верховного, - и только увещевания Атамана Семёнова (из «дипломатических соображений») заставили барона отказаться от своего плана. - А. К.
(обратно)17
Обратный перевод с английского. - А. К.
(обратно)18
Здесь и далее мы объединяем под общим наименованием «красных» части советской 5-й армии, структурно не подчинённой ей Народно-Революционной Армии ДВР и якобы не подчинявшиеся вообще никому партизанские отряды, поскольку на деле все они выступали под единым руководством. - А. К.
(обратно)19
Северные районы Монголии имеют весьма возвышенный рельеф, не позволявший провезти артиллерию и обоз ближе к границе, чем лежал почтовый тракт. - А. К.
(обратно)20
Верхняя одежда, род халата. - А. К.
(обратно)21
Так в первоисточнике. - А. К.
(обратно)22
Монастыри и монастырские посёлки. - А. К.
(обратно)23
Так в документе. Возможно, следует читать «нечестия». - А. К.
(обратно)24
Неточная цитата из Книги Пророка Даниила (12: 1, 10-12). В синодальном переводе: «...и не уразумеет сего никто из нечестивых...» (стих 10), «...тысячи трёх сот тридцати пяти дней» (стих 12). - А. К.
(обратно)25
Документ изобилует опечатками, наиболее явные из которых исправлены без оговорок. - А. К.
(обратно)26
Это письмо сибирскому эсеру В. И. Анучину выглядит довольно странным, и сам барон на процессе в Ново-Николаевске отрицал своё авторство; следует, однако, помнить, что Анучин, в отличие от других адресатов Унгерна, находился в это время в поле досягаемости советских карательных органов, и переписка с «кровавым бароном» могла быть поставлена ему в вину. - А. К.
(обратно)27
Буддистский монастырь. — А. К.
(обратно)28
Так в первоисточнике. - А. К.
(обратно)29
Монгольская плеть с относительно длинным черенком. Про Унгерна рассказывали, что ударом ташура он мог убить человека. - А. К.
(обратно)30
Имеется в виду Ван-Курэ. На самом деле это произошло вёрстах в пятидесяти к северу. - А. К.
(обратно)31
Генисаретское озеро, называемое также Тивериадским или Галилейским морем, с которым связан ряд эпизодов земной жизни Спасителя, в действительности находится в Палестине. - А. К.
(обратно)32
Так всюду у Семёнова. Имеются в виду события 3-6 июля 1917 года, когда большевики вывели на улицу вооружённые отряды, но были остановлены войсками и рассеяны. - А. К.
(обратно)33
Всюду в цитате - курсив первоисточника. - А. К.
(обратно)34
Так в первоисточнике. - А. К.
(обратно)35
Все выделения - первоисточника. - А. К.
(обратно)36
Так в первоисточнике. - А. К.
(обратно)37
Всюду в цитате - курсив первоисточника. - А. К.
(обратно)38
Так в первоисточнике. - А. К.
(обратно)39
Оба Войска, вместе взятые, были чуть ли не втрое меньше Забайкальского по численности и в два с половиною раза - по силе выставляемых строевых частей мирного времени. - А. К.
(обратно)40
В первоисточнике - «настолько». - А. К.
(обратно)41
В первоисточнике - «из них». - А. К.
(обратно)42
В первоисточнике - «передачу». - А. К.
(обратно)43
Цитируется по воспоминаниям Семёнова; все выделения и вопросы - Атамана. - А. К.
(обратно)44
В литературе часто встречается ошибочное «№ 60». - А. К.
(обратно)45
Так в публикации. - А. К.
(обратно)46
В эмиграции, в 1930-е годы, С. Н. Третьяков сотрудничал с советскими спецслужбами, участвовал в шпионаже за руководством Русского Обще-Воинского Союза и приложил руку к похищению из Парижа главы РОВС генерала Е. К. Миллера. Во время Второй мировой войны был раскрыт Гестапо и казнён. - А. К.
(обратно)47
Находясь в советском плену, Григорий Михайлович давал какие- то странные показания о «посылке телеграммы Ленину», путая даты и ссылаясь на бывшего председателя РВС советской 5-й армии И. Н. Смирнова (которого почему-то назвал «Наркомземом»), к тому времени уже несколько лет как репрессированного. Более определённых свидетельств на этот счёт пока нет. Заметим, что в памфлете об Атамане Семёнове, приписываемом хорошо осведомленному генералу Л. В. Вериго и выдержанном в весьма нелицеприятных (а порой - и очернительских) тонах, столь выигрышный факт, как мнимое «предательство» Семёнова и его «переговоры с красными», не нашёл ни малейшего отражения. - А. К.
(обратно)48
Всюду в цитате - курсив Г. М. Семёнова. - А. К.
(обратно)49
Дальнейшая судьба золота продолжает оставаться не выясненной до конца. В 1945 году ею, похоже, больше, чем всеми остальными эпизодами биографии Семёнова, интересовалось советское следствие, однако из отрывочных публикаций на эту тему создаётся впечатление, что Атаман сознательно темнил и «путал следы». Известно, что часть золотого запаса должна была пойти на покрытие расходов по содержанию
Армии, а возможно - в дальнейшем и беженцев, причём распоряжаться ею должны были бы уже не «семёновские», а «каппелевские» генералы. В любом случае, к середине 1920-х годов личные средства Атамана Семёнова были, как мы вскоре увидим, весьма ограничены, и подозревать его в казнокрадстве кажется несправедливым. — А. К.
(обратно)50
Определение знамени по дореволюционному уставу. - А. К.
(обратно)51
По преимуществу (франц.).
(обратно)52
Военный корабль с небольшой осадкой, используемый для действий в прибрежных водах или на реках. - Н. К.
(обратно)53
«Товарищи» здесь употреблено явно иронически, как принятая в СССР партийная кличка-обращение. - Н. К.
(обратно)54
Так в первоисточнике. - В. Ц.
(обратно)55
Северный корпус формировался осенью 1918 года во Пскове, но после понесённого поражения от большевиков отступил на территорию получившей независимость Эстонии. - В. Ц.
(обратно)56
Всюду в цитате курсив В. И. Ленина. - В. Ц.
(обратно)57
Горе побеждённым (лат.).
(обратно)58
Здесь и далее переводы с белорусского и польского не оговариваются. - А. К.
(обратно)59
Rzeczpospolita (польск.) - республика; «Первой Речью Посполитой» считается польско-литовское государство, существовавшее в XV-XVIII веках. - А. К.
(обратно)60
Поступление братьев на службу ещё в августе 1914 года следует считать не подтверждённым документально, хотя в одном из послужных списков Иосифа действительно встречается дата 2 августа (то есть на третьей неделе войны, а не через три месяца после её начала). Мы, однако, пользуемся более ранним вариантом послужного списка. - А. К.
(обратно)61
Всего за годы мировой войны С. Н. Балахович был четырежды ранен и один раз контужен. - А. К.
(обратно)62
После Л. Н. Пунина титул Атамана больше не присваивался. - А. К.
(обратно)63
Отметим здесь же женитьбу Иосифа Балаховича на сестре своего покойного Атамана - Зинаиде Луниной, причём сие деяние, очевидно, следует включить в список фронтовых партизанских операций штабс-капитана, поскольку в отпуск он за всю войну не ездил ни разу. - А. К.
(обратно)64
Эта «революционная» награда была учреждена приказом военного министра А. Ф. Керенского 3 июля 1917 года. - А. К.
(обратно)65
По другим сведениям - в 1925-м. Как бы то ни было, в годы Гражданской войны Станислав вряд ли имел о ней какие-либо достоверные известия. - А. К.
(обратно)66
Его фамилия в исторической литературе имеет ряд разночтений: Пермикин, Перемикин, Перемыкин... - А. К.
(обратно)67
С Балаховича бы сталось прибавить себе чин «для солидности», но перед нами может быть и просто анахронизм: свидетельство относится к концу лета 1919 года, когда его автор мог уже знать о производстве своего бывшего начальника в полковники. - А. К.
(обратно)68
Правильно: на Гороховую (улица в Петрограде, где располагалась местная Чрезвычайная Комиссия). - А. К.
(обратно)69
На помощь Эстонии были направлены отряды финских добровольцев. - А. К.
(обратно)70
Интересно, что Иосиф подписывает свой текст «Ротмистр Балахович», а Станислав свой - «подполковник Булак-Балахович». - А. К.
(обратно)71
«Керенки» - денежные знаки образца, принятого в 1917 году Временным Правительством А. Ф. Керенского. Примитивность исполнения обуславливала лёгкость их подделки. - А. К.
(обратно)72
Жирный шрифт первоисточника. - А. К.
(обратно)73
Жирный шрифт 3. Н. Гиппиус. - А. К.
(обратно)74
В первоисточнике - «может», но, как видно из дальнейшего, это явная опечатка. - А. К.
(обратно)75
Обратный перевод с польского. - А. К.
(обратно)76
Военным министерством (польск.).
(обратно)77
1-я и 2-я сражались в Таврии. - А. К.
(обратно)78
Все выделения - первоисточника. - А. К.
(обратно)79
Листовка имеет много опечаток, которые исправляются здесь без оговорок. - А. К.
(обратно)80
«Окна РОСТА» - плакаты, выставлявшиеся в витринах отделений Российского телеграфного агентства (РОСТА). В написании большинства текстов и подготовке иллюстраций к ним принимал участие Владимир Маяковский, которому принадлежат и процитированные строки. - А. К.
(обратно)81
Комитет был переименован в «Эвакуационный». - А. К.
(обратно)82
Орден Воинской Доблести (в русских источниках иногда именуется «Военный Крест») - одна из самых почётных польских боевых наград. - А. К.
(обратно)83
Некоторые из прямых потомков С. Н. Булак-Балаховича и сейчас живут в Польше, другие эмигрировали. - А. К.
(обратно)84
Битва при Грюнвальде 15 июня 1410 года, в которой польско-литовско-русские войска нанесли поражение рыцарям Тевтонского Ордена, надолго остановила германскую экспансию на Восток. - А. К.
(обратно)85
Эта ошибка в написании фамилии генерала была весьма распространённой. - А. К.
(обратно)
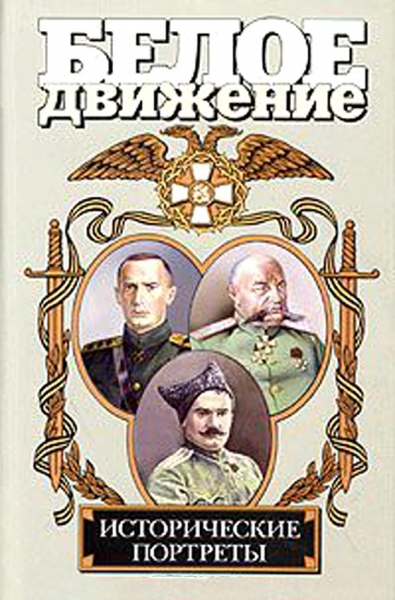
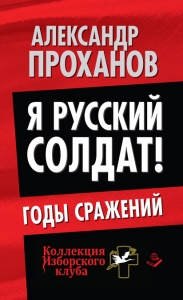





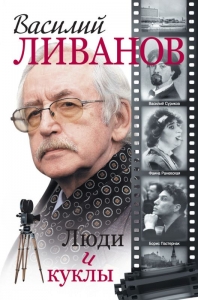
Комментарии к книге «Белое движение. Исторические портреты. Том 2», Андрей Сергеевич Кручинин
Всего 0 комментариев