Евгений Маляр, Анатолий Маляр ЗАПИСКИ ОДЕССИТА Часть вторая Послеоккупационный период
.
Предисловие соавтора
Пятидесятые и шестидесятые годы XX века сегодня воспринимаются в романтических розово-голубых тонах. Она ассоциируются с домами-сталинками, автомобилями «Победа», набриолиненными стилягами в брюках-дудочках, клумбами-фонтанами и прочими атрибутами «оттепели».
В Одессе, как и во всей огромной стране, называвшейся СССР, это время и в самом деле было своеобразным и очень интересным. Тем, кто хочет в нем по-настоящему разобраться, наверняка придется по вкусу эта книга.
Произведение не претендует на документальность, хотя упомянутые в нем персонажи действительно жили, а описанные события происходили в реальности.
Вторая часть «Записок одессита», вероятно, заинтересует читателей, уже знакомых с первой книгой об оккупации. Стиль тот же, «амаркордный», подразумевающий последовательность небольших новелл, связанных общим сюжетом. Каждый из маленьких рассказов освещает какую-то тему или событие и может рассматриваться как отдельный эпизод.
По сравнению с периодом оккупации времена были уже не столь трагические, хотя и легкими их назвать тоже язык не поворачивается. Впрочем, юмора и одесских хохм во второй книге намного больше, чем в первой.
Итак, начнем. Сразу же речь пойдет об условиях жизни одесситов первого послевоенного десятилетия.
В коммуне обстановка…
К бедности все давно привыкли. Одесситы завидовали тем, кто проживал большой семьей в маленькой комнатке: такую легко протопить «буржуйкой» — в этом имелся большой плюс. Был и большой минус — в тесноте очень быстро разводились клопы. Они почти хрустели под ногами, нещадной вонью мстя за свою преждевременную погибель, и похоже, жили уже при коммунизме. «Жарили» их при помощи примусов и дуста[1]— его без проблем можно было украсть на любом предприятии города.
Когда кому-то в коммуне очень уж досаждали клопы, то вещи выносились «на калидор», а железные сетки кроватей обжигались примусами или паяльными лапами. Комплексно применялся и дуст. Клопы чернели и лопались, разбрызгивая черную кровь, очень вонючую. Запах распространялся по всей коммунальной квартире. Жильцы других комнат тяжело дышали и сердито посматривали на «борцов за свое счастье». Возможно, им было жалко пострадавших клопов… Соседи, не выдерживавшие запаха, выглядывали из окон на улицу, «хапали воздуха» и блаженно улыбались.
Конечно, не было времен, когда всем поголовно одесситам жилось бы плохо. После войны хорошо устроиться не могли те, кто побывал в оккупации, но зато появились вполне реальные шансы у молодых и энергичных коммунистов.
Младшей дочке Беренштейнов повезло выйти замуж за Фиму Геллера, очень быстро получившего должность директора ресторана «Волна». Фима проживал в нашей парадной на четвертом этаже в той же коммуне, в которой жил Ленька с мамой Дозей. Ефим Геллер занимал две лучшие комнаты в коммуналке, имел большой кухонный стол на общей кухне. Соседей-завистников он тоже имел…
Когда Фима поднимался к себе домой по мраморной лестнице, подпитые соседи так и норовили его подцепить:
— Фима, а щё твоя свояченица Зина сегодня клювала?
Они знали, что сестра его жены до войны переболела сифилисом — тайны в том не было, а в Одессе и быть не могло. У Зины отсутствовала передняя часть носа. Ефиму не нравились такие разговоры, и он их резко пресекал:
— Вам бы такое тоже поклевать! — выкрикивал он на ходу, и ускорял свои прыжки через ступеньки.
Когда соседи-завистники бывали трезвы, они здоровались с Фимой очень вежливо, даже подобострастно:
— Фимочка, ви сегодня так галантерейно одеты, так и хочется вас с чем-то поздравить!
— Ты мене уже вчера напоздравлял.
— То не я, то водка Вас поздравляла. Если я шото не так ляпнул…
Фима убегал, не ожидая, пока сосед, дышащий вчерашним перегаром, успеет обслюнявить его чисто выбритые щеки.
* * *
Электропроводка, проведенная еще до революции гибким проводом с хлопчатобумажной изоляцией, крепилась на фаянсовых роликах, и ее лучше было не трогать. Обычно в квартире был один счетчик, но в некоторых коммунах, где проживали «состоятельные жильцы», электросчетчиков могло быть несколько. Там все стены были покрыты переплетающимися проводами, а в туалете было столько же лампочек и выключателей, сколько и соседей.
Городское напряжение в 127 вольт было опасным для таких проводок. В квартирах, где был один электросчетчик, производились внезапные проверки комнат соседей для выяснения количества горящих лампочек. После сложных и спорных вычислений определялся процент оплаты каждой семьи за электроэнергию. «Коммунары», не согласные с начисленным процентом, громко требовали, чтоб «не пили их кров бандиты с большой дороги», производившие расчет. Это не помогало…
Единственный туалет по утрам никогда не пустовал, по его двери обязательно кто-то нетерпеливо стучал и до поры до времени просто нескромно выражался. Потом начинал пританцовывать, выражаясь уже не всегда цензурно. Назревал скандал, и повод был налицо: «Ты что, там газеты читаешь?!» — извивался в судорогах ожидающий своей очереди. «Не кричи, а то я и вовсе не смогу выйти!» — отвечал тужащийся сосед.
Крысы, мыши и клопы в комнатах веселили одесситов, обладавших фантазией. Жильцы придумывали анекдоты, а иногда запускали дворовых кошек в квартиры.
Общественный транспорт
В конце сороковых добираться в Аркадию из центра города стало намного проще. Одесситам нравилось вспоминать довоенное время, сидя на скалистых склонах и в маленьком парке. Худощавое население заполнило трамваи, хотя большая часть пассажиров сходила у Привоза.
Перевозкой людей занимались и биндюжники на легковых бричках — их клиентами становились представители солидной[2] публики.
На больших грузовых площадках искали нанимателей другие биндюжники, подряжавшиеся доставлять мебель, мешки с продуктами и другие габаритные предметы.
Были еще и безлошадные биндюжники. Они считались одновременно самыми бедными и здоровенными. Эти представители транспортного бизнеса легко катили свои тачки в любую погоду вниз по наклонным улицам Одессы и тяжело толкали их на подъемах.
Когда организовался первый в городе таксопарк на улице Эстонской, наиболее шустрая часть легковых биндюжников, естественно, за определенную мзду, пересела на несколько десятков новеньких «Побед».
Кроме технически новых транспортных средств в работе не изменилось практически ничего. Гордые таксисты собирались позади рыбных корпусов и ожидали «сармачных» клиентов теперь уже не рядом с лошадями, а возле автомобилей. Водители знали себе цену и всем своим видом показывали, что задешево никого никуда не повезут.
Появились и конкуренты в виде владельцев трофейных «BMW», «Опелей» и «Мерседесов». Они остерегались бывших биндюжников, слывших большими хулиганами, но деловые соображения брали верх над страхом. Лучшего места для парковки в окрестностях Привоза все равно не было.
Таксисты быстро ощутили убыль пассажиропотока и логично связали ее с активностью частников. Кто из тружеников сферы услуг не знает, что насиженная точка — зона жизненно важных интересов? Биндюжники старались, «прибивали» место, а теперь эти нахалюги пользуются плодами без спроса!
Особенно возмущал таксистов своей необыкновенной наглостью один владелец «Опеля», уводивший пассажиров прямо из-под носа. Водители некоторое время просто возмущались, а потом применили к «бомбиле» новейший, специально изобретенный метод конкурентной борьбы.
Шофера «Опеля» подвела предсказуемость. Он часто оставлял свою машину рядом с официальными таксомоторами и, заработав денег, шел «делать базар». В тот день он тоже шел от мясного корпуса Привоза в хорошем настроении, купив по выгодной цене симпатичного петушка, овощей и фруктов. По пути конкурент успел прихватить клиента приличного вида — тот солидно шел рядом с ним в костюме и шляпе. Водитель «Опеля» не спеша уложил покупки в багажник, услужливо открыл дверь и усадил пассажира на переднее сиденье.
Машина уехала. Таксисты, наблюдая за этой сценой, тихо ухмылялись, сдержанно ликуя.
Частник вскоре после начала поездки почувствовал неприятный запах. «Надо же, с виду такой приличный человек, а пускает газы — будь здоров!» Так подумал водитель, мыслей же пассажира он прочитать не мог. С высокой степенью вероятности, однако, можно предположить, что их содержание было тем же, но направленным в противоположную сторону, почти как в третьем законе Ньютона.
Так они и ехали, недовольные друг другом, до 16-й станции Большого Фонтана. Клиент вышел из машины, швырнул оговоренную сумму, хлопнул дверью и сказал, что с такой скотиной никогда больше ездить не будет.
После того, как пассажир покинул салон, запаха меньше не стало. Озадаченный шофер, борясь с амбре, открыл все окна и помчался назад в город. Морской ветерок пронзал машину, и вроде бы стало легче дышаться. На 13-й станции голосовал молодой человек. Частник подобрал его и тут же почувствовал носом, что проблема вернулась. Парень заерзал на сиденье, но водитель уже смутно догадывался, что дело не в нем. Высадив недовольного пассажира, шофер внимательно обследовал всю машину, но ничего не обнаружил. В каком-то дворе нашел водопроводный кран, обмыл кожаную обивку и пол. Настроение вроде опять поправлялось, а тут подвернулась молодая пара. Юноша с девушкой в два голоса стали возмущаться: «Что дед, дома пробздеться не мог?»
Кончилась история полной капитуляцией конкурента. Он приехал к таксистам и покаялся: «Виноват, ребята, принимаю все ваши условия». Без второго слова частник выставил банкет.
После соблюдения всех дипломатических формальностей водители «Побед» открыли тайну своего секретного оружия. Они подняли резиновый коврик, под которым с пассажирской стороны была вложена пачка из-под «Казбека» — из нее расползалось во все стороны уже несвежее дерьмо. Посрамленный частник стал намного скромнее. Хотя он по-прежнему иногда отбивал клиентов у таксистов, но уже не так нахально, и каждый раз «дико извинялся».
Первые годы для бывших биндюжников, ставших таксистами, были самыми урожайными. Плановое задание установили небольшое, поборы оказались умеренными, а заработки зашкаливали. Устроиться на работу в эту контору можно было только по большому блату. О существовании такого устройства, как таксометр, в послевоенном СССР даже не догадывались.
Зарплата водителя примерно равнялась его дневному заработку и за ней в кассу никто не спешил. Старые водители со смехом вспоминали, как их отлавливал главбух, и просил хотя бы расписаться, если уж деньги они получать не хотят — ему же отчитываться надо. У него же всегда можно было мгновенно получить ссуду, если кому-то срочно требовалось оплатить выпивку, техосмотр или купить какие-то запчасти — без процентов и под честное слово. Доверие — главное в коллективе.
Методы обслуживания клиентов и взаимоотношения остались теми, к которым привыкли биндюжники. Сохранилось деление на касты. «Шмаровозники» специализировались на доставке «девочек» с их «друзьями» в места эротического уединения.
Другие водители имели длительные деловые отношения с карточными шулерами, раздевающими «жирных каплунов» на природе и в городских катранах — с ними рассчитывались очень щедро за проезд в оба конца, проявляемую невнимательность и полное отсутствие памяти.
Третьи находили пассажиров на вокзале и привлекали их веселыми криками о «синиториях», в которых «нема отдыху». В общем, каждый крутился, как мог, а в центральной части продолжали работать конные брички — там «Победу» с шашечками на дверях увидеть можно было редко.
Финансовая дисциплина таксистов, возможно, была самой высокой. Они всегда очень четко выполняли план по выручке и знали, насколько его следует перевыполнять, чтобы намного не повысили.
Администрация ютилась в малопригодных помещениях на Эстонской.
О том, кому, когда и самое главное, как выступать на партсобрании, работники таксопарка тоже имели представление. Бригадиры никогда не критиковали директора, а о линии партии и речи идти не могло — она всегда одобрялась единогласно. Следует отдать должное и уровню воспитательной работы: водителей даже и сравнивать нельзя было с биндюжниками по культуре речи и обслуживания населения. Они никогда не ругались матом, порой удивляли пассажиров своей начитанностью и умением разбираться в музыке — и это несмотря на отсутствие чаще всего даже начального образования. Очевидно, они просвещались самостоятельно в свободное от работы время, как Лазарь Каганович.
Одесские таксисты дружно рвали на груди рубахи, тем самым доказывая свою преданность партии и лично товарищу Сталину.
Партсобрания проходили согласно общепринятому в Одессе (а возможно, что и в других городах) ритуалу. Одно из них запомнилось старому таксисту, рассказавшему мне в конце шестидесятых годов и вышеприведенную поучительную историю о бомбиле на «Опеле».
Современному читателю поможет разобраться в хитросплетениях интриг, характерных для обстановки в коллективах того времени, краткое описание самой партийной организации.
Недавние биндюжники, в срочном порядке вступившие в КПСС и получившие вместо привычных коней «Победы», несколько возгордились. Новенькие автомобили они полюбили так же, как ранее своих лошадей.
Собрания для многих становились первой ступенью карьерной лестницы. Директор таксопарка пользовался авторитетом столь же непререкаемым, как для блатных пахан. Когда большой начальник открывал собрание, все затихали. Директор для начала поощрял толпу хвалебными речами о производственных успехах, плавно переходя к самокритике, а затем и критике.
Помещения тогдашнего таксопарка роскошными назвать было нельзя: секретарь с президиумом гнездились за дощатым столом на жестких сиденьях, уступавших по удобству даже скамейкам ломовых извозчиков. Это не имело значения — простота быта только украшала светлый облик коммунистов.
Директору почтительно предоставлял слово секретарь парторганизации, и «хозяин» с достоинством нес свое тело к импровизированной трибуне. Прокашлявшись и выпив глоток боржоми, он суровым взором окидывал собравшийся коллектив.
— Уважаемые товарищи! В то время, когда гидра мировой контрреволюции старается запугать наше родное правительство атомной бомбой…
Изредка раздавался храп отработавших ночную смену водителей. Секретарь в этих случаях громко бил связкой ключей по графину, наполненному водопроводной водой.
— Товарищи коммунисты — других здесь не вижу! Дадим отпор империалистам своим ударным трудом! Благодаря нашей партии и товарищу Сталину мы с вами отработали трудный месяц на благо всего советского народа. Наши водители вновь выполнили и перевыполнили задание по выручке. Наши коммунисты показали пример беспартийным биндюжникам, теперь уже тоже членам нашего дружного коллектива. Принятые на работу новые водители реже ругаются матом в присутствии клиентов.
Директор вновь наливает себе боржом и громко с клекотом пьет.
— Однако следует обратить внимание и на некоторые недостатки в нашей работе. Вследствие превышения скорости движения по городу коммунистами нашего предприятия было допущено двенадцать столкновений с безлошадными биндюжниками, одного из которых удалось спасти на месте. Остальных спасала скорая помощь. Кроме того, наши водители повредили шесть подвод и убили одну лошадь. Хорошо, что возле зоопарка — сразу же сдали животное на мясо львам и тиграм.
Шальные деньги стали застилать глаза нашим водителям и даже коммунистам! Еще раз напоминаю: деньги не должны застилать глаза в нашем лице! Они должны приносить пользу нашей стране и товарищу Сталину. У некоторых вместо глаз рубли, честное слово…
Хозяин вылил остатки боржома и с шумом выпил, после чего пошел к своему месту рядом с партийным секретарем, услужливо отодвинувшим «стуло».
В таксомоторном парке, как и на многих других предприятиях Одессы, самым активным коммунистом был Рабинович. Никого ни о чем не спрашивая, Ицык подбежал к трибуне.
— Спасибо нашему директору, нашей партии и товарищу Сталину! — бодро начал он.
Минеральной воды больше не осталось, поэтому пришлось обходиться без солидных пауз.
— Я с чувством глубокого удовлетворения прослушал краткий, но очень мудрый и даже поучительный доклад нашего уважаемого руководителя. Деньги — это то зло, о котором коммунистам написали Маркс, Ленин и Сталин, и это зло мешает нам двигаться к светлому будущему без денег… И что же мы будем приносить домой? И на что мы будем жить? Что ви на это скажете?
И Ицыка непроизвольно закатились глаза: он запоздало понял то, что уже прокричала его глотка. У секретаря партбюро задвигались уши.
— И что же вам непонятно, коммунист Рабинович? Или вам захотелось с левым уклоном прокатиться на Колыму?
— Ойц, извините, это я неточно выразился. Это я в смысле, что можно и бесплатно поработать на благо народа. Я даже могу поддержать новый почин…
Раздался ропот водителей. Ицык совсем запутался, смутился и пошел к своему месту, вжав голову в плечи.
— Слово предоставляется коммунисту бригадиру Задорожному.
— Товарищи! Я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что мы усе поддерживаем нашего директора. Деньги — это зло, особенно когда их нема. А когда они есть, так они и не мешают нам двигаться…
— Ты, мишигины копф! А чей водитель покалечил насмерть лошадь? Смотри за своими головорезами. Сколько жалоб они принесли нашему любимому директору! И в партбюро тоже! Почитай, как твои махновцы называют уважаемых молодых морячек проститутками и выбрасывают их из машины почти на полном ходу!
— Марек, ты зачем мене заводишь? — почти ласково спросил в ответ Лёва Задорожный. — Ты забыл, что я — инвалид войны? Прибью тебе прямо сичас, и мене ничего не будет!
— Если ты такой псих, то тогда кто продавал тебе права? Возвращайся к своим биндюжникам! Я твою тачку буду сбивать и скажу, что так и было, и я нечаянно. Я напишу на тебя!
— Пиши в центральную прачечную, поц!
Лёва демонстративно плюет в сторону Марека.
— А ты сильно умный? На Слободке в дурдоме таких как ты полно, и они политику партии знают лучше тебя! — встав в позу Ленина, торжественно закончил Марек.
До драки не дошло. Вмешался партийный секретарь, невольно играя роль раввина.
— Лёва и Марек! Прекратите позорить парторганизацию, а то я не знаю… Еще услышат беспартийные и подумают, что рыба гниет с головы.
Директор при этих словах поморщился, как будто что-то не то съел, и вынес свое веское суждение.
— Не нравится мне этот спор. И причем здесь деньги?
Секретарь посчитал тему исчерпанной, и закрыл собрание, напоследок загадочно промолвив «Это вам не лавочка какая-нибудь».
Тем временем работала обычная схема. Лёва с Мареком быстро помирились и уже дружно догоняли других водителей, беспартийных и кандидатов в члены, шедших в закусочную, что на Старопортофранковской, возле ворот дома № 101.
Под чистыми столами сверкнули запечатанные сургучом бутылки с водкой, припасенные заранее членами и кандидатами. После появления закуски бутылки заняли свое положенное место. Всё было, как всегда.
Сильва с Привоза
Алкаши в районе наиболее известного одесского рынка давали непрерывные концерты вживую, не тратя времени на репетиции. Многих из них не пускали в «приличные забегаловки», и на то были причины… В городе поговаривали, будто вообще все артисты ведут себя приблизительно подобным образом.
Наиболее многочисленную труппу возглавляла некая Сильва. Трезвой ее никто никогда не видел, как и других подобранных ею артистов. Толпа хором, задушевно и громко, исполняла блатные песни, составлявшие основу репертуара творческого коллектива. Время от времени солистки, как фокусники в цирке, доставали из грязных торб столь же грязные бутылки с мутным пойлом. После «легкого завтрака» кордебалет начинал пританцовывать, подвывая и подражая цыганскому хору, вокруг «примы».
Иногда Сильва входила в экстаз, ее охватывала дрожь, и она брала немыслимые ноты. В такие мгновенья он не могла сдвинуться с места. В том же положении, в котором ее настиг пик вдохновенья, певица из народа поливала тротуар.
Много лет эту труппу милиция не трогала и пальцем, видимо, брезгуя.
Как партия учила
В нашем классе, как и в остальных, училось более половины детей, переживших оккупацию. Нам было забавно наблюдать за старшеклассниками, разбиравшими и собиравшими настоящие винтовки, надевавшими противогазы и бросавшими учебные гранаты на школьном дворе.
Военрук с поврежденной на фронте ногой занимался с ними строевой подготовкой, лихо делая повороты кругом и вытягивая носок раненой ноги далеко вперед. С палкой в правой руке он не расставался. Старшеклассники говорили, что военрук — псих и возможно, за это его уважали.
Бедная, плохо одетая учительница рассказывала нам на уроках, как хорошо будет жить при коммунизме: все будут трудиться, сколько хотят и кем захотят… при возможности.
Мамы учеников работали в основном уборщицами и дворничихами. Они не могли скрыть от детей инструментария, посредством которого извлекали из дворовых канализаций и туалетов тряпки и другие предметы, густо смазанные отходами жизнедеятельности. Дети искренне хотели, чтобы их мамы хоть когда-нибудь поработали на других должностях, но никуда больше их тогда не принимали. Кто-то спросил: «А кто захочет быть дворником?»
— Все работы будут механизированы, а убирать отходы многим будет приятно!
Такое определение, как «отходы» мы услышали впервые: все ходили на развалки «до ветру» и называли такую жизнедеятельность гораздо более простыми словами.
Еще учительница рассказывала про пионеров-героев, а у нас не было врагов, которым хотелось бы навредить. Ущерб мы наносили вынужденно только крестьянам на Привозе и рабочим в подвалах. И советскую власть любили — ее нельзя было не любить.
Другие пионеры были убеждены, что выявлять врагов народа очень просто. В кинофильмах они поголовно носили фетровые шляпы и портфели, в крайнем случае, притворялись слепыми и инвалидами. Возможно, что и чекисты пользовались этими же критериями.
В общем, мы росли, «как Ленин нас учил, как партия учила», не зная о правых и левых уклонистах, центристах и прочих нехороших разносторонних ответвлениях от единственно верной генеральной линии.
Привычно посещали Привоз-кормилец, разживаясь какой-то едой. Даже в мыслях у нас не было, что мы воруем у крестьян их нехитрые продукты — макуху и яблоки. Мы просто брали свое у тех, кто зазевался, а потом бежали к зоопарку и проникали в него без проблем.
В обезьяннике нас радостно встречали друзья-мартышки. Они сверкали своими красными задницами, а мимикой намекали, чтобы и им что-то выделили. Приматы, как и мы, всегда были рады любой еде.
В один из удачных дней мы с Ленькой спрыгнули с забора, владея большим кругом макухи, прямо на недавно вырытые ямы. Рядом валялись человеческие черепа и кости. Из земли работяги выбрасывали выбеленные временем останки давних покойников.
Радостное ожидание дележки макухи омрачилось. Человеческие кости испортили настроение и аппетит. От рабочих мы узнали, что под территорией сквера им. Ильича находится Первое Христианское кладбище. Клетки с животными расширяющегося зоопарка оказались над могилами первых одесситов, строивших и благоустраивавших город. Теперь укоризненные улыбки предков, которыми следовало гордиться, приветствовали нас в последний раз. Куда дели их кости, мы потом так и не узнали.
Правее зоопарка в сквере работали детские качели-карусели…
Добравшись к обезьянам, мы вскоре забыли о разрытых могилах возле нового забора зоопарка, и развеселились, угощая их вкусной макухой, а заодно набивая собственные рты.
Никто из нас, тогдашних подростков, не задумывался о тяжкой доле матерей того времени. За мизерную зарплату уборщиц им приходилось выслушивать упреки в духе «вам при румынах было хорошо». Измученные женщины обиды сносили молча, дети не понимали, чем виноваты их мамы, и принимали такое отношение к ним как должное.
В наших головах блуждал веселый хаос. В школе нас учили одному, на улицах другому, а в семьях мы видели третье. Так формировалось особое одесское мировоззрение.
Между собой мы иногда обсуждали важные политические проблемы.
— Неужели великий вождь ходит в туалет, как и мы? — недоумевал мой сосед по парте Вовка Балан.
— Скажи еще, что он ходит срать на развалку! — риторически парировал, закатывая глаза, Вовка Будниченко, сидевший сзади. — Сталину делают специальные клизмы!
Так и осталось неясным, откуда Буда узнал эту государственную тайну. Позже, во время «хрущевской оттепели», стало известно, что лучшие кремлевские врачи почитали за честь помогать тужиться «отцу народов».
Учительница украинского языка Лидия Наумовна, приехавшая в Одессу со Львовщины, часто в запале говорила: «яблуко вид яблони…», намекая, очевидно, на какую-то нашу генетическую порочность. Она не знала наших погибших отцов, но видела мам, замученных жизнью и неприглядных.
Лидия Наумовна владела и русским, и украинским языками. Она любила цитировать Сталина и декламировать:
Нам свое робыты — Будэм, будэм быты!Пионеры время от времени специально приносили поломанные стулья и искренне радовались, когда ноги учительницы взлетали вверх, а сама она билась об пол. Вскакивала она быстро и тут же называла нас бандеровцами. Мы думали, что по-украински это — бандиты.
По-русски ученики говорили так же, как крестьяне, привозившие товар на Привоз и многие одесситы. Для общения этого хватало.
Лидия Наумовна проработала у нас недолго. Очевидно, муж-чекист решил поберечь ее нервы и устроил жену на какое-то лучшее место.
Произношение одесситов послевоенной поры было быстрым и невнятным. Падежи, наклонения и прочие лингвистически тонкости не имели никакого значения — главным признаком ораторского таланта считалась способность понятно донести до слушателя свою мысль. Недостаток аргументов и красноречия чаще всего компенсировался громкостью: иногда брали «на горло» или «на бенемунес».[3]
Учительница русского языка порой делала ученикам замечания, а нам было непонятны ее претензии: ведь все же понимали сказанное, а она нет.
Дети легко запоминали стихи, но читали их со своеобразной интонацией:
Я знаю? Город будет? Я знаю? Саду цвесть?Мария Александровна охватывала свою голову обеими руками, потом быстро доставала валерьянку:
— Кто учил вас так читать стихи?
— Как это кто учил? Вы учили и в книжке напечатано так!
Педагог волновалась, а класс затихал в непонимании.
Сложнее было объяснить причину неготовности к уроку.
— На нашем калидоре было нема свету…
— О чем ты говоришь? На каком-таком «калидоре»?
Родители как умели, пытались внушить нам уважение к старшим, а тем более к учителям. Подчиняясь, дети изо всех сил старались говорить предельно вежливо и корректно.
— Мария Александровна, пожалуйста, не гоните тюлю, я ведь правду сказал! — и ученик честными глазами всматривался в глаза учительницы. Неужели не поверит? И почему она, взрослая, «не догоняет» простых житейских истин?
«Русачка» иногда пускалась в критику зарубежных литераторов. Она попрекала Ремарка в безнравственности, приводя в пример его роман «Три товарища».
— В этом, извините за выражение, произведении герои постоянно пьют какой-то кальвадос и безобразят. Если бы наши советские писатели, такие как Михаил Шолохов, Борис Полевой или Александр Фадеев… Нет, я даже не могу себе представить, чтобы они пропагандировали бы пьющих молодогвардейцев или гуляющих по ресторанам коммунистов с невестами не первой свежести!
— А что это за невесты? — спокойно спросил сидевший на первой парте Миша Флейшмахер.
— Спроси у своего папы, он точно знает! И совсем не лишние сто грамм боевого пайка определили поведение комсомольца Александра Матросова! — продолжала урок учительница. — Советские литераторы никогда не пишут о похабщине, воспеваемой империалистическими писаками. Сами никогда не пили водку и шмурдяк, и другим не советуют!
Вова Будниченко жил неподалеку от Привоза и не понаслышке нал о приключениях бывших партийных товарищей.
— Мария Александровна, а правда, что Сильва до войны была комсомолкой, а при румынах спилась?
— А где ты читал о таком в советской литературе? На Привозе, по-твоему, что — Союз писателей СССР?
— В Одессе, чтоб вы знали, написали Ильф и Петров про золотого теленка! — Вова торжествовал.
Про книгу знаменитых сатириков он точно знал: об этом говорил его папа.
— Вова, — смягчилась Мария Александровна, — а кто в этом произведении был комсомольцем?
— Наверное, Остап Бандера, — у Буды перемешались в голове рассказы учительницы украинского языка и отцовские. — Ничего, я у папы спрошу, он всех ханурей с Привоза знает.
— Ладно, Вова, садись уже. Мы сегодня обсуждаем совсем другую тему, а именно роль комсомола в советской литературе и чем отличаются наши писатели от империалистических бумагомарак…
— О! Я как раз хотел рассказать о бумагомараках, которые в нашем дворовом туалете испачкали все газеты, даже с портретами самого товарища Сталина! — перебил учительницу Вова Балан.
Он честными глазами глядел на Марию Александровну, ожидая солидарного возмущения по поводу оскверненного лика вождя.
Учительница растерялась. Она понимала, что ученик говорит правду, но собиралась-то она рассказывать совсем о других бумагомараках… Выручил ее звонок, после которого класс дружно заспешил в школьный коридор.
Хотя на этот раз ученики вели себя хорошо, урок был испорчен. И опять мешали эти Вовы и пытался сказать что-то этот Маляр.
«Хорошо, что не присутствовал кто-то из гороно, — подумала учительница, — никто не расскажет, о чем говорили дети». За такое можно получить, и совсем не то, чего хочется. И жаловаться некому. Кто заставлял говорить об этих самых буржуазных бумагомараках? Дети все равно Ремарка не читали, да и вряд ли будут. А понимают они всё пока слишком буквально.
И еще этот Мамут-баламут… Что за песни он распевает во все горло в школьном туалете на первом этаже?
А хули-и-ишь, а хули-и-ишь, Оставишь и покуришь…Ладно, вот за такое не посадят. Пусть поет! А вдруг Миша Флейшмахер расскажет своему отцу о том, что я узнала о врагах народа, подтирающих задницу портретами вождей? «Знала — не сказала»? Не, нужно-таки менять работу!
Нам на перемене тоже было, что обсудить между собой.
— Ну, как мы ее? — смеялся Буда.
— Как я ее взял на обосранных газетах? — развеселился Вова Балан. — Будет знать, как нам двойки ставить! Нас теперь можно только хвалить, чтобы мы молчали.
Миша развернул огромный бутерброд с колбасой и уложил его на парту. Почти у всех учеников в классе заурчало в животе до боли.
— Дай кецык! Кецык дай!
Миша демонстративно оставил бутерброд на парте и вышел из класса, бросив на ходу: «Живоглоты!» Когда после звонка он вернулся, на парте осталась лишь скомканная газета «Правда» с огромным портретом вождя всех времен и народов, вполне пригодная для использования в гигиенических целях. О туалетной бумаге никто из нас тогда даже не слышал…
Старенькая учительница так и не научилась «догонять», что такое ксивы, бабки, коры и прочие понятия. По нашим представлениям владела русским языком она слабо. Иногда мы слышали от нее рассказы о том, что империалисты всего мира хотят уничтожить наше прекрасное государство атомной бомбой и лишить нас счастливого детства. В качестве доказательств предъявлялись карикатуры Кукрыниксов — изображенные на них буржуи выглядели страшней немецких солдат. Они втыкали ножи в планету и криво ухмылялись.
Нас иногда водили на экскурсию в бомбоубежище, где на стенах висели противогазы и плакаты с изображением ядерного взрыва.
Если у кого-то возникали вопросы о том, зачем нам воевать с Америкой, в ход шел убойный аргумент: «Они там негров линчуют». После этого все сомнения исчезали. Мы точно знали, что чернокожие американцы — люди хорошие. Именно они нам щедро швыряли жевательную резинку совсем недавно.
В помещении бывшей румынской столовой открыли «красный уголок». Перед каким-то советским праздником хор молодых работниц швейной фабрики долго репетировал «Песню о Сталине». Пожилой руководитель художественного коллектива старательно следил, чтобы кто-то не «пустил петуха» в самый ответственный момент. За такой промах весь хор во главе со стареньким директором имел шанс продолжить совершенствование вокального мастерства далеко от Одессы…
Солистка хора, смуглая красавица, с очень серьезным видом выводила:
С песнею боясь и побеждая, Наш народ за Сталиным идет…Так я слышал и запомнил. Кто-то из товарищей меня поправил: «Не боясь, а борясь». Я взорвался: «Подумай сам, — как можно бороться с песней?»
В один из весенних дней в школе произошло важное событие. После перемены в класс вошла директор школы Бумма Натановна, женщина полная и невысокая. За ней следовал мужчина крепкого телосложения, тоже не очень рослый. Директриса с обычным для нее пафосом представила нам нового учителя.
— Дети, с сегодняшнего дня вы будете изучать физику, а преподавать ее вам будет Арон Евсеевич.
Затем Бумма Натановна по-военному развернулась через левое плечо и вышла. Арон Евсеевич спокойно взял в руки мел и стал объяснять, зачем нужно знать физику. Тем временем Вова Будниченко готовил к запуску снаряд из жеваной бумаги, затем тщательно целился из рогатки в лоб Миши Рабиновича.
Как назло, в момент выстрела учитель обернулся от доски. Реакция Арона Евсеевича оказалась молниеносной — он с силой метнул в Буду мел, находившимся у него в руке, но промахнулся. Ответ Буды не заставил себя ждать. Он успел выкатить о удивления глаза, а рука уже бросала в учителя чернильницу-невыливайку. Меткость обоих участников этой дуэли значительно уступала быстроте их реакции. Вова тоже промазал, но в доску все же попал — на ней расплылась крупная размашистая клякса, а на полу блестели осколки керамический чернильницы.
В классе стало тихо как в морге. Арон Евсеевич, как ни в чем не бывало, вновь повернулся к доске, взял другой брусок мела и продолжил урок. Мы его зауважали, впрочем, и Вову тоже.
На большой перемене наши классы выстроили в школьном коридоре. Впереди шеренги учителей стояла Бумма Натановна. Она долго рассказывала о том, какими ленинцами-сталинцами нам предстоит стать прямо сейчас, сразу после этой перемены. Она почти закончила — финал речи прервал громкий стук барабанов. Кто-то сзади шеренги учителей несвоим голосом закричал: «К борьбе за дело Ленина-Сталина будьте готовы!» Школьники догадывались, что происходит. Нам на шеи повязывали принесенные из дому красные галстуки, мы кричали «Всегда готовы!», но не покидало чувство какой-то нереальности.
Опять застучали барабаны, и еще громче заскрипел горн. Под эти звуки, отдаленно напоминающие музыку, мы «с пионерским приветом» разошлись по классам.
Я чувствовал себя почти Павликом Морозовым, но судьба и Господь уберегли меня от соблазна кого-нибудь «заложить». Не успел я насладиться своим пионерством. Во время урока арифметики ко мне подошел учитель Иван Григорьевич и за какую-то шалость сорвал с меня красный галстук.
В статусе единственного октябренка среди пионеров была какая-то чарующая исключительность. Таким же изгоем, вероятно, чувствовал себя какой-нибудь крестьянин-единоличник, не принятый в колхоз или не пожелавший в него вступать. Я пересел на последнюю парту и стал рисовать карикатуры на учителей и учеников, отвечающих у доски. К этому положению вскоре привыкли все. Привык и я.
Интересно, что несмотря на отсутствие документального подтверждения принадлежности к ленинской пионерии, про мое исключение помнили несколько лет, и когда всех принимали в комсомол, про меня «забыли». Этот факт меня тоже не расстроил. Я и в самом деле успехами в учебе не блистал, а там собрания, заседания… Где на них запастись временем?
В удачные дни мы с корешами заходили в забегаловки, коих в Одессе развелось видимо-невидимо. Мы, пацаны, гордо пили сухое столовое вино наравне с взрослыми ханурями. Было интересно узнать, о чем они думают. Как выяснилось, ни о чем хорошем они не думали.
Алексей Юрьевич Чайка
Учитель русского языка и литературы Алексей Юрьевич Чайка, коренной одессит, до революции окончивший Новороссийский университет, начинал свою трудовую деятельность в царской гимназии. Нас учить он стал в седьмом классе.
А. Ю. Чайка был уверенным в себе интеллигентом, из тех, кого на то время почти не осталось. Этот культурнейший человек каким-то чудом избежал репрессий. Он любил русскую литературу самозабвенно, а преподавал ее так, что класс замирал, слушая монологи персонажей Гоголя, Чехова и Достоевского.
Отдельные отрывки произведений Алексей Юрьевич читал в лицах, входя в образы героев. Уроки-спектакли проходили перед нашими горящими глазами, и нам хотелось читать самим. Он был предельно деликатен в общении с учениками, учил не заучивать, а осмысливать. Иногда читал произведения, которых не было в школьной программе. Он нас ни о чем не предупреждал, а мы не знали, чем рисковал наш учитель.
В девятом классе Алексей Юрьевич обратил внимание на то, что я пишу безграмотно, с большим количеством грамматических ошибок. Он назначил мне переэкзаменовку на осень. Вернее, назначил он ее себе. Ежедневно мне приходилось ходить к нему домой — писать диктанты. Мне тогда и в голову не приходило, что такое отношение к хулиганистому школьнику выходит за рамки обычных учительских обязанностей. Я считал нормальным, что меня пытаются чему-то научить.
Советскую литературу согласно школьной программе, изучали по произведениям писателей, пропагандировавших руководящую роль партии. На день рожденья сестра подарила мне «Поднятую целину». Только я ее прочитал, как на одном из уроков была предложена тема — руководящая роль партии в романе М. А. Шолохова «Поднятая целина».
Я задумался. Семен Давыдов — сын пьющей проститутки, не знавший отца — лучший коммунист. Конечно, родственных связей с кулаками-казаками он не имел. Происхождение ничем не запятнано — пролетарий настоящий…
Вспомнил одесских пьяниц, проституток, танцующих и поющих хриплыми голосами на Привозе и подле него — это скольких же они могли нарожать таких Давыдовых! Пусть и под другими фамилиями…
Моих ровесников, живших с «веселыми мамами» в школе было немало: «Волёдя». «Боцман», «Мишутка»… Их следовало согласно логике готовить к поступлению в партию без всяких кандидатских стажей и рекомендаций. И матерились они славно — качество ценное для руководителя любого ранга. А пацанов этих не принимали даже в пионеры и комсомольцы.
— Толик, а ты почему не пишешь? — прервал мои раздумья Алексей Юрьевич, увидев чистый лист на парте.
Я собрался и стал излагать прописные истины о том, кто и как мешал строить Денису Давыдову светлое будущее.
Жил самый человечный учитель в Театральном переулке, во втором номере, на втором этаже парадной справа от подъезда. Совсем недалеко, в № 12, был ресторан «Норд», во дворе которого мне доводилось слышать песни Петра Лещенко. Алексей Юрьевич рассказывал, как во время оккупации пару раз бывал там, и о том, что есть во время концертов не разрешалось.
Однажды кто-то из учеников на уроке спросил:
— Алексей Юрьевич, а почему Лещенко запрещен?
— Видите ли, слушать его ходили люди с душевным надрывом. А нам нужны оптимисты…
Кому это «нам» он не уточнял.
Неизвестно, на какие средства Алексей Юрьевич повел учеников нашей школы в кинотеатр имени Фрунзе, где шел фильм, снятый по пьесе Горького «На дне». Вероятно, своими собственными деньгами он оплатил сеанс.
Мы пошли с неохотой. Сами жили почти на дне среди инвалидов войны, беспризорников Костела и детей врагов народа. Однако игра мастеров нас поразила. Школьники, пережившие оккупацию, ощутили происходившее на экране частью свой жизни. Мы находились совсем рядом с Дном. Один неверный шаг — и ты в бездне. «Человек-то думает про себя — хорошо я делаю! Хвать — а люди недовольны…»
На выпускном вечере, когда все веселились, Алексей Юрьевич подошел ко мне и сказал:
— Толя, в твоем экзаменационном сочинении я исправил две ошибки. Если бы я этого не сделал, ты, возможно, не захотел бы учиться дальше. А тебе это нужно…
Я при всех с искренней благодарностью обнял старенького учителя.
Много раз после окончания школы я собирался навестить его, пока не узнал от одноклассников, что Алексей Юрьевич умер. Похоронили его на Втором Христианском кладбище.
На новом месте
Нашу комнату в большой коммуне на улице Жуковского 19 мама обменяла на комнату в 25 квадратных метров с балконом, нависавшим над центром маленького дворика, в районе Привоза. Единственным нашим соседом по квартире был отставной полковник строевой службы Федор Иванович.
До войны весь второй этаж нашего флигеля занимала одна еврейская семья — так рассказывали дворовые старожилы. В теплое время соседи общались громкими криками, выскакивая на свои балконы или террасы.
Впервые я вышел на балкон рано утром посмотреть, кто во дворе кричит, будто его режут. Оказалось, что это была обычная разборка соседей между собой. Семина мама имела что-то сказать маме Цили:
— Твоя Цилька не дает моему Семе готовиться к лекциям! — громко, на весь двор кричала мама студента медина, будущего акушера. — Моему сыночку нужна другая партия!
— Что, Сема поступает в партию? Поздравляю!
— Ты сдурела? Я говорю про то, что ему не нужно жениться на ком попало!
— Это моя Цилечка — кто попало?! — Мама решила защищать достоинство своей семьи до последнего. — Конечно, твой Семочка будет большим человеком, он и тепер студент.
— Ты хоть знаешь, что они делали вчера вечером? — закричала Семина мама. — Я побежала до тебе на второй этаж. Пока я дотёпала на своих больных ногах, так успела передумать. Пускай твоя Цилька сама расскажет своей мамочке…
— По-твоему, моя Цилечка — дурочка с переулочка? — Цилина мама уже поняла, о чем идет речь. — Из песни слов не выкинешь, вот только хто будет петь? Если что, мы найдем на твоего Сему управу через народный суд!
— Как что — так сразу в суд! Ты сперва подумай. Что мой Семочка мог сделать плохого? Дай Бог, чтобы твой Изя мог делать такое каждый день! Я тебе не враг. Ты же на него не станешь подавать в суд?
— О… Сравнила! — успокоилась Цилина мама.
— А я помню, как ты ходила невестой с животом под подбородком, — взорвалась Семина мама. — Сучка ты пархатая… И твоя Цилька тоже!
— Это ты про мене?! Как ты будешь мене смотреть в глаза, если мы породнимся?!
Со всех окон и балконов стали выглядывать соседи. Им было любопытно.
— Сейчас уже есть дохтура, так они зашивают даже после родов так, как будто ничего и не было! — закричала соседка над нашим балконом. — Тем более, Сема тоже скоро будет тоже дохтуром, и достанет такие нитки, какие даже выдергивать после операции не нужно!
— При чем тут нитки? Фирка, ты совсем пришмокнулась! — мама Цыли даже подпрыгнула от злости. — Тебе хорошо, у тебя пацан, и в твоей голове только смехуечки!
— Сур-р-ра! — закричала, открывая свое окно, соседка напротив с нашего балкона. — Твоя Циля — взрослая девочка. Ты собираешься ее водить до старости за ручку?
Мама Цили подпрыгнула на месте еще выше.
— Кто тебя, дуру, спрашивает?! Может, между деточками еще ничего не было! Ты что, с фонариком дежурила? А как нарожает байстрюков, ты их будешь нянчить?
Фира с шумом захлопнула окно, но сказала последнее слово:
— Как ты говоришь, так ты таки права.
У тети Фиры был недостаток. Она всегда вмешивалась в разговор соседок, и громко высказывала свое мнение. Рядом с ней проживала тихая семья моряка загранплавания, в которой долго не было детей. Никому это не мешало, но однажды, когда муж-моряк, Андрей, был в рейсе, соседи стали выяснять во дворе, почему у них нет детей.
— Он просто неспособный! — уверенно закричала тетя Фира со своего балкона.
Жене моряка не понравилось такое выступление соседки, и когда Андрей вернулся из рейса, она пожаловалась мужу. Громадного размера матрос встретил во дворе маленькую тетю Фиру:
— Это Вы кричали соседям, что я неспособный?
— Что Ви, Андрушенька?!! Ви такой способный, такой способный!!!
Соседки зашумели во дворе. Кто поддерживал Андрея, а кто — Фиру…
Шум во дворе то затихал, то возникал с новой силой, а я поспешил с друзьями на море. Когда вернулся, меня встретил с веселой улыбкой сосед снизу, Миша, который был несколько старше меня:
— Как тебе понравился утренний концерт? Так это было только начало. Напрасно ты ушел. Давай познакомимся, твоего батю и маму, — так я уже знаю…
Только успел я зайти в нашу комнату, как со стороны двора раздался громкий голос Миши:
— Дядя Изя, почему ты так редко бываешь дома?
— Я зарабатываю деньги, — старческим голосом прохрипел сосед с третьего этажа.
— Ты хошь помнишь, сколько тебе лет? — продолжал во все горло допрашивать Миша соседа.
— Семьдесят. А что? — недовольно прохрипел дедусь.
— Когда же ты собираешься тратить деньги? — громко спросил Миша.
— Не волнуйся, у меня есть те, кто умеет тратить…
Еврейская артель «Трудпобут»
Мастеровые всех специальностей, а тем более основатели огромной артели, были в основном пожилыми евреями. Их дети и внуки почему-то хотели учиться в высших учебных заведениях, и приходилось принимать учениками любых одесситов.
Тетя Лида устроила «по большому блату» Толика Тита в художественную мастерскую на Тираспольской площади. Филиал артели занимался изготовлением плакатов, табличек, и прочих высокохудожественных произведений. Ученики мастеровых долгое время занимались подсобными работами, среди которых выделялась обязательная доставка спиртного по заявкам «художников».
Познакомился Толик с Мишей-пуговичником, который держал мастерскую в конце двора на Дерибасовской в № 17, рядом с магазином «Куяльник». Миша был старше нас, и уже вступил в партию. Он слыл сибаритом, любил красивых женщин и хорошие вина. После приема изрядной порции уважаемого им напитка он не мог спокойно сидеть за рабочим столом. Миша, с блеском в черных глазах, подскакивал на стуле, и весело исполнял на мотив буги-вуги:
Цвей гейн, цвей гейн, Цвей гейн барухес, Цвей гейн, цвей гейн, Киш мер ин тухес!..[4]Он знал множество анекдотов, и применял их к месту.
Любил Миша и партийную жизнь, о которой, выпив бутылку крымского портвейна, рассказывал в лицах. С его слов запомнилось партсобрание, посвященное борьбе с хищениями на предприятии.
За длинный стол, покрытый красной материей, на какой обычно писали лозунги, расселся президиум, предложенный секретарем партбюро. Первое слово торжественно предоставлялось директору. Для начала руководитель с серьезным лицом охарактеризовал международное положение, в котором оказалась артель. Затем постепенно перешел к теме партсобрания:
— Центральный комитет нашей партии, и лично товарищ Сталин уделяют все свое внимание хищениям нашей собственности…
Директор внимательно посмотрел в ту сторону, где расселся со своими сапожниками-коммунистами их бригадир Гиперштейн. Видимо, директор имел от кого-то информацию о работе сапожной мастерской. Или директору показалось, что бригада маловато откидывает ему от своих доходов.
— Нашей партийной ячейке, я хотел сказать, бюро, оказана большая честь побороться с расхитителями нашего имущества!
Директор еще внимательнее посмотрел на бригадира сапожников, что не ускользнуло от внимания Изи Рабиновича.
— Прошу всех коммунистов дать отпор троцкистам и бухаринцам и осудить практику разворовывания того, что мы имеем на сегодняшний день. Работникам нашей передовой артели не следует смотреть на несознательных граждан, которые тянут по домам то, что надо и не надо… Вам что, зарплаты не хватает? На Соловках или Колыме будет хватать?! Вперед к победе коммунизма!!! За дело Ленина-Сталина…
Кто-то затянул нудным голосом «Интернационал», на него со всех сторон дружно зашикали. Изя зачем-то крикнул, что он знает слова советского гимна.
— Партийный гимн никто не отменял! — закричал самый старый коммунист артели, товарищ Керцнер.
Вмешался секретарь партбюро, на хрупкие плечи которого легла вся эта крикливая неразбериха:
— Слово предоставляется коммунисту Рабиновичу.
Изя Рабинович был опасным демагогом, всегда и всех разоблачавшим, и при этом тонко чувствовавшим, чего именно хочет от него услышать директор артели в данный момент. Когда он входил в экстаз, остановить его было невозможно. Изя знал, что его «заносит», но сделать с собою ничего не мог, и молчать тоже не мог…
Нужно было дать ему «выпустить пар», иначе же он сорвет партсобрание. Изя вскочил на трибуну быстрее, чем кот на кошку. Лицо его отражало всю решимость борца за правое дело. Зорко осмотрев собравшихся и выпив глоток воды, он громко закричал:
— Товарищи коммунисты! Учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина уже много раз победило в истории нашей страны. Оно поможет нам справиться и с мелким воровством. В то время, когда весь трудовой народ строит нам светлое будущее, в нашей передовой артели почему-то часто случаются хищения.
Изя засверлил своим обжигающими черными глазами коммуниста Гиперштейна, который сразу как-то съежился и обмяк.
— Так вот, под самым нашим носом позволяют себе разворовывать подметки наши заслуженные сапожники, а их поощряет ежемесячными премиями ихний бригадир — коммунист Гиперштейн, вместе со своими собутыльниками — вышестоящими коммунистами!
По реакции собравшихся Изя понял, что его в очередной раз «занесло». Он украдкой взглянул на президиум, на тех, с кем выпивал Миша Гиперштейн, срочно схватил стакан с водой и выпил его до дна.
— Но это не то главное, что я хотел сказать. Куда подевалась красная краска, цвета нашего флага, товарищи? Это в цехе, где работает бригадиром коммунист Фукс! Я вас спрашиваю, и скажу…
Возле самой трибуны уселся Изин друг Шмойсер, тоже опасавшийся Рабиновича в такие минуты:
— Изя, бикицер![5]
— О!.. Бикицер тоже вор! Сейчас я про него всё расскажу!
— Изя, при чем тут я? — Лёва Бикицер возмущенно вскочил со своего места. — Я же ж ничего не крал, могу забожиться здоровьем товарища Сталина!
— Забожись лучше своим …, вспомни, что ты продавал барыгам на Привозе в субботу?
— В эту субботу я на Привозе не был, я ходил со своим папой в синагогу…
— Вот ты и попался!!! — Изины глаза заблестели.
В это время на трибуну вырвался коммунист Кац. Он с силой вытолкал Рабиновича, уже раздувшегося как пузырь:
— Подожди, я еще не все сказал про Левку Бикицера!
— Потом расскажешь, — оборвал Изю Кац.
Зал облегченно вздохнул. Председатель продолжил собрание.
— Конечно, когда весь трудовой народ строит для нас коммунизм, и у нас имеются недостатки… Но почему Изя назвал фамилию нашего уважаемого бригадира Гиперштейна первой? Он, получается, первый вор нашей артели?! Если бы все воровали столько, сколько Миша, так мы давно бы уже построили коммунизм, и давно бы про него забыли… У меня все.
Подпрыгнул на своем стуле с протянутой вверх рукой коммунист Фукс. Секретарь это заметил, и дал ему слово.
— Наш уважаемый товарищ по партии назвал меня вторым по счету ворюгой. Как про меня вообще можно говорить на таком уважаемом собрании? Той красной краски было, как кот наплакал, там и красть было нечего! Посмотрите внимательно на эту зажравшуюся морду — по ее размерам можно судить, кто тормозит наше движение к коммунизму…
Вскакивает как от укола в задницу коммунист Перельштейн и кричит с места:
— Вы все только что слышали, как этот адиёт, когда смотрел на мене, сказал: «посмотрите на эти зажравшиеся морды…» Так почему он увидал только мою морду? Он не мог посмотреть на наш уважаемый президиум? — Перельштейн, не выбирая слов, стал выкрикивать нехорошие мысли в адрес руководства артели.
— Я не давал Вам слова, товарищ Перельштейн, — заволновался секретарь партбюро, но остановить Мишу ему не удалось.
— Да, мы все — таки товарищи, — он еще резче повернулся лицом к Фуксу, — но ты, сука, попомни!
Секретарь быстро встал из-за стола:
— Слово предоставляется коммунисту с довоенным стажем товарищу Керцнеру!
— Товарищи коммунисты, — спокойно начал свою успокоительную речь худенький старичок. — Ви усе знаете, что моя бригада пэрэдовая, которая красыт кожаные палто и куртки. Мы красть ничего не могём. Я могу толькы обсуждать усякых вокруг. Мы, скорняки, не имеем, что красть, и наоборот, за свои честно заработанные деньги покупаем качественный коньяк для обработки кожи перед выкрашиванием… Спасибо товарищу Сталину и нашей родной партии, что у мене скопилось столько копий чеков за коньяки…
Секретарь партбюро вскочил:
— Товарищ Керцнер, это — не партийный подход! Мы все знаем, что деньги за коньяк вы винимаете из клиентов в тройном размере, и помимо квитанций!
— А Ви мене поймали за руку? — парировал, брызжа слюной, старый коммунист. — Моя партийная совесть проверена многолетней работой на благо усего советского народа и нашего родного правительства, во главе с товарищем Сталиным!
Директор артели решил положить конец дискуссии:
— Товарищи коммунисты! Не могу передать словами оту радость, с какой я смотрел на вас. Вы-таки правильно понимаете линию нашей родной большевистской партии, намеченную лично товарищем Сталиным на искоренение воровства в нашей артели. Ваше отношение к несунам, и к тем, кто «рвет наши подметки на ходу» по пути к коммунизму — очень принципиальное. Я, наконец, понял, как переживают наши товарищи за имущество артели. Запишите в протокол собрания: «Мы отыщем эту злополучную подметку!»
Директор сердито посмотрел на Гипештейна, тот вскочил с места, и бодро отрапортовал:
— Считайте, товарищ директор, что мы ее уже нашли.
Директор изумился:
— Товарищ Гиперштейн, Вы правильно поняли политику партии. Выкупите эту злосчастную подметку всей бригадой! На этом партсобрание, посвященное борьбе с хищениями в артели «Трудпобут» объявляется закрытым!
Коммунисты развеселились в предвкушении полагающегося в таких случаях праздничного ужина. Они не сговариваясь направились в ближайшую столовую, в которой их уже встречали радостными лицами официанты. За водкой побежали молодые расторопные коммунисты и кандидаты.
За длинный стол уселись с веселыми шуточками «на свои места» Рабинович, Фукс, Гиперштейн, Перельштейн, Керцнер, Бикицер… Президиум с директором расположился отдельно. Пьянка обычно продолжалась долго, и никто уже ни на кого не сердился.
Таким мне запомнился рассказ Миши-пуговичника об его партийной жизни. Сам Миша никогда на партсобраниях не выступал. Воровать ему было действительно нечего, поэтому он просто слушал выступающих ораторов и голосовал, когда требовалось.
Художники мастерской, в которой работал учеником Толик, обладали одесским пьяным юмором, и применяли его ежеминутно, весело отчитывая ученика, если тот не справлялся со своими обязанностями. Утром, изобразив разгневанного большого начальника, бригадир художников, строго оглядывая подчиненного поверх роговой оправы, басил на Толика Тита:
— И…, и …, — уже девять часов, а я не вижу своего портвейна! Другой на моем месте заматерил бы тебя до потери пульса, а я — так нет! Потому что добрый сильно…
— Не поступала еще такая команда, не поступали и деньги на нужды трудящихся, — оправдывался Толик.
Деньги на столике бригадира появлялись мгновенно, как в цирке у фокусников.
— Не говори мне о любви, — высокопарно изъясняясь, протягивал 25 рублей Изя.
Откуда он их брал, всегда было загадкой. Деньги просто прилипали к его рукам. Талант.
— Гей цин бене момон, — ласково посылал бригадир ученика за вином, одновременно направляя его к какой-то маме.
Толик в мгновенье ока доставлял две бутылки крепленого вина из гастронома на Тираспольской площади. Художники весело усмехались, разворачивая завтраки, принесенные из дома и предчувствуя конец страданий. Первую рюмку наливали ученику за его исполнительность.
— Знай мою доброту, и пей за мое здоровье — назидательно басил Изя. — Сдачи не надо.
Иногда в такой торжественный момент появлялся заказчик. Художники любили клиентов и из Большой Долины, и из Малой. Обычно они представлялись начальниками колхозных виноделок:
— Скажите, с кем я могу поговорить о заказе?
Важно подходил бригадир Изя:
— С кем имею честь?
— Я — заведующий винным складом совхоза «Светлый путь».
— Не вижу ничего светлого… — басит Изя.
Заведующий суетится, развязывает мешок, достает из него бутылёк желтоватого вина и большой кусок сала:
— Чем богаты, тем и рады…
— Даже не знаю, чем вас отблагодарить, — заулыбался Изя. — Извините, я забыл спросить, «светлый путь», это куда?
— О таком нам никто не говорил, а поэтому я не знаю. Зато знаю, что нам нужно: три плаката «Слава ВКП(б)», и три — «Слава товарищу Сталину!», благодетелю нашему.
— Рая, выпиши квитанции на изготовление транспарантов.
Рая, приемщица заказов и учетчица по совместительству, спрашивает Изю:
— Второй плакат состоит из пяти слов?
Изя со звоном бьет себя по лбу огромным кулаком:
— Где ты видела транспаранты про Сталина — благодетеля нашего?!
— А может быть, этого колхозника к нам специально подослали из МГБ, — не сдавалась Рая, понявшая свою оплошность.
Представитель колхоза начинает божиться, что он не имел ничего плохого в виду, просто его переполняли чувства к товарищу Сталину. Изя успокаивает его, протягивает руку, в которую ложатся 50 рублей за срочность исполнения:
— Это — совсем другое дело, это — по-коммунистически.
После ухода заказчика начинается застолье. Иногда к компании примыкает бригадир скорняков Керцнер, признающий только хорошие коньяки.
— Толик, будь другом, забегай за бутылочкой КВВК.
Обычно так дружили до вечера, когда всем хочется петь:
Ой, да я не буду, ой, да я не стану, — Я, мальчишка, не достану.И мастерская хором взрывалась:
Нет, ты будешь, нет, ты станешь, Я нагнусь, а ты — достанешь!На следующий день художники, уставшие, но полные решимости, перебирали ногами с разных концов города в направлении Тираспольской. Для новых трудовых свершений, за которые вся мастерская была увешена вымпелами ударников.
Золотарь
Послевоенный город заселялся очень плотно, вплоть до подвалов, которые, обычно, не были коммунальными. В больших полуподземных помещениях праздновали одесситы именины, свадьбы, советские праздники…
В одном из таких подвалов проживала красивая девушка, в которую влюбился «золотарь». В период ухаживаний он тщательно скрывал свою профессию. После работы мылся хвойным мылом, перед свиданием подходил к друзьям, водителям горкоммунхоза, и интересовался, чем от него пахнет. Водители привычно шутили: «Как будто кто-то под елкой нагадил…» Он купался повторно. Но с достатком у него все было в порядке.
Но все тайное становится явным, и невеста, в конце концов, таки узнала, кем он работает, и откуда у него деньги. Последовал бурный разрыв.
Через некоторое время эта девушка засобиралась замуж за другого, более достойного, по ее мнению, избранника.
В разгар свадьбы, когда гости в подвале на Молдаванке весело отплясывали «семь-сорок», отставленный жених из коммунхоза без лишней помпы подогнал свой ЗИС-5 с бочкой, вставил широкий шланг в настежь раскрытое окно, и слил в подвал все содержимое цистерны, попавшее в нее из выгребных ям частного сектора.
Город долго шумел, осуждая поступок водителя-ассенизатора, который никак не украшал репутацию красавицы-Одессы, как и квартиру его бывшей невесты…
Инна
Нас как магнитом притягивал к себе подоконник правой парадной подъезда дома № 23 по улице Жуковского. Настроение играющих в карты пацанов напрямую зависело и от того, сколько горячих пирожков удавалось вытащить из окна столовой.
Надоедливая внучка мясника Тайчера подходила к подоконнику со стороны двора, вытягивала указательный палец в сторону игроков и дразнила их:
— Буркулёз, дырки, дырки!
Это было привычно, и пацаны плевали в сторону пятилетней Белочки, внучки Тайчера, как в урну. Разукрашенный подобно новогодней елочке ребенок бежал жаловаться своей бабушке: «Они на мене нахаркали!»
Бабушка Тайчер, спотыкаясь, бежала к окну:
— Ви, букулезники, зачем нахаркали на рыбенка?
— Забери, бабка, свою дуру от нас, — успокаивал бабулю Шурик-Жопа. — Я опять из-за нее проиграл.
Шурик зажмурился в ожидании шалобана по лбу от Бени. Получив заработанный увесистый щелчок, Шурик кричал истерически:
— Уйди, старая дура!
— Это я — старая дура?!
— Ты! Ты!
— Поприходили до нас усякие байструки со всей Одессы, вот придет папа Белочки, будете мине знать!
Зять Тайчеров приходил к своей жене с дочками редко. Он кого-то боялся, и иногда поздно вечером негромко стучал в окно их комнатки. Потом выходила его жена, и они долго шептались о чем-то секретном.
В левой парадной на третьем этаже проживала еврейская семья, побывавшая в Слободском гетто, и каким-то чудом избежавшая расправы.
Женщина средних лет с ярко выраженными семитскими чертами лица жила в одной полутемной комнатке с дочерью своей сестры, Инной. Мама ребенка не спаслась, и перед смертью сумела передать дочку ей на воспитание. Девочке было около десяти, она росла красивым стройным ребенком, и выглядела несколько старше своих лет.
Отношение племянницы с тетей были сложными, даже натянутыми. К этой семье «родная советская власть» относилась не лучше, чем к тем, кто просто «побывал на территории, временно занятой врагом». С началом учебного года тетя сделала, что смогла: купила портфель, тетради, и отправила Инну в школу, сидеть за одной партой в первом классе, рядом с сопливыми соученицами.
Девочка стала пропускать уроки, а вскоре и вовсе перестала на них ходить. У нее завелись «кавалеры» — Инне было с ними интересно. Она стала приворовывать дома, тащила все, что можно было продать на Привозе, включая упомянутый портфель с тетрадками.
После нескольких громких скандалов Инна ушла из дома скитаться с беспризорниками. Ее часто можно было видеть лежащей в Привокзальном скверике на травке в компании чумазых пацанов. Изредка Инна появлялась во дворе, но к своей тете не заходила. В подвал родного дома ее загоняла осень.
Потом она стала исчезать надолго, видимо, «отбывала срока». Появлялась с каждым разом все более приблатованной, каждый раз создавая из всякого тряпья уют в дворовом подвале. Каким-то образом Инна умудрилась познакомиться с официантом из ресторана «Красный», который ее «прибарахлил», и стал использовать в качестве проститутки, предлагая подпитым клиентам ее качественные услуги.
Ранней весной, теплым вечером, наша компания азартно играла в «очко» на своем привычном месте. К нам подошел прилично одетый молодой человек, представился официантом из «Красного», и попросил указать место проживания Инны. Мы показали гостю вход в подвал, куда солидный парень и проследовал.
Официант пробыл в гостях долго. Потом раздались крики, визг, и элегантный молодой человек вылетел из подземелья, как пробка из бутылки шампанского. Его ноги даже как будто опережали туловище, а голова была разбита до крови. Этот необдуманный поступок лишил Инну привычного заработка, и пришлось ей опять выискивать кусок хлеба.
На следующий день мы угостили ее свежеукраденными из окна столовой горячими пирожками и продолжили свою игру. К вечеру пацаны разошлись по домам. С Инной остались мы с Витей-Беней. «Подруга» стала нас уговаривать спуститься в подвал, к ней в гости. Мы побаивались, но она нас раззадорила. Разрешила себя пощупать, и нам ничего другого не оставалось, как пойти.
В подвале было сыро, темно и тихо. Потом Инна очень спокойно, почти шепотом, спросила: «Ну, кто первый?» Витя зажег спичку. Инна сидела на тряпках зажмурившись, откинувшись спиной на сырую стенку подвала, с ногами, раскинутыми в стороны. Не сговариваясь, мы бросились бежать по лестнице назад, толкая друг друга. Выскочили на улицу в возбужденном состоянии, бестолково переговариваясь.
Потом побежали во двор 26-го дома, где на первом этаже жил наш уличный товарищ Марек. Он был старше нас и уже знал толк в таких делах. Марек тут же откомандировал нас за Толиком Титом. Они, как старшие, посовещавшись, пошли в гости к Инне.
Какое-то время «опытные ебаки» совместно оплачивали ее недорогие услуги, пока Тит не обнаружил, что «намотал на винт» трихомонаду. Марек не заболел, он был обрезанный, а Толику пришлось долго лечиться.
Потом Инна пропала в очередной раз. Появилась возле родимого двора через несколько лет. Выглядела она спившейся старухой, ходила по забегаловкам вместе со старым ханурем, который распоряжался ею, как своей собственностью — сдавал внаём таким же ханыгам. На лице спившейся женщины появился глубокий резаный шрам, было видно, что рану грубо зашивали.
Проживала эта странная семья на чердаке высокого серого дома на углу Жуковского и Екатерининской. Еще через несколько месяцев Инна и ее муж исчезли с нашей улицы, и больше никогда не появлялись.
Китобойная флотилия 1947 года
Впервые возвращалась с промысла китобойная флотилия «Слава» в родной порт. Население Одессы высыпало на бульвар, в парк Шевченко, к входу в порт. Мы с Толиком Титом протиснулись в толпе к Портклубу.
Флотилия причаливала, и малые промысловые суда с гарпунными пушками выстраивались борт к борту. Моряки-китобои выскакивали на берег, радостно обнимая своих жен и детей после долгого плавания. Толпу, в которой мы очутились, понесло к главным воротам порта, от них в разные стороны побежали охранники и милиционеры. Наверное, вовремя.
Толпа, прорвавшаяся в порт, веером рассыпалась по проезжей части, и направилась к китобойной флотилии. Никто не завидовал упавшим. Нам повезло — ноги выручили. Одними из первых мы с Толиком оказались на малых китобойцах, пробежали мимо пушек на носу, потом вместе с пацанами направились на корму одного из судов. Там уже громили энзэ пацаны нашего возраста.
Ящики с тушенкой и сгущенкой разлетались в щепки, содержимого хватало всем. Сколько банок можно рассовать по карманам, кинуть за пазуху? А потом — хоть плачь — консервов на корме видимо-невидимо! — пришлось прорываться назад, в порт.
Видели, как выталкивают через иллюминаторы одежду китобойцев пацаны с Канавы, но ждать, пока нас затолкают насмерть, было нельзя. Не думали мы о шмутках, нам бы жратву донести домой… Навстречу бежали зеваки, до того наблюдавшие за швартовкой «Славы» с бульвара, и упустившие свой шанс. Руками мы крепко держали содержимое «пазухи».
Домой добрались без приключений, а когда вывалили своим мамам добычу, они подумали, что мы ограбили гастроном. Все консервы были густо смазаны какой-то желтоватой смазкой.
В этот раз мы не чувствовали себя ворами. Просто китобойная флотилия честно поделилась питанием с голодранцами-одесситами.
Через год мы приготовились к встрече флотилии лучше, но и милиция с охранниками порта не дремала. К тому же и толпа стала менее агрессивной.
* * *
Сестра заканчивала вечернюю школу. Вместе с ней учился молодой парень, успевший повоевать на передовой. Он решил написать книгу — воспоминания о фронте. Свои наброски дал почитать Дине.
В одном из эпизодов политрук роты проявил трусость в бою. Сестре рукопись понравилась, но она посоветовала вычеркнуть это место. Молодой ветеран категорически отказался:
— Это же всё — правда. Я даже могу указать его фамилию и звание!
Парень отправил свою книгу в издательство. Вскоре он куда-то исчез. По крайней мере, в вечерней школе он больше не появлялся…
Одесский Виктор
У «деловых людей», к которым мы себя относили, бывают удачные дни, когда у них в карманах что-то шелестит. Однажды после хорошего гешефта мы с Толиком Титом зашли к «Бабе Уте». Толик слыхал от кого-то, что там кормят неплохо и недорого.
Спустились по винтовой лестнице в прокуренное помещение, где спокойно откушивали шашлыки приезжие курортники и одесситы среднего достатка. Свободных столиков не оказалось, но за одним, в левом углу, одиноко пристроился молодой, лет двадцати трех, мужчина, с глубоким шрамом на голове. Не мог хозяин спрятать под волосами выбоину, хотя пробовал смазать их бриолином. Толик культурно спросил посетителя:
— Возле вас можно присесть?
Одинокий мужчина согласился, весело посмотрев на школьников:
— Пожалуйста, присаживайтесь, мне будет веселее…
Подошла серьезного вида официантка:
— Чего желаете?
— Два шашлыка и двести, — выпалил Толик тоном завсегдатая.
Возле мужчины стоял графинчик с небольшой порцией водки, он ожидал, когда принесут шашлык.
— Меня зовут Виктором, а вас?
— Запомнить нас тоже несложно. Мы оба — Толики.
Так мы познакомились. Виктор сразу стал рассказывать о себе и о том, как после освобождения Одессы его забрали в армию:
— И что? Я им поц, чтобы воевать? Я таки в первом же бою подставил свою голову под осколок снаряда, еще и так, что от каски ничего не осталось!
— В госпитале кто-то из раненных рассказывал, что летчику Маресьеву дали Героя за то, что он летал без ног, — продолжал Виктор. — И я тоже захотел стать героем за то, чтобы продолжать воевать без куска головы. Но врачи не захотели войти в мое положение.
Дали ему первую группу инвалидности.
Виктор почесал свой шрам, и засмеялся:
— Конечно, если бы мне дали Героя Советского Союза, я был бы сейчас большим человеком…
Смех его был столь же горьким, как и его судьба. Он родился в Одессе в 1925 году, при НЭПе, и проживал в квартире родителей, уплотненной советским домкомом. Это была обычная практика того времени.
В домах центральной части города до того жили небедные семьи инженеров, врачей, учителей, адвокатов… В четырех-шести комнатных квартирах обитали они вместе с прислугой, и им хватало одной ванной комнаты, одного туалета и большой кухни. Виктор изобразил удивление, когда продолжал рассказывать о своей семье:
— Можете себе представить лица одесситов, когда домовые комитеты стали подселять в их квартиры бродяг и проституток. Мои родители радовались, когда в нашу квартиру подселили просто обычных малопьющих бездельников. Все комнаты превратились в семейные общежития.
Единственный туалет работал непрерывно, радостно оповещая очередь булькающими звуками сливного бачка. Вдоль стены на гвоздиках повисли деревянные сидушки, они кое-где висят до сих пор… Без них стало невозможным пользоваться вечно засранным унитазом, который никто не хотел отмывать. Некоторые соседи не хотели пользоваться сидушками, и упрекали «излишне культурных» в том, что они не желают садиться на унитаз по-простому, по-пролетарски…
Виктор заметил, что официантка направилась к нам, держа в руках поднос с шашлыками.
— Не обращайте внимания на мой юмор, но в общем-то это все — правда.
Его рассказ показался нам забавным, хотя мы и сами жили в таких же коммунах. Еще Виктор сообщил о своих связях с театральными кассирами: на продаже билетов он выживал в то трудное время.
Он дипломатично дал нам урок потребления алкоголя: «Ребята, вы не спешите напиться, водка ведь существует для удовольствия, ее нужно употреблять малыми порциями». Виктор глотнул немного водки, запил минеральной водой «Куяльник», и начал читать негромко длинный стих, начало которого я запомнил:
Водки нету, и не надо, И без водки можно жить, Мы накупим лимонаду, И со спиртом будем пить!Под приятное похрустывание слегка пережаренных шашлыков Виктор рассказывал одесские анекдоты. Их знал он великое множество, и вещал «без перерыва на обед». Проживал наш новый знакомый на Екатерининской, напротив Театрального переулка, в комнате, расположенной над подъездом.
— Заходите, когда захотите еще старика послушать, — пригласил он при расставании.
Потом мы встречались с Виктором, как со старым знакомым, и радовались жизни вместе с ним:
«Одесса — мама, радует мой взор, Куда ни глянь — картина неземная!»И без всяких предысторий он переходил на более низкопробные стихи:
На … сидела вошь — На тебя была похожь!Довоенные друзья и знакомые оккупационного периода отошли от Виктора, и он в свои молодые годы остался одиноким, хотя «имел, что сказать», и спеть… Очень нравилась ему песня о «Садко — богатом госте»:
«В каюте класса первого, Свою сгоняя злость Гандоны бьет о голову Садко — богатый гость»И задушевно, с трагическим оттенком, продолжал:
«Сверкнула жопа с яйцами, И океан затих…»Встречали мы Виктора и в задумчивом настроении, когда ему хотелось пофилософствовать:
— Разве так должны жить одесситы? Мы живем так, как жили до революции босяки и всякая шушера. Я те времена не могу помнить, а мои родители их застали…
В школе я слышал об одесских босяках того времени. При румынах и после них сам все теплое время года бегал босиком.
— Чем же наши босяки хуже царских? — спросил я.
Мне были хорошо знакомы беспризорники Костела, я видел, как живут в коммунах мои одноклассники. Зачастую, они проживали в худших чем у нас, грязных квартирах, с размазанными по старым обоям клопами, в невыветриваемой вони… О том, что можно жить лучше мы не задумывались. Рассуждения Виктора показались Толику Титу странными.
— А как должны жить одесситы?
— Во-первых, не должны проживать в одной коммуне те, кто работает и ханури-дебоширы со всякими блядями!
Видимо, Виктора «достали» соседи, подселенные в квартиру его родителей.
— А где же они должны жить?
— На помойках, где и есть их место!
— А как же равенство? — уточнял Толик.
— Его никогда не было и не будет. Даже в наших теперешних клоповниках те, кто умнее, живут лучше.
Я задумался. И в самом деле, разве могли наши мамы «делать такой базар», как жена Фимы Геллера, или старая Беренштейниха? Как говорила моя мама, приносившая с Привоза жменьку-другую крупы и несколько пучков зелени:
— Конечно, они несут почти каждый день с базара по две курицы, и еле тащат сумки! На такое мне не хватило бы всей получки…
Впервые я подумал — а почему так? И сам громко ответил: «Так они же коммунисты!» Тогда передернуло Виктора:
— А почему ваших мам не принимают в партию?
— Так они же были в оккупации! — ответили мы с Толиком, перебивая друг друга.
— То-то, хорошо еще, что не посадили. Были бы вы беспризорными…
Мы успокоились, отпили по глотку водки, как нас учил Виктор. Мы знали, чем отличаемся от беспризорников: у нас есть, где спать, мамы стирали наши вещи, и дома почти всегда была хоть какая-то еда…
Виктор, похоже, получил неплохое образование еще до войны, возможно, где-то учился при румынах. Оно ему не пригодилось не только потому, что он побывал в оккупации, работать ему не позволяла первая группа инвалидности…
Каждый год Виктор проходил переосвидетельствование (видимо комиссия ожидала, что у него вырастет новая голова) вместе с теми, у кого могли появиться новые руки, ноги и другие органы, утраченные на войне. Обо всем этом наш новый знакомый говорил весело, а при расставании добавил: «Вы не такие глупые, какими кажетесь».
Однажды Виктор грустно сказал: «А я уже беспризорник». В тот раз он улыбнулся какой-то замученной улыбкой.
Я так и не узнал, что стало с его родителями после войны. Конечно, они не сотрудничали с оккупантами, иначе Виктору не помогло бы и его ранение…
«Тарзан», «Лаки Страйк» и одесская фарца
Американский фильм «Тарзан» произвел в нашей стране культурологический шок. Все четыре серии шли с колоссальным успехом. Улицы оглашались воплями «Уаа-а-а!» — это пацаны подражали как могли главному герою и его друзьям из джунглей. Возможно, отсутствие лиан на одесских акациях, каштанах и платанах существенно снижало безопасность их прыжков.
Травматологические отделения больниц переполнились киноперсонажами. В основном их звали Читами: до Вейсмюллера мало кто из юных одесситов дотягивал по телосложению. Почти все были очень худыми, а потому образ обезьянки, прыгавшей по деревьям, ими воспроизводился реалистичней.
Очередь за билетами в кинотеатр им. XX-летия РККА на Ришельевской напоминала Толчок, вытянутый вдоль на всю ширину тротуара.
Компания, в которую кроме нас с Лёнькой-Мартыном входили Толик Тит и Беня, после некоторых раздумий и экспериментов, нашла способ приникать к кассам кинотеатра, минуя длинную очередь. Метод был незамысловатым и вкратце описывался поговоркой «не имей сто рублей, а имей одну нахальную морду». У нас их было целых четыре.
За билеты на «Тарзана» с хорошими местами состоятельные одесситы не торгуясь давали даже тройную цену. Способ обогащения в целом нам нравился — он был простым и эффективным. Конкуренцию составляли более честные кустари-одиночки, выстаивавшие очередь в течение многих часов. Они возмущались и стыдили нас, малолетних, за нарушение профессиональной этики. Впрочем, особых мук совести мы не испытывали.
Нажива увлекла настолько, что на посещение школы стало не хватать времени — были дела поважнее. В конце концов тетя Дозя из педагогических соображений передала Лёньку отцу, и он переехал на Молдаванку, где жил и учился под строгим присмотром.
Толик Тит не подвергался таким репрессиям, а коммерческая мысль бурлила в его голове. Однажды он на бульваре Фельдмана увидел, как взрослые по сравнению с нами пацаны договаривались с «Джонами»[6] о закупке сигарет. Матрос отдал блок «Лаки Страйка» за тридцать рублей. Толик навел справки и узнал рыночную цену товара — 150. «Подъем» поразил наше воображение. Мы решили фарцевать.
На бульваре Толик подошел к «фронцу»[7] и на чистом английском (как ему казалось) обратился к нему: «Сигарет плиз»? Получив одну, он важно закурил и продолжил беседу, опять же используя язык Шекспира: «Бизнес йес?» Несмотря на некоторое лингвистическое несовершенство, вопрос был понят. Тит получил утвердительный ответ.
Затем начался торг. Так как чисел по-английски мы не знали, переговоры велись в письменной форме. На пачке папирос «Труд» появились цифры, слово «блок» оказалось интернациональным. Мы сошлись с «бизнес-партнером» на пятидесяти рублях за двадцать пачек «Лаки»[8] в двух больших красивых упаковках.
Мы шли по Дерибасовской, держа добычу в руках (завернуть было не во что). Покупатель нашелся быстро и сам. К нам буквально подбежал мужчина, представился художником и вручил три сотни, оставив при этом свой адрес.
Эйфория от первого успеха вскоре уступила место деловой активности. Сбыт проблемы не составлял, клиентами охотно становились состоятельные одесситы — среди них были преподаватели институтов, работники торговли и какие-то еще типы, иногда мутноватые, но при деньгах. Оборотный капитал рос. Судя по готовности «Джонов» к поставкам, сделки с сигаретами не были убыточными и для них.
Мы познакомились со своими конкурентами. Ядро и цвет фарцовочного сообщества составляли студенты университета и педина. Он знали, зачем учат английский язык. Эти молодые люди одевались с иголочки, вели себя со сдержанным достоинством, а к нам, малолетним пацанам, относились терпимо и даже с симпатией, как к младшим коллегам.
Мы и в самом деле не могли нанести им серьезного экономического ущерба. Главный «навар» студенческая фарца имела не с сигарет, а с заграничных шмуток и обуви — там подъем был еще большим. К тому же в общем черном торговом обороте наши считанные блоки «Лаки», «Кэмела» и «Честерфилда» в неделю выглядели каплей в море.
Студенты нешуточно рисковали: они уже достигли совершеннолетия, и в случае «залёта» могли сесть, причем надолго.
Занимались этим промыслом и пацаны с Канавы, а также обитатели окрестных с Интерклубом улиц. Именно они объяснили нам с Толиком правила, действовавшие на этом специфическом рынке, обозначили опасные места сосредоточения «мусоров» и охранников порта.
Ребята настоятельно не рекомендовали нарушать неписанные «законы и обычаи работы с клиентами», доходчиво объяснив, что «на всякую хитрую жопу есть болт с резьбой». В частности, мы наконец узнали, что носить блоки американских сигарет в руках крайне опасно, а в первые разы нам просто сильно подфартило. Пришлось распороть карманы пальто, тогда товар легко соскальзывал за подкладку.
Как показала практика, это решение было правильным. Как-то мы, отоварившись у Портклуба, спокойно поднимались по лестнице, ведущей к Ланжероновской. Неожиданно впереди на всю ширь прохода развернулась цепь из портовых охранников. Нескольких канавских пацанов «замели» сразу.
Мы с Толиком поравнялись с оцеплением, громко обсуждая эпизоды из фильма «Чапаев». Охрана не дремала — нас со всех сторон облапали, но сигарет не обнаружили: они болтались где-то в районе колен. Да, не зря герой Гражданской Василий Иванович картошку не ел, а изучал тактику.
Другой эпизод с «шухером» оказался более драматичным. Обычно иностранные моряки «паслись» по Пушкинской в направлении к Интерклубу, где их ждал теплый прием женщин не очень строгого поведения. Мы знали, что там же постоянно дежурят переодетые «мусора», по каким-то причинам не чинящие препятствий «ночным бабочкам».
Тем не менее, мы увлеклись, и возле ресторана «Красный» удачно купили у Джонов сигареты. Как два молодца из ларца с обеих сторон возникли менты и мы оказались почти у них в руках. Хорошо, что в Одессе выражения «почти» и «чуть-чуть» всегда воспринимались в сослагательном наклонении. Мы забегали, как вши не гребешке, получили по задницам ногами, но нам удалось скрыться от правоохранителей быстрее ветра.
Зону закупки пришлось перенести на бульвар и к Оперному театру, хотя там «фронцев» водилось меньше. Бизнес стал менее активным, но зато более безопасным и спокойным. Постепенно я к нему вовсе охладел.
В 1952 году маме наконец-то предложили инженерскую должность на консервном заводе им. Ворошилова. В Одессе секретов не бывает, и она каким-то образом узнала о моих торговых заработках. Личности неуловимых для милиции фарцовщиков (Толька Тит и Билли Бонс) были известны всему району.
Мать как-то вечером спокойно объяснила мне, что рисковать свободой не стоит: денег никому и никогда не хватает и не будет хватать. И между делом добавила: «Ученье — свет, а неученых — тьма».
Я стал уделять больше внимания занятиям в школе, впрочем, к большим видимым успехам эти усилия в первое время не привели.
Однажды я вышел из нашей коммуналки, захлопнул парадную дверь и встретился лицом к лицу с Валентиной, направлявшейся к своему шефу Воропаеву на четвертый этаж. Секретарша управления МГБ узнала меня, обрадовалась и хотела о чем-то поговорить. Прошло шесть лет после ее отселения из нашей квартиры. Валентина, наверное, привязалась ко мне, когда я был еще ребенком.
Почему-то я сделал вид, что не узнал ее. Валентина удивленно посмотрела на меня, расстроилась и стала подниматься по лестнице. Я тоже был раздосадован и зол на самого себя, продолжая стоять возле дверей. Валентина обернулась и горестно посмотрела на меня с лестничной площадки. Я так и не понял сам, почему так поступил. Она всегда хорошо ко мне относилась и не была виновна в том, что ей пришлось служить в то страшное время в страшном учреждении. Сама мучилась.
В школе на мое мрачное настроение обратил внимание друг, Женя Кац, и чтобы как-то развеселить, пропел:
Мы смело в бой пойдем — И мы за вами! И как один умрем — Идите сами…Культурная жизнь
Одессу на рубеже десятилетий вновь начали навещать знаменитости с концертами. Как сами артисты признавались, они очень волновались: попробуй перед одесситами возьми не ту ноту — будут смеяться даже сумасшедшие!
«Город талантов» посетили: молодая югославская певица Радмила Караклаич, оркестр Бабаджаняна, великий танцор Махмуд Эсамбаев, кукольный театр Образцова. Зал филармонии всегда был переполнен, и нам приходилось выискивать средства на покупку билетов.
Идеологам не удалось уберечь одесситов от «тлетворного влияния». Караклаич исполняла полузапрещенный тогда джаз. Оркестр Бабаджаняна в первом отделении играл скучноватый официоз, но все терпеливо ждали окончания антракта. После него публика наслаждалась «критикой» песен Петра Лещенко, Бенни Гудмена, Луиса Армстронга, Гленна Миллера и других «империалистических» музыкантов. Под иным предлогом эти композиции исполнять было невозможно. Одесситы долго не отпускали исполнителей своими аплодисментами, и концерты приходилось продлевать как минимум на полчаса.
Одному Эсамбаеву не приходилось идти на ухищрения — в танце цензоры, бойцы идеологического фронта, не могли найти крамолы.
Мы иногда посещали и цирк. Там идеологии было меньше, хотя запомнились клоуны-куплетисты, певшие, подыгрывая себе на гармошках:
Тра-та-тита-тра-та-тита! Посмотрите вы на Тито! Он дошел до Уолл-стрита, Дальше некуда идти.Клоуны весело смеялись. Смеялись только они.
Послевоенный костел
После ареста «шпионов-священнослужителей» и экономического краха общества «Строитель», было обосновавшегося в этом помещении, здание костела разрушалось на глазах. Полуразвалины его стали местом, где собирались обездоленные ребята центра города — дети арестованных «врагов народа» и сироты войны.
Прозябающие в простенках и подвалах беспризорники, организованные в огромную «кодлу», занимались мелким воровством и честно делили добытую еду между собой. Они выживали совместно с детьми нищих родителей и дружили между собой так, как не дружат и родные люди. Возможно, иначе им не удалось бы выжить. За своих они «тянули мазу» не задумываясь о последствиях. Были среди костёльских пацанов крепкие ребята с удивительно широкими плечами и могучими мускулами — Вова Рыбалко, Володя Слон… Они могли уложить одним ударом не только пацанов.
Кому-то из ребят показалось несложным мероприятием похитить морскую форменную одежду из экипажа училища технического флота, что возле парка Шевченко. Застали их курсанты на месте преступления, и пацанам Костела пришлось расчищать дорогу на Маразлиевскую кулаками и заточками. Правда, тогда никто не пострадал серьезно.
Дежурные, видевшие грабителей, быстро собрали большую группу «моряков», рвавшихся в бой, и заранее накрутивших на руки ремни с бляхами. Вся эта толпа прибежала к костелу. В темноту подвалов спускаться деревенские ребята не стали. Погрозили одесским хулиганам своим боевым видом, и пошли разыскивать ворюг по городу.
В районе парка Шевченко кто-то из озверевших матросов заметил нас: «Они из костела!» Мы и в самом деле были хорошо знакомы с ребятами из «костельской кодлы», но не имели понятия о произошедшем. Нас окружили «моряки тюлькиного флота» с бляхами, сверкающими на солнце. Из их громких криков можно было понять, что мы будто бы участвовали в какой-то краже обмундирования.
Толик Тит первым понял, в чем нас обвиняют, и спокойно пояснил: «Мы там живем, но никаких шмуток из экипажа не тырили». Кто-то из моряков сказал: «Это не они…» Нам повезло — деревенские ребята любили бить одесситов только при большом численном преимуществе. В таких случаях они с удовольствием добивали даже лежавших без сознания.
Часть «моряков» вернулась к костелу и там встретилась с Вовой Рыбалко, чинно и культурно разговаривавшим со Слоном. Они уже что-то знали. Учащиеся ТФ подошли к ним, считая их посторонними: «Куда подевались эти бздуны, которые побили наших дневальных?» Слон свистнул, и неожиданно «моряки» оказались между молотом и наковальней. Из всех щелей огромного здания костела в считанные секунды вылезли эти самые «бздуны». Били «моряков» нещадно, и не помогали им блестящие бляхи…
Нескольким курсантом «тюлькиного флота» удалось убежать, остальным пришлось отдохнуть рядом со зданием. Отобрали у них и ремни с бляхами, да и остальную одежду морякам пришлось подарить «бздунам» — так и отпустили их в одних трусах гулять по городу-герою.
Через пару часов уже все училище техфлота прибежало искать в костеле грабителей. Курсанты суетились вокруг здания, но в проемы подвалов не залазили, понимая угрозу, таящуюся в темноте.
Через день «моряки» по ошибке избили двух военных матросов, одетых по гражданке и пришедших потанцевать на Майдан, в парк Шевченко. Это была большая ошибка. В тот же вечер моряки военной гавани ворвались в экипаж училища ТФ и учинили полный разгром с сильными телесными повреждениями. Машины скорой помощи приехали вовремя. С небольшим опозданием прибыла милиция… С того времени курсанты училища «Техфлота» перестали искать, кого еще побить. И ремни на руки пряжкой наружу больше не накручивали…
А Соня на балконе…
В нашем городе исторически сложилось так, что в коммунальных квартирах у «везунчиков» имелся выход из комнат на балкон. Кроме того, что хозяева такой комнаты имели свой столик с поварским имуществом на общественной кухне, они часто использовали балкон не только как место отдыха. Приносили летом туда примус, ставили его на табуретку, и на зависть всему двору жарили бычки и варили раки.
А если балкон выходил на улицу, тогда и «вся Одесса и должна про это знать…» Одесситкам было недостаточно только жарить и варить, нужно было так крутить своими формами, чтобы прохожие не проходили мимо, не обратив внимания на хозяек. При этом женщины не всегда вписывались в габариты балконов, и «рыбачки-Сони» иногда поздно замечали, как огонь от примуса перекидывался на сарафан. Тогда появилась одесская песенка, помогающая одесситкам следить за расстоянием до примуса при вращении задом:
Соня! Соня! А Соня на балконе. Соня жарила бычки И варила раки, Пропалила сарафан От п… до сраки!Сарафаны в те времена стоили больших денег, поэтому песня исполнялась зачастую с печальной интонацией.
* * *
Центр города быстро восстанавливался. В новые квартиры заселялись руководители всех рангов, прибывавшие отовсюду. Из Москвы присылали грамотных специалистов, работавших в порту и на заводах не только за страх, но и за совесть. В Одессе стала заметна нехватка квалифицированных работников и чернорабочих.
Деревенские ребята, отслужившие в армии, знали о прошедших голодоморах в селах, и не желали возвращаться в «заможные» колхозы. Их принимали на строящиеся и восстанавливаемые предприятия с распростертыми объятиями. Молодые деревенские девушки под разными предлогами, вплоть до вербовки, тоже бежали в города, иногда не имея даже документов. Старались побыстрее выйти замуж и стать «дуже одэссыткамы». Деревенских долго именовали «жлобами» — вплоть до полного перевоспитания.
В школы центра города приходили самые грамотные учителя, высшие учебные заведения комплектовались лучшими научными сотрудниками, а пришедшие учиться фронтовики «грызли науки» по-настоящему.
Одесса оживала. Население центральной части города интенсивно посещало театры, кино, музеи, и очень скоро стало отличаться интеллектуально от жителей других районов. Люстдорфская дорога соединяла город с деревней, которая начиналась сразу за Первой станцией. Крестьяне колхоза им. К. Либкнехта, получившие наследство немецких колонистов, изгнанных в северный Казахстан и Сибирь, жили в их добротных домах, и трудились на хорошо удобренной и обработанной земле. Во всем чувствовался достаток наших колхозников, снабжавших Привоз продовольствием.
Наша компания любила посещать деревню весной. Добирались мы на трамваях № 13 или 29. Почти у самого трамвайного полотна росли молодые огурчики, помидоры, лук, а дальше — пшеница и виноград. Пшеницу мы ели недозрелой, сочной, вместе с луком и овощами. Поля были ухоженными, такими, как их показывали в послевоенных фильмах о колхозах.
В сторону Большого Фонтана ходили открытые длинные трамваи-пульманы, приятно продуваемые легким ветерком в районе от 10-й до 16-й станций. Пляжи Большого Фонтана были пустынными и в прозрачной воде бегали между камней небольшие крабы, а под валунами прятались бычки. Мы ловили, кого удавалось, и варили в немецких касках, валявшихся на склонах, в морской воде за неимением пресной. Есть было почти нечего, зато вкусно. Назад ехали обычно на буферах трамваев, хотя нас никто не выгонял из вагонов. Милиционеры иногда ловили пацанов, сидевших на «колбасе» — риск приятно щекотал наши нервы.
На Слободке, как и на Бугаевке, проживали в большинстве своем хозяйственные мужики крестьянского вида, умеющие и любящие трудиться. От слободских я впервые услышал: «У нас на Слободке рубль ценится». Это звучало укоризной для нас, городских пролетариев, которым всё нипочем.
Зато жизнь одесситов из центра была перенасыщена радостями, потому мы росли веселыми, глядя на старших. А наши мамы радовались, когда им удавалось купить недорогое украденное с мясокомбината мясо, или опять же, недорогие, опять же украденные с фабрики Розы Люксембург конфеты или печенье.
Радостно бывало одесситам, когда поздно ночью громко стучали в их дверь чекисты и громко спрашивали: «Петров здесь живет?» Тогда одессит, не чувствуя своего тела от ликования, восклицал, как на сцене: «Петров проживает этажом выше!» И улыбался… Радовался до рассвета, и не мог заснуть, пока не сбегал вниз, на улицу, в приподнятом настроении. Петров в это время ждет, когда его отведут к следователю. Он знает, за что его посадили, но сокамерники еще нет:
— За что тебя? — спрашивает видавший виды сосед.
— Из-за лени…, — стеснительно отвечает Петров.
— Не гони, — братаны знают — нет такой статьи.
— Та, рассказал на работе анекдот один слесарь, все, и он в том числе, побежали сразу в МГБ, а я поленился… — печально оправдывался Петров перед сокамерниками. — Теперь я — политический.
Молдаванка и Пересыпь
В начале 50-х население Одессы не превышало пятисот тысяч человек. Черта города проходила за Вторым христианским кладбищем, Молдаванкой и Пересыпью. Далее шли колхозы и деревенские поселения.
Молдаванку с дореволюционных времен населяли евреи, молдаване, цыгане, немного — украинцы и русские. Такая «гремучая смесь» создавала славу этому району. Бандиты и воры всех специальностей, аферисты высочайшего класса, прославили не только Молдаванку, но и весь многонациональный город.
На Молдаванке музыка играет, На Молдаванке барабаны бьют, На Молдаванке прохожих раздевают, На Молдаванке девушек …К Молдаванке примыкает Бугаевка, население которой держало породистых быков, и на этом имело доход. К бугаям приводили на случку коров жители Слободки.
Самыми бедными были жители Пересыпи. Этот постоянно затапливаемый район «плавал» по нескольку раз в год. У жителей первых этажей имущество столько же раз плавало по комнатам.
Обитателей Пересыпи всегда можно было отличить от других одесситов по прелому запаху их одежды. Во время проливных дождей одесская канализация выпускала в этот район все, чем была богата улица Богатого…
Заливные переулки, первый и второй, тоже названы были не случайно — там была наибольшая глубина затопления Пересыпи. Застрявшие посреди гигантских луж лошади вытягивали шеи и смотрели на канализационную жижу обезумевшими глазами…
Слободские ребята любили «показать себя». Собиралась «кодла», среди пацанов выделялись несколько откормленных особей, они шли напролом, задевая плечами прохожих, оказавшихся на их пути. Недовольные получали по зубам.
Не все, впрочем, слободские были бездельниками; среди них встречались рабочие Дзержинки, ЗОРа и других менее всего уважаемых в центре города предприятий. Обычно они гуляли в дни получки и аванса. Кутили с шиком, не жалея чаевых, выпендриваясь перед одесситами из других районов.
Обыкновенные рабочие, трудно зарабатывающие свой кусок хлеба, дойдя до кондиции, величали себя «гофманскими бандитами», или как-то еще с таинственно-угрожающим оттенком.
Гофманские переулки никогда нельзя было назвать скопищем бандитов. В них жили в основном работяги, построившие свои жилища-самострои еще до войны, иногда вскоре после нее.
Как и в любом другом районе Одессы, проживали на Слободке и люди, отсидевшие свои срока, и выпущенные после смерти «отца народов», которого все они так и называли: «атэц ра-адной». На всех пляжах загорали одесситы с наколками на груди — портретами Ленина и Сталина. Нам они казались большими патриотами, преданными сыновьями партии. Потом оказалось — они делали эти татуировки в надежде, что им не «припаяют» расстрельных статей. Кто станет стрелять в любимых вождей? Правда, могли выстрелить в голову, или повесить…
Молдаванские кодлы были не такими прямолинейными, но в обиду себя не давали, и разборки между ними и слободскими продолжались много лет.
Дерибасовская
Качественно вымощенная булыжником мостовая Дерибасовской не претерпевала больших изменений. По ней ездили в основном легкие упряжки биндюжников. Лошади с безразличным видом задирали хвосты, и высыпали на мостовую шарики отработанной спрессованной соломы. Конский помет хаотично валялся на проезжей части, но его запах никому не мешал наслаждаться вечерним променадом по главной улице Одессы.
Изредка проезжали трофейные автомобили, пугающие лошадей и биндюжников громкими сигналами. Почти все гуляющие одесситы знали друг друга если не по имени, то хотя бы в лицо. Никто не сомневался в том, что это — лучшая улица планеты, и, возможно, самая чистая (по этому поводу некоторые сомнения всё же порой возникали).
Нечетная сторона Дерибасовской приобрела статус более престижной. По ней прогуливались интеллектуалы и одесситки с претензией на привилегированное положение в обществе. «Бобкин-стрит» — гордо именовалась эта сторона, вместе с ее обитателями.
Четная же половина Дерибасовской получила название «Гапкин-штрассе». По ней ходить было менее почетно. Здесь прохаживались шумные «бичи», курсанты ШМО, жители Пересыпи и Молдаванки с неприхотливыми деревенскими «невестами».
На углу Ришельевской гуляла голытьба у бабы Ути, а на пересечении с Екатерининской пили водку с пивом матросы и бичи. За углом Преображенской помещался в глубоком подвале «Гамбринус». В горсаду рядом с кинотеатром «Уточкино» никогда не пустовали столики ресторана «Кавказ» — здесь гуляли те, кто что-то заработал, а каким способом, не имело значения.
Во всех этих забегаловках посетители, напившись разливной водки с пивом, каждый вечер выясняли отношения — между жителями Пересыпи и Молдаванки, гражданским и курсантами морских училищ, и другими социальными группами в любых комбинациях…
Каждый вечер, после шести, на открытой пролетке катался по центру мостовой с гордым видом одинокий «Шнапс-капитан», как его именовали одесситы. Капитан лет тридцати пяти был всегда в отутюженном мундире, чисто выбрит и «пьян до синевы». В полунищем городе он выгодно отличался внешним видом. Откуда офицер брал деньги, чтобы так открыто щеголять в то время, о том историческая наука умалчивает. Восседал он одиноко позади биндюжника, горделиво посматривая по сторонам, и небрежно похлопывал себя по колену закинутой вверх правой ноги белыми перчатками, снятыми с рук. Через какое-то время «Шнапс-капитан» вежливо останавливал биндюжника и спускался к бабе Уте, чтобы не трезветь и не ронять своей репутации в глазах одесситок.
Горсад днем был очень спокойным местом отдыха пожилых одесситов. Часто в ротонде выступал оркестр, иногда военный или флотский. Репертуар составляли вальсы и мелодии военных лет. Спокойную и ненавязчивую музыку слушать было приятно.
Под лестницей кинотеатра «Уточкино» толпились пацаны моего возраста в очереди за билетами, а у кого оставались деньги, те покупали еще и мороженное.
К вечеру Горсад становился продолжением «Гапкин-штрассе» со всеми последствиями — теми же мордобоями и разборками, которыми славилась пьяная четная сторона.
В середине пятидесятых по «Гапкин-штрассе» стали робко прогуливаться начинающие стиляги. Они строго следили за своим внешним видом. Месяцами нестриженые волосы с аккуратно уложенным «коком» надо лбом сдабривались тюбиком бриолина. Такая вызывающая прическа служила главным «стильным» отличительным признаком.
Из одежды особым шиком считался цветастый с золотым или серебряным отливом длинный галстук. «Дуже амерыканськый» пиджак из Сингапура подчеркивал статус обладателя стильной одежды. Брюки-дудочки упирались в туфли на толстой каучуковой подошве, «манной каше». Остальная молодежь продолжала носить брюки — клеш.
Когда я был мальчишкой, Носил я брюки — клеш Соломенную шляпу, В кармане — финский нож…Стиляги «подрывали культуру нашего образа жизни». Появились комсомольские патрули, состоящие преимущественно из заводских хулиганов, которые нападали на стиляг, и распарывали их «дудочки», лохматили волосы, а иногда даже обстригали «красу и гордость» стиляг — кок. Активистов патрулей запоминали, и они часто не оставались безнаказанными. Милиция как могла, помогала комсомольцам, но у нее и без этих разборок было чем заняться. Борьба со стилягами считалась задачей второстепенной.
Вечерами по «Бобкин-стрит» вояжировали в красивых кремовых костюмах братья Беловы, именующие себя сыновьями генерала Белова. Молодые модницы вились возле них табунами. Мало того, что братья были красавцами-блондинами, они еще и выглядели весьма небедно, разговаривали с женщинами свысока, а модницы млели. Нам хотелось походить на таких «стиляг», но в материальном плане наши притязания оставались беспочвенными.
Позже я узнал, что братья Беловы работали газосварщиками и к «золотой молодежи» в действительности не имели никакого отношения…
Ходить по «Гапкин-штрассе» наша компания не могла по причине отсутствия средств на потребление пива. Кроме того, что делать трезвым пацанам среди пьяных бичей и дебоширов? Приходилось гулять по «Бобкин-стрит».
Знакомились с себе подобными школярами, слушали новые одесские анекдоты и хохмы или просто беседовали ни о чем. Не интересовались, кто где живет, а иногда и именами собеседника, но при встрече «в городе» приветствовали друг друга, как лучших друзей. Это было и «шапочное знакомство», и нет…
Иногда обсуждались похождения богатого по тем временам стиляги — Тарзана, которому отец купил автомобиль «Москвич», а может «Победу». О нем одна одесская газета даже написала статью под заголовком «Чужой труд». Личные автомобили регистрировались тогда с номерами, первыми буквами которых были «ЧТ» (частный транспорт).
Быстро входил в моду рок-н-ролл. А петь большинство одесситов продолжало:
На Дерибасовской открылася пивная, Там собиралася компания блатная…И текли, куда надо, каналы…
На Соборной площади на месте взорванного Собора, мастера своего дела прокопали огромную рельефную карту Союза. Через территорию страны текли реки, на них красовались гидроэлектростанции, плотины, каналы, включая Беломорско-Балтийский. Впадали они, куда положено…
Моря были неглубокими, нам по колено. Степи опоясывали лесопосадки в виде кустов и трав. Крупными буквами из декоративных цветов высадили заглавие этого творения: «Сталинский план преобразования природы». Цветовая гамма травы и цветов на наш взгляд была безукоризненной. Такое красивое наглядное пособие никак не показывало самих строителей коммунизма. Вместо них по травке бегали муравьи, солдатики и божьи коровки. Казалось, что и среди насекомых имеются свои строители, охранники, начальники…
Мы, подростки, смотрели на карту глазами Гулливеров. Были там и взрослые, не понаслышке знавшие, чьими руками возводились Днепрогэс, Беломорканал, и другие ударные стройки, но они молчали. Это была тогда государственная тайна.
В Одессе быстрыми темпами восстанавливались разрушенные войной заводы, дома, порт… немецкими военнопленными и нашими бывшими колхозниками. Коренные одесситы старались находить работу «по блату», попроще. Те, кто побывал в оккупации, в основном не годились для строительных работ в силу своей хлипкости. Не имели они доступа и на «приличные» производства.
В коммунальных квартирах все соседи уживались очень дружно. Между собой перераспределяли уворованные на производствах продукты питания, за счет чего кое-как жили и кушали.
Строители продавали цемент, алебастр, известь, песок, причем с доставкой на дом. Когда соседи просили нас принести эти материалы с ближайших строек, мы обеспечивали еще более низкие цены. Этот уклад, «ты мне, я — тебе, а как же еще может быть?», еще долгие годы сохранялся в коммуналках. Подобные отношения между соседями были, таки-да, хорошими. Даже стеснительные стукачи не вмешивались. Коммунизм себе где-то потихоньку строился и особенно никому не мешал.
Праздники
Одесситы соскучились по общению в праздничные дни. Великий вождь и его окружение понимали необходимость показать измученным войной людям, за что десятки миллионов отдали мужей, сыновей и дочерей…
Советские праздники обставлялись пышно, к ним готовились месяцами. Трансляцию вели по всему Союзу, подробно сообщая о тех, кто вышел на мавзолей приветствовать войска и трудящихся. Энтузиазм людей был непоказным, они верили многолетней пропаганде, и до хрипоты кричали «ура» в честь вождя и учителя, показывающего людям ладонь и незло улыбавшегося. Христианские праздники считались пережитками, все кинотеатры в эти дни показывали «Праздник святого Иоргена».
1 мая и 7 ноября по всему городу возле своих предприятий собирались рабочие. Парторг, директор, комсорг и профорг, в окружении подхалимов всех мастей и оттенков, важно ожидали своих трудящихся. Работягам вручали транспаранты, портреты Сталина, Берии, Кагановича, Хрущева и других правителей, флаги и воздушные шары. Духовые оркестры исполняли, что умели, перебивая один другого — кто громче дует, тот лучше играет. Ударники били в огромные барабаны как кувалдами по голове. При движении колонн одесситы успевали одновременно танцевать, кричать, и пить водку почти без закуски. Останавливались шеренги людей часто, пропуская к Куликовому полю различные районы города согласно разнарядке обкома ВКП (б).
Ударники труда и лица особо заслуженные получали спецпропуска на трибуну, позади которой работали спецбуфеты обкома. Там продавалась «уцененная» водка с закусками: очень дешевыми бутербродами с красной и черной икрой, разными колбасами. Среди гостей шмыгали милиционеры в форме, чекисты и всевозможные стукачи в гражданской одежде.
Мощные громкоговорители пачками извергали здравицы в честь наших вождей, лично товарища Сталина, партии и правительства… Проходящие мимо пьяные товарищи преданно смотрели на представителей власти в Одессе и кричали «ура», часто не тогда, когда было нужно, невпопад. Это преступлением не считалось, и их не брали на заметку…
За Куликовым полем вдоль улицы Свердлова стояли грузовики крупных предприятий, возле которых представители профкома отмечали тех, кто принес к автомобилям транспаранты, портреты и флаги. Эти трудящиеся расписывались в ведомостях на получение материальной помощи, обычно в размере 30 рублей. Бутылка «московской» стоила 28 рублей 70 копеек. Этой помощи с лихвой хватало еще на три мясокомбинатовских пирожка с требухой.
Вечером те, кто еще мог ходить, высыпали на бульвар Фельдмана. Люди шли толпами по Дерибасовской, Пушкинской, Ленина. Знакомых лиц видимо-невидимо, и все веселые. Потом был яркий салют, отражающийся в море со всех сторон. Залезшие на голову Дюка пацаны что-то громко кричали. Кричали и мы, уже не помню, что…
Вечером в разных местах города возникали пьяные драки. Почему не повеселить народ? Иногда хорошо обученные в боях ветераны войны поколачивали милиционеров. Я видел, как на Польском спуске два пьяных фронтовика стояли спиной к спине и отбивались от десятка милиционеров, приехавших на грузовой машине их успокаивать. Сражались долго, но все же их скрутили и связали. Внешне драка выглядела так, как будто муравьи одолевали двух полосатых тарантулов…
Охота на евреев началась
Наши мамы смирились с тем, что они являются людьми второго сорта. Причину такого отношения к себе они знали. В трудовых книжках значилось: в 1941 году в августе месяце уволена в связи с эвакуацией завода из города Одессы. Других записей не было. С такими трудовыми книжками можно было не показываться на предприятия, где они могли быть нужными в качестве специалистов.
В 1952 году такое отношение советской власти почувствовали и евреи. Правда, поначалу только те из них, кто высоко взобрался по служебной лестнице партийных учреждений и МГБ. Обычных мастеровых, завмагов, завскладами пока не трогали — их могли просто побить на улицах хулиганы. Это не считалось даже неприятностью — так, пустяк. Партийное руководство страны почему-то не давало отмашку к применению радикальных мер. Коммунисты, видимо, не желали, чтобы их сравнивали с фашистами.
Для евреев, не побывавших «на территории, временно оккупированной врагом», «еврейское счастье» затянулось неожиданно долго — до начала пятидесятых. Большинству одесситов время от конца сороковых до начала пятидесятых казалось продолжением войны.
В кинотеатрах, перед демонстрацией фильмов «Александр Матросов», «Зоя Космодемьянская», «Подвиг разведчика» или «Падение Берлина» показывали киножурналы, в которых крупным планом были сняты наши полководцы, увешанные от пупа до горла высшими наградами Родины. Все, что выше пояса, грудью называется — так говорили военные люди. Это благодаря им у нас есть столько героев, о которых можно выпускать множество новых фильмов… Нам, голодным оборванцам, было радостно видеть на экранах тех, кто «таки да» обеспечил «наше счастливое детство». Иногда показывали фашистские концлагеря, в которых дети выглядели значительно изможденнее нас.
В городе поговаривали о том, что через наш порт поступает американская помощь голодающим детям и населению. Наши мамы это обсуждали шепотом: возможно, слухи были происками империалистов. Даже после голодомора, продолжавшегося до 1947 года, они ходили в рванье и питались очень умеренно.
В школах учителя рассказывали о бедственном положении трудящихся Америки, Англии, Западной Германии. Империалистам хотелось, чтобы и в нашей, свободной от эксплуататоров стране, людям жилось так же плохо. Нам рассказывали о засылаемых шпионах, способствовавших разведению в стране врагов народа быстрее, чем плодились вши на резинках наших трусов.
И все было привычно, но неожиданно в газетах «Правда» и «Известия» на первых страницах стали печатать материалы о «деле врачей». Кремлевские доктора, евреи, неправильно лечили самого Сталина, и центральная пресса не могла им такого простить. Стали снимать начальников со всех руководящих должностей по национальному признаку. Как-то само собой подразумевалось, что все евреи были с этими врачами-убийцами заодно.
Партбилеты перестали выполнять роль дипломов об образовании, прекратил на время действие принцип «блат выше Совнаркома». Статьи в центральных газетах клеймили позором евреев и поощряли антисемитские настроения «в народе». На улицах города пьяный «трудовой люд» цеплялся к еврейским старикам и детям, шумно выражая свою любовь к «вождю всех народов»:
— За что же вы хотели отравить товарища Сталина?
И пожилые евреи оправдывались:
— Мы ничего об этом даже и не знали…
В первую очередь ощутили на себе подогреваемый прессой «гнев народа» ремесленники, продавцы газводы… Пионер Леня Лехцер непонимающими глазами смотрел, как его дедушка закрывал свою сапожную будку на большой замок. На своем рабочем месте старенький сапожник не появлялся много месяцев. «Тетя Двойра» запретила Лёне выходить со двора, чтобы не побили на улице.[9] На домах и заборах появились надписи «Бей жидов — спасай Россию!» Дедушка Лёни продолжал ходить в синагогу возле Пересыпьского моста, и это был тогда подвиг. У входа в храм, возле бильярдной, собирались ханури, подогретые спиртным, купленным в гастрономе «Московский». Они громко декламировали:
Тех, кто кушает мацу Узнаю я по лицу!Ходить в школу приходилось осторожно, чтоб не заметили защитники великого Сталина.
Были евреи, которые громогласно поддерживали линию партии по защите вождя от кремлевских врачей, но это им мало помогало.
В кинотеатрах стали показывать довоенный фильм «Искатели счастья» о хорошей жизни евреев в Автономной Еврейской области. Веселила песня:
Пиня ехал, Пиня шел, Пиня золото нашел…И непонятно было, почему пожилые еврейки плакали после просмотра кинокомедии. Они уже ожидали отъезда в Биробиджан, где их с нетерпением ожидали соскучившиеся по свежей крови крупные комары.
— А вы слыхали? Уже объединяют Мордовскую АССР с Автономной Еврейской областью. Только пока не знают, как назвать: Мордо-Жидовской, или Жидо-Мордовской…
Такие анекдоты придумывали одесские евреи, шедшие в ногу со временем. Таким запомнил то «веселое время» мой добрый приятель Леонид Ефимович Лехцер.
Возле газетных киосков собирались толпы одесситов, и еще не купив свежих газет, спорили:
— Что является правдой в «Правде»?
— Вы сомневаетесь в правдивости «Правды»? Сколько волка не корми… — сверкал очками на еврея антисемит.
— А у ишака все равно больше, — отмахивался от первого второй.
— Я с Вами говорю серьезно!
— И я не шучу, потому, что побывал в Средней Азии.
Вмешался старенький еврей:
— Жиды проклятые — вода холодная! Если в кране нет воды — значит, выпили жиды! Может все же мы виноватые не во всем?!
— Вот сейчас купим свежие газеты, и будем знать!
Много месяцев тема еврейского предательства была одной из главных, и никто не знал, когда и чем это закончится. Злости у населения накопилось достаточно, но только не «великий вождь и учитель» мог оказаться крайним…
Школьники наших классов никак не реагировали на официальные сообщения о вредительстве евреев, но на улицах города наших соучеников часто избивали за «неправильный вид».
Враги всегда были нужны власти, многие национальности попадали в немилость и до того. Но евреев обычно считали оплотом коммунизма, и вдруг они внезапно оказались главными претендентами на переселение вслед за греками, татарами, чеченцами…
Одесские евреи стали негромко возмущаться, не понимая, почему с ними хотят так поступить. А главное: за что? Какие должности в партии, МГБ или правительстве будут в первую очередь освобождать от них? Возможно, следовало закрыть еврейские артели, будки с газводой, замызганные сапожные мастерские? Разогнать таксопарк и пересажать биндюжников? Поувольнять грузчиков в порту? И для кого «великий вождь» готовит эти места? Для побывавших в оккупации? Это вряд ли… Кем же будет заселяться Одесса?
За Средиземным морем обозначилась Земля обетованная.
Многих чекистов, награжденных во время войны орденами и медалями, арестовывали за участие или неучастие. Антисемитская пропаганда набирала обороты. На центральных одесских улицах включались стоваттные колокола, и из них неслись одно за другим выступления Молотова, Вышинского, Берии, Кагановича, клеймивших позором наймитов империализма.
Радовались одесситы, когда Молотов сообщил о том, что у нас «уже есть атомная бомба и еще кое-что». Такими Одессу еще не бомбили… Стала иметь значение графа пятая в анкете при приеме на работу, и евреев уравняли с теми, кто был «на территории, временно занятой врагом…»
Перестали учитываться заслуги «преданных коммунистов» перед партией и советской властью.
Продолжению ожидаемых событий положил конец сам «вождь и учитель», несколько суток мучительно умиравший без помощи кремлевских врачей. Похоже, ему помогали, как умели, партийные товарищи…
Население города восприняло смерть Сталина, как трагедию. Многие не знали, как можно будет без него жить. И не все догадывались, что худшие годы советской власти уже позади…
Люди, пережившие не менее двух жестоких голодоморов, войну, в которой их жизни не ставились Сталиным в грош, плакали настоящими слезами, даже те, кто побывал в оккупации, в лагере или в плену, те, кто получил сполна.
Наши бабушки и мамы, ничего хорошего не видевшие от советской власти, возможно думали, что может быть еще хуже, чем то, что они пережили… А те, кто не был в оккупации, думали, что им «при румынах было хорошо»… И объединяли одесситов общие слезы о почившем «друге и вожде».
Скорбь была какой-то гнетущей, и мы ее ощущали почти физически, когда не были окружены своими сверстниками. Возможно, нам портила настроение многодневная трансляция траурной музыки из громкоговорителей, включенных на полную мощность, или срывающиеся от горя голоса Молотова, Берии, Кагановича…
Когда лились ручьями слезы из глаз наших учителей, мы не могли смеяться или шутить. И плакать не могли при них, чтобы не подумали, будто мы подхалимы.
Конец послеоккупационного периода
В школе учителям стало не до нас. Все преподаватели стали очень подвижными. Бегали со слезами на глазах те, кому ничего до этого не грозило. Те же, кого еще на днях «клеймили позором», тоже бегали, но тихо и не плакали. Школьники удивленно смотрели на учителей. Разве они не знали, что люди иногда умирают? Такое бывает со всеми не менее одного раза в жизни — это мы усвоили твердо в своем юном возрасте.
Нас смерть товарища Сталина не беспокоила — еды не прибавилось и не убавилось. Но все же мы его немножечко жалели. Все-таки был он таким добреньким на школьных портретах и так сладенько улыбался с девочкой на руках…
Занятия в школе отменили, и мы весело помчались играть в футбол во двор школы № 117. Проходившие мимо взрослые иногда возмущались, видимо это были те, кто вправду сожалел о кончине «великого друга и вождя», или те, семьи которых почему-то не пострадали…
Иногда взрослые одесситы судили между собой о том, что хотел сделать со страной «великий учитель», и кем он был для народа:
— Это был всесоюзный пахан, перенявший у нас, уголовников, методы руководства лагерного типа — уставившись в наглые глаза бывшего зэка, пробасил угрюмый одессит.
— Это был очень умный пахан, — не стал с ним спорить «сослуживец».
Друзья поровну разлили бутылку «Московской», и вдруг запели хорошими голосами:
О Сталине мудром, Родном и любимом, Прекрасные песни Слагает народ…Складывалось такое впечатление, что они участвовали в лагерном хоре много лет.
После смерти Сталина евреев не восстанавливали на утраченных должностях и резко сократили процент их приема в партию. Зато никаких репрессий не последовало, и даже «кремлевских врачей» вернули с полдороги на Колыму. Тогда сами евреи стали распространять слухи о том, что их перестали принимать в ВУЗы.
Возможно, приемные комиссии сменили состав или были какие-то указания сверху, но чтобы поступить в институт им теперь в самом деле были нужны знания…
Начались разговоры о выезде на постоянное место жительства в Израиль, во время которых мог подойти пожилой еврей, и невзначай сказать:
— Я не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо…
Рано утором тетя Зина Булатова обнаружила в туалете свежеиспользованную газету «Известия», со следами «гадости» на портрете Л. П. Берия. Мы, как и семья Талалаевских, на прессу не подписывались, и тетя Зина металась по коммунальной квартире в поисках тех, кто получал или покупал «Известия».
Никто не получал, никто не признавался, что покупал эту газету. Дотошная тетя Зина рассматривала через очки, чем питался «враг народа», но гавно было невыразительным, даже без помидорных семечек, а запах ни о чем не говорил. Тетя Зина очень любила почившего Сталина и его соратников. В своем великодушии она прощала соседям всё. Но такое!!!
Постепенно охота на врагов народа отходила на второй план, но особо преданным одесситкам это казалось почти предательством коммунистических идеалов. По их «сигналам» перестали по ночам забирать соседей, и они безрезультатно не спали, ожидая приезда «черного ворона».
А по репродуктору стали беспощадно критиковать безответственных бюрократов — их высмеивал Аркадий Райкин.
Что-то случилось с советской властью.
Вскоре правление взял в свои руки «верный ленинец» — Никита Сергеевич Хрущев, простивший всех «врагов народа», а заодно и нас, «побывавших на территории, временно занятой врагом…» С этого момента для нас окончился послеоккупационный период, и стали мы обычными гражданами СССР, с общими для всех проблемами. Статья в анкете, однако, осталась.
Школьные секреты
Перед выпускными экзаменами директорам всех школ доставлялись пакеты с темами сочинений по русскому и украинскому языкам. Такие же конверты поступали и накануне экзаменов по математике. Они были очень секретными. Распечатывать их следовало непосредственно утром, в классе пред нарядными школьниками.
Все тайны еще вечером, вероятно, даже ранее чиновников из гороно, узнавал Дюк. Каким образом это удавалось памятнику, никто не знает до сих пор, но факт остается фактом. Придя вечером к Дюку, можно было узнать содержание всех билетов и темы сочинений. Ришелье охотно делился информацией с выпускниками школ, а те в благодарность залазили ему на плечи.
Наша компания накануне экзамена по математике тоже пришла к Дюку. Был вечер, тот час, когда школьники уже пребывали в экстазе, залезая на монумент и что-то крича сверху.
Сзади к памятнику подошел старшина милиции. Он пьян не был, но, выражаясь словами поэта, «водкою парил». В те давние времена многое было возможно и не порицалось. Молодой милиционер приблизился не затем, чтобы кого-то наказать или задержать — он хотел приобщиться к веселью. Его вроде бы даже приняли за своего. Компания стала «качать» представителя власти, подбрасывая на руках все выше.
Когда ноги старшины достигли уровня бронзовой головы Дюка, школьники чего-то испугались и разбежались в разные стороны. Милиционер, весело крича, летел спиной вниз, энергично размахивая руками и ногами, но по причине воздействия гравитации длилось это недолго. Вероятно, он получил травму при исполнении служебных обязанностей. Кто-то из школяров сочувственно произнес: «Не падай духом — падай носом!»
В это время подошли наши знакомые ребята и передали нам варианты выпускных экзаменов. Интерес к «милицейским будням» сразу иссяк. Мы добросовестно обошли всех друзей, делясь ценной информацией. Не получили пятерок только те, кто совсем не пытался хоть что-то запомнить.
Для меня выпускные экзамены не значили ничего. В аттестате, как у круглого отличника, не было ни одной четверки. Одни тройки.
Моя милиция…
Я впервые увидел работу милиции с близкого расстояния, когда мне исполнилось шестнадцать лет. Пришел в РОВД Сталинского[10] района. Справа от входа, возле окна, стояла молодая женщина в форме лейтенанта и разговаривала со старшиной.
— Скажите, к кому можно обратиться для получения паспорта? — спросил я, и обернулся на какой-то шорох.
Слева возле стенки вытянулся худощавый парень моих лет, видимо задержанный. Рядом с ним стоял коренастый пожилой мужчина в форме полковника. Внезапно он нанес резкий удар в подбородок задержанному, у которого от этого голова откинулась назад, зрачки закатились куда-то под лоб, а в глазницах оказались белки. Такие глаза бывают только у мраморных скульптур.
Женщина-офицер и старшина смотрели при этом на меня так, как будто ничего не происходило. Впрочем, некоторый интерес к происходящему лейтенант проявляла, видимо, перенимала опыт старшего товарища. «Вряд ли она сможет когда-нибудь так ударить», — подумал я и дал задний ход. Уже никто никуда не идет, и ничего не хочет знать…
О том, что в милиции бьют, я слышал, но почему бьет полковник, когда под рукой есть «унтер Пришибеев»? Возможно, это был какой-то садист-любитель, и ему была нужна такая работа, независимо от числа звезд на погонах?
В новой школе
Вскоре после смерти Сталина отменили раздельное обучение мальчиков и девочек. Большую часть нашего класса перевели в школу № 72 на Жуковского 39. В новообразованном классе оказалось не более десятка детей одесской бедноты, остальные были выходцами из семей среднего достатка и даже элитарных сословий.
В материальном отношении разделение было внушительным. За одной партой могли сидеть дети полунищих мам и «жирных котов». Одних обслуживали домработницы, другие сами как могли помогали своим матерям. На отношения между школьниками это никак не влияло. Имели значение только личные качества. Перед богатыми никто не лебезил.
Я пребывал в гордом одиночестве на своей «Камчатке» возле окна. Возможно, родители некоторых одноклассников опасались моего влияния на их чада. Кто знает, чего можно ожидать от этого Маляра. Меня это мало волновало: «Что нам, малярам? Деньги покрасили, а крышу в карман…»
Как-то мы встретились с Толей Подлессным, увлекавшимся математикой, в районе Кировского сквера. Мы как раз проходили теорему Пифагора. Он предложил мне идти по катетам, а сам направился по более короткой гипотенузе, наискосок. Опыт удался: я встретил приятелей и явился в школу только черед два дня.
Преподаватели были для нас все новыми, кроме физика Арона Евсеевича и директора школы Ивана Филипповича. Учителя оказались людьми редкими — чтобы судить о том достаточно знать, что все выпускники наших двух классов свободно поступили в те институты, в которых хотели учиться и никакая «пятая графа» никому не помешала. Правда, многие на всякий случай «сделались» русскими и украинцами.
Учительница математики Татьяна Осиповна задавала нам решать конкурсные примеры для поступления в МГУ, химичка Белла Евсеевна тоже требовала разбираться в предмете на институтском уровне. Я не был очень уж прилежным учеником, но моих знаний хватило, чтобы легко поступить в техникум связи, а потом и в институт им. Попова.
Арон Евсеевич называл меня «лодар». Перед тем, как вызвать к доске, он делал мхатовскую паузу и говорил:
— А сейчас пойдет отвечать… Кто би ви думали? — лодар счас пойдет отвечать!
— Арон Евсеевич, а почему вы так однообразно шутите и меня называете лодырем? — я привычно поднимался и шел к доске.
— А почему ты учишь физику только на тройку? — вопросом на вопрос отвечал учитель.
— А потому, что если вы поставите мне больше, над вами будет смеяться весь педсовет! Вы полистайте журнал.
— А зачем мне листать? Я что, и так знаю?
Затем он задавал какой-то вопрос. Я на него кое-как отвечал и получал свои три балла.
* * *
Ежегодные снижения цен прекратились. О них долго вспоминали, хотя эти акции только увеличивали разницу покупательной способности между высшими слоями общества и неимущими. На свою зарплату профессоры, партийные чиновники и полковники могли купить еще больше, а работягам большой пользы эти удешевления не приносили.
Экономический прогресс достигался преимущественно за счет дармовой рабочей силы, трудящейся в колхозах за 20 копеек в день[11] и на ударных стройках, где не платили больше и скверно, впроголодь, кормили.
Крестьянам отменили налог на фруктовые деревья, но их уже успели спилить в огромных количествах.
В Пассаже появились в свободной продаже холодильники. Они стоили недорого, 300 рублей, но их мало кто покупал — люди привыкли обходиться без них. Продуктов одесситы много не запасали, было не на что, а то, что наши мамы могли себе позволить, не залеживалось и не успевало испортиться.
Начали продавать телевизоры «КВН» и «Север», по 400 рублей. Их позволяли себе в основном начальники. Если они оказывались приличными людьми, то звали к себе в гости соседей, чтобы те тоже посмотрели передачи.
На Преображенской[12] между Троицкой и Успенской[13] в магазине «Спорттовары» из витрины нахально глядел на прохожих сверкающей мордой с хромированной ехидной ухмылкой лимузин ЗИМ. Он стоил 40 тысяч. Его никто не покупал. Такое приобретение, даже если на него находились деньги, сулил бесплатную поездку на Колыму, и надолго. В целом же создавалось впечатление, что жизнь налаживается и становится веселее. Это настроение охватывало даже тех, на ком улучшения не сказывались.
В нашем классе оставался невеселым только Марик Нахбо, живший рядом со школой, на проспекте Сталина[14] в пятом номере. Отец его погиб на фронте, а мама не сумела приспособиться к новым условиям. Марик учился старательно, носил комсомольский значок, поэтому его отъезд «на историческую родину» (так кто-то сказал) стал полной неожиданностью. Он, вероятно, был одним из первых одесситов, убегавших от нашей нищеты в неизвестность, где молодым людям приходилось много работать, отбиваясь одновременно от арабов.
Центр города тогда был наполовину заселен евреями. Все мы жили одной семьей, почти никогда не конфликтовали, а если и случались свары, то не на национальной почве. За слово «жид» обидчик мог получить по зубам не только от еврея, но и от каждого, кто такое слышал — просто чтобы не считал себя лучше других по столь малозначительному поводу.
И все же национальный вопрос потихоньку тлел. Я как-то разговорился с соучеником, родители которого оформляли документы для воссоединения семьи «по линии троюродного дяди двоюродной тети». Отец его был неплохо пристроен: он работал тачечником в мясном корпусе Привоза. Парень был озадачен.
— Мой папа переживает, кем он будет там. В израиловке же некого дурить. Там же все — евреи!
— Может быть, и там кому-то надо тачки катать, — пытался утешить его я.
— Да, но, во-первых, он на Привозе — лучший тачечник! А во-вторых, что, ради этого нужно куда-то ехать? — парировал мой товарищ.
Дома, видимо, прорабатывались все возможные варианты.
— Мне недавно предлагали через папу работу ученика рубщика в мясном корпусе, — мечтательно вскинув глаза, продолжал взвешивать все «про» и «контра» мой собеседник.
— Кстати о птичках: я слышал, что одного нашего опытного рубщика в Тель-Авиве недавно уволили за то, что он продал сто двадцать килограммов говядины, когда в наличии по накладной было сто, — вспомнил я разговор соседей по коммуне.
— Во-во! Век живи — век учись…
— Чему?
— Здесь воровать, а там — жить честно, — недовольно ответил приятель.
Его лицо выражало сомнение в моей способности понять эти проблемы. И в самом деле, зачем мне было в них вникать?
* * *
Несколько лет я занимался велоспортом на стадионе «Спартак». Условия там были очень хорошими: летом трек, зимой — тренажеры. При хорошей погоде команда с тренером выезжала на велосипедах «Турист» по дороге к Даче Ковалевского или за город.
Тренировок я почти не пропускал, а каждый вынужденный прогул приводил к болезненному ощущению в мышцах, привыкших к регулярной нагрузке. Иногда нас пробовали на трековых велосипедах.
Белла Наумовна, учительница химии, ставя очередную тройку, приговаривала: «Иди, иди, покрути еще педали».
После того, как я стал показывать хорошее время, мне предоставили «Турист» в личное пользование, а фактически подарили. Я хранил велосипед дома в «фонаре» — остекленном осветительном колодце от крыши до первого этажа.
Какое-то время деревянное перекрытие выдерживало нагрузку, но однажды, когда я встал на него, чтобы снять свой велосипед, конструкция «поехала» — стала медленно сползать вместе со мной. Распластавшись, я уперся ногами и руками в брусья. Внизу, на первом этаже дворничиха хранила старые самовары, примусы, корыта и прочий хлам. Встреча с этими предметами при падении не сулила большой радости. В голове замелькали фрагменты недолгой жизни.
Случайно в ванной комнате (она не работала) оказался сосед, Василий Никифорович. Он увидел меня, крикнул, чтобы я держался. От меня уже мало что зависело. Сосед практически на лету схватил меня за шиворот и вытащил в коридор вместе с велосипедом — я его так и не отпустил.
В проеме фонаря появились головы жильцов второго этажа, проявлявших любопытство по поводу возникшего грохота. Минут пять я был спокоен, затем все тело начало трястись. Это был второй раз, когда дело для меня могло окончиться скверно. Через пару минут «мандраж» прошел.
В 1956 году мама сошлась с моим спасителем дядей Васей. Василий Никифорович был одиноким ветераном войны и хорошим бондарем — специальность потомственная. Они вместе с компаньоном Мишей Вулихом часто привлекали меня в качестве помощника во время выездов в винсовхозы и платили по сто рублей за рабочий день — я мог получить свой заработок, когда хотел. Это были вполне приличные деньги в те времена.
Был у них конкурент — сам он бондарным делом не владел, но умел договариваться с председателями лучше Миши и Василия Никифоровича. Жил этот гешефтмахер в сыром полуподвале на Молдаванке. Во время оккупации он где-то покупал никотин в ампулах и пропитывал этим веществом измельченную папиросную бумагу. На «эрзац-табаке» ему удалось сколотить целое состояние, а потом приумножить его после войны. В принципе ему, человеку одинокому, этих денег хватило бы на весь остаток жизни, но остановиться азартный делец уже не мог. Он переманивал специалистов, в том числе родного сына дяди Васи, Сережу, высокими заработками. О его манере вести дела красноречиво говорит один случай.
После выполнения заказа в одном из колхозов коммерсант рассчитался с Сергеем толстой пачкой сторублевок в банковской упаковке. Бондарь собрал всю свою молдаванскую шоблу и повел ее в «Красный» отмечать заработок. Пришло время рассчитываться, Сережа достал с фасоном свой «пресс» и начал отсчитывать нужную сумму. Банкноты вдруг стали рассыпаться на кусочки прямо у него в руках: от долгого хранения в сырости они перепрели. Сергей поймал такси, и, оставив друзей в ресторане, помчался «заведенный» на Молдаванку к работодателю.
— Чем вы со мной рассчитались? — без обиняков бондарь предъявил негодные банкноты.
— Тебе не нравятся мои деньги? — конкурент отчима вырвал пачку у парня из рук, бросил ее на пол и растоптал ногами. — Ты пришел учить меня жить? — прыгал он на деньгах, превращая их в труху.
— Пей мою кровь, сопляк!
Вскоре он успокоился, вернулся в комнату и вынес Сергею новенькую пачку сторублевок.
— На, подавись. Ты же мог поменять деньги в банке — их бы приняли без разговоров. Видишь, что ты наделал?
Летчик высоко летает
Как-то я случайно встретил ребят, знакомых по Дерибасовской, и был приглашен провести время «на свободной хате». Дело было вечером, делать было нечего…
В квартире кроме парня, хозяина, были и симпатичные девушки нашего возраста, лет по шестнадцать-семнадцать. Врубили магнитофон с модными тогда записями. На столе появилось сухое вино, стаканы. Пошутили-пошумели, как водится. Девчонки оказались начитанными, смышлеными и явно не из бедных семей.
Начались танцы. Девушка, приглашенная мною, рассказала, что ее папа работает в военкомате, и если я захочу, то он устроит мне службу в Германии, Чехословакии или Польше. Она выросла в семье военного и считала, очевидно, свое предложение крайне заманчивым. Я тогда психологией не увлекался, а потому сразу же сказал, что думаю по этому поводу:
— Мне бы не хотелось вовсе служить в армии.
Этот ответ был для девушки неожиданным. В ее глазах я стал стилягой, возможно начинающим, но уже безнадежным. Дочка военкоматского офицера собрала всех своих подруг, и они демонстративно покинули гостеприимную квартиру. На этом вечеринка окончилась.
Я сделал выводы и впредь избегал категоричных высказываний по разным «скользким» вопросам в малознакомых компаниях. Пацаны, пригласившие меня тогда, не обиделись. Возможно, у них было свое мнение по поводу той подруги, и оно мало отличалось от моего. Мы потом много раз перехлестывались, могли посидеть где-нибудь и даже выпить, но на всяких случай с собой на квартиры они меня не брали — кто знает, что я еще выдам?
Наши одноклассницы были очень симпатичными. Даже бедность не притупляла их природной красоты. Но нам они казались слишком привычными, и мы этого не понимали.
Ребята из полных семей знали, куда они будут поступать после школы и почему. Безотцовщина над такими вопросами не задумывалась, а подсказать было некому. Мы еще не доросли до серьезных отношений, но свою нищету понимали очень хорошо.
Основная цель для большинства состояла в том, чтобы больше не голодать — очень уж надоело. Вариант «сесть на шею родителям» даже не рассматривался. Мы были просто молодыми и веселыми, а причин для этого не требуется. Возможно поэтому мы и нравились одноклассницам.
Я симпатизировал одной из них — Жанне Зимовской, но она казалась совершенно неземным недоступным созданием. Зато другая девочка, тоже очень красивая, Лера, пригласила меня помочь в изучении математики и физики. В школе я не был даже хорошистом, но по этим предметам успевал неплохо.
Как-то мы делали уроки у Леры дома, и она предложила прогуляться по городу. Ее мама «держала» в квартире частный косметический кабинет и зарабатывала, видимо, по тем временам неплохо. Когда дочка собралась и уже выходила из двери, мать взорвалась:
— Не вздумайте жениться! — подскочила она к нам.
Таких намерений у меня не было, но я понял, что мама Леры имеет в виду. Ей не хотелось иметь зятя-бедолагу, а я тогда выглядел именно таким.
Мы поехали на трамвае в Аркадию, сделав вид, что ничего не слышали. День был солнечным, нам было весело. Когда вечером я провел Леру до дома, она неожиданно сказала: «Спасибо!» Меня это озадачило. За что? Я гулял с ней по своей воле. Вспомнилось строгое материнское напутствие и мне расхотелось появляться в этом доме. И в самом деле — не ровня…
Сидя на уроках, я продолжал рисовать карикатуры на учителей и отвечающих. Шаржи шли по партам, школьники веселились, находя сходство. Иногда «произведения» попадали в руки учителей — почти все они тоже смеялись, реже проявляли неудовольствие. Позже, узнав, что я решил учиться электронике и электротехнике, многие удивлялись — они считали меня будущим художником.
Я не знал, кем хочу быть. В известной песенке о достоинствах разных профессий «Мама, я повара люблю» были куплеты о летчиках, механиках и даже энергетиках, которые получают много денег, высоко летают и проявляют «энергию огромну», а о связистах — ни слова (хотя, наверное, зря).
То, что учиться нужно, я ощутил благодаря маме. Она устроила меня в сезон, ранней осенью, на консервный завод подсобным рабочим. Мои обязанности состояли в перемешивании лопатой жарящихся ингредиентов. Им предстояло стать консервированными перцами. На улице 35 градусов, а сколько в цеху, никто даже не мерял.
Предложили работу на воздухе — подавать стеклотару на конвейер. Я выдержал месяц, и понял, как зарабатывают свой хлеб люди, не имеющие специальности. Труд бондаря при дяде Васе меня тоже не вдохновлял, хотя и был денежным. В общем, не хочешь мурыжить — иди учись — сказали родители. Они были правы.
Техникум связи
В сентябре 1956 года собрали нашу группу РС-31 в помещении техникума связи. Из 26 студентов местных было шесть. Все одесситы обладали хорошими начальными знаниями и потом хорошо учились. Когда говорили о дискриминации при зачислении учащихся, мне не верилось.
К занятиям мы сразу не приступили — сначала поехали помогать собирать урожай в село Гыдырымовку, недалеко от Затишья. Там нас разместили по крестьянским избам, где на земляном полу постелили солому и чем-то накрыли. Столовая находилась в большой избе. Хозяйка получала на нас продукты и варила еду. Ей помогали две девушки-студентки, изъявившие желание куховарить. Хозяйка выпекала в деревенской печи красивый хлеб и там же в казанке варила борщ. Колхоз пробовал на нас экономить, и выделял продуктов столько, что у нас не было, чем удобрять поля.
Веселая компания одесситов сгруппировалась быстро. С первого же трудового дня, наметанным глазом мы усмотрели место расположения птицефабрики. Вечером наведались. Высококлассными специалистами показали себя одесситы при отлове цыплят. За селом разожгли костер, похожий на пионерский, но с треногой. Не помню, откуда взялась глина, но обмазанные ею птицы жарились красиво и быстро.
К хатам, в которых нам предстояло ночевать, шли с песнями, облизываясь почти до ушей, потому как «цыплят по осени считают»… Хозяева хат надоумили нас привозить с тока новые мешки, за каждый наливали трехлитровый бутылёк хорошего вина. Студенты, отслужившие в армии, деревенские ребята и девушки питались хуже нас, поэтому производительность их труда была невысокой.
На очередной планерке председатель колхоза «разнес» нашего руководителя, но вынужден был признать малокалорийным питание студентов. В нашу столовую начали поступать продукты: мясо, молоко, сливки, и в таком количестве, что всего стало хватать. На птицеферму наведываться мы перестали — для цыплят не оставалось места в животе. Деревенским ребятам стало некуда девать энергию, и они делали привычную работу с удовольствием. Председатель стал похваливать на планерках нашего руководителя, а он — нас.
За месяц до празднования 39-й годовщины Октября, во время обеда, пришел председатель колхоза и спросил студентов: кто может написать десять плакатов к празднику 7 ноября. Я видел, как мой друг Толик Тит писал такие транспаранты, и, когда желающих не оказалось, предложил свои скромные услуги.
Мне выделили большую комнату в сельском клубе. Там же находилось все необходимое для работы художника, каковым я теперь оказался. Разложил длинное полотно красной материи, и стал размечать длинные и короткие слова лозунгов, так, чтобы все слова равномерно разместилось. Оказалось — нелегкая это работа… шрифты я знал, а всякие загогулины, какие делали в артели «Трудпобут», пришлось осваивать на ходу. Первый плакат получился ненамного лучше, чем у О. Бендера. Секретарь партбюро колхоза не очень вникал в художественную ценность моей работы, а к идеологической направленности «произведения» у него претензий не было.
Хозяйка столовой, видимо, получила указания высокого начальства питать меня лучшими кусками мяса и не ограничивать при выборе пищи. Когда ухватом из горящей украинской печи вынимался глечик с борщом, в котором плавали большие куски свинины, все наблюдали, как для нас с преподавателем хозяйка отрезает лучшее мясо. Потом делили остальным. Я снисходительно наблюдал за процессом, как большой художник. Выделял «с барского стола» Толику Кузнецову, с которым мы стали неразлучными друзьями до окончания техникума.
При таком ко мне отношении пришлось напрячь свою память, чтобы правильно распределить слова второго лозунга, выделить заглавными буквами главное, и написать «Да здравствует…». Партийный бонза был в восторге, а я почувствовал себя большим колхозным мастером соцреализма. Мне отмечали 1,2 трудодня за каждый день моей творческой работы, всем остальным — 0,5 или 0,6. На меня следовало ровняться! А я не спешил.
После 7 ноября моя работа стала ненужной, и меня уравняли в правах с остальными. Зато при расчете с колхозом я был единственным, кто получил зарплату. Остальные студенты остались должны колхозу, но им простили.
Группа вернулась в Одессу и приступила к занятиям. На первом комсомольском собрании, с которого я хотел по школьной привычке уйти, оказалось, что единственный не комсомолец в группе — это я. А еще «колхозный художник», ударник…
Преподавательница высшей математики, закрепленная за нашей группой, провела комсомольское собрание, на котором охарактеризовала меня так, что я впервые в жизни чуть не заплакал, слушая о себе: «Ну такой хороший парень…». Попробовал поскромничать, дескать, не достоин, я еще покажу себя… Мою скромность отметили дополнительно. Пришлось писать заявление о приеме в члены ВЛКСМ.
Преподавали спецпредметы высокообразованные одесситы, прошедшие войну и имеющие немалый жизненный опыт. Тютчев Александр Петрович — гроза студентов техникума — преподавал электротехнику на уровне институтской программы. Иногда он учил нас и жизненным премудростям:
— Вы скоро будете специалистами, для которых не станет проблемой ремонт любой аппаратуры. Никогда не чините ничего даром, иначе превратитесь в холуев, и к вам будет соответствующее отношение. Мастеровые люди обычно пьющие, потому что знают, — завтра они опять заработают «левые деньги». Поэтому к своим знаниям и к деньгам следует относиться уважительно, чтоб не стать «ханурями».
Сам Александр Петрович никогда не пил, всегда был опрятно одет и чисто выбрит. Во время войны он был награжден многими орденами и медалями, которые никогда не надевал. Когда его спрашивали, какую награду он бы носил, то отвечал, смеясь: «Только звезду Героя…»
У «проводников» математику преподавал Самуил Аронович, старенький еврей, который дополнительно проводил занятия в фотокружке, и заставлял туда записываться молоденьких студенток. Глаз у него был наметан, и он знал, кого следует обучать фотоделу… В клубе связи часто проводились вечеринки для студентов техникума, и как-то одна из студенток под веселое настроение пожаловалась нам:
— Он мне два семестра ставил тройки на экзамене, пока я не стала прилежной ученицей фотокружка. Он не мог раньше сказать, что ему нужно?
Студентка, получившая после фотоуслуг по математике «отлично», быстро посчитала свои материальные потери из-за отсутствия стипендии в течение года.
В нашей группе училось много ребят, отслуживших в армии. Это были дети колхозников, которым родители помочь не могли, и их рацион был сравним с голодухой, закончившейся в 1947 году. Иногда я заходил перед занятиями в общагу, и видел их завтрак, состоящий из воды, разогреваемой в стеклянной банке самодельным кипятильником, и куска черного хлеба. После армии, а тем более после работы в колхозе, они выглядели крепышами с красными лицами. Через семестр их снова было не узнать, это были бледно-желтые тени, которые стремились стать специалистами. Учиться им было трудно, знаний не хватало, но они старались.
Самым благополучным в материальном отношении был Валентин Бизер, приехавший учиться из Симферополя. Этот высокий блондин выделялся в своих стильных ботинках «на манной каше»[15]. Длинный пиджак в клеточку подчеркивал его статную фигуру, а узкие светлые брюки сводили с ума молодых женщин, замужних и холостых. Учиться Вале было некогда, и пить спиртное тоже… Он быстро худел, но студентки на это не обращали внимания, толпились возле него табунами. Иногда появлялись мужья и силой вытягивали из толпы свих жен. Пробовали скандалить, на что Валентин спокойно отвечал:
— Забирай свою жену. Я что, ее держу?
Он действительно никого не держал, но отгонять от себя женщин не имел моральных сил. Слабохарактерный… Каждый человек имеет какой-то талант — у Валентина был такой… Математика ему не давалась, возможно, что до того и арифметика, из-за чего он не мог сосчитать всех холостых и замужних женщин, которые не давали ему спать ни днем, ни ночью.
После первого семестра Бизера отчислили, но он по-прежнему приходил в садик Александровского проспекта, садился на скамейку напротив входа, пребывая всегда в хорошем настроении. Времяпровождение его было привычным и приятным. Освободившиеся от занятий студентки «водили хоровод» вокруг Вали, затем он в их сопровождении уходил в сторону Дерибасовской.
Иногда на соседних скамейках усаживались как воробьи на ветках мужья неверных жен. Тогда молодухам приходилось пробираться к Жуковской — туда вел черный ход техникума, почти к дворцу им. Леси Украинки,[16] которых теперь возможно, назвали бы черноморскими). Там догоняли компанию только те из них, кого ожидали «на жердочках воробышки».
Когда выдавали стипендию, мы с Толей Кузнецовым степенно шли на Тираспольскую площадь, где возле конечной остановки трамвая № 15 располагалась солидная забегаловка, в которой за 5 рублей автомат опускал на полочке сто грамм водки с бутербродом. Принимали здесь свою порцию солидного вида одесситы, игнорирующие винные подвалы. Здесь они важно крякали, и гордо выходили на площадь, виляя задами, как гуси.
К занятиям я относился серьезно, к тому же лекции были очень интересными. Разрешал себе расслабиться только на политэкономии, «науке наук». Иногда, по школьной привычке, шутил, и, как считала преподавательница, неудачно:
— Над кем смеешься? Над собой смеешься! На экзамене больше тройки не получишь!
Вскоре наступи час расплаты. Взял билет. Прочитал первый вопрос. Ну что ж, кое-что могу сказать, впрочем, немного. Ответ на второй вопрос об эксплуатации рабочих при капитализме решил пространно увязывать с недавно прочитанной книжкой «Генри Форд». Книга была запрещенной, и к тому же редкой. А на третий вопрос знаю только, как начать…
Вспомнил, как один из студентов нашей группы стоял первым, лицом к дверям, и бормотал про себя: «Политэкономию и коняка сдасть…» Он не заметил, как подошла преподавательница и внимательно выслушала его речь. Пришлось ему нести свою ношу вместо коняки три раза… Сбросив назойливую мысль, я пошел отвечать без обдумывания — больше все равно знать не дано.
Начал бодро, с пафосом…
— Переходите ко второму вопросу.
Тут мена «понесло». Стал пересказывать книгу с главы «Расцвет фордовского производства», перешел к «Стандартизации», уделил много времени вопросам поддержания чистоты, постоянной покраске серебристых заводских труб, говорил о скошенных полах в туалетах, где дверцы закрывают только нижнюю часть сидящего рабочего… Преподавательница не ожидала от меня таких глубоких знаний о капиталистической эксплуатации, и слушала внимательно.
— Переходите к следующему вопросу.
Начал я так, как будто меня сейчас опять «понесет». Этого оказалось достаточно. Получил пять баллов.
Нам нравилось работать в лабораториях, в которых нас обучали основам сборки и ремонта радиоаппаратуры знающие свое дело преподаватели и лаборанты. На одном из таких занятий вошла женщина, и попросила преподавателя отремонтировать радиолу «Урал». Он обратился ко мне, и предложил «халтуру». Впервые я заработал деньги на ремонте аппаратуры, на них я купил много мясокомбинатовских пирожков по 40 копеек и несколько бутылок пива. Гордо вошел в лабораторию, «накрыл стол». На что преподаватель сказал:
— Это — только твои деньги, и покупать ничего не следовало.
Желающие поесть и попить нашлись, а я понял, что можно зарабатывать не только учеником бондаря у отчима, бравшего меня в винсовхозы по воскресеньям…
Дядя Вася работал в селе Малая Долина вместе со своим компаньоном Михаилом Вулихом, умевшим договариваться с председателями колхозов к «обоюдному удовольствию». Поздней осенью при расчете они получали кроме оговоренной суммы по трехсотлитровой бочке хорошего вина, которого хватало до следующей осени. Мама любила и умела накрывать праздничные столы. На дни рожденья всегда приглашались их друзья, в том числе тетя Маня Талалаевская со своим вторым мужем, дядей Семой, продававшим газированную воду на Средней угол Косвенной. Дядя Сема всегда приходил в хорошем настроении, тетя Маня поддерживала его тонус:
— Мой Сема такой стахановец, что всегда перевыполняет план!
— И стакановец! — добавлял дядя Сема. — У меня всегда стоит стакан водки и дома, и на работе.
Его розовое улыбчивое лицо поднимало настроение присутствующим.
— Толик, ты же видел, какая у меня красивая будка с газводой на Молдаванке, — обращался дядя Сема ко мне, — если бы ее перенести на Дерибасовскую, поставить возле ювелирного магазина…
— А к обкому ты не хочешь? — шутила тетя Маня.
— Зачем ты портишь мне настроение, — обком, шмобком… Возле них заработаешь! Они еще будут мерить, сколько я им недолил воды на десять копеек!
И дядя Сема кривил лицо, как будто ему подсунули что-то вонючее.
Дядя Вася разливал вино и поднимал настроение песней:
Ой, казала баба дiду, Я в Америку поїду, Ой, ти, баба, не звизди, Туди не ходють поїзди!И все пили за здоровье.
Потом поднимал рюмку дядя Сема:
— Вы видели на море, какие железные корабли держит вода? Так выпьем за то, чтобы вода долго держала нас с Маней! Ничего, что она газированная…
До войны дядя Сема учился на рабфаке и иногда вспоминал, как изучал географию. Спросил как-то учитель, сколько частей света они знают. Все ответили — пять. Тогда он вызвал Сему, который тогда приехал из Балты, и попросил их назвать.
— Голта, Балта, Белая Церковь и Америка! А еще — Одесса…
Дядя Сема горько смеялся — это было до войны. Какие теперь части света? Кто их назовет?
Тетя Маня любила поучать за столом молодежь:
— Люби жену, как душу, и труси, как грушу…
От Семы она не добивалась, чтобы он ее трусил. Иногда шутила менее оптимистично:
— Конечно, мы все умрем, но пускай не раньше их, — кивала она головой на вторых мужей…
К середине шестидесятых они вторично овдовели, и стало им совсем невесело, хотя в материальном отношении они не были бедными, по тем временам, конечно. Тетя Маня, как и моя мама, постепенно и грустно умирала, как умирают смертельно раненные, прожившие труднейшую жизнь, одинокие женщины…
У напарника дяди Васи жизнь складывалась сложнее из-за того, что ему казалось, будто он — самый умный бондарь в Одессе. Весной он перекупил большую партию дубовых бочек без документов, и втайне от дяди Васи повез их продавать в Большую Долину. Его арестовали, и пришлось ему год отсидеть.
Дядя Миша знал множество одесских анекдотов и песен. «Воры в законе» приняли его в свою компанию, и в течение года дядя Миша не похудел. При освобождении ему доверили «общак». Домой он вернулся веселее, чем возвращались китобои: купил на десятой станции Большого фонтана дом с большим участком и гаражом вместе с новенькой «Волгой». Пригласил в гости дядю Васю с мамой и меня — показать, как живут приблатованные, отсидевшие в тюрьме. Стол был накрыт словно на свадьбу. Дядя Миша восседал, как турецкоподданный, а его жена не чувствовала ног под собою — порхала.
Вулих почему-то не учел, что деньги не совсем его, и хозяева найдутся… Через год они появились. Срочно нужно было вернуть «общак», от которого почти ничего не осталось. Михаил начал лихорадочно перепродавать бочки, естественно без накладных, даже липовых, в надежде, что его арестуют, и упрячут от надоедливых блатных… Арестовали. Имущество конфисковали и дали приличный срок, который отсидеть Вулиху было не суждено. Подвела любимая поговорка: «А что мне стоит пообещать?»
Тюремный телеграф продемонстрировал безотказную работу. «Воры в законе» Михаила Вулиха скоро нашли и повесили в камере.
* * *
Василий Никифорович был влюблен в свою «Победу», которую он называл Тамарой. На ночь автомобиль ставил напротив двора и почти каждый вечер после ужина шел ее охранять — спать в салоне.
Однажды проснувшись утром дядя Вася обнаружил, что Тамара твердо стоит на кирпичах, а колес нет. Так рано с дежурства он никогда не приходил. Он разбудил всех. Отметив горе парой стаканов вина, незадачливый охранник развеселился: «Хорошо, что меня самого не украли!»
Двор дома № 84 по Ришельевской находился между Привозной и Пантелеймоновской. Он был центром подпольного бизнеса самых передовых в мире барыг, ворюг и хапуг: тогда в нашей стране всё было самым передовым. Перекупщики краденого имели такой вид, что даже рабоче-крестьянская милиция не спешила их трогать руками. От этой безнаказанности криминалитет настолько распоясался, что валялся в собственных испражнениях вокруг нашего дома. Иногда кто-то из спящих ханыг просыпался и чудесным образом опять становился пьяным.
Возле рыбных рядов толпились продавцы скумбрии. Приезжие, слышавшие, что вкусней ее ничего не бывает, торговались.
— Сколько стоит эта рыба?
— Восемь рублей.
— А почему так дорого?
— Так в ней очень много фосфора, а он нужен для мозгов. Будете умнеть…
Подходит другой приезжий:
— А почему такая же рыба стоит в магазине два рубля? Я у вас купил по восемь!
— Вот видите? Только один раз покушали, а уже начало действовать!
С Привоза доносились крики «Ой, рятуйте! Вкралы гроши!»
Возле пострадавших колхозниц собираются зеваки.
— Так нужно было держать деньги за пазухой, — назидательно советует кто-то из толпы.
— А я де трымала? Воны ж трохы цицку не видирвалы!
Иногда подобные крики раздавались сразу с нескольких сторон Привоза и зеваки не знали, куда бежать, опасаясь, что после посещения базара так и не смогут рассказать ничего хорошего.
Со стороны Ришельевской, не доходя немного до Пантелеймоновской, был глубочайший винный подвал. Там гуляла исключительно привозная привилегированная босота. Входные двери всегда были распахнуты и снизу веяло угаром как из неисправной парной. При этом вонючих ханурей туда не пускали. Там проводила время воровская элита, отмечая удачную кражу или перепродажу.
«Аристократия» вела себя с достоинством, оттопыривая мизинец руки, державшей стакан так, что возникала опасность повреждения левого глаза при последнем глотке.
Несмотря на предпринятые усилия, колес от Тамары мы так и не нашли. Никто из знакомых дяде Васе барыг не захотел или не смог помочь в этих поисках.
— Пошли домой! — сказал отчим. — Вина у нас достаточно…
* * *
Второй год обучения в техникуме начался бурно. Не помню, в честь каких событий веселился город, но мы с Толей Кузнецовым отметили «большой праздник». Друга потянуло на танцы, которые должны были состояться в общежитии какого-то завода, где комендантом работала его дальняя родственница.
Родственница встретила нас хорошо, приготовила закуску, и нам совсем «захорошело». Женщина нам объяснила, что к ней скоро придет участковый, с ним у нее прекрасные отношения, а нам лучше пойти в большой зал, где скоро будут танцы.
Мы с Толиком вошли в зал, уселись на скамейку и стали ждать, когда организуют вечер проживавшие там работяги. Настроение было хорошее, мы о чем-то весело беседовали. Подошел парень кавказской внешности, подпитый не менее нас, но в невеселом настроении.
— Что расселись? Идите, несите магнитофон!
Мы не ожидали такого тона, и объяснили, что пришли сюда не для того, чтобы что-то носить, и не следует нас путать с грузчиками. Он развернулся, и пришел через несколько минут в сопровождении трех деревенских ребят. Компания начала нас оттеснять в угол зала, где стоял табурет. Выбора не было — нам пришлось встать спинами друг к другу и ожидать нападения. Долго ждать не пришлось. Мы отбивались, как могли.
События разворачивались для нас неплохо, но небольшого роста деревенский парень схватил тазик, заскочил на табуретку, и сверху ударил его ребром Толика по голове. Попал удачно — кожа на голове лопнула, сильно потекла кровь. В это время пришел участковый. Он знал армянина, маленького деревенского парня, видимо, и остальных, но те бросились наутек.
Вызвали «скорую» и милицию. Составили протокол, зашили Толику рану. В общем, мы оказались пострадавшей стороной, и разъехались по домам. Рана скоро зажила, и мы забыли о досадном происшествии, но тут пришли повестки в суд. С ними мы явились в деканат, чтобы нас освободили от занятий в назначенный день.
Студентами мы были неплохими и от нас не потребовали никаких объяснений. Пришли в суд. Армянин оказался очень добродушным в трезвом виде, а второй парень — совершенно тихим. Кавказец стал нас уговаривать, чтобы мы не настаивали на показаниях, взятых у нас в день выборов. Мы не жаждали мести, и на суде сказали, что точно не помним, кто нас бил. И могло все сойти «на тормозах», но когда деревенского парня судья спросил:
— Как же Вы, такой маленький, ударили тазиком по голове такого высокого парня?
Он хвастливо ответил:
— Заскочыв на табурэт, та вдарыв!
И получил парень год тюрьмы по своей дурости.
* * *
После летней сессии в пострадавшую голову Толика пришла мысль — пойти в Сталинский райком комсомола и попросить направление на работу. Я мог работать у отчима, но захотелось разнообразия. Стипендию за все лето получили, командировочные и направление на сентябрь-октябрь в Кишинев для прохождения практики нам вручили, но мы решили еще поработать и отдохнуть одновременно.
Получили комсомольские путевки в пионерлагерь порта — вожатыми. Лагерь располагался на 16-й станции Б. Фонтана, и снабжался продуктами очень хорошо. Дети нас признали за старших товарищей, слушались беспрекословно, а мы не были с ними очень строгими. Было понятно, что если почти все запрещать, они будут самовольно убегать на море — за всеми не уследить. Ребята подходили к нам, и просили «по секрету» отпустить перед ужином покупаться. Мы назначали старших и время возвращения в лагерь. Никаких срывов не было.
Однажды подбежал ко мне один из самых «разбешатых» пионеров. Вытянул руку, изогнутую дугой, и попросил
— Анатолий Семенович, дерните, я вывихнул! Хорошо, что я понял, что таких вывихов не бывает. Мы пошли на 15-ю станцию, в больницу, ему наложили гипс, и с этим гипсом он напросился в горнисты. Парень стал очень дисциплинированным и гордым своим необычным положением. Забинтованная рука ему не мешала, и даже подчеркивала его значимость.
Отдыхающих детей мы обучали тогдашним пионерским песням, несколько строчек я запомнил. Песня повествовала о задержании шпиона с помощью бдительных школьников, заметивших, что:
Не по-русски сшиты японские штаны. А в глубине кармана — три пушки, два нагана И карта укрепления советской стороны.С младшей группой справлялись приехавшие из Франции Андрей и Люда, брат и сестра. Они родились за границей. Их отец, похоже, был нашим разведчиком, вынужденным вернуться. Проживали они в большой коммуналке над закусочной Бабы Ути.
Однажды они пригласили меня к себе. Отец лежал на диване с валиками, а ребята стали о чем-то рассуждать. Папа приложил палец к губам, и я понял, что следует опасаться подслушивания. Потом они получили трехкомнатную квартиру на улице Мечникова напротив общежития института связи. Андрей работал на телестудии. Он любил за обедом пить столовое вино вместо воды или компота, видимо, по французской привычке.
Получили мы расчет в пионерлагере, и с приличной по тем временам суммой поехали на практику в Кишинев. Оттуда нас отправили в село Костюжены, туда часто ходили автобусы. В селе размещался мощный 200-киловаттный СВ-передатчик, а по соседству — сумасшедший дом республиканского значения. Больные ходили по селу свободно, и были очень миролюбивыми. Один из них встретил нас, улыбаясь, и стал что-то рассказывать на беглом французском языке. Обнаружив, что его не понимают, перешел на немецкий, потом на английский. Мы с Толиком начали что-то понимать и отвечать. Больной очень обрадовался…
Поселили нас в длинный барак с несколькими застеленными кроватями, выдали электроплитку и чайник. В помещение, где находился передатчик, можно было заходить, когда вздумается, лишь бы не мешать работавшим там инженерам и техникам. Несколько раз нам показывали процесс включения и выключения аппаратуры, настройку, разъясняли, как соблюдать правила техники безопасности. Остальное время предоставлялось нам для отдыха.
Вокруг села росли кусты винограда и персиковые деревья. Их охранял старик-молдаванин с ружьем. Пошли набрать винограда — столовыми ножами отрезали крупные гронки, сложили их в большую корзину, и в это время вышел сторож. Поднял свое ружье и нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало. Мы к нему подошли из любопытства. Увидев у нас в руках ножи, молдаванин испугался, его ноги стали крупно дрожать. Он хотел закричать, но у него ничего не получилось, только штаны намочил.
Толик засмеялся, и мы спокойно пошли в свое общежитие. Вечером из Кишинева приехали два милиционера, которым сторож сообщил о нападении на него «одесских бандитов, вооруженных ножами». Нас повели на очную ставку к молдаванину, но он не узнал в таких симпатичных ребятах грозных грабителей.
Обедать нам посоветовали в рабочей столовой для строителей, недалеко от передатчика. Обед состоял из хорошего борща и каши с мясом. Виноград и хлеб лежал на столе, за них платить было не нужно. Весь обед стоил меньше четырех рублей. Подсела к нам молодая строительница-молдаванка, взяла столовой ложкой из большой тарелки, стоявшей посреди стола, красного молотого перца, и бросила его в борщ. Я подумал, что этот перец негорький, и сделал то же самое. Начал есть — показалось, что глаза выкатываются, аж защемило за ушами. Пришлось купить другую тарелку борща. Больше я молдавским вкусам не подражал.
Как-то к нам в открытую дверь забежала большая темная курица. Толька не выдержал, закрыл за гостьей дверь, отвернул ей голову, и мы ее быстро очистили от перьев без всякого кипятка. Распотрошили, разрезали на куски и позвали сына хозяев курицы, ему было лет шесть — семь. Заплатили пацану три рубля, он принес лук, морковку, буряк, капусту, картошку, и два часа варил нам в большой кастрюле борщ. Нужно отдать должное нашему великодушию, мы и его кормили этим борщом два дня.
Забрел к нам котенок, которого мы тоже накормили, и лег отдохнуть. От приятного тепла на сытый желудок Толе что-то приснилось, и в трусах его кое-то зашевелилось. Котенок подумал, что с ним играют. Перебрал задними ногами, задрал хвост и когтями схватил верхнюю часть зашевелившегося предмета. Толик спросонья схватил котенка, но только сильнее порвал свой предмет… ему и больно, и смешно…
Приехали после практики в Одессу. Решили отметить. Толик взял своего соседа, парня с молдаванки, веселого, но очень драчливого. В веселом настроении мы шли по Гапкин-штрассе к троллейбусной остановке на Преображенской. Возле горсада к нам пристали три курсанта высшей мореходки. У нас не было никакого настроения с ними заводиться. Встали на остановке, курсанты сзади нас, продолжая «цеплять». Рядом стоял мужчина, который сказал: «Что вы терпите? Их трое и вас трое!» Мы распределили курсантов между собой, и при очередном их высказывании, развернулись и бросились на них. Свалили с ног и били, пока не засвистели милицейские свистки. Убежали через Колодезный переулок, и пешком разошлись по домам, довольные собой.
Пятый курс был коротким. Один семестр занятий, потом преддипломная практика и защита диплома. К тому, что нужно было куда-то ехать, мы с Толиком относились спокойно.
Ребята, отслужившие в армии, при разговоре с нами говорили: вы живете в таком городе, и не цените этого! Кроме Одессы мы видели только Кишинев. Нам не показалось, что молдаванам плохо.
Преддипломная практика у меня была в Запорожье. В городском управлении связи я встретился со студентом соседней группы, не помню фамилии, но все его звали «Лёва с Могилева». Он был очень веселым, и как ни странно, вправду из Могилева. Наверное, кто-то из его родственников был рубщиком мяса — юмор Лёвы был типичен для работников ножа и топора. Начальник связи спросил меня:
— Кто Лева по национальности?
— Француз! — ответил я, не задумываясь.
— Настоящий?
— По выговору некоторых букв и слов — таки точно да!
Начальник связи, оказывается, тоже был евреем, и ему моя шутка пришлась по вкусу.
А вот город Запорожье нам с Левой не понравился, слишком уж индустриальный и дымный. Люди там были тогда более озабоченными какими-то проблемами, и менее приветливыми, чем одесситы. И больше пили.
По вечерам мы иногда посещали заводские клубы, в которых проводились вечера для молодежи. Молодые парни, даже «на подпитии», были очень уравновешенными. Такими же были девушки. Из-за Левиной веселости мы чуть было не схлопотали неприятностей, но я объяснил ребятам, что мы из Одессы, и они заулыбались. Нас приняли в свою компанию, и оказалось, что запорожские ребята ни в чем нам не уступают, прекрасно понимают юмор и умеют смеяться не хуже нас. Ребята попросили нас спеть что-нибудь.
— Не бывает одесситов, которые не поют.
Пришлось доказывать свою принадлежность к городу-герою, и я запел песню, никогда не звучавшую в советских кинофильмах:
Ой, лимончики, Вы мои лимончики Где растете вы? У Сони на балкончике! Соня! Соня! А Соня на балконе Соня жарила бычки И варила раки…Запорожцам понравилось, и они стали интересоваться номерами наших телефонов в Одессе. У нас секретов не было, как и телефонов.
— Звоните 01, 02, 03, в любом порядке… А когда будете в Одессе, заходите к нам, на Дерибасовскую!
Приключения одессита в Рязанщине
Месяцы учебы в техникуме сопровождались сообщениями по радио, телевидению и в прессе о небывалых достижениях тружеников Рязанщины, опередивших все области СССР по сдаче государству мяса и молока на душу населения. Складывалось впечатление о том, что эти души значительно мордатее среднего советского человека, наблюдаемого нами на улицах ежедневно.
На Украине и в Молдавии я уже побывал. Одесская область не могла похвастаться успехами во всесоюзном масштабе, а с питанием у нас тогда было вполне пристойно. Ну а если в Рязани с продуктами настолько хорошо, что их просто девать некуда…
Когда члены комиссии по распределению предложили мне ехать в Рязанскую область, я обрадовался (впрочем, особого выбора не было) и согласился без раздумий.
Получив направление, командировочные и всё, что причитается, я в приподнятом настроении отбыл в Москву. В столице остановился в одной из центральных гостиниц, куда меня доставил таксист, столь же вежливый, как и его одесские коллеги.
Я целую неделю отдыхал и знакомился с достопримечательностями столицы. Посетил Третьяковку, многие музеи, Кремль. Обедал в столовой на ВДНХ, ужинал в ресторанах. Впечатления от Москвы остались самые яркие. Еще и прибарахлился: прикупил чехословацкие туфли, очень хорошие, дешевые хлопчатобумажные брюки и пару рубашек марки «Дружба». Что еще нужно молодому специалисту?
Пора было добираться к месту распределения. На вокзале я купил билет на электричку до Рязани и тут же обнаружил несоответствие вида пассажиров моему сложившемуся представлению о том, какими им надлежит быть. Вместо мордатых хозяйственных мужиков на перроне толпились тощие, порой подпитые полунищие люди. В руках они держали большие мешки и торбы с торчащими из них буханками белого хлеба и батонами колбасы.
Подумалось, что эти колхозники собираются кормить собственных свиней этим добром. На Украине некоторые хозяева так делали, но в основном приобретали чернягу. Но почему люди такие тощие и столь скверно одеты?
Путь до Рязани занял два часа. Пришлось снова остановиться в гостинице — она была намного скромнее московской, но для провинциального города вполне приличной. Расположившись, я пошел в гастроном купить чего-то на ужин. В магазине обнаружились пустые витрины, а на полках стояли пирамиды банок наших одесских бычков в томатном соусе. Может быть, это не гастроном?
Спросил продавщицу:
— А где продаются колбаса, сыр?
— А вы откуда приехали? — совсем по-одесски ответила вопросом на вопрос она.
— Из Одессы…
— Тогда понятно.
И женщина рассказала, что такие продукты поступили в продажу лишь однажды — когда Никита Сергеевич приезжал награждать область орденом Ленина. Это изобилие длилось два дня, а потом стало так, как было всегда. Я почувствовал себя обманутым, но делать нечего — пошел в областное управление связи. Там мне выдали направление в село Большое-Коровино.
До райцентра, деревни Захарово, меня довезла почтовая машина. Этот населенный пункт удивлял потемневшими деревянными домами. Все дороги и улицы были грунтовыми.
Из административного центра на почтовой телеге, запряженной грязной худой лошадью, поехали в Большое-Коровино. В селе, проголодавшись, я зашел в столовку, заполненную нищего вида людом, уже привычно взял бычков в томате и попросил стакан вина.
— Вам какое — белое или красное?
— Дайте белого, пожалуйста.
Я надеялся получить, как в Одессе, легкий сухой кисловатый напиток. Продавщица пристально-испытующе посмотрела на меня и налила стакан водки. Стало понятно, что здесь понимается под «белым вином». Водку я пил нечасто, тем более из стакана при столь скромной закуске. Пришлось «держать марку».
Спросил у ребят, где находится почта. Мне показали направление к большому ставку — там стоял деревянный дом, в нем была служебная квартира начальника связи.
Иван Жаров, тридцатилетний местный житель, любил погулять и поработать. Он принял меня доброжелательно, предложил отдельную комнату в этом же доме, где проживал с семьей.
Жаров был членом партии, и ему уже предложили стать председателем колхоза в селе Захарово, но какие-то формальности еще не успели выполнить. Пока он занимал должность начсвязи в Большом-Коровино.
Меня оформили старшим техником с окладом 450 рублей. В селе такой доход считался очень высоким. Колхозники таких денег не видели — им платили 20 копеек за трудодень.
Село Большое-Коровино находилось ровно на сто первом километре от Москвы. В нем имели право жить те, кому ближе к столице селиться не дозволялось. Значительную долю населения составляла разношерстная публика, проведшая долгое время в лагерях и тюрьмах, отбывая наказание по всем статьям, какими богат Уголовный кодекс.
Председателем колхоза был «избран» бывший начальник колонии строгого режима — всегда пьяный и грубый, привыкший к беспрекословному повиновению. В конце пятидесятых времена изменились, и уже нельзя было никого расстреливать на месте, но он еще этого «не догнал».
На следующий день я покупался в корыте — горячую воду обеспечила хозяйка, нагрев ее на большой плите, и пошел в парикмахерскую. Работал в ней худощавый очень подвижный человек, как позже выяснилось, бывший медвежатник. Стриг он хорошо, взял всего трешку и в общем был похож на своих одесских коллег, хотя и не рассказывал анекдотов.
В селе нет секретов, и мне рассказали, что парикмахер когда-то в лагере пострадал от своей врожденной азартности. Однажды во время игры в буру у него кончились все ценные предметы, и он поставил на кон… собственную мошонку. Кончилось тем, что проигравшего специалиста по сейфам кастрировали посредством веревки.
Тем временем мне пора было приступать к своим трудовым обязанностям. Начались будни.
Моторист Ваня, власовец
В обязанности мне вменялось обслуживание колхозного радиоузла. В моем подчинении оказались: пенсионного возраста техник связи, два моториста и техник связи линейной службы вместе с монтерами, лошадью и повозкой.
Мотористы обеспечивали работу энергообеспечивающих движков — село не было электрифицировано. Один из них, бывший солдат, призванный во власовскую Вторую ударную армию,[17] «имел счастье» попасть под Ленинградом в плен. Иван не согласился воевать в составе РОА, и был отправлен в Германию работать батраком в сельской местности. За такое преступление он получил 10 лет, которые отсидел добросовестно, «от звонка до звонка». При Хрущеве Иван был полностью реабилитирован.
В селе его, однако, по-прежнему звали «власовцем», он к этому привык, но все равно иногда плакал, услышав обидное прозвище. Плакал он по любому поводу, даже тогда, когда его домашняя свинья задавила поросенка, и того не удалось «откачать».
Ни от какой работы в селе Иван не отказывался. Старушки нанимали его для обработки приусадебных участков, и под вечер «выставляли банкет». Ваня бежал за мной, чтобы добро не пропадало: он не мог столько выпить и съесть сам, а на вынос угощение не давали, таков был обычай. Что выпил и съел на месте — то твое. Можно было пригласить друга за компанию.
Самогонку бабульки выгоняли крепкую и мутную. Я подрабатывал на ремонте батарейных радиоприемников, и тоже редко оставлял Ивана трезвым на сон грядущий…
В какой-то из летних жарких дней заработал я только на шкалик, и решили мы с Ваней попробовать пить свои сто грамм через соломинку. Жара быстро нас развезла, и стал он рассказывать о своей обидной жизни.
Работал Иван обычным колхозником, голодал вместе со всеми. Перед самой войной его забрали в армию, и служба показалась ему раем: одет, обут, накормлен — все казалось сказкой.
Потом война, и все началось как прежде. Опять голодуха, потом скитанья по болотам. Они с друзьями-однополчанами отстреливались от окруживших армию немцев, пока не кончились патроны. Питались болотными ягодами, в основном морошкой, а потом полускелетами попали в плен.
О вербовке в РОА писалось много. Иван отказался воевать на стороне немцев даже за хорошее питание. Тогда бывших солдат 2-й ударной армии, привыкших к крестьянскому труду, повезли в телятниках в Германию. Сгрузили их далеко за Берлином, построили. Немецкие фермеры отбирали для работы пленных солдат, русских крестьян. Ощупывали как животных, изредка даже проверяли мужское достоинство.
Солдаты плохо держались на ногах, но это не было их главным недостатком. Попал Ваня в хорошие руки фрау Эльзы, которая его откормила, определила обязанности, а вечерами за дополнительное питание использовала в своих эгоистических целях, которые, впрочем, нравились обоим. Следует заметить, что так повезло далеко не всем. Немцы часто относились к пленным и угнанным на работу в Германии хуже, чем к скоту.
Эльза еще в начале войны лишилась мужа, и никакие Геббельсы ей были не указ… Когда Иван бывал «в ударе», Эльза поджаривала на тяжелом светлом камне, отполированном до блеска, тоненькие кусочки свинины. Камень разогревался при помощи обыкновенной спиртовки, и мясо жарилось недолго.
Постепенно Ваня привык к европейской жизни, шнапсу[18], но всему хорошему, как и всему плохому, бывает конец. Освободили Ваню американцы, предложили крестьянскую работу в Америке, а он домой хотел. Объясняли американцы, что его ожидает, но Ваня не верил. Обрадовался, когда военнопленных передали советским властям и переселили уже за нашу колючую проволоку. Солдат думал, что это случайно, все прояснится — он же никого не предавал.
Вызвали Ивана в помещение, где за длинным столом сидели три советских тыловых офицера-весельчака. Между смешных историй, рассказываемых друг другу, они задавали как будто праздные вопросы. Сидевший слева младший лейтенант спросил:
— Какие отношения были у тебя с хозяйкой фермы?
— Эльза относилась ко мне по-человечески, и я относился к ней по-человечески, — смутился Иван.
— А теперь расскажи подробнее, как ты провоевал всю войну в кровати фрау Эльзы, — рассмеялся капитан, сидевший посреди стола.
Ваня принял его слова за шутку:
— Да справлялся как-то, чтобы не посрамить Русь святую, — Иван тоже рассмеялся, в тон капитану.
— Ну, теперь поедешь спать с белыми медведями! — резко посерьезнел капитан. — На десять лет!
Так Ивана отучили шутить на всю оставшуюся жизнь, пока не научили плакать по любому поводу.
Вспомнил Ваня, как его везли вместе с другими «врагами народа» в телятниках через всю Россию с пересадками-этапами, пока они не оказались в заснеженной тайге, где вдоль эшелона стояли в белых тулупах «косоглазые чечмеки» с собаками-овчарками. Они приняли врагов народа по спискам, и погнали «по тундре, по широкой дороге…»
Ваня заплакал, он не мог спокойно вспоминать и рассказывать, как ему жилось эти десять лет.
По окончании срока он вышел на волю совершенно больным человеком, зато получил в лагере квалификацию моториста. Семья его ждала, и он стал работать по этой специальности. Потом его вызвали повесткой в отдел МГБ, и вся семья пошла его провожать на «новые посиделки». Но оказалось, его пригласили для радостного оповещения: «Вы реабилитированы полностью, и теперь не являетесь врагом народа!»
Даже дали справку, но предупредили, чтобы он всё равно не селился ближе 101-го километра от «друзей народа». Пока Ваня, «прохлаждаясь», рыл золото стране, его мама умерла, так он ее и не увидел.
Иван опять расплакался, а я протрезвел, и больше никогда не разговаривал с ним на житейские темы. Зато понял, что «вражеские голоса» не всегда врали, когда говорили о миллионах советских людей, проживавших после войны за колючей проволокой в Сибири, на Колыме и других местах невеселых…
В кинотеатрах еще долго показывали фашистские концлагеря, в которых жгли в печах военнопленных и евреев. В сибирских лагерях заключенные мерзли при сорокоградусных морозах. Это обходилось нашему государству дешевле. Наши зэки еще и выкапывали золото, так нужное стране. И никто никогда не узнает, сколько людей в ГУЛАГе учтено, и сколько погибло.
Второй моторист, Андрей, был почти непьющим и тоже работящим мужиком. Я не слыхал, чтобы он сидел, а о себе он ничего не рассказывал, всё больше молчал. В селе его называли «мужиком себе на уме». Те, кто побывал в его доме, были поражены роскошью:
— У него настоящая фанерная мебель!
Ее, эту мебель, привезла из Рязани дочь Андрея, которая там вышла замуж и прописалась. У обычных сельчан никакой мебели не было, кроме самодельной. Зато пили все: «Плох тот мужик, который к вечеру не наберется!». Трезвость считалась признаком глупости и бестолковости. Андрея за дурачка не принимали. Было в нем нечто таинственное.
Линейная бригада меняла опоры и провода с изоляторами на всем участке, обслуживаемом нашей конторой связи. Лошадь тянула каждое утро несколько столбов на расстояние не менее десяти километров, за ней пешком шла бригада. Зато обратно линейщики ехали на подводе сытыми и пьяными. Старые опоры пользовались большим спросом у населения. Бригадир привозил дополнительно несколько бутылок водки, чтобы выставить нам с начальником, и мы подписывали акты о списании прогнивших опор.
Почти каждый вечер рядом с почтой возле ставка накрывался стол. Предварительно Ваня-власовец, раздетый до трусов, и кто-нибудь из линейных рабочих вылавливали бреднем карасиков. На берегу из сети выбирали самых красивых, остальных бросали обратно в воду — пусть вырастают, еще пригодятся.
Жена начальника чистила и парила их в большой сковородке на молоке. Компания пьянела на глазах, но самостоятельно не расходилась. Все ритуально ожидали, когда их будут гнать от «стола на травке» жены, уже приближавшиеся к ставку с разных сторон. Они выхватывали своих мужей, и барабанили с причитаниями по тощим спинам, направляя к своим домам. Те покорно шли домой, даже не огрызаясь. Иногда они приостанавливались, слушая мои «свежие песни»:
Зануда Сонька, так что ж ты задаешься? Подлец я буду, — я на тебя упал… Я знаю всех, кому ты отдаешься — Залетный штымп мне всё по блату рассказал…Такая покорность русских мужиков меня сначала удивляла, но в дальнейшем их поведение стало мне понятным. Почти все мужья отсидели по десять и более лет в лагерях, привыкли к подобному обращению «начальства», а потом их опекали жены и руководство колхоза. Женщины же, пострадавшие от всех представителей власти, даже не представляли себе, что к их мужикам можно относиться как-то по-другому…
Село назвали видимо давно, при царе. Когда я жил в нем, никакого соответствия названия Больше-Коровино виду этих животных не было. Коровы, перезимовавшие в колхозных условиях Рязанщины, походили на скелеты, обтянутые свалявшейся коричневой шерстью с плешинами. Стоять на ногах они не могли, и ложились на землю сразу после того, как их выгоняли из грязных коровников. Ноги, передние и задние, они как-то странно отбрасывали (а может, они сами так раскидывались) в стороны от туловища. Скорее, это были уже не ноги, а кости и жилы, оставшиеся от них. Бедная скотина губами старалась дотянуться к едва пробившейся травке. Жители села к такому состоянию животных привыкли, и их не жалели. Их и самих никто не жалел.
Не лучше содержались и свиньи. Как-то ранним утром я проходил мимо перепаханного поля, в центре которого стояло большое корыто. Туда свинарка несла два ведра каких-то помоев. Недалеко от меня рыло землю стадо длинномордых свиней, похожих больше не захудалых собак со стоячими ушами. То, что это были все-таки свиньи, можно было определить только по большим пятакам в передней части морды.
Они рыли землю с остервенением, стремясь что-нибудь выкопать съестное, но у них, очевидно, ничего не получалось. Когда свинарка стала выливать помои в корыто, уши этих зверей повернулись в ее сторону на звук. Свиньи как по команде кинулись бежать к запеленгованной цели. Свинарка бросила одно ведро в корыто, и с другим, пустым, побежала в противоположную сторону поля быстрее спортсменов-рекордсменов.
Стадо свиней выбрасывало задние лапы впереди своих пятачков, а передние ноги загребали землю с немыслимой скоростью. Облако пыли скрыло их от меня. Свинарка бежала вдалеке стремительно и молча. Свиньи достигли корыта, сразу его перевернули, и стали рыть землю на том месте, где оно стояло. Ведро металось между ними как футбольный мяч и громко звенело. Стало понятно: замешкайся женщина, ей бы угрожала смертельная опасность.
Такую породу свиней я видел в первые. Как сталинским селекционерам удалось ее вывести, ни в каких газетах не писали. Загадка, как колхозам удавалось сдавать государству столько мяса, осталась для меня неразгаданной. Впрочем, в этом селе никто не был жирным, даже председатель. Наверное, и мясо, отправляемое в Москву, считалось диетическим.
В колхозе одинаково относились к животным и к колхозникам. Бригадиры каждое утро обходили дома своих подопечных и стучали им в окна, мешая спать. Долго уговаривали людей выходить на работу, но те не спешили идти зарабатывать свои 20 копеек старыми за трудодень.
Бригадирам стало сложно работать после ХХ съезда КПСС. Старые методы запугивания и арестов уже не применялись, а других не успели придумать. Хоть плачь… А бывшие зэки с похмелья отгоняли матом своих начальников от окон. Каково было выслушивать жалобы бригадиров председателю колхоза? Злился он на партию, правительство, и лично на Никиту Сергеевича. Но не выходить же ему из партии — без нее бывший начальник зоны-концлагеря себя не представлял никем.
Молодые ребята из армии в село не возвращались, девушки стремились выйти замуж за городских или вербовались на любые «стройки коммунизма», только бы выбраться из того «колхозного рая», в котором они жили.
Никита Сергеевич предлагал первому секретарю рязанского обкома Ларионову перейти на работу в ЦК КПСС, чтобы передать передовой опыт избавления от лишнего мяса и молока всем остальным областям, но тот отказался. Он успел отобрать у крестьян почти весь лично им принадлежавший скот. Если кто-то отказывался отдавать свою корову, ему не выделяли корма даже для выращивания молодняка. Когда я приехал в ставившую всесоюзные рекорды по сдаче мяса Рязанщину, вывозить из области было уже нечего. Вскоре секретарь Ларионов застрелился.
По определенным дням недели проводились районные планерки, на которых руководство опрашивало председателей об их успехах и пожеланиях. Председатель нашего колхоза «Правда» на одной из таких планерок попросил, чтобы ему помогли силосом. Ему разрешили вскрыть свои силосные ямы, о консервации которых он докладывал осенью. Мотористы, присутствующие при этом, рассмеялись — никаких запасов никогда не было.
В один из дней, в обед я проходил через центр села и возле клуба увидел толпу колхозников. Рядом стояли ящики с водкой. Закуску не продавали. В клубе проходили «перевыборы» председателей колхоза и сельсовета.
Возле деревянного стола стояла буфетчица с тетрадкой, делая пометки в длинном списке. Она выдавала труженикам под роспись водку, заработанную ими в течение года. Редко кто получал две бутылки по 28 р.70 коп. Пили мужчины и женщины долго, обстоятельно. Смеялись. Потом их стали загонять в клуб, где им предстояло дважды поднять руки. Затем позволялось продолжить пиршество.
Бывшие зэка не выступали и не упорствовали, бережно прижимали к груди принесенный с собою черный хлеб, похожий на тот, который продавали в Одессе до 1947 года, а возможно, что и на блокадный ленинградский. Но для приготовления кислого кваса он подходил идеально.
Деревенские дома деревянной постройки, срубленные из бревен, были похожи по внешнему виду и внутренней планировке как близнецы, а небольшие березовые рощи навевали воспоминания о стихах Есенина. К срубу примыкали сени, в них жили куры, гуси, а иногда овца или коза. Для коровы или свиньи (если она была) имелся отдельный хлев.
Из сеней дверь вела в переднюю комнату, служащую кладовкой. Справа от входа на табурете обычно стоял бочонок с квасом, рядом подвешивалась вяленая свиная тушка с тонким слоем пожелтевшего сала. Когда хозяйка варила щи, она отрезала ломтик мяса, брала в подполе картошки и квашеной капусты, овощей из мешка, и можно было, не выходя из дома, сготовить обед.
Следующая дверь вела в столовую-кухню, в некоторых случаях служившую и спальней. Дальше шли непосредственно спальни с деревянными топчанами, сундуками и другими лежаками.
В столовой возле окна устанавливался самодельный обеденный стол с такими же табуретами ручной топорной работы.
Основной запас дров хранился рядом с домом. Все продукты колхозники выращивали на своих небольших участках. Корова была главной кормилицей. Одна большая печь отапливала все помещения, а в большие морозы на ней можно было спать всей семьей.
Баня в селе была, но большинство жителей купались дома в мисках, используя коричневое хозяйственное мыло. Окна практически никогда не открывались. Во всех домах воздух был спертым с одинаковым запахом кваса и бедности.
В некоторых избах в центре большой комнаты висела привинченная к потолку пружина конической формы с расширением книзу. Выполнена она была из стали, вероятно, высокого качества еще дореволюционной закалки, а служила для подвешивания детской люльки. Достаточно матери качнуть эту конструкцию, и можно прилечь поспать минут на 30–40 — ребенок в это время укачивался «в автоматическом режиме».
Первый спутник уже был запущен на орбиту Земли…
Колхозники, превращенные в крепостных, и недавние зэка смотрелись на этом фоне чужеродно и неестественно в этом крае, бывшим когда-то свободолюбивым.
Посреди села был установлен десятиваттный громкоговоритель-колокол. Абонентскую плату за его работу должен был оплачивать колхоз, но не платил. Я посоветовался со своим руководством и отключил эту линию. Через несколько дней ко мне подошел как всегда подпитый председатель, и объявил, что я — политический преступник, который лишает колхозников правительственных и прочих сообщений. Пришлось в доступной форме объяснить ему, что эти сообщения должны оплачиваться бухгалтерией возглавляемого им колхоза. Председатель глубоко задумался и отошел. Еще через день он радостно мне сообщил, что колокол снят, и, если я не включу эту линию, его мне не видать. На том и порешили. Колокол был не новым, и я его списал.
По радиоточкам стали передавать выступления Н. С. Хрущева, терзающие душу пенсионерам, работающим на предприятиях и уже «едущим с ярмарки». Возможно, первый секретарь имел в виду престарелых членов ЦК, занимавших свои посты со времен Сталина, но бодрое начальство поняло его речи по-своему — принялось энергично увольнять пожилых квалифицированных рабочих и руководителей среднего звена.
Все близлежащие колхозы были миллионерами, но не по размеру капитала, а по долгу перед государством. Единственной доступной привилегией для сельхозработников считалась выдача справки, дающей право на посещение Москвы. Паспортов у колхозников не было, денег на электричку и мелкие расходы тоже, а потому и это благо оставалось невостребованным.
В мае 1959 года было очень жарко, и я сдуру прыгнул в холодную воду ставка. Через несколько часов поднялась температура и воспалились гланды. Пару недель я мог употреблять только горячее молоко и сырые яйца — глотать что-то более твердое было невозможно. Потом я заболел цингой и попал в больницу. Последствием стала декординация сердца. Лечащий врач посоветовал уезжать: «Здешний климат тебе не подходит, долго не протянешь».
Доктор оказался славным человеком. Он выдал справку и посоветовал в Одессе есть в неограниченном количестве фрукты и виноград. В военкомате при снятии с учета офицер выразил сожаление моим отъездом. Он уже планировал мое поступление в высшее Рязанское училище связи.
С военным билетом в кармане я попрощался с Иваном Жаровым, получил трудовую книжку и уже через два дня приехал домой, в Одессу.
О жителях Рязанщины у меня остались хорошие воспоминания. Им было тяжело жить: начальство считало, что в области слишком много лишнего мяса и молока.
Надолго покидать родную Одессу мне больше никогда не хотелось.
Снова дома
Я приехал в край родной «бедный, и худой, и бледный». Одесса встретила блудного сына столовым вином, хорошей маминой домашней кухней и компанией друзей. Ступнями ног я ощущал, что «здесь по Дерибасовской хожу». Мы с корешами усаживались на скамейки неподалеку от Дюка, и пили вино, закусывая легким морским бризом.
Как раз вскоре после моего приезда Толику Титу выдали в его художественной артели горящую путевку на теплоход «Россия» до Ялты, а потом в Алушту. Это событие мы отмечали втроем, взяв с собой Беню, посещением всех встречавшихся на пути забегаловок. Спустившись с бульвара, еще не двоившегося, зашли в порт и поднялись на борт судна. Конечно, буфет для пассажиров оказался на пути, и миновать его никак не получалось.
Где-то прозвучало объявление, призывавшее провожающих покинуть лайнер, но оно не произвело большого впечатления. Нам показалось, что мы ничем не хуже обладателей путевок, а если так, то и уходить незачем. К тому же выяснилось, что на теплоходе ходил наш друг детства Игорь — он был мотористом и устроил нас в служебной каюте. Рано утром товарищ сводил нас на камбуз, где кок нам насыпал макарон по-флотски щедрой рукой.
В Ялте мы вышил на берег с прояснившимися головами и в не очень веселом настроении. Денег не было вообще, а по поводу того, как добираться домой идеи тоже отсутствовали. На прощанье Толик выставил бутылку крымского портвейна, дал 25 рублей из своего скромного бюджета курортника, и «сделав ручкой» отправился в Алушту, в санаторий.
Этих денег хватало как раз на один палубный билет. Отдыхающие в Крыму выглядели так же, как и в Одессе — веселыми и загорелыми. Смотреть на них было некогда, да и не очень хотелось. Мы скромно подошли к ярко освещенному пароходу «Адмирал Нахимов». Я предъявил билет и поднялся на палубу.
План был такой — я должен был бросить с борта спичечный коробок, внутри которого содержался проездной документ. Ветер чуть было не испортил всю диспозицию — спасла лишь кошачья реакция Бени, успевшего поймать послание на самом краю пирса.
В салонах отдыхали молодые ребята, они играли в клабар. Я вспомнил об еще одном подарке Толика — колоде карт, на которых вместо королей, дам и валетов были изображены голые женщины. Друг их припас для себя, купив у какого-то моряка, пронесшего атрибут капиталистической жизни через строгую таможню. Продать эту редкость можно было лишь в крайнем случае, но он как раз и наступил. Очень хотелось есть.
К ночи на палубе стало холодать, салоны опустели. Под Новороссийском началась качка, действовавшая на пустой желудок очень неприятно. Утром открылись буфеты, на столах там лежал бесплатный хлеб, и мы зашли попить чаю с ним. Посмотрев меню, мы обнаружили, что имевшихся у нас копеек может хватить и на кефир. Его и заказали, а тем временем принялись за хлеб.
Официантка принесла напиток, показавшийся в тепле особенно вкусным, но сумма счета почему-то превышала наши возможности на целый рубль. Мне пришлось «идти в каюту» за недостающими деньгами, а Толик остался в заложниках.
Подошел к одесским пацанам, вновь принявшимся за игру, и предложил им купить заграничную колоду за трешку. Ребятам карты очень понравились, цена их устраивала, но, когда я им объяснил ситуацию, они дали три рубля так, а карты вернули. С кем не бывает таких приключений?
Я выкупил Витю-Беню, и мы стали с палубы высматривать приближавшуюся Одессу.
«Нахимов» красиво ошвартовался, матросы спустили трап, пассажиры степенно спускались в порт, но нас ждало еще одно испытание. Выяснилось, что билеты проверяют и на выходе с целью выявления таких «зайцев» как мы. Витя хлопал себя по карманам, исполняя подобие какого-то веселого танца, но коробку из-под спичек с единственным билетом так и не обнаружил. Видимо, он по привычке потряс им возле уха и выбросил как пустой.
Покидать очередь перед самым выходом означало выдать себя. Матрос уже цепко ухватил меня за руку, и тут я увидел внизу возле трапа отца моих друзей в форме майора милиции.
— Дядя Боря, я здесь! — заорал я во все горло. Матрос отпустил руку, а Витя спокойно сказал ему: «Я с ним».
Весело сбежав по трапу, я еще раз поздоровался с Борисом Александровичем и в считанные секунды рассказал ему, как приятно кататься по морю на теплоходе.
Дядя Боря и банда «Черной кошки»
Капитан милиции Саратовского горотдела МВД Борис Александрович Михеев был направлен в водный отдел МГБ Одесской области в апреле 1944 года. Еще шли бои с отступающим противником в окрестностях города, а гавань уже оживала и ее нужно было защищать от расхитителей.
Отдел располагался в здании бывшей церкви. Хотя почти все причалы были разрушены, а подъездные пути взорваны, пароходство начало функционировать сразу после освобождения Одессы.
В порт прибывали американские и уцелевшие советские пароходы. Водный транспорт использовали и контрабандисты, доставлявшие из Грузии вина, мандарины и другие продукты для спекулятивной перепродажи.
Отдел МГБ работал круглосуточно вместе с охраной порта. На территорию гавани преступники могли попасть по всему ее периметру от Александровского парка до Пересыпи — ограда во многих местах была повреждена или отсутствовала. Особый интерес расхитители проявляли к американской помощи голодающим детям и жителям города.
Преступные сообщества использовали все возможные средства. Они проникали в порт в железнодорожных вагонах, на баркасах и лодках. В 1945 году информатор, внедренный в банду, смог сообщить, что основным каналом утечки дефицитного продовольствия служат канализационные коммуникации. Определить эти ходы к складам и их соединения с коллектором, проходящим под спуском Кангуна, для оперативников было уже делом времени.
Жители Канавы, с детства знакомые с подземными коммуникациями, использовали свои знания для воровской наживы. Во время оккупации действия банды можно было приравнять к партизанским набегам. После освобождения города ее члены имели возможность претендовать на медали и почести, полагавшиеся подпольщикам, но их уже не устраивал скромный советский паек за тяжелый труд. Они привыкли совсем к другой жизни.
Конспирацию они поставили на высокий уровень, устраняя стукачей и запугивая одесситов, боявшихся их даже больше, чем представителей властей, советских, румынских, немецких и снова советских. И все равно чекистам удалось внедрить своего агента в банду, хоть и с трудом, и с большим риском.
Операция по ликвидации «Черной кошки» началась вечером. Милиция водного и городского отделов окружила все возможные пути отхода. Сотрудники открыли люки и через рупоры предложили выходить наружу, гарантируя жизнь. Это продолжалось несколько часов, до утра, но реакции не последовало. Один из уполномоченных водного отдела взяв ППШ и фонарь, спустился в канализационный люк на площади Кангуна, но был тут же убит — автоматная очередь рассекла его почти пополам. После этого уговоры прекратились.
К спуску подогнали несколько грузовиков, на их выхлопные труби надели шланги, спустили их концы в люки и стали выкуривать бандитов. Вскоре показались первые из них с поднятыми руками. Эта банда была известна в городе как «Черная кошка» — по названию кабаре, открытому во время оккупации на Троицкой.[19] Именно там подыскивались жертвы — преимущественно состоятельные одесситы, при румынах открывшие бизнес.
Большую часть членов бандгруппы арестовали тогда, других поймали несколько позже. Среди них были и молодые женщины, также участвовавшие в грабежах и налетах при любой власти, а также сбывавшие преступную добычу.
Все участки канализации были тщательно обследованы. Оперативники обнаружили множество коробок с одеждой, обувью, фабричные упаковки шоколада, тушенки, сгущенного молока, галет и многих других товаров, продававшихся тогда на Привозе по астрономическим ценам.
Дядя Боря, отец моих друзей Вовы и Жени Михеевых, принимал непосредственное участие в этой сложной операции.
Судебный процесс был очень громким, о нем ходили легенды. Особенно впечатляли рассказы о молодых женщинах, действовавших с особой жестокостью. Один из очевидцев, присутствовавший на суде, передавал смысл показаний обвиняемой, на вид приличной девушки:
— Подсудимая, почему и как вы выкалывали глаза убитым?
— Я где-то слышала, что в зрачках фиксируется предсмертный момент. А как я это делала — то пусть мне снимут наручники, и я покажу на вас.
Борис Александрович был потрясающе честным человеком. Ему много раз предлагали мзду, в него стреляли через окно квартиры, а он жил на свою милицейскую зарплату и никого не боялся. Он защищал правопорядок.
* * *
Порт был кормильцем города в самые голодные послевоенные годы. На полуразрушенных причалах постоянно гремел такелаж. Суда разгружались, уходили, а их места занимали новые. Американская помощь действительно поступала в больших количествах, но куда она девалась — для меня загадка и поныне. Ни один из моих друзей не мог припомнить случая, чтобы семья нуждающихся одесситов получила коробку сгущенки или тушенки с надписью «сделано в США».
В городе мало кто так или иначе не был связан с морем. В семьях часто были моряки дальнего плавания или портовые работники. Путь в первую категорию был заказан тем, кто побывал на «временно занятой врагом территории» — таких насчитывалось не менее ста тысяч. Позже к ним «примкнули» и евреи — из тоже перестали пускать за рубеж.
Вторые — работники порта, получали небольшую зарплату, но научились делать свою «кастрюлю» — они «случайно» разбивали при разгрузке несколько ящиков, после чего груз списывался. Докеры знали, что делать дальше — остальное было делом техники. Вынесенные из порта продукты расходились по доступным ценам среди своих.
Завод сопротивлений
На следующий день после круиза, выслушав от матери все, что она думает обо мне, я пошел на Одесский завод сопротивлений, где меня оформили цеховым прибористом. Там было здорово. Рядами стояли нарезные станки и стеллажи с измерительной техникой, но не это главное. Везде сосредоточенно работали красивые девушки, и их было много.
Деловито вертелись «бывалые» слесари, имевшие привычку принимать в обед в качестве аперитива сто грамм спирта. Этот протирочный материал на многих операциях получали работницы, и они, надо отдать должное их щедрости, никогда не жалели его «для хороших людей».
В обед слесарь Жорик предложил составить ему компанию. Он поставил возле стенда стакан спирта и побежал покупать мясокомбинатовские пирожки с требухой по 40 копеек за штуку. Откуда ни возьмись, появился начальник цеха, он бодро шагал прямо ко мне. Спирт стоит рядом и спрятать его некуда. Пришлось срочно отвернуться и уничтожить улику. Откуда мне было знать, что он пьется так трудно?
Виктор Николаевич подошел и поинтересовался, как мне работается на новом месте. Ответить я не мог, лишь смотрел на начальника как баран на новые ворота слезящимися глазами. Выдохнуть не удается, вдохнуть тем более. Я деловито присел и стал вытаскивать нижний блок измерительного стенда, показывая, что очень занят, выгадывая время, и невнятным мычанием выражая свое удовлетворение трудоустройством на таком славном заводе.
Позже Виктор Николаевич рассказал о своем первом впечатлении: «Кадровики спят, если принимают на работу таких слабоумных прибористов». Через пару лет я ему честно признался в причине невнятности своей тогдашней речи, а в тот момент мне удалось наконец глотнуть воздуха, подбежать к водопроводному крану и жадно напиться. Отношение к чистому спирту с тех пор так и осталось прохладным.
Во время ночных дежурств порой можно было пару часов вздремнуть на втором этаже, если все работало исправно. Грохот станков, набивавших колпачки с выводом на керамику, не мешал спать. Иногда подсаживался к какой-нибудь девушке поболтать. Одна из них без всякой причины стала рассказывать о своей подруге, работающей рядом.
— Светка прихватила трепак, но кажется уже вылечилась.
— Откуда ты знаешь? — полюбопытствовал я.
— В последнее время ей перестали бить морду на Дерибасовской…
Интересно было наблюдать и за отношениями людей в коллективе. Два техника, Лёня и Марек, удачно дополняли друг друга. Один отлично разбирался с схемотехнике, другой же отличался высочайшей аккуратностью при выполнении монтажа.
Как-то раз к нам зашел токарь механического участка и попросил Марека одолжить ему 50 рублей до завтра. Без единого вопроса техник протянул ему полтинник.
Парень принес долг через два дня. Реакция Марека запомнилась. Он сказал: «Больше ко мне по таким вопросам не подходи. Я рассчитывал на эти деньги вчера».
— Как же так, мы же ж друзья…
— Политанью[20] нужно выводить таких друзей. У меня не было денег купить домой мясо.
Требования к пунктуальности у Марека были высокими, но и сам он всегда выполнял свои обещания в срок.
Приняли в цех нескладного худощавого выпускника техникума. Все его сразу начали называть Лёликом. Впервые нам довелось видеть связиста, ничего не понимающего в технике. Злая шутка не заставила себя ждать: Лёня с Мареком послали недоучку «за шумами».
Лёлик долго искал «шумы», пока его одна из работниц не послала в шумокамеру. Два слесаря быстро разобрались в ситуации, сняли с прибора самый тяжелый блок питания и дружно водрузили его на спину Лёлика. Сложившийся вдвое приборист с трудом побрел к выходу. Его еще и поторопили. Тем временем Лёня и Марек уже забыли про свое задание. Вспомнили, когда услышали, что кто-то царапается в дверь. Открыли и увидели, что им принесли. Они обругали Лёлика и отправили его обратно — не те шумы принес. Все эти деяния они производили с очень серьезными лицами.
Как выяснилось позже, Лёлик, хоть и не научился ничему в техникуме измерений, но имел другой талант. Он иногда приносил газеты, в которых печатали его спортивные обозрения — они были написаны хорошим слогом, хлестко и с азартом. Парень просто занимался не своим делом. Его позже просветили о «шумах». Он сперва обиделся, а потом и сам посмеялся над собой.
Ресторан «Красный»
Приехала сестра Дина в отпуск из Сибири, куда ее послали по распределению. Мама почему-то решила отметить это событие непременно в ресторане. Деньги появились, а в шикарном заведении общепита она ни разу в жизни не была.
Я одел галстук отчима — иначе в рестораны тогда не пускали. Во второй половине дня мы пришли к главному входу, швейцар в фуражке открыл нам двери, и мы направились по широкому коридору в зал.
Сестра тоже не привыкла к такой роскоши и явно чувствовала себя неуверенно. Опыт посещения ресторана был только у меня, шестнадцатилетнего.
Большой зал готовили для какого-то банкета, и нам предложили столик возле входа. По нашему виду официант понял, что мы не завсегдатаи. Он подал меню.
Мама с сестрой не знали, что означают названия некоторых блюд. Борщ и цыплята оказались самыми понятными кушаньями, но их мама сама умела готовить не хуже любого шеф-повара. В конечном счете решили заказать салат «Столичный», шампанское и все-таки цыплят табака. Открывать игристое вино мы не умели и рисковать не стали — попросили официанта. Правильные фужеры тоже выбрал он, разливая.
Мама пребывала в эйфории: за ней в жизни никто так не ухаживал. Поели салата. Он оказался обычным оливье, но стоил, естественно, значительно дороже. Этот факт тоже не испортил настроения.
Через некоторое время официант принес пиалы с водой и доставил главные блюда — цыплят со специями под сверкающими крышками. Ножи и вилки лежали на столе еще до нашего прихода, а назначение сосудов с водой было загадкой. Спрашивать неудобно, а подсмотреть не у кого — вокруг как назло никто не ел цыплят…
После попыток резать птицу ножом официант подошел и тактично объяснил: нужно ломать руками, а потом ополаскивать пальцы. После этого мама совсем развеселилась и почувствовала себя как дома.
Я в ресторане уже был — меня пригласил в «Кавказ» одноклассник Женя Кац, сын главного бухгалтера Черноморского пароходства. Мы как-то повздорили, потом помирились, и Жека решил «спрыснуть» дружбу — в средствах он не был стеснен. Он заказал икру и немного водки, да еще и научил меня правильно вести себя за столом: не ставить на него локти, никуда не торопиться, не доедать суп до конца и тому подобным премудростям. Но цыплят мы не ели, а потому мои ресторанные навыки имели пробелы. Теперь я их восполнил.
В «Красном» тогда почти не было наценок. Обед обошелся рублей в двести — трата для мамы ранее немыслимая. В тот раз она не пожалела о деньгах и даже оставила сдачу официанту. Домой доехали на трамвае.
Дядя Вася работал, а когда пришел, его ждал накрытый стол с вином — оно в доме не переводилось. Сели ужинать. Отчим почему-то вспомнил о том, как у него на глазах саперы взорвали Дом Красной Армии перед уходом наших войск из Одессы в 1941 году. Теперь там была развалка, возможно уже единственная крупная в городе. Высокий остов с зияющими проемами пустых окон излишне долго напоминал одесситам о войне, окончившейся десять лет назад. На этом месте потом построили кинотеатр «Одесса».
Тогда же мама впервые купила себе полусапожки на меху кустарного производства. Она ими очень гордилась, хотя обувь была очень тяжелой — я их называл «буцалами». Такие обновки были недоступны многим матерям моих друзей, а к зиме 1955 года она купила еще и зеленое пальто.
Сестра приобрела радиоприемник «Балтика», работавший в нашей комнате сутками после отъезда Дины в Братск. Мы слушали «Голос Америки», с трудом прорывавшийся сквозь вой глушилок, и из гнусавых передач узнавали о жизни людей в «загнивающих капстранах». Тамошние обитатели, если верить дикторам, одевали какие-то светлые рубашки, которые потом выбрасывали чуть не каждый день в мусор, безработные в Штатах подыскивали места трудоустройства на собственных автомобилях…
Школьные учителя, очевидно, тоже слушали «вражьи голоса», но они были уверены, что это — пропаганда, и нас убеждали в том. Как такое может быть? Они что, больше нас работают? Им больше платят? За что?
Кто-то из учителей сказал, что если бы в СССР было столько денег, как в США, то был бы у нас коммунизм.
Специалист по заправке авторучек
В шестидесятых годах морякам стало выгодно привозить из-за границы новинку — шариковые авторучки — их доставляли чемоданами. Стоили они очень дорого. Паста в стержнях заканчивалась быстро, и тогда одесские умельцы стали изготовлять «мазилу» и приспособления по заправке. Обычно в каком-то магазине, не всегда канцелярском, специалисту выделяли небольшое рабочее место, где он с успехом заправлял эти авторучки. На железнодорожном вокзале открыл такую мастерскую невзрачного вида старичок. На его работу приходили смотреть одесситы отовсюду.
Мастер принимал от приезжавшего на Привоз крестьянина авторучку, «интеллигентно» изогнув руку, и, как фокусник, манипулировал ею, умными глазами глядя в глаза заказчику через очки. Затем театральным движением вынимал второй рукой пустой стержень из ручки, с которым тоже проделывал немыслимые манипуляции. Мастер плавным жестом вставлял в него тонкую проволоку.
Изящным движением он выдавливал шарик в специальное место — на измазанную пастой дощечку. После еще нескольких неподражаемо-оригинальных движений обеих рук стержень вставлялся в «автомат», при «умелом» нажатии на рычаг заполонявший стержень пастой.
Еще несколько неуловимо-сложных операций, и шарик вдавливался на свое место. Колхозники были поражены виртуозным исполнением такой сложной работы. Особенно восхищались те, кто не бывал в универмагах города и военторге, где такая заправка выполнялась как-то буднично, очень незамысловато. Это был наглядный урок работы «на публику» Лучшей рекламы рабочего места придумать, наверное, невозможно.
Мишка — Мишенька
Во дворе все любили Мишу. О таких «пассажирах» на Привозе говорили образно: «Он залезет в жопу без мыла»… Высокий общительный красавец, он проживал в темной, незавидной квартире, окна которой выходили к дворовому туалету, и поэтому никогда не открывались. Чтобы вдохнуть немного свежего воздуха, Миша выскакивал во двор чуть свет.
Кто бы не находился там, завидя его, кричал: «Мишка, Мишенька, как твое здоровье?» Мишка отвечал с восторгом: «Вот мой чубчик!», — и выпячивал кулак правой руки с оттопыренным большим пальцем.
Миша почему-то не окончил школу, и ничему нигде не учился, поэтому крутился на Привозе. К тому времени начинался постепенный отъезд евреев в Америку и Израиль с целью объединения семей. Мишка оказался как раз таким, какой был необходим «нужным людям».
Излишние знания не отягощали его, а общительность оказалась капиталом, но не таким, о котором писал Карл Маркс. Внезапно Миша оказался нелегальным представителем какой-то подпольной организации, имеющей бланки приглашений на постоянное место жительства в «капстраны», как тогда говорили, чтобы долго не объяснять. Бланки были настоящими, со всеми печатями.
Мишу стало не узнать. Одевался он теперь с иголочки, прямо как в песне пелось «и стал он числиться одесским коммерсантом…» Дома Миша стал появляться нечасто, и «невесты» не оставляли его без внимания.
Прием желающих получить визы производился в ресторане «Море», где за большим столом гордо восседала небольшая компания, не то веселая, не то озабоченная. Не к нашему же дворовому туалету вести сармачных клиентов. От этого стола как конфеты с конвейера кондитерской фабрики имени Розы Люксембург выскакивали со сладостными улыбками евреи, для которых начиналась дорога в «свободный мир».
Отчим с дядей Мишей Вулихом к осени получили хорошие деньги. Они взяли меня с собой в ресторан «Море», отметить заработок, и мы попали как раз в приемные часы нашего соседа. Мишка-Мишенька обрадовался нам, как родным. Подсел к нам (у него оказалось свободное время), рассказал что-то веселое, и, как бы между прочим, спросил:
— Толик, хочешь, я тебе сделаю вызов в Израиль? Что тебе сидеть в этом клоповнике? И дядя Вася будет свободнее жить с твоей мамой в вашей комнатке…
— Миша, так я же русский…
— Пусть дядя Вася заплатит, так моя фирма сделает такую родословную, что Голда Меир по сравнению с тобой будет выглядеть антисемиткой! — засмеялся Миша.
— Ой, не может быть, — усомнился дядя Миша Вулих, — я бы и сам поехал. Только кого я буду там дурить?
— Дядя Миша, вы думаете, а я бы смог? — поинтересовался я.
— Еще как!!!
Я ему не поверил.
Тогда я учился в десятом классе.
Сосед «Миша-Мишенька» получал от своих работодателей информацию о заработках тех, кто уже уехал в Америку и там устроился. Он проводил разъяснительную работу с соседями:
— Вы, поцы, знаете, сколько там зарабатывают в месяц?
И сам отвечал:
— Больше пятисот долларов! А курица там стоит меньше одного доллара. Так это же можно на зарплату купить пятьсот курей!
— Ого! — чесали затылки соседи. — Это если купить на Привозе по пятнадцать рублей курок, так на нашу зарплату можно купить десять штук…
— Так что же они делают с курами? — поинтересовалась Софа. — Это их только пощипать-разделать, так уже некогда будет работать. И как можно столько съесть?
— Ты, мишигины-американцы не тратят все деньги на курей, они еще покупают в рассрочку квартиры, машины…
Мишенька не знал, что еще покупают американцы, об этом работодатели ему не рассказали.
— Так что, получается, они залазят в кабалу, и уже никогда не смогут уехать? Так мы отсюда тоже не можем уехать.
— Почему не можете? — Мишенька плавно подвел разговор как раз к тому, к чему стремился. — Собери двести долларов…
— И что? И сразу в тюрьму? — поинтересовалась соседка.
— Так я знаю, кто поможет уехать и за советские деньги, только в рублях это будет стоить примерно штуку, может быть немного меньше…
— Знаешь, Миша, если у меня будет штука, так мене и на нашей помойке место найдется. А потом, когда тут построють коммунизьму, так опять собирать деньги на езду?
Соседка засомневалась:
— Наш Лева Троцкий строил у нас уже этот коммунизм на Успенской, сзади Собора, так ему досок не хватило… А недавно на Привозе рассказали, что ему таки пристроили коммунизму в какой-то Америке при помощи какого-то ледоруба. И доски нашлись…
Мишенька давно не бывал на Привозе, и такую свежую новость не слышал.
— Я про такое не знаю. Может это не в той Америке? — Мишенька вспомнил. — Там есть еще одна Америка, Канадой называется, а еще там есть какие-то латинские американцы, может быть уже и коммунисты… И к ним приехали в гости после войны фашисты…
Миша точно вспомнил — об этом долго дребезжала радиоточка.
В этот раз он наших соседей не убедил, но удочку закинул. Это была кропотливая работа, требовавшая больших навыков. Не напрасно же ему столько платят.
* * *
Тетя Фира была самой мудрой мамой в нашем дворе, и как говорят в Одессе, «держала свою семью в руках».
— Софа, иди приготовь поесть, ты что, не видишь, пришел твой Сема голодный? — Фира таким образом подчеркнула свою заботу за зятя.
— У него глаза, по-твоему, повылазили? Пусть идет себе на кухню, и ест! — Софочка не может простить мужу его задержку после работы на цельный час.
Сема хлопает дверью, и уходит во двор играть с соседями в домино.
— Так чего ты добилась? — спрашивает мамочка — он таки голодный, а если еще и проиграет, что тогда будет? И ты думаешь, ты ему после этого пригодишься? И у Семы будет болеть голова, как заработать для дома, для семьи? Я помню, как мой Изя, твой папа, в его годы приезжал на извозчике пьяный, так я бежала рассчитываться с биндюжником, и тянула твоего папочку домой на себе.
— А для чего мы делали революцию? Чтоб таскать пьяных большевиков на себе?
Софочка так разволновалась, что мамочке пришлось ее успокаивать:
— Доченька, разве Сема пьяный? Если бы Сема совсем не пил, так какой бы партячейке он бы нахер всрался? Ему бы пристроили пару выговоров, и выгнали бы с той партии! А он уже отвык работать простым биндюжником. Еще и всегда трезвым. А тепер он выступает на партсобраниях и ничего не делает. Кем ты хочешь его видеть? Он же больше ничего не умеет делать! Он же партийный секретар!
Софочка растерялась. Опять стать женой тачечника? Никогда! Побежала на кухню. Через пару минут в форточке прозвучал ее ангельский голосок:
— Семочка, иди покушать… И я с тобой посижу.
В глубине комнаты раздался тихий голос тещи:
— Вот это-таки совсем другое дело.
В те времена в некоторых небольших предприятиях еще оставались коммунисты евреи-секретари.
О послевоенных малолетних рэкетирах
Вспомнилось прошлое.
Добродушный биндюжник Ютка выезжал на Привоз получать овощи для столовой. Ленька запрыгнул на подводу, чтоб усесться рядом с ним, а я пристроился на старой фуфайке возле сиденья. Подвода с грохотом выехала на Екатерининскую, и по ней помчалась к Пантелеймоновской. Ютка был в ударе, махал своим кнутом со свистом, но лошадь не бил. Он любил всех животных и детей, а для нас был другом, который как мог заботился о нашем пропитании, когда мы ему помогали.
С грохотом и свистом, Ютка въехал в овощной пассаж. Он с накладными в руках соскочил со своего сидения, и пошел на склад. Нам не нужно было объяснять наши обязанности: следовало греться на солнышке, и ждать, когда Ютка начнет грузить мешки с морковкой, капустой, картошкой…
Неожиданно, на площадку заскочили два беспризорника, один из которых держал в руке детский пистолет, стреляющий палочкой с резиновой присоской. Они уселись рядом с нами, и тот, что был вооружен, сказал:
— Сидите тихо, и когда хозяин принесет морковку, дадите нам по две штуки!
Я засмеялся:
— Придет Ютка, скажешь ему…
Парника, видимо, случайно нажал на спусковой крючок. Оказалось, что в присоску была вставлена швейная иголка. «Пуля» воткнулась в колено его напарника. Стрелок вырвал стрелу с присоской и убежал, а игла осталась торчать из коленной чашечки громко заскулившего пострадавшего.
Вышел согнутый тяжелой ношей Ютка, забросил мешок на площадку и стал разбираться в происшедшем. Выслушав наш рассказ, достал из-под своего сиденья клещи и выдернул ими иголку. Парнишка обрадовался, соскочил с площадки на землю, и побежал искать по базару своего напарника. Он явно забыл о морковках…
Новые ботинки
В своем большинстве одесские семьи не были очень уж зажиточными и соблюдали традиции нищего люда России обмывать обновки. Мы уже не были бедными по понятиям того времени, но обычаи чтили…
Приобрел радиомастер Толик Полянский по большому блату ботинки «со смехом» внутри. Теплые, красивые, «не ботинки, а картинки». В нашем присутствии с фасоном их одел, а старые торжественно выбросил в урну. Выставил две бутылки водки с легкой закуской, и празднование, посвященное приобретению приличной обуви, началось.
Обмывали ботинки довольно долго. Толик не имел глупой привычки закусывать, а потому расчувствовался ранее остальных. Обычно он был экономным, предпочитал пить «на шару», но в тот раз пил по-русски, хотя таковым был очень относительно…
Два постоянных собутыльника усадили Толика в такси, и привезли бесчувственное тело к воротам родного дома. Оставалось доставить «пострадавшего» на расстояние не более двадцати метров, и никто не обратил внимание на то, с каким скрипом волочатся новые ботинки по асфальту… Уже возле самых входных дверей увидели, что из носков ботинок торчит светлый мех вместе с остатками носков и голыми пальцами ног. Позвонили, прислонили Толика к родным дверям, и убежали, зная суровый нрав его супруги, от греха подальше.
Утром следующего дня, вместо радиомастера Толика, пришел его малолетний сынок с сообщением:
— Дядя Толя, мой папа сегодня не сможет прийти на работу, ему не в чем…
Через день его жена купила «кормильцу» другую пару обуви, не такую шикарную, и почему-то без шнурков… Пришел мой тезка на работу, и, грустно посмотрев на новые ботинки, сказал:
— Нужно купить шнурки…
— Будешь обмывать? — ехидно спросил Митя.
— Придется, — неуверенно почти прошептал Толик, — хочется, чтобы они хорошо носились…
Строитель Ваха
Строитель Ваха находился в подчинении главного механика таксопарка. Он был маляром, штукатуром и плотником в одном лице. Настроение Василия всегда было приподнятым, когда ему никто его не портил.
На предприятии не было строительных материалов, о которых ему не было бы известно, и таксисты знали, к кому обратиться, чтобы недорого приобрести краску или доски…
За небольшие деньги и бутылку водки Ваха отдавал все что имел, и при всех снимал последнюю рубаху, чтобы никто не мог уличить его в жадности. На худой длинной шее строителя-универсала сидели трое детей и жена, к тому же горло вмещало столько спиртного, что с первого взгляда и не подумаешь. Водители после смены часто приглашали Васю разливать содержимое бутылки по стаканам за его легкую руку. Он гордо исполнял такую работу, приговаривая:
— Сколько бы ни было водки и стаканов, я разолью так, что мне всегда достанется полный!
Бывали случаи, когда у Василия заканчивались краски ходовых цветов, и он сам изготовлял их по своим технологиям. Иногда возникали недоразумения и претензии:
— Ваха, что ты мне за краску продал? Она уже месяц не высыхает!
— А ты перед покраской поверхность три раза олифил? — выкатывал изумленные глаза Василий.
— Нет, я олифил только раз… — смущенно отвечал водитель.
— Так что ж ты хочешь?! — искренне удивлялся Ваха.
— Что ж теперь делать? — не унимался водитель.
— Смой краску, и приходи за ней по новой! Я же не Рокфеллер какой-нибудь, чтобы оплачивать твою безграмотность! Это же чилийская краска!
Чилийским он называл любой продукт, происхождение которого установить было невозможно.
Однажды весной руководство областного управления пассажирского транспорта обнаружило, что в пионерлагере этого ведомства забилась канализация. Сезон был на носу, и оказалось, что нигде нет такого специалиста, как наш Ваха. Наш начальник производства товарищ Прейс вынужден был именно с ним решать этот сложный вопрос:
— Виктор, в пионерлагерь нужно отправлять детей. Как будем прочищать канализацию?
— Пять бутылок водки, и премия в 50 рублей могут помочь мне продумать схему прочистки. Еще нужна большая бочка воды…
Лицо Вахи приобрело сосредоточенность, выражающее сомнение: не продешевил ли…
На следующее утро его привезли на такси в пионерлагерь. Возле открытого канализационного люка стояла бочка с водой, рядом — столик с водкой и недорогой закуской. Брезгливо всматриваясь в плавающие возле люка продукты жизнедеятельности, толпилось руководство областного транспортного управления. Ждали водолаза.
Василий, не обращая внимания на высокое начальство, разделся донага, привычным движением раскрутил бутылку, уже заботливо открытую кем-то, вокруг ее продольной оси, и влил ее содержимое в свое горло. Затем, не одевая никаких средств химзащиты, лежавших рядом, Ваха прыгнул головой вниз не хуже спортсмена-ныряльщика. На мгновенье сверкнула его незагорелая задница. Грязная волна с брызгами плеснула через край люка под ноги болельщиков высокого ранга, не ожидавших такого подвига, и не успевших отскочить на несколько шагов назад. Прейс сумел вовремя отпрыгнуть, и стал многословно оправдываться перед замаранным начальством.
В люке забурлило. Показалась голова Василия и рука, держащая огромную половую тряпку, причину аварии.
Герою никто не подал руки, и он стал неловко карабкаться на сушу. Недовольно отфыркиваясь, он таки вылез, осматривая свое грязное тело. Последовала команда начальника производства, и струя воды окатила «водолаза». Под аплодисменты руководства, Ваха, не одеваясь, опрокинул в себя еще одну бутылку… Он потянулся к закуске, когда Прейс закричал:
— Ваха, не тяни, скажи, что там еще осталось?
— Ты не видишь, какой водоворот бурлит в люке? У меня так бурлит в животе! Дай закусить! — и Вася снова потянулся непослушной рукой к закуске.
— Вася, одень хотя бы трусы! Вокруг столько начальства! — взмолился Виктор Яковлевич.
— Тогда дай мне свой галстук!
Мишка-бандит
Михаила, водителя такси с большим стажем, зря называли бандитом. В трезвом виде он был спокойным и даже очень вежливым человеком. На линию выезжал вовремя, предварительно рассчитавшись с медработницами и протерев влажным полотенцем капот своей «Волги». Плановое задание выполнял, никаких нареканий не имел. Приятная трезвая улыбка хорошо воспитанного ребенка всегда располагала к нему пассажиров.
Однако, приняв свою порцию спиртного, Миша преображался мгновенно. Непонятно, куда девалась его застенчивая улыбка. Его глаза начинали светиться недобрым красноватым огнем. Он ходил по территории таксопарка, выискивая, к чему бы придраться.
На первой стадии Мишу еще можно было ублажить добрым словом, но после дополнительной дозы спиртного уже не помогало ничего. Он подходил к административному корпусу и начинал кричать, сначала не очень громко, как это делают артисты оперного театра во время распевки, потом, набрав побольше воздуха в легкие, во все горло вещал о том, как в прежние времена воровал курей в каком-то колхозе вместе с генеральным директором таксопарка… Конечно, кто при советской власти не воровал? Но зачем выносить сор из избы?
Миша обычно кричал долго. Никто к нему не подходил: а вдруг он еще что-нибудь вспомнит? Успокаивать его тоже не следовало, это только распаляло оратора, и он чувствовал в себе силу невероятную. Если Михаила никто не трогал, он начинал описывать круги вокруг административного здания, ожидая встречи с директором, но тот не хотел его видеть, и не выходил.
Через какое-то время горло начинало побаливать, он садился в любое выезжающее на смену такси, а водители уже знали, куда его везти. Мишу доставляли к дому его бывшей жены, работавшей диспетчером в таксопарке. Ее квартира располагалась в доме на улице Бебеля, напротив управления КГБ, но Михаил не собирался кричать о государственных тайнах. Он вопил под окнами своей бывшей супруги о тайнах их прежней интимной жизни и о ее недостойном, по его мнению, поведении в кровати.
Бывшая жена иногда огрызалась через окно, и на Мишу это действовало, как красная тряпка на быка. Он становился подвижным до вертлявости и показывал с двух рук сразу всякие неприличные фокусы. Когда его выступления начинали надоедать бывшей теще, и она высовывалась в окно, чтобы морально поддержать свою дочечку, Мишу прорывало окончательно:
— А ты расскажи своей мамочке, как ты у меня … сосала!
Окно моментально захлопывалось, и Михаилу ничего не оставалось, как уходить в сторону Молдаванки, где он жил…
На другой день Миша опять вел себя очень спокойно, даже интеллигентно, и никто не слышал от него плохого слова.
Водители таксопарка его иначе не называли, как Мишкой-бандитом, а у него при себе никогда не было даже перочинного ножичка. Единственным оружием Михаила было его пьяное горло. Оно его и подвело.
По Молдаванке проходили мутные личности, по всей видимости из отсидевших блатных. Пьяный Миша, прияв их за обычных фраеров, стал кричать:
— Всех перережу!..
Один из блатных что-то негромко Мише сказал. Его слова подействовали как укус Жучки-собачки за больное место… Миша, вместо того, чтобы просто замолчать, кинулся с криком на обидчика, и тут же обмяк. Пырнули его заточкой, и, даже не обернувшись, пошли в сторону Косвенной.
Водители долго вспоминали Мишку-бандита, который бандитом никогда не был.
Гут морген, сахарин!
Для связистов на любом предприятии не бывает незнакомых помещений. Приходится устанавливать телефоны, ремонтировать линии. Очень скоро я узнал всех работающих на предприятии начальников и их подчиненных. В административном корпусе, кроме них, располагался таксометрный цех, в котором всегда было шумно и весело. В обед там жарилась картошка на сале с луком, иногда с мясом, и этот запах, распространяясь по длинному коридору, щекотал ноздри руководству.
Слесарю Жорику исполнилось восемнадцать лет, когда наши войска освободили Одессу. Прошел с боями всю Европу, закончил войну в Берлине. Был он таким, как все, и веселился с немками не лучше, и не хуже других, но подошло время показать новым немецким властям, что Красная армия пришла не только их насиловать, но и освобождать…
Жорику не повезло — он оказался крайним. Отсидел свое, вернулся домой. Статья у него была не такая страшная, как «враг народа», и ему разрешили работать слесарем. Опыт последних лет подсказал ему, как себя обезопасить от стукачей. Над своим верстаком Жорик повесил громадный портрет Карла Маркса в золоченой раме, о котором, в своем кругу говорил с хитроватым прищуром:
— Посмотрите, какой приятный дедушка! Это — мой Карлик! — и, осмотревшись по сторонам, добавлял: — Навыдумывал всякой херни, а мы должны жить при этих порядках…
Своих клиентов и друзей Жорик приветствовал на чистейшем немецком языке, не скрывая своих познаний:
— Гут морген, сахарин!
— Йо, йо! — вторили ему наши «пылеглоты», доказывая, что и они не только лыком шиты.
— Русиш культуриш! — добавлял Жорик, подчеркивая свою высокую культуру и образованность.
— А хули-ишь? — отметали все сомнения по поводу его личных качеств друзья.
Как-то при мне зашел его друг детства с восемнадцатилетним сыном, и стали они громко, захлебываясь словами, вспоминать, как в молодые годы на пересыпьской квартире у Жорика, «давали банку». Сынок друга с голой задницей сидел на дощатом полу и шпаклевал щели собственными испражнениями.
— Как время бежит! Теперь идет в армию. Что он будет там размазывать? — умилялись своим воспоминаниям друзья.
Любили собираться в этом цеху водители в возрасте за пятьдесят. Среди них были и те, кто встречался на Эльбе с американцами, помнили их восторженные лица, их отношение к русским солдатам. Слегка соприкоснувшись с немецкими войсками, они прекрасно понимали, чего стоило Советской Армии отступление до Сталинграда, бойня в разрушенном городе и наступление до Эльбы — это было почти все, что знали солдаты союзников.
Вспомнил один из таксистов, как его окружили американские солдаты, водители студебеккеров, и стали угощать всем, чем располагал «второй фронт». Он выпил, затем стал объяснять, что его грузовик, тоже «Студебеккер», нуждается в ремонте, поэтому пить он больше не может. Американцы рассмеялись — смешную причину нашел этот русский… Таксист вспомнил, как тяжело тогда утром просыпался, крутя больной головой в поисках своего грузовика. Своим видом он еще больше рассмешил веселых американцев. Солдаты со смехом усадили его за импровизированный стол, повторили встречу, и вручили ключи от новенького студебеккера. «Твой металлолом тебе больше не нужен!» — это он понял по жестам и мимике союзников.
Жорику Шафрану тоже было что вспомнить о Берлине. Встречался и он с солдатами оккупационных союзных войск:
— Во всех поездах были вагоны, в которых немцам запрещали ездить. Мне было стыдно садиться в эти вагоны, но ездить вместе с немцами строго запрещалось. По сравнению со светлой опрятной униформой союзников наше порыжевшее и оборванное обмундирование выглядело убого. Русская военная форма очень хороша для передвижения ползком по грязи на большие дистанции, прозябания в окопах, лежания в братских могилах, но она плоховато смотрелась в побежденном Берлине.
В поездах советские солдаты и офицеры, не всегда вовремя снабжавшиеся папиросами, скручивали толстенные махорочные «козьи ножки» и пыхтели самосадом. Американцы, англичане и французы спешили угостить их «Честерфилдом», чтобы не угореть.
Позже наших военных переодели в приличную форму оккупационных советских войск. Офицерам разрешили привезти свои семьи в Германию. В основном, жены были колхозницами, которым повезло. Они стали покупать одежду в немецких магазинах и наших военторгах, расположенных на территории воинских частей, частично снабжавшихся из резерва союзников.
Колхозницы накупили недорогих ночных рубашек и стали, глядя одна на другую, гордо разгуливать в них по городкам восточной Германии. В войска был направлен срочный приказ, запрещавший женам наших офицеров и сверхсрочников появляться на улицах в нижнем белье. Женщины были не виноваты: о существовании таких предметов туалета они, в основном, узнали там, в Германии.
Как-то соседка рассказала маме анекдот:
Пришла колхозница в магазин, и спрашивает:
— У вас бухгалтер е?
— Сейчас нет, есть только заместитель.
— Нэхай будэ заместитель, абы цыцкы трымав!
По своей трагичности судьба Якова Григорьевича Бондарского, работавшего в том же цеху, была схожей с судьбами многих одесситов, да и вообще советских людей. Отслужил он во фронтовой разведке всю войну. Везунчик — вернулся без единой царапины, и уверовал в свой ум и фортуну.
В Одессе для него нашлось место водителя грузового автомобиля, и жил он по тем временам безбедно. Вез как-то из колхоза полный кузов девушек в город. Проезжали пшеничное поле, и девушки затарабанили кулаками по крыше кабины. Яша остановился. Девушки резво побежали в поле. Вскоре вернулись. Некоторые держали в руках букетики маков с колосками пшеницы. Смеялись. Утром Бондарского вызвали в милицию:
— Яков Григорьевич, вы видели женщин, несущих с поля колоски пшеницы к машине?
— Нет, девушки остановили автомобиль, и попросились посетить поле по естественной надобности. Это все, что я знаю, а подглядывать за такими делами — не приучен.
Следователь:
— Позвольте Вам не поверить. Существует закон, по которому похитившему с поля три колоска зерновой культуры полагается срок заключения до пяти лет, а Вы являетесь соучастником преступления!
Завели дело по статье «знал — не сказал», и Якову пришлось ехать к Ковпаку (так ему посоветовали), который пообещал помочь:
— Если все обстоит так, как Вы рассказали — вас простят.
Со временем все забылось. Яков больше свою фортуну не испытывал, но…
В 60-е предложили ему высокооплачиваемую работу. Кому же не хочется заработать?
Яков стал доверенным лицом хозяина подпольной артели. Однажды его послали в Москву, передать министру легкой промышленности СССР пакет с миллионной взяткой. В Одессу он привез какой-то хитроумный оверлочный станок прямо с ВДНХ. Но артель уже находилась под пристальным вниманием КГБ.
Вскоре коммерсанты были арестованы, и стали во всем чистосердечно признаваться. Вызвали и Якова. Ему ничего не оставалось, как все рассказать, но настаивать на том, что он не знал, что было в пакете. «Хозяин» на очной ставке очень просил Яшу признаться, но Бондарскому никак не хотелось сидеть даже в компании министра. Уперся он, как говорят, рогом.
Держали Яшу в КПЗ КГБ ровно столько, сколько разрешено законом, потом выпускали до вечера. А в сумерки снова забирали, и везли в следственный изолятор. Именно его показаний не хватало для ареста министра. В течение нескольких месяцев Яков потерял здоровье на нервной почве. Иронизируя по поводу своего ума, он бравировал:
— Я — умный, но мало… Мой сосед всю жизнь проработал слесарем, так он имеет дачу, машину, а я нажил нервную болячку…
Жорик подначивал Яшу:
— По какому такому праву? На каком таком основании?
Оба они хорошо знали свои «права и основания».
Иногда Яков вспоминал довоенные времена, когда он мечтал о большой дружной семье. Тогда водители автомобилей были в таком же почете, как теперь космонавты, а может, и в большем. По крайней мере, нередко можно было видеть милиционера, охраняющего сон пьяного водителя. ОРУДовец стоял рядом с автомобилем, в котором спал шофер, и отгонял зевак:
— Отойдите, товарищи! Вы что, пьяных не видели? Дайте отдохнуть шоферу!
И он не покидал пост до тех пор, пока водитель не проснется, и не уедет.
Как-то я разговорился с Яковом о его здоровье:
— Толик, с тех пор, как мне повредили нервную систему, у меня часто болит голова. Не действуют никакие таблетки, зато я стал таким сексуально озабоченным, каким не был никогда! Заметь, все, у кого с головой не в порядке, вплоть до лежащих в дурдоме, в половом отношении — гиганты. Наверное, природе не нужно много умных. Дурак никогда в себе не сомневается. Он — самый умный, и все! Поэтому глуповатые чаще добиваются в жизни успеха. На всю жизнь им хватает одной, часто навязанной им, мысли. Ей дурак может следовать до конца своих дней… Умный же во всем сомневается, а что говорит народная мудрость? — «Дуракам счастье»! — Яков поднял указательный палец выше головы, что означало: «Я все понял в этой жизни, и все сказал!»
Таксисты со Средней
Семейное благосостояние таксистов в среднем было выше, чем у работников сферы обслуживания населения, сравнивать его можно было только с достатком работников торговли и моряков. Наши водители «имели свою кастрюлю» по-разному: одни развозили проституток от ресторанов, другие обслуживали игроков в карты, третьи ожидали своих клиентов возле железнодорожного или морвокзала, и лишь немногие блуждали по городу неприкаянными. Эти выискивали пассажиров на улицах, определяя по внешнему виду их платежеспособность… У всех таксистов были свои приемы, привлекающие выгодных клиентов. Железнодорожный вокзал обслуживали самые веселые:
«В синитории нема отдыху!» — громко оповещали они приехавших отдыхать по профсоюзным путевкам в санатории и дома отдыха. Таких, обычно, встречали представители этих оздоровительных учреждений с большими плакатами на груди или в руках, но кто мог удержаться и не сесть в такси?
Приехавшие на отдых просто не могли отказаться от поездок с веселыми красавцами-таксистами, развлекавшими их всю дорогу до санаториев, где, по их меткому выражению, не могло быть отдыха…
Водителей, слесарей, диспетчеров, бухгалтеров работало в таксопарке на Средней около полутора тысяч человек. Они не делились на отдельные группы людей, занимающихся своим делом. Все были близко знакомы. Водители стремились попадать на ТО к «своим» слесарям, а те заранее готовили подъемники для «своих» водителей.
К автомобилям таксисты относились, как к своим кормильцам, и любили их, почти как женщин. Слова подкрепляли делами — на замену деталей денег не жалели. Даже в свободное время собирались в таксопарке, играли в карты, в девятку, или выпивали недалеко от родного предприятия, «с веселою улыбкой на губе». Иногда очень быстро спускали «кастрюлю», заработанную за день нелегким трудом.
Самыми «хозяйственными» оказывались любители выпить. «Ангины» привозили после второй смены водку ящиками и продавали ее своим же собутыльникам с небольшой наценкой, получая свой «навар». Дороже продавали водку цыгане за воротами таксопарка, но зато — с вечера до утра… Милиция иногда делала на них облаву, производила «много шума из ничего».
Внутри предприятия воспитательная работа со стороны парторганизации, по профсоюзной и административной линии проводилась регулярно, с размахом. Махали руками в разные стороны, но без обидных выражений. Запомнился случай, когда на общем партсобрании публично обличали коммуниста, который в третий раз уходил от пятой жены. Он каялся, но не мог согласиться с теми, кто хотел его заставить остаться в семье. Под конец выступил сам секретарь парткома:
— Что ты ищешь? Женщину, которая не любит деньги? Такой не найдешь! По себе знаю…
Спорных вопросов было много, но обычно они решались на месте — сор не выносят из избы — посредством нейтрального лица, которому оба спорщика доверяли. Как в анекдоте про двух евреев, которые не могли прийти к единому мнению, и пошли к раввину:
— Раби, дело было так…
Раввин:
— Как говорите — Вы правы!
Второй:
— Раби, дело было наоборот, так…
Раввин:
— Как говорите, так-таки Вы правы!
Стоящий рядом третий еврей возмутился:
— Раби, как же так, они говорят противоположные вещи, и оба правы?
Раввин, подумав:
— Как Вы говорите — так и Вы правы!
Конечно, при любом исходе дела, таксисты распивали мировую…
Таким миротворцем был друг Якова Бондарского, Зюня. Он больше смеялся, чем разговаривал, но всегда был прав, потому что говорил иносказательно. Когда я однажды захотел уточнить что-то в разговоре с ним, Зюня со смехом сказал:
— У Толика хорошая голова, но русскому досталась!
То, что по Зюниному мнению, русскому не дано «догнать» смысл еврейского высказывания, меня, по правде, задело. Я стал анализировать Зюнины тирады и, постепенно, «догонять», а иногда, и «перегонять» то, что было сказано. Иногда, к его удивлению, мне удавалось найти в них то, чего хитрый Зюня даже и не имел ввиду…
Я вспомнил заправщика шариковых авторучек с вокзала. Рассказал Зюне, и он развеселился больше, чем от хорошего анекдота.
Предприятие располагало большой территорией в Беляевке, там могли отдыхать таксисты со своими семьями в оборудованных домиках. Рядом — реки Днестр и Турунчук с их камышовыми зарослями.
В административном здании редко пустовал огромный зал, способный вместить тысячу человек. Собирались торжественные собрания, посвященные разным датам, с традиционными тогда награждениями. У предприятия АТП 15101 был свой духовой оркестр, и он всем поднимал настроение.
К двадцатилетию одесского таксопарка выпустили значки, которые вручались всем работникам предприятия, а в арендованном по такому случаю Украинском театре состоялось торжественное собрание, окончившееся концертом нашего оркестра и грандиозным банкетом.
Водитель по фамилии Кац, имевший кличку «Кацап», танцевал вприсядку посреди большого зала. Оркестр аккомпанировал ему до тех пор, пока он не начал спотыкаться, а затем не уселся на паркетный пол в изнеможении, под аплодисменты присутствующих.
Собирали водителей не только в торжественные дни, но и для проработки. На таких собраниях администрация, партком и любители разоблачений опять выступали с резкой критикой в адрес тех, кто тормозил поступательное движение к коммунизму, и недодавал сверхплановую прибыль. Выступающие рвали на себе рубахи и волосы, кричали:
— Давайте смотреть правде в глаза!
Зал затихал, и зрачки водителей устремлялись в разные стороны. Каждый понимал правду по-своему, и никто не знал, куда глядят ее глаза.
Таксопарк постоянно застраивался новыми помещениями, цехами, которые возводились под руководством молодого, энергичного инженера — строителя Крутоногого, работавшего хорошо, но недолго. Вскоре после увольнения его водили по территории предприятия в наручниках, и он объяснял следователям, «как заработал свой первый миллион».
После увольнения инженер поехал на Урал, там купил по поддельным документам вагон цинковых белил, которых очень не хватало в торговой сети Одессы. В центре России, на каком-то полустанке, этот вагон отцепили. Крутоногий нашел начальника станции, и предложил ему тысячу рублей за ускорение перевозки. Начальник был членом партии, никогда таких денег в руках не держал, и вообще для решения вопроса там хватило бы одной бутылки водки… Честный железнодорожник сразу же бегом побежал «куда надо», а бывший инженер-строитель «загремел под фанфары». Он не мог жить иначе, деньги липли к его рукам, но «жадность фраера сгубила».
Строитель не был единственным выявленным преступником в таксопарке. Веселый водитель Жорик, от которого никто не ожидал нарушений правил валютных операций, пошел как-то в ресторан «Красный». Подгулял. А при расчете показал официанту портмоне, в отделениях которого были разложены советские рубли и доллары:
— Как будем рассчитываться?
Пьяная похвальба была оценена по достоинству. Доллары тогда нельзя было показывать по секрету даже самому себе. У Жорика дома произвели обыск, обнаружили свадебные золотые кольца, которые приобщили к зеленой двадцатке, и стал он называться опасным валютчиком.
На собрании стали разбираться, как он докатился до жизни такой…
Романтик Жора поехал на целину, чтобы прославиться. Вскоре жратва кончилась, и водка тоже. На холодной казахстанской земле лежат лопаты, доски, гвозди — работай «до не хочу». Сельские комсомольцы так и стали делать. Жорик предпочел «не хочу», и без документов (их у него отобрали по приезду на комсомольскую стройку), бежал домой без оглядки, замечая только, как навстречу ему «едут новоселы — морды невесёлы»…
Приехал домой грязным, голодным, но обогащенным жизненным опытом. Трудовыми подвигами прославляться он больше не жаждал. Дома его документы, кроме паспорта и комсомольского билета, сохранились. В милиции Жорику выдали новенький паспорт «взамен утерянного».
Вот это все ему и припомнили…
Позже, лет через тридцать, когда доллары уже можно было показывать, наш водитель, Андрей, понял такое разрешение излишне буквально. Зашел с ребятами «добавить» в гастроном на Троицкой. При расчете вынул деньги, среди рублей в пачке было несколько однодолларовых купюр. Оплатили «банкет», разошлись. Андрей зашел в свою парадную на Успенской, и здесь на него напали какие-то сосунки, но их было много. Повалили, долго избивали. Последнее, что он запомнил после того, как из его карманов все выгребли, были слова:
— Пошли, дед уже не оклемается…
Кто-то из соседей вызвал «скорую». Отхаживали Андрея несколько месяцев, вернулся в таксопарк он тяжело больным…
Я видел его, когда он приводил в порядок свой таксомотор после длительной разлуки. Автомобиль выглядел таким ухоженным, сверкающим хромированными деталями, с теми же, что и раньше, веселыми подвесными мартышками…
Водители помогли Андрею материально. Знавшие его таксисты стояли на КТП с фуражками, и заезжающие, как всегда, когда у кого-то случалось горе, совали в эти фуражки кто сколько мог, и не скупились.
Это — давняя традиция таксистов, помогать попавшим в беду и их семьям.
А работа в самодеятельной бригаде связистов шла своим чередом. Бригадира или просто руководителя у нас не было. Все вопросы решались сообща. Миша Кушпиль любил и умел договариваться об объемах работ. При этом он ловко пользовался национальной неопределенностью своей фамилии: когда он договаривался с заказчиком-евреем, то представлялся протяжно: — Ми-и-иша Ку-у-шпиль, — с ударением на первом слоге, а с русским — ударение переносилось на второй слог, и фамилия произносилась кратко, на одном дыхании.
Вырос он в детдоме, и сам не знал, кто по национальности. Рано утром Миша непременно был должен выпить стакан водки, при этом его щеки надувались, как у большой лягушки, а лицо становилось пунцовым. Внутри его этот стакан не держался, и он бодро выливал выпитое обратно, в заранее подставленное ведро, при этом сразу восстанавливая силы и внешнюю солидность. Борис Соколов, телефонист из санатория Чкалова, не мог без содрогания и сочувствия смотреть, как Миша «поправляет здоровье», да и мы с Митей в такие минуты отворачивались… Никто Кушпилю не завидовал.
В какой-то месяц бригада получила деньги за халтуры сразу на нескольких предприятиях. Вышло рублей по 600 каждому, по тем временам — очень много. Решили отметить. Посидели в ресторане «Кавказ». Вышли к полуночи, подошли в «Театральный». Официантка встретила нас весело. Борис стоял у входной двери «пятки вместе — носки врозь», и производил всем туловищем немыслимые круговые движения. Митя попросил шампанского.
— Мне не жалко, но как явится домой это чудо? — засмеялась официантка.
Вышли на Преображенскую, стали «рассуждать». Подошла немолодая проститутка, молча стала слушать наши умные речи. Митя спросил:
— Толя, пойдем с ней?
— Да пошла она…
Мы были в такой кондиции, что она не могла ожидать такого ответа, и надеялась на лучшее отношение. Женщину прорвало:
— Дома их жены ждут, а они здесь по ночам шатаются, пьяницы! — запричитала она во все горло.
Этот крик нас несколько отрезвил, и, вняв справедливому упреку проститутки, мы разошлись по домам.
На следующий день в таксопарке, как и на всех предприятиях, проходило отчетно-выборное партсобрание, как обычно, с выбиванием пыли на грудях выступающих, и с клятвами верности партии и правительству. Неожиданно меня выдвинули в члены парткома, проголосовали, и оказался я там. Все избранные вместе с генеральным директором были доставлены на таксомоторах в ресторан «Киев», где уже был накрыт длинный стол. Секретарь Ильичевского райкома торжественно поздравил нас с высокой честью…
На первом заседании парткома принимали в кандидаты двух молодых водителей. Вошел первый. Пожилой таксист, старейший член парткома, спросил:
— Что Вы скажите по поводу статьи Владимира Ильича Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»?
Вникать в суть вопроса я не стал, но подумал: «Ни хрена себе!»
Водитель промямлил что-то неопределенное, университетов он не кончал, статьи не читал, но в целом политику партии понимал… В общем, как-то обошлось.
Вошел второй. Тот же старейший член задает тот же вопрос. По всей видимости, из всего научного коммунизма он не знал ничего, кроме мудреного названия ленинского опуса, но этого ему хватало на все годы членства в парткоме, и его эрудицию ценили высоко.
В одной из автоколонн коммунисты избрали председателем народного контроля молодого парня, понимавшего свою должность слишком прямолинейно. Колеса его нового автомобиля, обычно, были проколоты. Его это не останавливало…
Никто не смел посягать на «святая святых» — работу автослесарей, проверяющих техническое состояние автомашин при возвращении в гараж. Движения рук из ямы были такими же незаметными, как и встречные, с рублем между пальцами. Столько же совала в карман белого халатика медсестричка, визуально проверявшая «техсостояние» выезжавших водителей. На одном из заседаний парткома зачитали заявление водителя-коммуниста:
«В связи с тяжелым материальным состоянием, прошу предоставить мне место автослесаря на КТП».
Он не догадывался, что такую должность не предоставляют нуждающимся коммунистам, а только тем, кто хорошо усвоил поговорку «сам будешь есть — подавишься».
Однажды в таксопарке отключили напряжение. Делать нечего, и яков Бондарский задумчиво сказал:
— Толик, вот ты окончил техникум, институт. Объясни мене, старому еврею с поврежденной нервной системой, как у коммунистов получается все, что они провозглашают? Коллективизацию провели, индустриализацию одолели, в войне победили, за считанные годы восстановили разрушенную страну… Я тут посчитал, почти на пальцах: до войны в нашей стране жили сто шестьдесят миллионов человек. Для Сталина произвели перепись населения немного по-другому, чтобы напугать Гитлера, но ладно… Около тридцати миллионов погибло во время войны, примерно десять, попавших в плен, поселились в ГУЛАГе. А там уже сидело миллионов двадцать «врагов народа» и уголовников. В стране не может быть менее пятидесяти миллионов стариков и детей со студентами. Работают в «органах» и служат в армии пять миллионов. В колхозах голодных крепостных — миллионов двадцать. Кто же восстанавливал хозяйство, кто строил «хрущевки», ведь оставалось у Никиты Сергеевича не более 25 миллионов работоспособного населения, включая горлопанов-коммунистов и комсомольцев, от которых мало проку? Я не удивлюсь, если они выполнят и продовольственную программу! Вот только за счет кого?
Над трудовыми ресурсами страны я не задумывался до этого разговора. Ни в техникуме, ни в институте об этом никто не говорил. Как же обыкновенный слесарь, над которым вовсю поиздевались «органы», додумался до такого?
— Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. За счет кого? За счет чего? — не унимался Яков Григорьевич.
— Яша, — попытался успокоить его я, — уже давно нет Никиты Сергеевича в Кремле, а ты все нервничаешь, хочешь знать за счет кого можно строить коммунизм. При Сталине его строили за счет ГУЛАГа, а теперь — не знаю!
— И для этого тебя столько лет учили? — удивленно посмотрел на меня Яков Григорьевич. — Тьфу на вашу учебу! — Яков смачно плюнул под верстак.
Государство делало вид, что оно платит, а его граждане делали вид, что работают. Эта связь стала заметной всем, и задумались умные головы в Москве над «научной организацией труда». Повсеместно открыли лаборатории НОТ.
Денег не жалели, усадили за столы молоденьких девочек, окончивших экономические факультеты ВУЗов. Они с умным видом обходили все участки предприятий, вносили рекомендации по перестановке столов и стульев, верстаков и окошек кассиров. Экономический эффект от своих предложений они подсчитывали сами, он оказывался баснословным. От каждого из таких действий производительность труда возрастала в разы… И водителям увеличивалось плановое задание, а руководству и инженерам НОТ начислялась дополнительная премия.
Молоденькие женщины легко защищали кандидатские и докторские диссертации, становились главными экономистами и главными инженерами крупных предприятий.
Иногда связистам хотелось отдохнуть от повседневных забот. Как можно жить, жить и не крикнуть? В мастерской оставались радиомастера низкой квалификации, умеющие заменить радиостанцию или антенну. Оповещались заранее Миша, Борис, назначалась встреча на Привозе. Тщательно подбиралась закуска: свежие и соленые огурцы, помидоры, крестьянская колбаса, копченое мясо, сало, селедка, и все, «что нам улыбалось». Покупали также граненые стаканы по 8 копеек за штуку, и к ним — водку, столько, сколько по нашим расчетам, должно было хватить. Хлеб и минеральную воду покупали возле парка Шевченко. Торбы получались тяжелыми, и приходилось брать в качестве тягловой силы «молодого», с которого денег обычно не брали.
Приезжали к морю на склон возле пляжа «Отрада», расстилали газеты. Все раскладывалось со вкусом, так, чтобы глазу было приятно смотреть на этот «стол». Рассаживались вокруг на камни, которые обычно находились под кустами, и начинали «гудеть». На природе, «с видом на море и обратно», отдыхалось долго и весело. Когда дыхание становилось как у голов Змея Горыныча, Митя Калинчак начинал разговор на политические темы:
— Почему теперешним молодым придуркам не нравится советская власть? Мы, рабочий класс, пьем и закусываем возле моря, в рабочее время, нам платят за это зарплату, причем в нескольких местах, еще и премируют! Какой капиталист будет относиться к своим рабочим так же, или хотя бы будет такое терпеть?
В нашем состоянии следовало отдохнуть немного времени, но как же не выпить за родную советскую власть, после такого тоста? Ветерок, пахнущий морем, приятно щекочет, и солнышко пригревает… и власть, в самом деле, такая хорошая… Закуска еще остается, и уже молодой знает, куда его пошлют — не туда, куда обычно, а еще за водкой. К вечеру добирались по домам. Язык слушался трудно, нужно было срочно спать.
На следующий день на работу не опаздывали. Работали не ударно, но все-таки… К одиннадцати спускались в столовую, где всегда были хорошие недорогие обеды. В это же время приходили обедать служители Фемиды из женской тюрьмы, расположенной выше таксопарка на один квартал. По слухам, в тюрьме был организован бордель для высокопоставленных городских чиновников, но это по слухам… Молодые девушки-лейтенанты, служившие там, выглядели предельно высоконравственно. После обеда наше настроение поправлялось настолько, что можно было снова заниматься ремонтом аппаратуры любой сложности.
Половой гигант
Допустим для удобства, что этого водителя звали Николаем. По причинам, которые станут понятным читателю чуть позже, истинное имя этого персонажа останется неизвестным.
Таксист этот избегал попадать после смены в общую душевую. Острые на язык водители прозвали Николая «половым гигантом», поэтому опасаясь насмешек он предпочитал мыться дома. Все дело было в размерах его мужского достоинства, которые по мнению окружающих, выходили за разумные рамки. Сам обладатель этого предмета, возможно, бывшего объектом тайной зависти, конечно же не был виноват в том, что природа так щедро его наделила.
Николай трижды женился, и столько же раз супружеская жизнь не складывалась. Он потерял всякую надежду на создание благополучной семьи, к чему стремился всей душой, и стал закоренелым холостяком.
Вместе с другими одинокими водителями, Николай ставил свою «Волгу» на стоянку возле аэропорта и ожидал прибывающих авиапассажиров, считавшихся хорошими клиентами. Некоторые таксисты, не теряя времени, пользовались услугами проституток, гнездившихся в этом районе, но «гигант» избегал и этих мимолетных встреч. Однажды случилось так, что он не выдержал соблазна и поддался на уговоры одной из жриц продажной любви. Еще двое коллег записались в очередь на услуги этой дамы — они в предвкушении неизбежной, по их мнению, комической ситуации, заранее криво ухмылялись, разыгрывая на спичках последовательность.
Николаю выпало первое место, но увидев огромный предмет, проститутка умчалась на рысях под рев турбин, доносившийся с взлетной полосы, забыв трусы, с криком «Ну его на хер!» Несчастному таксисту оставалось лишь крикнуть вдогонку: «А что тебе не нравится?»
Осле этого случая аэропортовкие проститутки, шушукаясь, издалека тыкали в него пальцем, предупреждая друг дружку об опасности. Но нашлась одна из них, которая трудностей не убоялась. Она была пьющей и страшной на вид до невозможности. По пьяному делу их «сосватали» друзья-холостяки. Николай протрезвел, смотреть на свою «подругу» он даже не мог и поспешил ретироваться.
С этого дня начался его кошмар, спускающийся на крыльях ночи. Женщина каждый вечер подстерегала таксиста на КПП, останавливала его автомобиль, когда он заезжал в гараж — в общем, обложила его со всех сторон.
Николаю пришлось покидать родной таксопарк, перелезая через забор, причем места бегства приходилось часто менять. Эта история продолжалась несколько месяцев. История умалчивает о том, чем она кончилась.
Послесловие соавтора
Некоторых, хотя и не всех описанных персонажей мне довелось узнать лично, о других я слышал устные рассказы.
Толик Тит, один из ближайших друзей отца, к сожалению, трагически погиб на заводе, где он работал в цехе закалки. Как там было дело, и кто виноват в случившемся, сегодня судить сложно, но он упал в ванну с разогретым машинным маслом. Ожог был ужасен — пострадала вся кожа от шеи до колен.
Тит, как рассказывал отец, лежал с подвешенными руками и ногами, обдуваемый вентиляторами, в полном сознании. Он попросил: «Толик, дай закурить». Отец попробовал ему возразить по поводу того, что ему нельзя — нужно выздоравливать, но наткнувшись на всё понимающий взгляд, прикурил папиросу и вставил ее в запёкшиеся от страдания губы. Титу оставалось жить несколько часов, и друг просидел рядом с ним до конца.
Люди, выросшие в сложных послевоенных условиях, были лишены многих радостей и благ, но у них было то, чему многие представители следующих поколения могли лишь позавидовать. Когда я был еще совсем маленьким, отец взял меня в гости к Толику Титу. Жил он с пожилой матерью, очень бедно. В комнате стояли две панцирные кровати, стол, тумбочка и шифоньер.
На шкафу располагался единственный предмет, представлявший хоть какую-то ценность — действующая модель аэроплана с моторчиком, выполненная по всем правилам. Мне тогда исполнилось года два, и такая игрушка явно не соответствовала моему возрасту. Заметив детский интерес, Тит достал самолет со шкафа и отдал его мне. Конечно же, вскоре он был разломан.
Такими были они — мальчишки и девчонки, чья юность пришлась на сороковые-пятидесятые. Их не нужно жалеть…
Примечания
1
ДДТ. — здесь и далее — прим. авт
(обратно)2
Сармачной.
(обратно)3
Это когда кто-то кричал: «Не, это я тебе таки клянусь!»
(обратно)4
В вольном переводе текст указанной песни повествует о прогулке двух женщин легкого поведения, а также пожелание исполнителя, чтобы они его поцеловали в задницу. Впрочем, либретто можно воспринимать как фонетическую игру слов, в целом характерную для джазового стиля.
(обратно)5
В смысле, скорее закругляйся.
(обратно)6
Так звали американских моряков, да и польских тоже.
(обратно)7
Иностранцу.
(обратно)8
«Люки-стрюки».
(обратно)9
Тетя Двойра — синоним слова страх.
(обратно)10
Потом — Жовтневого.
(обратно)11
Старыми.
(обратно)12
Советской Армии.
(обратно)13
Ярославского и Чичерина.
(обратно)14
Александровском.
(обратно)15
Белом каучуке.
(обратно)16
В просторечии — «клубу еврейских казаков».
(обратно)17
Советскую.
(обратно)18
Так немцы называли все спиртное.
(обратно)19
Позже в этом здании был клуб железнодорожников.
(обратно)20
Серо-ртутная мазь. — Polochanin72.
(обратно)
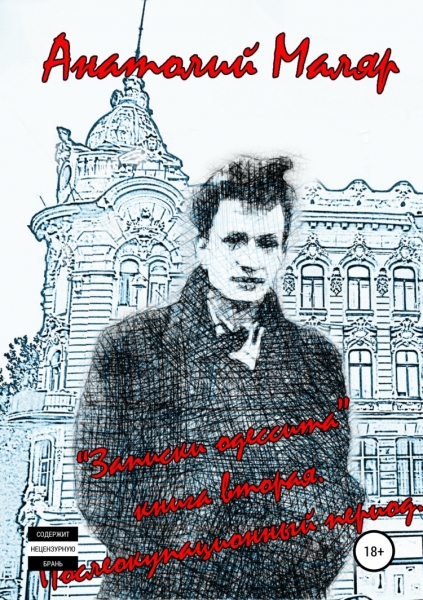




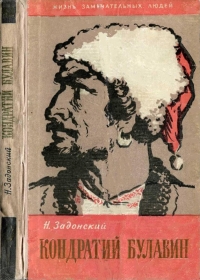

Комментарии к книге «Записки одессита. Часть вторая. Послеоккупационный период», Анатолий Семенович Маляр
Всего 0 комментариев