П.А. Вяземский.
Старая записная книжка.
П.А. Вяземский. Старая записная книжка.Составление, статья и комментарий Л.Я. Гинзбург Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1927
© Л.Я. Гинзбург, составление, 1927
© Оцифровка и вычитка – Константин Дегтярев
Впервые опубликовано в сети на сайте «Российский мемуарий» ()
СТАРАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
1*
Державин, кажется, был чуток к одним современным и наличным вдохновениям. Поэтическая натура его не была восприимчива в отношении к минувшему. В стихах его Петру Великому нет ни одного стиха, ни одного выражения, достойного героя и поэта. Некоторые из воспетых им современников были счастливее; но зато Державин был несчастнее. Похвала недостойному лицу не возвышает хваленого, а унижает хвалителя. Впрочем, не следует заключить из этого, что Державин только льстецом и был, хотя и сказал, что раб лишь только может льстить. Он забыл или не чувствовал, что раб может молчать. «Если бы вы знали, как трудно написать хорошую трагедию», — говорил трагик, которого творения не имели успеха на сцене. «Верю, — отвечал ему собеседник его, — но знаю, что очень легко не писать трагедий». Так же легко не писать и похвальных од.
Многие из второстепенных произведений Державина если не по лирическому движению, живописи и яркости выражения, то, по крайней мере, по мыслям и чувствам, в них выраженным, должны оставаться в памяти читателей. Таковы, например, стихи: К Храповицкому, К графу Валерьяну Зубову, К Скопихину, Ко второму соседу. Мужество и некоторые другие стихотворения. Читая их, не скажешь, что Державин первый наш лирик, но признаешь в нем мыслящего поэта и поэта - философа.
Знавшим лично Оленина, который был необыкновенно малого роста и сухошав, нельзя без смеха прочесть стихи Державина к нему:
Нам тесен всех других покрой.
Иногда стихи его могут соперничествовать со стихами Хвостова. Например, из стихотворения Званка:
Иль в лодке вдоль реки, по брегу пеш, верхом.
Качусь на дрожках я соседей с вереницей.
По смыслу и течению слов выходит, что он на дрожках соседей катался на лодке по брегу пеш верхом.
И будто трубный глас восстал в пещерах мрачных,
И будто возгремел без молний гром в дали.
И будто бурная свирепствуя вода,
От солнечных лучей, как будто от огня.
Будто это поэзия!
2
О Хераскове можно сказать, что он сохранил до старости холодность, заметную в первых стихах его молодости.
3
Лучшая эпиграмма на Хераскова отпущена Державиным без умысла в оде «Ключ».
Священный Гребеневский ключ,
Певца бессмертной Россияды
Поил водой ты стихотворства.
Вода стихотворства, говоря о поэзии Хераскова, выражение удивительно верное и забавное!
4
Херасков где-то говорит:
«Коль можно малу вещь великой уподобить». И очень можно. В уподоблениях именно приличнее восходить, чем опускаться; но поэт сказал, однако же, о луне:
Ядро казалось раскаленно — и на ту минуту был живописцем.
5
Херасков чудесное, смелое рассказывает всегда, к дети рассказывают свои сны, с оговоркою: будто.
6
Посади меня на Хераскова одного на две недели, меня от стихов будет тошнить. Он не худой стихотворец, а хуже. «Чистите, чистите, чистите ваши стихи», — говорил он молодым людям, приходившим к нему на советование... И свои так он чистил, что все счищал с них: и блеск, и живость, и краску.
7
Беда иной литературы и заключается в том, что мыслящие люди не пишут, а пишущие люди не мыслят.
8*
Сумароков единствен и удивительно мил в своем самохвальстве; мало того, что он выставлял для сравнения свои и Ломоносова строфы — и (отдадим справедливость его нраводушию) лучшие строфы Ломоносова: он еще дал другое доказательство в простосердечии своего самолюбия. В прозаическом отрывке «О путешествиях» вызывается он за 12 000 рублей, сверх его жалованья, объездить Европу и выдать свое путешествие, которое, по мнению его, заплатит казне с излишком; ибо, считая, что продастся его 6000 экземпляров, по три рубля каждый, составится 18 000 рублей, — продолжает: «Ежели бы таким пером, каково мое, описана была вся Европа, не дорого бы стоило России, ежели бы она и триста тысяч рублев на это безвозвратно употребила».
Стихов его по большей части перечитывать не можно, но отрывки его прозаические имеют какой-то отпечаток странности и при всем неряшестве своем некоторую живость и игривость ума, всегда заманчивые, если не всегда удовлетворительные в глазах строгого суда.
В общежитии был он, сказывают, так же жив и заносчив, как и в литературной полемике; часто не мог он, назло себе, удержаться от насмешки, и часто крупными и резкими выходками наживал себе неприятелей.
Он имел тяжебное дело, которое поручил ходатайству какого-то г-на Чертова. Однажды, написав ему письмо по этому делу, заключил его таким образом: «С истинным почтением имею честь быть не вам покорный слуга, потому что я чертовым слугою быть не намерен, а просто слуга Божий, Александр Сумароков».
Свидетель следующей сцены, Павел Никитич Каверин, рассказал мне ее: «В какой-то годовой праздник, в пребывание свое в Москве, приехал он с поздравлением к Н.П. Архарову и привез новые стихи свои, напечатанные на особенных листках. Раздав по экземпляру хозяину и гостям знакомым, спросил он о имени одного из посетителей, ему неизвестного. Узнав, что он чиновник полицейский и доверенный человек у хозяина дома, он и его подарил экземпляром. Общий разговор коснулся до драматической литературы; каждый взносил свое мнение. Новый знакомец Сумарокова изложил и свое, которое, по несчастью, не попало на его мнение. С живостью встав с места, подходит он к нему и говорит: «Прошу покорнейше отдать мне мои стихи, этот подарок не по вас; а завтра для праздника пришлю вам воз сена или куль муки».
9
Английский министр при дворе Екатерины сказал на ее похоронах: «on enterre la Russie» [погребают Россию].
Недвижима лежит, кем двигалась вселенна, — сказал о ней же Петров в одной своей оде. В царствовании Екатерины так много было обаятельного, изумляющего и величественного, что восторженные выражения о ней натурально и как-то сами собою приходили на ум. Но зато эта восторженность наводила иногда поэтов и на смешные картины. Кажется, Шатров сказал в своем стихотворении на смерть Екатерины:
О ты, которую никто не мог измерить,
Теперь измерена саженью рук моих.
Написать бы картину: Шатров, на коленях пред гробницею императрицы, растягивает руки, как землемер или сиделец в лавке бумажных и шерстяных товаров.
10*
Воспоминания о Державине, переданные Дмитриевым
Солдатские жены, жившие с Державиным-солдатом, заметили, что он всегда занимался чтением, и потому стали просить его, как грамотея, писать за них письма к родственникам. Державин и писал их. После хотел он употребить в пользу свою писарскую должность и писал (Бакунин говорит — за деньги, за 5 и 10 коп. за письмо) письма, с тем чтобы мужья отправляли за него ротную службу, то есть ездили за мукой, счищали снег около съезжей и проч. Далее перекладывал он в стихи полковые поговорки, переписывал Баркова сочинения. Отпущен он был в Москву, которую сравнивал с развратным Вавилоном. Он сказывал эти стихи Дмитриеву уже бывши статс-секретарем. Дмитриев помнил, что были поэтические обращения к Кремлю.
11*
Дмитриев в записках своих нарисовал портреты некоторых своих современников по министерству и по Совету, и между прочим регента Салтыкова, который был ему недоброжелателен и вероятною главною причиною, что Дмитриев просился в отставку в то время, когда министры перестали докладывать лично. На Страстной неделе, в которую Дмитриев говел, попалась ему на глаза страница, означенная резкими чертами регента, и он, раскаявшись, вымарал главнейшие из своей тетради и из книги потомства! Движение благородное или, лучше сказать, добродушное! Уважаю движение, но не одобряю. Писатель, как судья, должен быть бесстрастен и бессострадателен. И что же останется нам в отраду, если
не будут произносить у нас хоть над трупами славных окончательного Египетского суда? Записки Дмитриева содержат много любопытного и на неурожае нашем питательны; но жаль, что он пишет их в мундире. По настоящему должно приложить бы к ним словесные прибавления, заимствованные из его разговоров, обыкновенно откровенных, особливо же в избранном кругу.
12
О нашем языке можно сказать, что он очень богат и очень беден. Многих необходимых слов для изображения мелких оттенков мысли и чувства недостает. Наши слова выходят сплошь, целиком и сырьем. О бедности наших рифм и говорить нечего. Сколько слов, имеющих важное и нравственное значение, никак рифмы себе не приищут. Например: жизнь, мужество, храбрость, ангел, мысль, мудрость, сердце и т.д. За словом добродетель тянется непременно свидетель. За словом блаженство тянется совершенство. За словом ум уже непременно вьется рой дум или несется шум. Даже и бедная любовь, которая так часто ложится под перо поэта, с трудом находит двойчатку, которая была бы ей под пару. Все это должно невольно вносить некоторое однообразие в наше рифмованное стихосложение. Дай слово добродетель сложилось неправильно: оно по-настоящему не что иное, как слово благодетель. А слово доблесть у нас как-то мало употребляется в обыкновенном слоге, да и оно рифмы не имеет. Иностранные слова брать заимообразно у соседей нехорошо; а впрочем, голландские червонцы у нас в ходу, и никто ими не брезгует. В том-то и дело, что искусному писателю дозволяется, за неимением своих, пускать в ход голландские червонцы. Карамзин так и делал. Делают это и англичане.
Вольтер говорил и о французском языке, что он тщеславный нищий, которому нужно подавать милостыню против воли его, А мы вздумали, что наш язык такой богач, что всего у него много и что новыми пособиями только обидишь его.
13
Прочтите в Российском Феатре[1] комедию Крылова Проказники, а после некоторые из басней его. Можно ли было угадать в первых опытах писателя, что из него выйдет впоследствии времени? Это не развитие, а совершенное перерождение. В Проказниках полное отсутствие таланта, шутки плоские и, с позволения сказать, прямо холопские. Впрочем, как комедии Княжнина ни далеки от совершенства, но в Российском Феатре глядит он исполином. Комедий Фон-Визина нет в этом старом собрании наших драматических творений. Вообще комедии наши ошибочно делятся на действия. Можно делить их на главы, потому что действия в них никакого нет. И лица, в них участвующие, ошибочно называются действующими лицами, когда они вовсе не действуют; а назвать бы их разговаривающими лицами, а еще ближе к делу — просто говорящими, потому что и разговора мало. В наших комедиях нет и в помине той живой огнестрельной перепалки речей, которою отличаются даже второстепенные французские комедии. Правда и то, что французский язык так обработан, что много тому содействует. Французские слова заряжены мыслию или, по крайней мере, блеском, похожим на мысль. Тут или настоящая перепалка, или фейерверочный огонь.
14
NN[2] говорит, что главная беда литературы нашей заключается в том, что, за редкими исключениями, грамотные люди наши мало умны, а умные люди мало грамотны. У одних недостаток в мыслях, у других недостаток в грамматике. У одних нет огнестрельных снарядов, чтобы сильно и впопад действовать своим орудием; у других и есть снаряды, но зато у них нет орудия. Литература есть выражение современного общества. Какое же тут выражение, когда многие и многие из этого общества чуждаются пера и не умеют им владеть? У нас была и есть устная литература. Жаль, что ее не записывали. Часто встречаешь людей, которые говорят очень живо и увлекательно, хотя и не совсем правильно. Нередко встречаешь удачных рассказчиков, бойких краснобаев, замечательных и метких остряков. Но все это выдыхается и забывается, а написанные пошлости на веки веков прикрепляются к бумаге.
15
Баснописец Измайлов — подгулявший Крылов.
16*
В.Л. Пушкин сказал сегодня стихи на новый год какого-то старинного поэта — помнится, Политковского:
Не прав ты, новый год, в раздаче благостыни;
Ты своенравнее и счастия богини.
Иным ты дал чины,
Другим места богаты,
А мне — лишь новые заплаты
На старые мои штаны.
Кажется, эти стихи никогда не были напечатаны. У нас довольно много подобной ходячей литературы: хорошо бы выбрать лучшие из нее стихотворения и напечатать их отдельною книжкою. В ней сохранились бы и некоторые черты прежней общественной жизни. До 1812 года была большая рукопись in-folio, принадлежавшая Храповицкому, статс-секретарю императрицы Екатерины. Это было собрание всех возможных стихотворений, написанных в течение многих десятков лет и не вошедших в печать по тем или другим причинам. Разумеется, главный характер этих стихотворений был сатирический, отчасти политический и отчасти далеко не целомудренный. Эта книга затерялась или сгорела в московском пожаре. Тут между прочим были стихотворения Карина и за подписью какого-то Панцербитора Вымышленное ли то имя или настоящее, не знаю; но в печати оно, кажется, неизвестно.
Много еще неизвестного и темного остается в литературе нашей.
К подобной ходячей литературе можно приписать и следующее четверостишие, которое князь Александр Николаевич Салтыков, вовсе не поэт, отпустил на Козодавлева, тогдашнего министра внутренних дел:
Министр наш славой бы гремел
И с Кольбертом его потомство бы сравнило.
Из внутренних когда бы дел
Наружу ничего у нас не выходило.
17*
Примите, древние дубравы.
Под сень свою питомца Муз.
Не шумны петь хочу забавы,
Не сладости цитерских уз:
Но да воззрю с полей широких
На красну, гордую Москву,
Сидящу на холмах высоких,
И в спящи веки воззову.
В этих стихах Дмитриева есть движение, звучность, живопись и величавость; но если всмотреться в них прозаическими глазами критики, то найдешь в них некоторые несообразности. Начать с того, что тут излишне сжаты топографические подробности. Тут и дубравы, и широкие поля, и холмы высокие, и город. Картины поэта должны быть так написаны, чтобы живописец мог кистью своею перенести их на холстину. А в настоящем случае трудно было бы ему соблюсти законы перспективы. Далее: нельзя войти одним разом в дубравы — можно войти в дубраву; в дубраве нельзя искать широких полей и с них смотреть на город, хотя и сидит он на высоких холмах. Дубрава заслоняет собой всякую даль, и видишь пред собою одни деревья.
Положим, что под древней дубравой (а все-таки не дубравами) поэт подразумевал рощу, посвященную музам: все же остается та же сбивчивость в картине. Другие стихи из того же стихотворения Дмитриева подал повод к забавному недоразумению. В первой книжке Сына Отечества была напечатана передовая статья с эпиграфом, взятым из Освобождения Москвы:
Где ты, славянов храбрых сила?
Проснись, восстань, российска мочь!
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная осення ночь.
И, разумеется, под эпиграфом было выставлено имя автора. В то время Дмитриев был министром юстиции, а граф Разумовский министром народного просвещения. Он был человек европейской образованности, но мало сведущ в русской литературе. Он принял это четверостишие за новое произведение, написанное Дмитриевым по случаю занятия Москвы Наполеоном. При первой встрече с Дмитриевым в Комитете министров обратился он к нему с похвалами и с сожалением, что новое прекрасное стихотворение так коротко. Дмитриев сначала понять не мог, о чем идет речь, и по щекотливости своей оскорбился предположением, что он, в своем министерском звании и при современных важных и печальных событиях, мог еще заниматься стихотворством.
Около того же времени Шишков читал в Комитете министров статью свою, предназначенную для обнародования известия о взятии Москвы. Дмитриев с авторским своим тактом не мог сочувствовать порядку мыслей и вообще изложению этой неловкой статьи, в конце которой кто-то падает на колени и молится Богу. Не желая, однако же, прямо выразить свое мнение, спросил он, в каком виде будет напечатано это сочинение: в виде ли журнальной статьи, или официальным объявлением от правительства. «У нас нет правительства», — с запальчивостью возразил ему простодушный государственный секретарь.
18
Ломоносов два раза в одах своих говорит о багряной руке зари. Первый раз в оде шестой:
И се уже рукой багряной
Врата отверзла в мир заря.
Другой раз в оде девятой:
Заря багряною рукою.
От утренних спокойных вод,
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год[3].
Ломоносова заря хороша, хотя русская заря не имеет нежности и прелести греческой Авроры с розовыми пальцами. В оде десятой:
Когда заря багряным оком
Румяней умножает роз...
Багряное око — никуда не годится. Оно вовсе непоэтически означает воспаление в глазу и прямо относится до глазного врача.
У Ломоносова в одах много найдется намеков и подробностей исторических, географических, и политических, и относящихся до науки. В нем виден более академик, нежели поэт. Но и поэт нередко прорывается в стихах твердых и звучных, и живописных. Вот пример политической или газетной поэзии, из оды пятнадцатой:
Парящий слыша шум орлицы, Где пышный дух твой, Фредерик, Прогнанный за свои границы? Еще ли мнишь, что ты велик? Еще ль, смотря на рок саксонов, Всеобщим дателем законов Слывешь в желании своем!., и пр.
Или ода семнадцатая:
Голстиния, возвеселися,
Что от тебя цветет наш крин.
Ты к морю в празднестве стремися,
Цветущий славою Цвейтин,
Хотя не силен ты водою,
Но радостью сравнись с Невою... и пр.
Вот вам и география, и вот еще она же:
Российского пространство света
Собрав на малы чертежи,
И грады оною спасенны,
И села ею же блаженны,
География, покажи.
(Ода десятая.)
Как хороши и поныне, и как поэтически верны следующие два стиха из оды десятой:
В середине жаждущего лета,
Когда томит протяжный день...
Выражения «жаждущее лето» и «протяжный день» так и переносят читателя в знойный июльский день.
Ломоносова, как и вообще всякого поэта не нашего времени, нельзя читать с требованиями и условиями нам современными. Ломоносов писал торжественные оды потому, что в его время все более или менее писали стихи на торжественные случаи. Нельзя ставить ему в вину некоторые приемы, как нельзя смеяться над ним, что он ходил не во фраке, не в панталонах, а во французском кафтане, коротких штанах, с напудренною головою и с кошельком на затылке. Он всегда с особенным одушевлением говорил о Елизавете. Называя ее Елисавет, он как будто угадал выражение принца де-Линя, который сказал: Екатерина Великий. Нелединский, знаток в любви, убежден, что кроме верноподданнического чувства в душе Ломоносова было еще и более нежное, поэтическое чувство.
Когда бы древни веки знали
Твою щедроту с красотой.
Тогда бы жертвой почитали
Прекрасный в храме образ твой.
(Ода вторая.)
Тебя, богиня, возвышают
Души и тела красоты;
Что в многих, разделясь, блистают
Едина все имеешь ты.
(Ода девятая.)
Коль часто долы оживляет
Ловящих шум меж наших гор,
Когда богиня понуждает
Зверей чрез трубный глас из нор!
Ей ветры вслед не успевают,
Коню бежать не воспрящают
Ни рвы, ни частых ветвей связь:
Крутит главой, звучит браздами
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь.
(Ода десятая.)
В последнем стихе есть в самом деле какое-то страстное одушевление.
В одной из своих од он говорит о Елизавете:
Небесного очами света
На сродное им небо зрит.
В другой:
Щедрот источник, ангел мира.
Богиня радостных сердец,
На коей как заря порфира,
Как солнце тихих дней венец;
О, мыслей наших рай прекрасный,
Небес безмрачных образ ясный,
Где видим кроткую весну,
В лице, в очах, в устах и нраве!
Вот строфа, согретая чувством гражданства:
Священны да хранят уставы
И правду на суде судьи;
И время твоея державы
Да ублажат рабы твои.
Соседы да блюдут союзы... и пр.
(Ода девятая.)
Услышьте, судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы.
И подданных не презирайте.
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу:
То Бог благословит ваш дом.
Эта строфа из оды на день восшествия на престол Екатерины II. Здесь как будто уже слышится Державин.
У Ломоносова встречаются странные выражения и понятия; например, он заставляет ветхого деньми говорить:
Я в гневе россам был творец,
Но ныне паки им отец.
Вообще, кажется по крайней мере неприличным подсказывать Божеству, если не баснословному, свои собственные мысли и слова. А нередко поэты грешат этою неприличностью.
И, Марс, вложи свой шумный меч.
Прилагательное шумный вовсе не идет к мечу.
И полк всех нежностей теснится.
Полк и нежности также не ладят между собою.
Пучина преклонила волны.
Странно, но вместе с тем смело и поэтически:
О, Боже крепкий, вседержитель,
Пределов росских расширитель.
Это так же странно и смело, но уже вовсе не поэтически и неблагоприлично. Далее говорит он:
Как нынь Россию расширил,
а после:
Воззри, коль широка Россия —
От всех полей и рек широких.
Взывая к Богу, поэт говорит:
По имени петровой дшери,
Военны запечатай двери.
Здесь отзывается какое-то полицейское действие.
Моей державы кротка мочь
Отвергнет смертной казни ночь.
Когда пучину не смущает
Стремление несильных бурь,
В зерцале жидком представляет
Небесной ясности лазурь.
Не забывал профессор-поэт и метеорологических наблюдений:
Наука легких метеоров,
Премены неба предвещай,
И бурный шум воздушных споров
Чрез верны знаки предъявляй:
Чтоб ратай мог избрати время,
Когда земле поверить семя
И дать когда покой браздам;
И чтобы, не боясь погоды.
С богатством дальним шли народы
К елисаветиным брегам.
Труженик науки, в споре с разными препятствиями, а может быть, и несколько беспокойного нрава, Ломоносов не имел времени вслушиваться в вдохновение, навеваемое на него природою и впечатлениями внутренней жизни, более спокойной и чуткой. Он где-то сказал:
О лете я пишу, а им не наслаждаюсь,
И радости в одном мечтании ищу.
Как-то не верится, что Ломоносов мог мечтать. Скорее находил он радости не в мечтаниях, а в трудах, в приобретениях и преуспеваниях науки и академических победах своих над Миллером и другими немцами.
Разумеется, что так как оды Ломоносова писаны в разные царствования, то он должен был иногда порицать то, что восхвалял прежде. Но не должно забывать, что он писал свои оды часто не под поэтическим вдохновением, а по обязанностям академической службы.
В письме своем о правилах российского стихотворства Ломоносов говорит:
«Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам примером быть не могут; понеже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой, ни стихами назвать нельзя. И хотя они, так же как и немцы, могли бы стопы употреблять, что сама природа иногда им в рот кладет, однако нежные те господа, на то не смотря, почти одними рифмами себя довольствуют. Пристойно весьма симболом французскую поэзию некто изобразил, представив оную на театре под видом некоторой женщины, что, сугорбившись и раскорячившись, при музыке играющего на скрыпице Сатира танцует. Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не токмо бодростью и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную, версификацию иметь может».
Хорошо, но зачем же он не следовал своему определению и сам не держался этой свойственной нам версификации, а почти исключительно употреблял ямбический стих и довольствовался рифмами, иногда и довольно бедными?
В статье Жизнь Ломоносова, которая напечатана в полном собрании сочинений его, изданном иждивением Императорской академии наук в 1784 г., биограф, исчисляя все его литературные и ученые заслуги, как то: перестройку академической лаборатории по новейшему и лучшему расположению, многие эксперименты и новые открытия, академические сочинения, изящные похвальные речи Великому Петру и Елизавете Петровне, прекрасные и сильные стихи, трагедии, книги: Риторику, Российскую грамматику, Руководство к горному строению и заводам, Российскую историю, — простодушно заключает перечень свой следующими словами: «Все то не суть анекдоты, а труды повсюду известные». Далее говорит он, что «превосходству его учености, важности и красоте его пера отдавал справедливость и покойный действительный статский советник и кавалер А.П.Сумароков невзирая на всегдашнюю с ним вражду свою». Впрочем, эта последняя черта более относится к чести
действительного статского советника и кавалера Сумарокова, нежели к чести статского советника Ломоносова. Если дело пошло на чины, оно так и быть должно: чин чина почитай.
19*
N.N. сказал о ***, впрочем, очень добром и почтенном человеке: «он говорит пословицами, а действует виньетками».
Кстати о виньетках. Блудов сказал о новом собрании басен Крылова, что вышли новые басни Крылова, с свиньею и с виньетками. «Свинья на барский двор когда-то затесалась» и пр. Строгий и несколько изысканный вкус Блудова не допускал появления Хавроньи в поэзии. Какой-то французский критик в таком же направлении осуждал Крылова за то, что он выбрал гребень предметом содержания одной из своих басен, вероятно на том основании, что есть французская поговорка: грязен как гребень (sale comme un peigne).
Выходя из театра после представления новой русской комедии, чуть ли не Загоскина, в которой табакерка играла важную роль, Блудов сказал: «в этой комедии более табаку, нежели соли».
Ему же однажды передали, что какой-то сановник худо о нем отзывался, говоря, что он при случае готов продать Россию. «Скажите ему, что если бы вся Россия исключительно была наполнена людьми на него похожими, я не только продал, но и даром отдал бы ее».
20*
Несправедливо называть холопами царедворцев. В своих холопах найдется мало льстецов и суеверных обожателей господской власти. Напротив, таковых, если найдутся, приличнее называть царедворцами. Вообще в служителях домашних встречаешь какую-то врожденную независимость и недоброжелательство, которые могут быть очень неприятны для службы, но утешительны в отношении человечества, которое только с помощью
противоестественных установлений научилось искусству рабствовать добровольно. В доказательство, что порабощение не есть природное состояние человека, можно заметить, что каждый при случае умеет повелевать, но не каждый может повиноваться. Дух господства внушен человеку самою природою, данницею его различных требований. Духом повиновения заразился он в обществе, которого польза побуждает ослаблять его силы и умерять напряжение. Одно — польза общества; другое — польза лица частного. Тайна правления в том и состоит, чтобы согласовывать как можно более ту и другую, и в случаях необходимости пожертвований части в пользу целого призывать эту часть для общего соображения, как выдать нужную жертву, с меньшим ущербом жерт-воприносителя и большею выгодою жертвовзымателя. Тут и есть тайна представительств а, которое как сфинкс пожрет всех лайбахских тупоумцев, не умеющих разгадать его, и поднесет венцы Эдипам, постигнувшим его откровение.
21
Не довольно размышляют о том, что цари не могли наравне с народами подвигаться к просвещению соразмерно. Без сомнения, Людовик XVIII немногим образованнее Людовика XIV, а Петр I, конечно, не уступил бы в познаниях Александру 1. Но подданные первых двух царствований далеко отстают от современных, если не в художествах и изящной литературе, то во всем том, что составляет существенность гражданских сведений. Вот чего цари и спесивые их подмастерьи никак понять не могут или не хотят, и в чем, быть может, заключается главнейшая причина разладицы, господствующей в нынешних событиях. Писатели современные, пожалуй, и не превзошли предшественников, но читатели нынешние рассудительнее и многочисленнее. И тогда все еще наш век превосходнее прошлых веков.
Живописна картина нескольких ветвистых гигантов, разбросанных по голой степи: но расчетливый хозяин дорожит более рощей ровною, но дружно усаженною деревьями сочными и матеровыми.
22*
Граф Толстой, известный под прозвищем Американца, хотя не всегда правильно, но всегда сильно и метко говорит по-русски. Он мастер играть словами, хотя вовсе не бегает за каламбурами. Однажды заходит он к старой своей тетке. «Как ты кстати пришел, — говорит она. — подпишись свидетелем на этой бумаге». — «Охотно, тетушка», — отвечает он и пишет: — «При сей верной оказии свидетельствую тетушке мое нижайшее почтение». Гербовый лист стоил несколько сот рублей.
Какой-то родственник его, ума ограниченного и скучный, все добивался, чтобы он познакомил его с Денисом Давыдовым. Толстой под разными предлогами все откладывал представление. Наконец, однажды, чтобы разом отделаться от скуки, предлагает он ему подвести его к Давыдову. «Нет, — отвечает тот, — сегодня неловко: я лишнее выпил, у меня немножко в голове». — «Тем лучше, — говорит Толстой, — тут-то и представляться к Давыдову», — берет его за руку и подводит к Денису, говоря: «Представляю тебе моего племянника, у которого немного в голове».
Князь*** должен был Толстому по векселю довольно значительную сумму. Срок платежа давно прошел, и дано было несколько отсрочек, но денег князь ему не выплачивал. Наконец Толстой, выбившись из терпения, написал ему: «Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой весь сполна, то не пойду я искать правосудий в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства».
За дуэль или какую-то проказу был посажен он в Выборгскую крепость. Спустя несколько времени показалось ему, что срок содержания его в крепости уже миновал, и начал он рапортами и письмами бомбардировать начальство, то с просьбою, то с жалобою, то с упреками. Это наконец надоело коменданту крепости, и он прислал ему строгое предписание и выговор с приказанием не осмеливаться впредь докучать начальству пустыми ходатайствами. Малограмотный писарь, переписывавший эту официальную бумагу, где-то совершенно неуместно поставил вопросительный знак. Толстой обеими руками так и схватился за этот неожиданный знак препинания и снова принялся за перо. «Перечитывая (пишет он коменданту) несколько раз с должным вниманием и с покорностью предписание вашего превосходительства, отыскал я в нем вопросительный знак, на который вменяю себе в непременную обязанность ответствовать». И тут же стал он снова излагать свои доводы, жалобы и требования.
Шепелев (генерал Дмитрий Дмитриевич) говорит всегда несколько высокопарно. Однажды он сказал .Толстому:
«Послушайся, голубчик, моего совета: если у тебя будет сын, учи его непременно гидравлике». — «Почему же именно гидравлике»? — спрашивает Толстой. «А вот почему. Мы, например, гуляем с тобою в деревне твоей, подходим к ручью, я беру тебя за руку и говорю тебе: «Толстой, дай мне 100 т. рублей...» — «Нет, — с живостью прервал его тот, — подведи меня хоть к морю, так не дам». — «Не в том дело, — продолжает Шепелев, но я увидел, что на этой речке можно построить мельницу или фабрику, которая должна дать до 20 и 30 т. р. ежегодного дохода».
Когда появились первые 8 томов Истории Государства Российского, он прочел их одним духом, и после часто говорил, что только от чтения Карамзина узнал он, какое значение имеет слово отечество, и получил сознание, что у него отечество есть. Впрочем, недостаток этого сознания не помешал ему в 12-м году оставить калужскую деревню, в которую сослан он был на житье, и явиться на Бородинское поле: тут надел он солдатскую шинель, ходил с рядовыми на бой с неприятелем, отличился и получил Георгиевский крест 4-й степени.
23*
Канцлер Румянцев когда-то сказал, что Наполеон не лишен какого-то простодушия (bonhomie). Все смеялись над этим мнением и приписывали его недальновидности ума Румянцева. А может быть, он был и прав. В частных сношениях Наполеона с приближенными и подчиненными ему людьми была некоторая простота, как оказывается из многих рассказов и отзывов. К тому же, по горячности своей, он был нередко нескромен и проговаривался. Н.Н. Новосильцев рассказывал, что за столом у государя Румянцев, по возвращении своем из Парижа, сказал следующее: «В одном из моих разговоров с Наполеоном осмелился я однажды заметить ему: «Неужели, государь, при достижении подобного величия и высоты не подумали вы, что сколь вы ни всемогущи, но закон природы падет и на вас. Избрали ли вы достойного себя наследника и преемника вашей славы?» — «Поверите ли, граф, — отвечал Наполеон, ударяя себя по лбу, — что мне это и в голову не приходило! Благодарю. Вы меня надоумили». Оставляю на произвол каждого решить, не солгал ли тут кто-нибудь из трех; а на правду что-то не похоже.
24*
За получением известия о кончине императора Александра последовало в Варшаве политическое и междуцарственное затишье, впрочем более наружное и официальное; а умы, разумеется, были взволнованы молчанием правительства и не знали, как объяснять это молчание. Депутация от Государственного совета и других высших мест решилась отправиться к генералу Куруте. Он спал. Поляки убедили камердинера разбудить его, потому что приехали по важному и неотлагательному делу. Курута принял их в постели. Они объяснили, что желают представиться новому императору и спрашивают, когда и как могут исполнить эту обязанность. «Cela ne cadre pas avec nos combinaisons» (Это не соответствует нашим расчетам), — отвечал им Курута, повернулся на другой бок и тут же заснул.
Александр Голицын, известный под именем Рыжего, вследствие каких-то неудовольствий по службе и неприятных слов, сказанных ему великим князем, просился в отставку. Курута назначен был от цесаревича негоциатором, чтобы убедить Голицына отказаться от своего намерения «Mon cher. — сказал ему благоразумный Улисс, — Il faut etre magnanirae avec les grands et savoir se surveicore (Мой милый, великий князь — великая особа, он брат императора. Надо быть великодушным с великими особами и уметь себя преодолевать).
25
Император Александр Павлович не любил Апраксина и, вероятно, потому, что Апраксин, будучи его флигель-адъютантом, перешел к великому князю Константину. Апраксин просил однажды объяснения, не зная, чем он подвергнул себя царской немилости. Государь сказал, что он видел, как Апраксин за столом смеялся над ним и передразнивал его... В чем, между прочим, Апраксин не сознавался. Его мучило, что он еще не произведен в генералы. Однажды преследовал он Волконского своими жалобами. Тот, чтобы отделаться, сказал ему: «Да подожди, вот будет случай награждения, когда родит великая княгиня» (Александра Федоровна). — «А как выкинет?» — подхватил Апраксин. Апраксин был русское лицо во многих отношениях. Ум открытый, живость, понятливость, острота; недостаток образованности, учения самого первоначального, он не мог правильно подписать свое имя, решительно при этом способности разнообразные и гибкие: живопись, или рисование, и музыка были для него почти природными способностями. Карикатуры его превосходны; с уха разыгрывал он на клавикордах и певал целые оперы. Чтобы дать понятие об его легкоумии, должно заметить, что он во все пребывание свое в Варшаве, когда всю судьбу свою, так сказать, поработил великому князю, он писал его карикатуры, одну смелее другой, по двадцати в день. Он так набил руку на карикатуру великого князя, что писал их машинально пером или карандашом где ни попало: на летучих листах, на книгах, на конвертах. Кроме двух страстей, музыки и рисования, имел он еше две: духи и ордена. У него была точно лавка склянок духов, орденских лент и крестов, которыми он был пожалован. Уверяют даже, что по его смерти нашли у него несколько экземпляров на которую давно глядел он с страстным вожделением. Он несколько раз и был представлен к ней, но по сказанным причинам не получал ее от государя. К довершению русских примет был он сердца доброго, но правил весьма легких и уступчивых. В характере его и поведении не было достоинства нравственного. Его можно было любить, но нельзя было уважать. При другом общежитии, при другом воспитании он, без сомнения, получил бы высшее направление, более соответственное дарам, коими отличила его природа. В качествах своих благих и порочных был он коренное и образцовое дитя русской природы и русского общежития. Часто, посреди самого живого разговора, опускал он вниз глаза свои на кресты, развешенные у него в щегольской симметрии, с нежностию ребенка, любующегося своими игрушками, или с пугливым беспокойством ребенка, который смотрит тут ли они.
26
Князь Голицын прозван Jean de Paris [Жан из Парижа] (название современной оперы), потому что он в Париже, во время пребывания наших войск, выиграл в одном игорном доме миллион франков и спустя несколько дней проиграл их, так что нечем было ему выехать из Парижа. Он большой чудак и находится на службе при великом князе в Варшаве в должности — как бы сказать? — забавника. И в самом деле, он очень забавен при какой-то сановитости в постановке и кудреватости в речах. Надобно прибавить, что он от природы был немного трусоват. Однажды ехал он в коляске с великим князем, и скакали они во всю лошадиную прыть. Это Голицыну не очень нравилось. «Осмелюсь заметить, — сказал он, — и доложить вашему императорскому высочеству, что если малейший винт выскочит из коляски, то от вашего императорского высочества может остаться только одна надпись на гробнице: здесь лежит тело его императорского высочества великого князя Константина Павловича». — «А Михель?» — спросил великий князь (Михель был главный вагенмейстер при дворе великого князя). — «Приемлю смелость почтительнейше повергнуть на благоусмотрение и прозорливое соображение вашего императорского высочества, что если, к общему несчастью, не станет вашего императорского высочества, то и Михель его императорского высочества бояться не будет».
В другой раз говорил он великому князю: «Вот, кажется, ваше высочество, и несколько привыкли ко мне, и жалуете, и удостаиваете меня своим милостивым благорасположением, но все это ненадежно. Пришла бы на ум государю мысль сказать вам: «Мне хотелось бы съесть
Голицына», — вы только бы и спросили: «А на каком соусе прикажете изготовить его?»
Однажды захотелось ему иметь прибавку к получаемому им содержанию, казенную квартиру и еще что-то подобное в этом роде. Передал он свои желания генералу Куруте. Тот имел привычку никогда и никому ни в чем не отказывать. «Очень хорошо, mon cher [мой милый), — сказал он Голицыну, — в первый раз, что мы с вами встретимся у великого князя, я при вас же ему о том доложу». Так и случилось. Начался между великим князем и Курутой, как и обыкновенно бывало, разговор на греческом языке. Голицын слышит, что несколько раз было упоминаемо имя его. Слышит он также, что на предложения Куруты великий князь не раз отвечал: «Калос». Все принадлежащие варшавскому двору довольно были сведущи в греческом языке, чтобы знать, что слово «калос» значит по-русски: хорошо. Голицын в восхищении. При выходе из кабинета великого князя Голицын только что собирался изъявить свою глубочайшую благодарность Куруте, тот с печальным лицом объявляет ему: «Сожалею, mon cher, что не удалось мне удовлетворить вашему желанию: великий князь во всем вам отказывает и приказал мне сказать вам, чтобы вы вперед не осмеливались обращаться к нему с такими пустыми просьбами». Что же оказалось после? Курута, докладывая о ходатайстве Голицына, прибавлял от себя по каждому предмету, что, по его мнению, Голицын не имеет никакого права на подобную милость, а в конце заключил, что следовало бы запретить Голицыну повторять свои домогательства. На все это великий князь и изъявил свое совершенное согласие. Надобно видеть и слышать, с каким драматическим и мимическим искусством Голицын передает эту сцену, которою искусный комический писатель мог бы воспользоваться с успехом.
27
Магницкий зашел однажды к Тургеневу (Александру) и застал у него барыню-просительницу, которая объясняла ему свое дело. Магницкий сел в сторону и ожидал конца аудиенции. Докладывая по делу своему, на какое-то замечание Тургенева барыня говорит: «Да помилуйте, ваше превосходительство, и в Евангелии сказано: «на Бога надейся, а сам не плошай». — «Нет уж извините, — вскочив со стула и подбежав к барыне, с живостью сказал ей Магницкий, — этого, милостивая государыня, в Евангелии нет». И опять возвратился на свое место.
Когда в 1812 году Магницкий жил в ссылке, в Вологде, какой-то доморощенный вологодский поэт написал следующие стихи:
Сперанский высоко взлетел,
Россию предать хотел:
За то сослан в Сибирь
Копать инбирь.
Магницкий сидит,
Туда же глядит.
Стихи дают некоторое понятие об общем расположении к двум политическим ссыльным. Следующий случай еще сильнее может служить тому признаком. Рассказывали, что Магницкий пошел в лавку и, купив самовар, велел отнести его к себе на квартиру, сказав свою фамилию.
Услышав ее, купец выгнал его из лавки и самовара не продал. Этот анекдот, может быть, и выдуман, но он ходил по Вологде и, следовательно, имеет свое значение.
28*
Во дни процветания библейских обществ, манифестов Шишкова и злоупотребления, часто совершенно не у места, текстами из Священного Писания, Дмитриев говорил: С тех пор как наши светские писатели просятся в духовные, духовные стараются применить язык свой к светскому». К нему ходил один московский священник, довольно образованный и до того сведущий во французском языке, что, когда проходил по церкви мимо барынь с кадилом в руках, говорил им: «Pardon, mesdames» [Простите, сударыни]. Он не любил митрополита Филарета и критиковал язык и слог проповедей его. Дмитриев никогда не был большим приверженцем Филарета, но в этом случае защищал его. «Да помилуйте, ваше превосходительство, — сказал ему однажды священник: — ну таким ли языком писана ваша Модная жена?»
29
Умел же и осмелился же Верховный уголовный суд предписывать закон государю, говоря в докладе: «И хотя милосердию, от самодержавной власти исходящему, закон не может положить никаких пределов, но Верховный уголовный суд приемлет дерзновение представить, что есть степени преступления столь высокие и с общей безопасностию государства столь смежные, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны». Тут, где закон говорит, что значат ваши умствования и ваши предположения? Когда дело идет о пролитии крови, то тогда умеете вы дать вес голосу своему и придать ему государственную значительность... А в докладе следственной комиссии не хотели и побоялись оставить вопль жалости, коим редактор хотел окончить его, чтобы обратить сострадание государя на многие жертвы, обреченные всей лютости закона буквального, но которые должны были быть изъяты из списка, ему представленного, по многим и многим уважениям.
Как нелеп и жесток доклад суда! Какое утонченное раздробление в многосложности разрядов и какое однообразие в наказаниях! Разрядов преступлений одиннадцать, а казней по-настоящему три: смертная, каторжная работа, ссылка на поселение. Все прочие подразделения мнимые или так сливаются оттенками, что не различишь их! А какая постепенность в существе преступлений! Потом какое самовластное распределение преступников по разрядам. Капитан Пущин в десятом разряде осужден к лишению чинов и дворянства и написанию в солдаты до выслуги, а преступление его в том, что «знал о приготовлении к мятежу, "но не донес»! А в 11-м разряде осужденных к лишению токмо чинов, с написанием в солдаты с выслугою, есть принадлежавший к тайному обществу и лично действовавший в мятеже.
Тургенев, осуждаемый к смертной казни отсечением головы, — в первом разряде (Тургенев, не изобличенный в умысле на цареубийство!) и в шестом разряде (осуждаемых к временной ссылке в каторжную работу на 6 лет, а потом на поселение) — участвовавший в умысле цареубийства. Еще вопрос: что значит участвовать в умысле цареубийства, когда переменою в образе мыслей я уже отстал от мысленного участия? И может ли мысль быть почитаема за дело? Можно ли наказывать как вора человека, который лет десять тому помышлял, что не худо было бы ему украсть у соседа сто рублей, и потом во все продолжение этих десяти лет бывал ежедневно в доме соседа, имел тысячу случаев совершить покражу и не вынес из дома ни полушки?..
Что за Верховный суд, который, как Немезида, хотя и поздно, но вырывает из глубины души тайны и давно отложенные помышления и карает их как преступление налицо? Неужели не должно здесь существовать право давности? Например, несчастный Шаховской: что могло быть общего с тем, что он был некогда, и тем, что был после? И один ли Шаховской? Зачем так злодейски осуществлять слова? Мало ли что каждый сказал на своем веку: неужели несколько лет жизни покойной, семейной не значительнее нескольких слов, сказанных в чаду молодости на ветер?!
30
Вся государственная процедура заключается у нас в двух приемах: в рукоположении и рукоприкладстве. Власть положит руки на Ивана, на Петра и говорит одному: ты будь министр внутренних дел, другому — ты будь правитель таких-то областей, и Иван и Петр подписывают имена свои под исходящими бумагами. Власть видит, что бумажная мельница в ходу, что миллионы нумеров вылетают из нее безостановочно, и остается в спокойном убеждении, что она совершенно права перед Богом и людьми.
Одна моя надежда, одно мое утешение в уверении, что они увидят на том свете, как они в здешнем были глупы, бестолковы, вредны, как они справедливо и строго были оценены общим мнением, как они не возбуждали никакого благородного сочувствия в народе, который с твердостью, с самоотвержением сносил их как временное зло, ниспосланное провидением в неисповедимой своей воле. Надеяться, что они когда-нибудь образумятся и здесь, — безрассудно, да и не должно. Одна гроза могла бы их образумить. Гром не грянет, русский человек не перекрестится. И в политическом отношении должны мы верить бессмертию души и второму пришествию для суда живых и мертвых. Иначе политическое отчаяние овладело бы душою.
31*
Список с подлинного собственноручного письма к графу Витгенштейну, главнокомандующему 2-й армиею:
Граф Петр Христианович!
Вам известна непоколебимая воля брата моего Константина Павловича, исполняя которую я вступил на его место. Богу угодно было, чтобы я вступил на престол с пролитием крови моих подданных; вы поймете, что во мне происходить должно, и верно будете жалеть обо мне. Что здесь было есть то же, что и у вас готовилось, и что, надеюсь, с помощию Божиею, вы верно помешали выполнить. С нетерпением жду от вас известий насчет того, что г. Чернышев вам сообщил. Здесь открытия наши весьма важны, и все почти виновники в моих руках. Все подтвердилось по смыслу тех сведений, которые мы и от г. Дибича получили.
Я в такой надежде на Бога, что сие зло истребится до своего основания.
Гвардия себя показала как достойно памяти ее покойного благодетеля
Теперь Бог с вами, любезный граф; моя доверенность и уважение к вам давно известны, и я их от искреннего сердца здесь повторяю
Ваш искренний Николай.
С.-Петербург, 15 декабря 1825г
В сем письме между прочими ошибками замечательна следующая: все почти виновники, вместо: почти все виновники. И точно, в числе было немало почти виновников... Гвардия себя показала etc. Да кто же, кроме части гвардии, и начал возмущение?
32
Bressan хотел дать для своего бенефиса Marion de Lorme, уже пропущенную с некоторыми обрезками театральною ценсурою и графом Орловым. Волконский потребовал пиесу и показал ее государю. Она подана ему была 14 декабря. Он попал на место, где говорится о виселицах, бросил книжку на пол и запретил представление.
33
В Москве до 1812 г. не был еще известен обычай разносить перед ужином в чашках бульон, который с французского слова называли consomme. На вечере у Василия Львовича Пушкина, который любил всегда хвастаться нововведениями, разносили гостям такой бульон, по обычаю, который он, вероятно, вывез из Петербурга или из Парижа. Дмитриев отказался от него. Василий Львович подбегает к нему и говорит: «Иван Иванович, да ведь это consomme». — «Знаю, — отвечает Дмитриев с некоторою досадою, — что это не ромашка, а все-таки пить не хочу». Дмитриев, при всей простоте обращения своего, был очень щекотлив, особенно когда покажется ему, что подозревают его в незнании светских обычаев, хотя он большого света не любил и никогда не езжал на вечерние многолюдные собрания.
34*
Во время государевой [Павла I] поездки в Казань Нелединский, бывший при нем статс-секретарем, сидел однажды в коляске его. Проезжая через какие-то обширные леса, Нелединский сказал государю: «Вот первые представители лесов, которые далеко простираются за Урал». — «Очень поэтически сказано, — возразил с гневом государь, — но совершенно неуместно: изволь-ка сейчас выйти вон из коляски». Объясняется это тем, что было сказано во время французской революции, а слово представитель, как и круглые шляпы, были в загоне у императора.
В эту же поездку лекарь Вилие, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибкою завезен ямщиком на ночлег в избу, где уже находился император Павел, собиравшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилие и видит пред собою государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страх, овладевший Вилие. Но все это случилось в добрый час. Император спрашивает его, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика, который сказал ему, что тут отведена ему квартира. Посылают за ямщиком. На вопрос императора ямщик отвечал, что «Вилие сказал про себя, что он анператор». «Врешь, дурак, — смеясь сказал ему Павел Петрович, — император я, а он оператор». — «Извините, батюшка, — сказал ямщик, кланяясь царю в ноги: — я не знал, что вас двое». (Рассказано князем Петром Михайловичем Волконским, который был адъютантом Александра Павловича и сопровождал его в эту поездку.)
35*
Похороны Ф.П. Уварова (ноябрь 1824} были блестящие и со всеми возможными военными почестями. Император Александр присутствовал при них от самого начала отпевания до окончания погребения. «Славно провожает его один благодетель, — сказал Аракчеев Алексею Федоровичу Орлову, — каково-то встретит его другой благодетель!» Историческое и портретное слово. Кажется, с этих похорон Аракчеев пригласил Орлова сесть к нему в карету и довезти его домой. «За что меня так не любят?» — спросил он Орлова. Положение было щекотливо, и ответ был затруднителен. Наконец, Орлов все свалил на военные поселения, учреждение которых ему приписывается и неясно понимается общественным мнением. «А если я могу доказать, — возразил с жаром Аракчеев, — что это не моя мысль, а мысль государя: я тут только исполнитель». — В том-то и дело, каково исполнение, — мог бы отвечать ему Орлов, но, вероятно, не отвечал.
36*
Еше до написания Дома Сумасшедших Воейков написал в прозе Придворный Парнасский Календарь. В нем, между прочим, было сказано, что Кокошкин состоит на службе при Мерзлякове восклицательным знаком.
Кокошкин, переводчик Мизантропа, был отъявленный классик. В то время, когда начали у нас толковать о романтизме, он как от заразы остерегал от него литературную молодежь, которая находилась при нем. Как директор театра, особенно восставал он против Шекспира и его последователей. «Ведь вы знаете меня, — говорил он молодым людям, — я человек честный, и какая охота была бы мне вас обманывать: уверяю вас честью и совестью, что Шекспир ничего хорошего не написал и сущая дрянь». (Рассказано Павловым, Николаем Филипповичем.)
37
Шишков говорил однажды о своем любимом предмете, т.е. о чистоте русского языка, который позорят введениями иностранных слов. «Вот, например, что может быть лучше и ближе к значению своему, как слово дневальный? Нет, вздумали вместо его ввести и облагородить слово дежурный, и выходит частенько, что дежурный бьет по щекам дневального».
38*
Денис Давыдов уверял, что когда Растопчин представлял Карамзина Платову, атаман, подливая в чашку свою значительную долю рома, сказал: «Очень рад познакомиться; я всегда любил сочинителей, потому что они все — пьяницы».
39*
Адмирал Чичагов, после Березинской передряги, не взлюбил России, о которой, впрочем, говорят, отзывался он и прежде свысока и довольно строго. Петр Иванович Полетика, встретившись с ним в Париже и прослушав его нарекания всему, что у нас делается, наконец сказал ему с своею квакерскою (а при случае и язвительною) откровенностью: «Признайтесь, однако же, что есть в России одна вещь, которая так же хороша, как и в других государствах». — «А что, например?» — спросил Чичагов. «Да хоть бы деньги, которые вы в виде пенсии получаете из России».
Чичагов был назначен членом Государственного совета. После нескольких заседаний перестал он ездить в Совет. Доведено было о том до сведения государя. Император Александр очень любил Чичагова, но, однако же, заметил ему его небрежение и просил быть впредь точнее в исполнении обязанности своей. Вслед за этим Чичагов несколько раз присутствовал и опять перестал. Уведомясь о том, государь с некоторым неудовольствием повторил ему замечание свое. «Извините, ваше величество, но в последнем заседании, на котором я был, — отвечал Чичагов, — шла речь об устройстве Камчатки, а я полагал, что все уже устроено в России и собираться Совету не для чего».
Вот восьмистишие, ходившее по рукам:
Вдруг слышен шум у входа.
Березинский герой
Кричит толпе народа:
Раздвиньтесь предо мной!
Пропустимте его,
Тут каждый повторяет:
Держать его грешно бы нам:
Мы знаем,
Он других и сам
Охотно пропускает.
40
В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной:
Все неприятности по службе
С тобой, мой друг, я забывал.
Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто-русские и самые глубоко и верно прочувствованные.
41
Денис Давыдов спрашивал однажды князя К***, знатока и практика в этом деле, отчего вечером охотнее пьешь вино, нежели днем? — «Вечером как-то грустнее», — отвечал князь с меланхолическим выражением в лице. Давыдов находил что-то особенно поэтическое в этом ответе.
42
Московский чудак К***, отличавшийся высокопарною речью, рассказывал, что когда войска наши при отступлении переходили чрез Москву, он подошел к одному из полковых командиров и спросил его: «Позвольте узнать, что знаменует сие быстрое движение наших войск?» — «А то, — отвечал ему тот, — что чрез полчаса французы будут в Москве, и советую вам скорее убираться прочь». «Тут, признаюсь, — продолжал К***, — опустился масштаб моих тактических понятий. и я не знал, на что решиться».
43*
А право, напрасно закидали у нас бедного Тредьяковского такою грязью: его правила о стихосложении вовсе не дурны. Его мысль, что наш язык должен образоваться употреблением, что научат нас им говорить благоразумные министры и проч. и проч., очень справедлива. Он чувствовал, что один письменный язык есть язык мертвый. Здесь он как будто предчувствует и предугадывает Карамзина. Но как Моисей, он сам не успел и не умел достигнуть обетованной земли. Надобно когда-нибудь сличить Тредьяконского и Хвостова в переводе из поэмы Буало: L'art poetique [Искусство поэзии].
Досужных дней труды или трудов излишки,
О, малые мои, две собранные книжки,
Вы знаете, что вам у многих быть в руках
сказал Тредьяковский в предисловии к одному из своих сочинений. Чем же это не нашего времени стихи? В них и ясность и простота. Наперсничество употреблено у него в смысле соперничество. Жаль, что в наших словарях не приводят примеров различного употребления слов и выражений, какими являются они в разных литературных эпохах и у разных писателей. Наши словари — доныне более или менее полное собрание слов, а не указатели языка, как французские словари, по коим можно пройти почти полный курс истории французского языка и французской литературы.
Кажется, мало известна эпиграмма Крылова на переведенную Хвостовым поэму Буало:
Ты ль это, Буало?
Скажи, что за наряд?
Тебя узнать нельзя: конечно, ты вздурился!
Молчи, нарочно я в Хвостова нарядился:
Я еду в маскарад.
44
Говорили о поколенном портрете О [ленина], отличающегося малорослостью, писанном живописцем Варнеком. «Ленив же должен быть художник, — сказал NN: немного стоило бы труда написать его и во весь рост».
45*
Греч где-то напечатал, что Булгарин в мизинце своем имеет более ума, нежели все его противники. «Жаль, — сказал. NN, — что он в таком случае не пишет одним мизинцем своим».
46
К Державину навязался сочинитель, прочесть ему произведение свое. Старик, как и многие другие, часто засыпал при слушании чтения. Так было и в этот раз. Жена Державина, возле него сидевшая, поминутно толкала его. Наконец, сон так одолел Державина, что, забыв и чтение и автора, сказал он ей с досадою, когда она разбудила его: «Как тебе не стыдно: никогда не даешь мне порядочно выспаться».
47*
Меттерних говорил в Вене, во время конгресса, что он был бы совершенно счастлив, когда бы не долгие обеды Стакельберга и не широкие шаровары лорда Стюарта. Гнев Меттерниха не был ли в нем бессознательным предчувствием, что из всего, что было и делалось на Венском конгрессе, едва ли не одни широкие панталоны Стюарта удержатся, получат авторитет и войдут в законную силу и в общее употребление. (Должно знать, что тогда панталоны не были еще в употреблении, что не иначе старики и молодежь являлись в общество, как в коротких штанах. Общее уничтожение головной пудры тоже состоялось уже после Венского конгресса.)
48*
Кстати о пудре. Андрие был плохой актер и муж знаменитой по дарованию актрисы и певицы Филис Андриё. Император Александр и петербургская публика очень к ней благоволили, а потому были снисходительны и к мужу. Назначен был спектакль в Эрмитаже. Утром того дня Андриё, встретясь с государем на Дворцовой набережной, спросил его, может ли он вечером явиться на сцене не напудренный. «Делайте как хотите», — отвечай государь. «Oh! je sais bien, sire, que vous etes bon enfant; mais que dira la maman?» («О, я знаю, государь, вы добрый малый, но что скажет маменька?»)
49*
«Вы готовите себе печальную старость», — сказал князь Талейран кому-то, кто хвастался, что никогда .не брал карты в руки и надеется никогда не выучиться никакой карточной игре. Если определение Талейрана справедливо, то нигде не может быть такой веселой старости, как у нас. Мы с малолетства готовимся и приучаемся к ней окружающими нас примерами и собственными попытками. Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается в отдельных личностях страсть к игре, но к игре так называемой азартной. Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагубными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый французский писатель и оратор Бенжамен-Констан был такой же страстный игрок, как и страстный трибун. Пушкин, во время пребывания своего в южной России, куда-то ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехал в город он до бала, сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою. Богатый граф, Сергей Петрович Румянцев, блестящий вельможа времен Екатерины, человек отменного ума, большой образованности, любознательности по всем отраслям науки, был до глубокой старости подвержен этой страсти, которой предавался, так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть вплоть до нового запоя. Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму, свою поэзию. Хороша и благородна ли эта страсть, эта поэзия, — это другой вопрос. Один из таких игроков говаривал, что после удовольствия выигрывать нет большего удовольствия, как проигрывать. Но мы здесь говорим о мирной, так называемой коммерческой, игре, о карточном времяпровождении, свойственном у нас всем возрастам, всем званиям и обоим полам. Одна русская барыня говорила в Венеции: «Конечно, климат здесь хорош; но жаль, что не с кем сразиться в преферансик». Другой наш соотечественник, который провел зиму в Париже, отвечал на вопрос, как доволен он Парижем: «Очень доволен, у нас каждый вечер была своя партия». Карточная игра в России есть часто оселок и мерило нравственного достоинства человека. «Он приятный игрок» — такая похвала достаточна, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. Приметы упадка умственных сил человека от болезни, от лет — не всегда у нас замечаются в разговоре или на различных поприщах человеческой деятельности; но начни игрок забывать козыри, и он скоро возбуждает опасения своих близких и сострадание общества. Карточная игра имеет у нас свой род остроумия и веселости, свой юмор с различными поговорками и прибаутками. Можно бы написать любопытную книгу под заглавием: «Физиология колоды карт». Впрочем, значительное потребление карт имеет у нас и свою хорошую, нравственную сторону: на деньги, вырученные от продажи карт, основаны у нас многие благотворительные и воспитательные заведения.
50
После несчастных событий 14 декабря разнеслись и по Москве слухи и страхи возмущения. Назначили даже ему и срок, а именно день, в который вступит в Москву печальная процессия с телом покойного императора Александра I. Многие принимали меры, чтобы оградить дома свои от нападения черни; многие хозяева домов просили знакомых им военных начальников назначить у них на этот день постоем несколько солдат. Эти опасения охватили все слои общества, даже и низшие. В это время какая-то старуха шла по улице и несла в руке что-то съестное. Откуда ни возьмись мальчик, пробежал мимо ее и вырвал припасы из рук ее. «Ах ты бездельник, ах ты головорез, — кричит ему старуха вслед, — еще тело не привезено, а ты уже начинаешь бунтовать».
51*
Дмитриев съехался где-то на станции с барином, которого провожал жандармский офицер. Улучив свободную минуту, Дмитриев спросил его, за что ссылается проезжий.
— В точности не могу доложить вашему высокопревосходительству, но, кажется, худо отзывался насчет холеры.
52
По какому-то ведомству высшее начальство представляло несколько раз одного из своих чиновников то к повышению чином, то к денежной награде, то к кресту, и каждый раз император Александр I вымарывал его из списка. Чиновник не занимал особенно значительного места, и ни по каким данным он не мог быть особенно известен государю. Удивленный начальник не мог решить свое недоумение и наконец осмелился спросить у государя о причине неблаговоления его к этому чиновнику. «Он пьяница», — отвечал государь. «Помилуйте, ваше величество, я вижу его ежедневно, а иногда и по нескольку раз в течение дня; смею удостоверить, что он совершенно трезвого и добронравного поведения и очень усерден по службе; позвольте спросить, что могло дать вам о нем такое неблагоприятное и, смею сказать, несправедливое понятие». «А вот что, — сказал государь: — одним летом в прогулках своих я почти всякий день проходил мимо дома, в котором у открытого окна был в клетке попугай. Он беспрестанно кричал: «Пришел Гаврюшкин — подайте водки».
Разумеется, государь кончил тем, что дал более веры начальнику, чем попугаю, и что опала с несчастного чиновника была снята. (Слышано от Петра Степановича Молчанова; но, может быть, фамилия чиновника немножко искажена.)
53
Иной и не прямо лжет и лжецом слыть не может, но мастерски умеет обходить правду. Некоторого рода обходы иногда нужны для вернейшего достижения цели; но опасно слишком вдаваться в эти обходы: кончишь тем. что запутаешься в проселках и на прямую дорогу никогда не выйдешь.
Один барин не имел денег, а очень хотелось ему деньги иметь. Говорят — голь на выдумки хитра. Наш барин запасся двумя или тремя подорожными для разъезда по дальним губерниям и на этих подорожных основывал он свои денежные надежды. Приедет он в селение, по виду довольно богатое, отдаленное от большого тракта и, вероятно, не имевшее никакого понятия о почтовой гоньбе и о подорожных; пойдет к старосте, объявит, что он чиновник, присланный от правительства, велит священнику отпереть церковь и созвать мирскую сходку. Когда все соберутся, он начнет важно и громко читать подорожную: «По указу его императорского величества»; при этих словах он совершит крестное знамение, а за ним крестится и весь народ. Когда же дойдет до слов: выдавать ему столько-то почтовых лошадей за указные прогоны, а где оных нет, то брать из обывательских. Тут скажет он, что у него именно оных-то и нет, т.е. прогонов, т.е. денег, а потому и требовал от обывателей такую-то сумму, которую назначал он по усмотрению своему. Получив такую подать, отправляется он далее в другое селение, где повторяет ту же проделку.
54
«Какое несчастие пошло у нас на баснописцев», — говорил граф Сакен: — давно ли мы лишились Крылова, а вот теперь умирает Данилевский!» (сочинитель военной истории 12-го и последовавших годов).
55
Известно, что император Александр Павлович в последние годы своего царствования совершал частые и повсеместные поездки по обширным протяжениям России. В это время дорожная деятельность и повинность доходила до крайности. Ежегодно и по нескольку раз в год делали дороги, переделывали их и все-таки не доделывали, разве под проезд государя, а там опять начнется землекопание, ломка, прорытие канав и прочее. Эти работы, на которые сгонялись деревенские населения, возрастали до степени народного бедствия. Разумеется, к этой тяжести присоединялись и злоупотребления земской администрации, которая пользовалась, промышляла и торговала дорожными повинностями. Народ кряхтел, жаловался и приписывал все невзгоды Аракчееву, который тут ни душой ни телом не был виноват. Но в этом отношении Аракчеев пользовался большою популярностью: он был всеобщим козлом отпущения на каждый черный день. В Саратовской губернии деревенские бабы напевали в хороводах:
Аракчеев дворянин, Аракчеев <сукин сын>,
Всю Россию разорил, Все дорожки перерыл.
В Московской губернии в осеннюю и дождливую пору дороги были совершенно недоступны. Подмосковные помещики за 20 и 30 верст отправлялись в Москву верхом. Так езжал князь Петр Михайлович Болконский из Суханова; так езжали и другие. Так однажды въехал в Москву и фельдмаршал Сакен. Утомленный, избитый толчками, он на последней станции приказал отпрячь лошадь из-под форейтора, сел на нее и пустился в путь. Когда явились к нему московские власти с изъявлением почтения, он обратился к губернатору и спросил его, был ли он уже губернатором в 1812 году, и на ответ, что не был, граф Сакен сказал: «А жаль, что не были! При вас Наполеон никак не мог бы добраться до Москвы»
56
Карамзин говорил, что если бы отвечать одним словом на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: крадут. Он был непримиримый враг русского лихоимства, расточительности, как частной, так и казенной. Сам он был не скуп, а бережлив; советовал бережливость друзьям и родственникам своим; желал бы иметь возможность советовать ее и государству. Ничего так не боялся он, как долгов, за себя и за казну. Если никогда не бывал он, что называется, в нужде, то всегда должен был ограничиваться строгой умеренностью, впрочем (как сказано выше), чуждой скупости: напротив, он всегда держался правила, что если уж нужно сделать покупку, то должно смотреть не на цену, а на качество и покупать что есть лучшее. В первые времена письменной деятельности его, да и позднее, литература наша не была выгодным промыслом. Цены на заработки стояли самые низкие. Журналы, сборники, им издаваемые (Аониды и проч.), не представляли ему большого барыша и едва давали возможность сводить концы с концами. В молодости, в течение двух-трех лет, прибегал он, как к пособию, к карточной коммерческой игре. Играл он умеренно, но с расчетом и умением. Можно сказать, что до самой кончины своей он не жил на счет казны. Скромная пенсия, в 2000 руб. ассигнациями, выдаваемая историографу, не была для казны обременительна. Впоследствии времени близкие отношения к императору Александру, милостивое, дружеское внимание, оказываемое ему монархом, не изменило этого скромного положения. В отношениях своих с государем он дорожил своею нравственною независимостью, так сказать боялся утратить и затронуть чистоту своей бескорыстной преданности и признательности. Он страшился благодарности вещественной и обязательной. Можно подумать, что и государь, с обычной ему мечтательностью, не хотел придать сношениям своим с Карамзиным характер официальный, характер относительности государя к подданному. Впрочем, приближенные к императору Александру замечали не раз, что он не имел ясного понятия о ценности денег: иногда вспоможение миллионом рублей частному лицу не казалось ему чрезвычайным; в другое время он задумывался над выдачей суммы незначительной. Карамзин за себя не просил; другие также не просили за него, и государь, хотя и довольно частый свидетель скромного домашнего быта его, мог и не догадываться, что Карамзин не пользуется даже и посредственным довольством. Как уже сказано, Карамзин заботился не о себе. Но в меланхолическом настроении духа, к которому склонен он был даже и во дни относительного счастия, не мог он внутренне не думать с грустью о том, что не успел он обеспечить материально участь довольно многочисленного и горячо любимого им семейства. Провидение, в которое он покорно и безгранично веровал, оправдало эту веру и между тем поберегло бескорыстие и добросовестность его. Пока бодрствовал он духом и телом, обстоятельства не искушали его и не приводили в опасение быть в противоречии с самим собой. Только на смертном одре, и за несколько часов до кончины, получил он поистине царскую награду, возмездие за чистую и доблестную жизнь, за долгую и полезную деятельность и за заслуги его перед отечеством. Это была, так сказать, заживо, но уже посмертная награда. Оказал ее не император Александр, а в память его достойный и великодушный преемник его. Глубоко, умилительно растроганный подобной милостью, Карамзин остался верен правилам и убеждениям своим: он находил, что милость чрезмерна и превышает заслуги его. Последние строки, написанные ослабевшею и уже остывшею рукою, рукою, которая некогда так деятельно и бодро служила ему, были выражением глубокой благодарности тому, кто прояснил предсмертные часы его. Он умирал спокойно, зная, что участь детей его обеспечена.
57*
При чтении записки Каподистриа нельзя не подивиться странной участи императора Александра, который в две эпохи царствования своего имел при себе и при делах приближенными людьми две резко выдающиеся национальные личности: Чарторийского и Каподистриа. Измены России не были ни в том, ни в другом, но у обоих в службе России был умысел другой. В переписке Чарторийского с императором, недавно изданной, видно, что он перед ним не лукавил. Везде говорит он, что всегда имеет в виду Польшу. Можно бы причислить к этим двум и третью личность не национальную, а либеральную, Сперанского. И он при государе был вывеска, был знамя, и всех трех удалил Александр от себя на полудороге. Впрочем, Сперанский был в самом деле только вывеска, и вывеска, писанная на французском языке, как многие наши городские вывески: «Tailleur Enremof de Paris» [портной Ефремов из Парижа] и тому подобные. В Сперанском не было глубоких убеждений. Он был чиновник огромного размера по редакционной части правительственных реформ, но, разумеется, с примесью плебейской закваски и недоброжелательства к дворянству. Эта закваска, эти бюрократические геркулесовские подвиги пережили его и воплотились в некоторых из новейших государственных деятелей. Ломку здания можно приводить в действие и не будучи архитектором. Из трех поименованных личностей Каподистриа, без сомнения, самая чистая и симпатическая. Он же за дело им любимое положил жизнь свою. Был ли он глубокий и великий государственный человек — это другой вопрос.
58
Как по проезжим дорогам, так и в свете, на поприще почестей и успехов, человек, едущий с богатой внутренней кладью, часто обгоняем теми, которые едут порожнем. Это напоминает четверостишие, найденное в какой-то тетради:
С ним звездословию не трудно научиться,
Честей им крайняя достигнута межа:
До этих почестей как мог он дослужиться?
— А очень просто: не служа.
59
А.М.Пушкин спрашивал путешествующего англичанина: правда ли, что изобрели в Англии машину, в которую вводят живого быка и полтора часа спустя подают из машины выделанные кожи, готовые бифстексы, гребенки, сапоги и проч. «Не слыхал, — простодушно отвечал англичанин, — при мне еще не было; вот уже два года, что я разъезжаю по твердой земле: может быть, эта машина изобретена без меня».
60
Приятель князя Дашкова выражал ему удивление, что он ухаживает за г-жою***, которая не хороша собою, да и не молода. «Все это так, — отвечал князь, — но если бы ты знал, как она благодарна!»
61
Княгиня Ц. говорила, что она не желала бы овдоветь, а желала бы родиться вдовою.
62*
В одном из сражений 1813 года Бернадот поручал старому генералу (немцу или шведу, не помнится) занять одно возвышение. Тот худо понимал, что Бернадот говорил ему на французском языке, а Бернадот не понимал расспросов генерала. Выведенный из терпения, обратился он к князю Василию Гагарину, состоявшему при нем ординарцем, и сказал своим гасконским выговором: «Ayez la complaisance, prince, d'expliquer au general ce que c'est qu'une montagne» («Будьте добры, князь, объясните генералу,что такое гора»]; тут пришпорил лошадь и ускакал
63
Дяде Киселева (Федору Ивановичу) предлагали во время оно войти в масонское общество. «Благодарю, — отвечал он, — знаю, что общество делится на две ступени: на одной датусы, на другой биратусы. Датусом быть не хочу, а биратусом не способен».
Проезжий поколотил станционного смотрителя. Подобного рода путевые впечатления не новость. Смотритель был с амбицией. Он приехал к начальству просить дозволения подать на обидчика жалобу и взыскать с него бесчестье. Начальство старалось убедить его бросить это дело и не давать ему огласки. «Помилуйте, ваше превосходительство, —возразил смотритель, — одна пощечина, конечно, в счет не идет, а несколько пощечин в сложности чего-нибудь да стоят».
64
На одном из придворных собраний императрица Екатерина обходила гостей и к каждому обращала приветливое слово. Между присутствующими находился старый моряк. По рассеянию случилось, что, проходя мимо его, императрица три раза сказала ему: «Кажется, сегодня холодно». — «Нет, матушка, ваше величество, сегодня довольно тепло», — отвечал он каждый раз. «Уж воля ее величества, — сказал он соседу своему, — а я на правду черт».
«Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкою и единорогом[4]», — говорила Екатерина II какому-то генералу. «Разница большая, — отвечал он, — сейчас доложу вашему величеству. Вот изволите видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе».
«А, теперь понимаю», — сказала императрица.
65*
Бедный Василий Львович (Пушкин) скончался 20 числа в начале третьего часа пополудни. Я приехал к нему часов в одиннадцать. Смерть уже была на вытянутом лице и в тяжелом дыхании его. Однако же он меня узнал, протянул мне уже холодную руку свою и на вопрос Анны Николаевны: рад ли он меня видеть (с приезда моего из Петербурга я не видал его), — отвечал он слабо, но довольно внятно: «Очень рад». После того, кажется, раза два хотел он что-то сказать, но уже звуков не было. На лице его ничего не выражалось, кроме изнеможения. Испустил он дух спокойно и безболезненно, во время чтения молитвы при соборовании маслом. Обряда не кончили, помазали только два раза. Накануне был уже он совсем изнемогающий, но, увидя Александра, племянника, сказал ему: «Как скучен Катенин!» Перед этим читал он его вЛитературной Газете. Пушкин говорит, что он при этих словах и вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически. Пушкин был, однако же, очень тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя как нельзя приличнее. На погребении его была депутация всей литературы, всех школ, всех партий: Полевые, Шаликов, Погодин, Языков, Дмитриев и ЛжеДмитриев, Снегирев. Никиты-Мученика протопоп в надгробном слове упомянул о занятиях его по словесности и вообще говорил просто, но пристойно. Я в Пушкине теряю одну из сердечных привычек жизни моей. С 18-летнего возраста и тому двадцать лет был я с ним в постоянной связи. Солнцев таким образом распределил приязнь Василья Львовича: Анна Львовна, я и однобортный фрак, который переделал он из сюртука в подражание Павлу Ржевскому. Черты младенческого его простосердечия и малодушия могут составить любопытную главу в истории сердца человеческого. Они придавали что-то смешное личности его, но были очень милы.
66
Был бал 26-го у князя Сергея Михайловича (Голицына). Странно, что был бал у него, но и то странно, что у куратора не было ни одного члена университетского. Наши вельможи думают, что ученость нельзя впускать в гостиную. Голицын, как шталмейстер, который конюшнею заведывает, но лошадей к себе не пускает.
67*
Соберите все глупые сплетни, сказки и не-сплетни и не-сказки, которые распускались и распускаются в Москве на улицах и в домах по поводу холеры и нынешних обстоятельств, — выйдет хроника прелюбопытная. В этих сказах и сказках изображается дух народа. По гулу, доходящему до нас, догадываюсь, что их тьма в Москве, что пар от них так столбом и стоит: хоть ножом режь. Сказано: «la litterature est I'expression de la societe» [литература — выражение общества], а еще более сплетни, тем более у нас; у нас нет литературы, у нас литература изустная. Стенографам и должно собирать ее. В сплетнях общество не только выражается, но так и выхаркивается. Заведите плевальник. (Из письма к Николаю Муханову. Пишу о том А. Булгакову.)
В самом деле, любопытно изучать наш народ в таких кризисах. Недоверчивость к правительству, недоверчивость совершенной неволи к воле всемогущей оказывается здесь решительно. Даже и наказания Божия почитает она наказаниями власти. Во всех своих страданиях она так привыкла чувствовать на себе руку владыки, что и тогда, когда тяготеет на народе десница Вышнего, она ищет около себя или поближе под собою виновников напасти. Изо всего, изо всех слухов, доходящих до черни, видно, что и в холере находит она более недуг политический, чем естественный, и называет эту годину революциею. Отчета себе ясного она в этом не дает, да и дать не может, но и самое суеверие не менее нужно иногда веры. То говорят они, что народ хватают насильно и тащут в больницы, чтобы морить, что одну женщину купеческую взяли таким образом, дали ей лекарства, она его вырвала, дали еще, она тоже, наконец прогнали из больницы, говоря, что с нею, видно, делать нечего: никак не уморишь. То говорят, что на заставах поймали переодетых и с подвязанными бородами, выбежавших из Сибири несчастных 14-го; то, что убили в Москве великого князя, который в Петербурге; то какого-то немецкого принца, который никогда не приезжал. Я читал письма остафьевского столяра из Москвы к родственникам. Он говорит: нас здесь режут как скотину.
68
Я перечитал Жизнь Бибикова. Занимательная книга, и если сын героя, автор, не так бы патриотизировал, то и хорошо писанная. Много любопытных фактов. Как мы пали духом со времен Екатерины, то есть со времени Павла. Какая-то жизнь мужественная дышит в этих людях царствования Екатерины. Как благородны сношения их с императрицею; видно то, что она почитала их членами государственного тела. И самое царедворство, ласкательство их имело что-то рыцарское: много этому способствовало и то, что царь была женщина. После все приняло какое-то холопское уничижение. Вся разность в том, что вышние холопы барствуют перед дворнею и давят ее, но пред господином они те же безгласные холопы. Возьмите, например, Панина и Нессельроде... В тех ли он сношениях с царем, в каких был Панин с Екатериною. Воля ваша, а для России нужно еще и физическое представительство в своих сановниках. Черт ли в этих лилипутах? Слова Павла, сей итог деспотизма: «Sachez qu'a ma cour il n'y a de grand que celui a qui je parle et pendant que je lui park» [«Знайте, что при моем дворе высокопоставленным лицом можно назвать только того, с кем я разговариваю, и только в тот момент, когда я с ним разговариваю»], — сделались коренным правилом. При Павле, несмотря на весь страх, который он внушал, все еше первые года велись несколько екатерининские обычаи; но царствование Александра, при всей кротости и многих просвещенных видах, особливо же в первые года, совершенно изгладило личность. Народ омелел и спал с голоса. Все силы оставшиеся обратились на плутовство, и стали судить о силе такого-то или другого сановника по мере безнаказанных злоупотреблений власти его. Теперь и из преданий вывелось, что министру можно иметь свое мнение. Нет сомнения, что со времен Петра Великого мы успели в образовании, но между тем как иссохли душой. Власть Петра, можно сказать, была тираническая в сравнении с властью нашего времени, но права опровержения и законного сопротивления ослабли до ничтожества. Добро еще, во Франции согнул спины и измочалил души Ришелье, сей также в своем роде железнолапый богатырь, но у нас кто и как произвел сию перемену? Она не была следствием системы — и тем хуже.
69*
Статистические взгляды на Россию. Россия была в древности варяжская колония, а ныне немецкая, в коей главные города Петербург и Сарепта. Дела в ней делаются по-немецки, в высших званиях говорится по-французски, но деньги везде употребляются русские. Русский язык же и русские руки служат только для черных работ.
70*
Вот что я было написал в письме к Пушкину сегодня и чего не послал. Попроси Жуковского прислать мне поскорее какую-нибудь новую сказку свою. Охота ему было писать шинельные стихи (стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами), и не совестно ли певцу в стане русских воинов и певцу в Кремле сравнивать нынешнее событие с Бородиным. Там мы бились один против 10, а здесь, напротив, 10 против одного. Это дело весьма важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии. Можно было дивиться, что оно долго не делается, но почему в восторг приходить от того, что оно сделалось. Слава Богу, русские не голландцы: хорошо им не верить глазам и рукам своим, что они посекли бельгийцев. Очень хорошо и законно делает господин, когда приказывает высечь холопа, который вздумает отыскивать незаконно и нагло свободу свою, но все же нет тут вдохновений для поэта. Зачем перекладывать в стихи то. что очень кстати в политической газете? Признаюсь, что мне хотелось здесь оцарапнуть и Пушкина, который также, сказывают, написал стихи. Признаюсь и в том, что не послал письма не от нравственной вежливости, но для того, чтобы не сделать хлопот от распечатанного письма на почте. Я уверен, что в стихах Жуковского нет царедворческого по- [пропуск строки] то, что мы не умели владеть ею, и что после несколько месячных маршев, контр-маршев мы опять вступили в этот городок! Грустны могли быть неудачи наши, но ничего нет возвышенного в удаче, тем более что она нравственно никак не искупает их. Те унизили наше политическое достоинство в глазах Европы, раздели наголо пред нею колосс и показали все язвы, все немощи его, а она, удача, просто положительное событие, окончательная необходимость — и только. Мы удивительные самохвалы, и грустно то, что в нашем самохвальстве есть какой-то холопский отсед. Французское самохвальство возвышается некоторыми звучными словами, которых нет в нашем словаре. Как мы ни радуйся, а все похожи мы на дворню, которая в лакейской поет и поздравляет барина с именинами, с пожалованием чина и проч. Одни песни 12-го года могли быть несколько на другой лад, и потому Жуковскому стыдно запеть иначе. Таким образом, вот и последнее действие кровавой драмы. Что будет после? Верно, ничего хорошего, потому что ничему хорошему быть не может. Что было причиной всей передряги? Одна: что мы не умели заставить поляков полюбить нашу власть. Эта причина теперь еще сильнее, еще ядовитее, на время можно будет придавить ее; но разве правительства могут созидать на один день, говорить: век мой — день мой... При первой войне, при первом движении в России, Польша восстанет на нас, или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить Царство Польское, как даем мы отпускную негодяю, которого ни держать у себя не можем, ни поставить в рекруты. Пускай Польша выбирает себе род жизни. До победы нам нельзя было так поступать, но по победе очень можно. Но такая мысль слишком широка для головы какого-нибудь Нессельроде, она в ней не уместится... Польское дело такая болезнь, что показала нам порок нашего сложения. Мало того, что излечить болезнь, должно искоренить порок. Какая выгода России быть внутренней стражею Польши? Гораздо легче при случае иметь ее явным врагом... Для меня назначение хорошего губернатора в Рязань или Вологду гораздо важнее. (Да у кого мы ее взяли, что за взятие, что за мысли!) Вот воспевайте правительство за такие меры, если у вас колена чешутся и непременно надобно вам ползать с лирою в руках.
Я сегодня писал к Мордвинову и просил его административных брошюрок.
Стихи Жуковского навели на меня тоску. Как я ни старался растосковать, или растаскать, ее по Немецкому клубу и черт знает где, а все не мог. Как можно в наше время видеть поэзию вбомбах, в палисадах! Может быть поэзия в мысли, которая направляет эти бомбы, и таковы были бомбы, наваринские, но здесь, по совести, где была мысль у нас, или против нас? Мало ли что политика может и должна делать? Ей нужны палачи; но разве вы будете их петь? Мы были на краю гибели, чтобы удержать за собой лоскуток Царства Польского, то есть жертвовали целым ради частички. Шереметев, проиграв рубль серебром, гнул на себя донельзя, истощил несколько миллионов и наконец, по перелому фортуны, перелому почти неминуемому, отыграл свой рубль. Дворня его восхищается и кричит: «Что за молодец! Знай наших Шереметевых!» Дело в том, что можно ли в наше время управлять с успехом людьми, имевшими некоторую степень образованности, не заслужив доверенности и любви их? Можно, но тогда нужно быть Наполеоном, который, как деспотическая кокетка, не требовал, чтобы любили, а хотел влюблять в себя, и имел все, что горячит и задорит людей. Но можно ли достигнуть этой цели с Храповицким? А кто у нас не Храповицкий? Я более и более уединяюсь, особняюсь в своем образе мыслей. Как ни говори, а стихи Жуковского — une question de vie et de mort [вопрос жизни и смерти] между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочел бы им смерть. Разумеется, Жуковский не переломил себя, не кривил совестью, следовательно мы с ним не сочувственники, не единомышленники. Впрочем, Жуковский слишком под игом обстоятельств, слишком под влиянием лживой атмосферы, чтобы сохранить свои мысли во всей чистоте и девственности их. Как пьяному мужику жид нашептывал, сколько он пропил, так и в той атмосфере невидимые силы нашептывают мысли, суждения, вдохновения, чувства. Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича. Во-первых — потому, что этот род восторга анахронизм, что ничего нет поэтического в моем кучере, которого я за пьянство и воровство отдал в солдаты и который, попав в железный фрунт, попал в махину, которая стоит или подается вперед без воли, без мысли и без отчета, а что города берутся именно этими махинами, а не полководцем, которому стоит только расчесть, сколько он пожертвует этих махин, чтобы повязать на жену свою Екатерининскую ленту. Во-вторых, потому, что курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось наконец наложить лапу на мышь...
Пушкин в стихах своих Клеветникам России кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас?..
Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши: От Перми до Тавриды и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст...
Вы грозны на словах, попробуйте на деле.
А это похоже на Яшку, который горланит на мирской сходке: «Да что вы, да сунься-ка, да где вам, да мы-то!» Неужли Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть. Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы? Хорошо иногда в журнале политическом взбивать слова, чтобы заметать глаза пеною; но у нас, где нет политики, из чего пустословить, кривословить? Это глупое ребячество или постыдное унижение. Нет ни одного листка Journal de Debats, где бы не было статьи, написанной с большим жаром и с большим красноречием, нежели стихи Пушкина в Бородинской годовщине. Там те же мысли или то же бессмыслие...
И что опять за святотатство сочетать Бородино с Варшавою? Россия вопиет против этого беззакония. Хорошо Инвалиду[5] сближать эпохи и события в календарских своих калейдоскопах, но Пушкину и Жуковскому кажется бы и стыдно. Одна мысль в обоих стихотворениях показалась мне уместною и кстати. Это мадригал молодому Суворову. Нечего было Суворову вставать из гроба, чтобы благословить страдание Паскевича, которое, милостью Божиею, и без того обойдется. В Паскевиче ничего нет суворовского, а наша война с Польшею тоже вовсе не суворовская, но хорошо было дедушке полюбоваться внуком.
После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его старорусские, Нессельроде — за подписание мира. Когда решишься быть поэтом событий, а не соображений, то нечего робеть и жеманиться... Пой, да и только. Смешно, когда Пушкин хвастается, что мы не сожжем Варшавы их. И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее. Вы так уже сбились с пахвей в своем патриотическом восторге, что не знаете, на чем решиться: то у вас Варшава неприятельский город, то наш посад.
71
Не помню, кто рассказывал мне, что в России, проезжая в рабочую пору и в рабочий день через какую-то деревню и видя весь народ расхаживающим по улице, спросил он с удивлением у мужиков о причине такого явления. «Мы бунтуем», — отвечали ему спокойно несколько голосов.
72*
В отрывках Пушкина Записки М. сказано: «При отъезде моем (из немецкого университета) дал я прощальный пир, на котором поклялся я быть вечно верен дружбе и человечеству и никогда не принимать должности цензора». Забавно, что эти последние слова вычеркнуты в рукописи красными чернилами цензора.
73*
Вот слава! В новое издание сочинений Пушкина едва не попали стихи Алексея Михайловича Пушкина на смерть Кутузова, напечатанные в Вестнике Европы 1813. Я их подметил и выключил.
74*
Страх холеры действовал тогда на многих; да, впрочем, по замечанию Д.И.Бутурлина, едва ли на какое другое чувство и могла бы она надеяться. Граф Ланжерон, столько раз видавший смерть пред собою во многих сражениях, не оставался равнодушным пред холерою. Он был так поражен мыслию, что умрет от нее, что, еще пользуясь полным здоровьем, написал он духовное завещание, так начинающееся: «Умирая от холеры» и проч.
На низших общественных ступенях холера не столько страха внушала, сколько недоверчивости. Простолюдин, верующий в благость Божию, не примиряется с действительностью естественных бедствий: он приписывает их злобе людской или каким-нибудь тайным видам начальства. Думали же в народе, что холера есть докторское или польское напущение.
При первом появлении холеры в Москве один подмосковный священник, впрочем благоразумный и далеко не безграмотный, говорил: «Воля ваша, а по моему мнению, эта холера не что иное, как повторение 14 декабря».
75
В конце минувшего столетия сделано было распоряжение коллегией иностранных дел, чтобы впредь депеши наших заграничных министров писаны были исключительно на русском языке. Это переполошило многих из наших посланников, более знакомых с французским дипломатическим языком, нежели с русским. Один из них в разгар Французской революции писал: гостиницы гозбят бесштанниками, что должно было соответствовать французской фразе: «les auberges abondent en sans-culote» [гостиницы переполнены санкюлотами]. Кстати. Один из наших посланников писал: «J'ai jete ma sonde dans Г ocean de la politique» (Я бросил свой лот в океан политики). Граф Растопчин был тогда главноуправляющим по иностранным делам; он отвечал ему: «A la suite de votre depeche, j'ai I'honeur de vous annoncer, monsieur, que Гетрегеиг me charge de vous ordonner de retirer votre sonde et de rentrer dans la coquille du repos» (Вследствие донесения вашего, имею честь уведомить вас, милостивый государь, что его величеством поручено мне повелеть вам вытащить свой лот и возвратиться в раковину спокойствия). (Слышано от графа Растопчина.)
76
Кем-то было сказано: «стихи мои, обрызганные кровью». «Что ж, кровь текла у него из носу, когда писал он их?» — спросил Дмитриев.
77*
Хвостов сказал: «Суворов мне родня, и я стихи плету». — «Полная биография в нескольких словах, — заметил Блудов, — тут в одном стихе все, чем он гордиться может и стыдиться должен».
78
Графиня Толстая, урожденная Протасова, была женщина умная, образованная, но особенно известна своими причудами и оригинальностью. Эти своеобразные личности более и более стираются с общественного полотна. Жаль: они придавали картине блеск и оживление. Новое поколение смотрит с презрением на эти остатки времен очаковских и покоренья Крыма.
Оно замыкается в однообразной важности своей и слышать не хочет о частных исключениях, не подходящих под определенную меру и раму. Что же из этого выходит? По большей части одна плоская скука, и только. Графиня Толстая говорила, что не желала умереть скоропостижною смертью: как неловко явиться перед Богом запыхавшись. По словам ее, первой заботой ее на том свете будет разведать тайну о Железной маске и о разрыве свадьбы графа В. с графинею С., который всех удивил и долго был предметом догадок и разговоров петербургского общества. Наводнение 1824 года произвело на нее такое сильное впечатление и так раздражило ее против Петра I, что еше задолго до славянофильства дала она себе удовольствие проехать мимо памятника Петра и высунуть пред ним язык! Когда была воздвигнута колонна в память Александру I, она крепко запретила кучеру своему возить ее в близости колонны: «Не ровен час, — говорила она, — пожалуй, и свалится она с подножия своего». Так равно, за много лет до учреждения обществ покровительства животных, она на деле выражала им свою любовь и деятельное покровительство. Дома окружена она была множеством кошек и собак. Наконец они так расплодились, что не было им достаточного помещения в домашнем ковчеге. Тогда разместила она излишество своего народонаселения по городским будкам, уплачивая будочникам известную месячную штату на содержание и харч переселенцев. В прогулках своих объезжала она свои колонии, приказывала вносить в карету к себе колонистов, и когда казалось ей, что они не довольно чисто и сытно содержаны, она будочникам делала строгий выговор и грозила им, что переведет своих приемышей на другую застольщину.
Муж ее, граф Варфоломей Васильевич, был не так оригинален, как жена, но тоже чудак в своем роде. Он имел для приятелей и вообще для слушателей своих несчастную страсть к виолончелю; а впрочем, человек не злой и необидчивый. Имел он привычку просыпаться всегда очень поздно. Так было и 7 ноября 1824 года. Встав с постели гораздо за полдень, подходит он к окну (жил он в Большой Морской), смотрит и вдруг странным голосом зовет к себе камердинера, велит смотреть на улицу и сказать, что он видит на ней. «Граф Милорадович изволит разъезжать на 12-весельном катере». — отвечает слуга. «Как на катере?» — «Так-с, ваше сиятельство: в городе страшное наводнение». Тут Толстой перекрестился и сказал: «Ну, слава Богу, что так, а то я думал, что на меня дурь нашла».
79
Генерал Костенецкий почитает русский язык родоначальником всех европейских языков, особенно французского. Например, domestique [слуга] явно происходит от русского выражения дом мести. Кабинет не означает ли как бы нет: человек запрется в комнату свою, и кто ни пришел бы, хозяина как бы нет дома. И так далее. Последователь его, а с ним и Шишков, говорил, что слово республика не что иное, как режь публику.
Шамфор в своих Анекдотах и Характерах рассказывает между прочим следующее. Императрица Екатерина пожелала иметь в Петербурге знаменитую певицу Габриэлли. Та запросила пять тысяч червонцев на два месяца. Императрица велела сказать ей. что она подобного жалованья не дает ни одному из фельдмаршалов своих. «В таком случае, — отвечает Габриэлли, — пускай ее величество своих фельдмаршалов и заставляет петь».
80
Дельвиг говаривал с благородною гордостью: «Могу написать глупость, но прозаического стиха никогда не напишу».
81
«Нет круглых дураков, — говорил генерал Курута: — посмотрите, например, на В.: как умно играет он в вист!»
82
Я.А.Дружинин, долговременно известный по Министерству финансов, был в ранней молодости и почти в отрочестве чем-то вроде кабинетного секретаря при Павле Петровиче. Он каждый день и целый день дежурил в комнате перед царским кабинетом. Эмигрант из королевской фамилии, принц де-Конде, приехал в Петербург. Однажды, на празднике Рождества, император пригласил его в сани для прогулки по городу. Молодой Дружинин на свободе задремал на стуле. Вдруг спросонья слышит он знакомый голос императора, который кричит: «Подайте мне сюда эту свинью!» Сердце Дружинина дрогнуло. Он побоялся беды за свой неуместный и неприличный сон, но и тут обошлось благополучно. Оказалось, что Павел Петрович возил принца на рынок, чтобы показать ему выставку разной замороженной живности, купил большую мерзлую свинью и велел привезти ее во дворец. (Слышано от самого Дружинина.)
83
Один директор департамента делил подчиненных своих на три разряда: одни могут не брать, другие могут брать, третьи не могут не брать. Замечательно, что на общепринятом языке у нас глагол брать уже подразумевает в себе взятки. Секретарь в комедии Ябеда поет:
Бери, тут нет большой науки;
Бери, что только можешь взять:
На что ж привешены нам руки.
Как не на то, чтоб брать, брать, брать?
Тут дальнейших объяснений не требуется: известно, о каком бранье речь идет. Глагол пить также само собой равняется глаголу пьянствовать. Эти общеупотребляемые у нас подразумевания не лишены характерического значения. Другой начальник говорил, что когда приходится ему подписывать формулярные списки и вносить в определенные графы слова достоин и способен, часто хотелось бы ему прибавить: «способен ко всякой гадости, достоин всякого презрения».
84*
Когда назначили умного Тимковского бессарабским губернатором, кто-то советовал ему беречься чумы. «При мне чумы не будет, — отвечал он, — чума любит раздавать ленты и аренды; а мне ни лент, ни аренд не нужно». NN говорил про него, что в Петербурге есть Тимковский Катон-ценсор, а этот просто Тимковский-Катон.
85*
По занятии Москвы французами граф Мамонов перешел в Ярославскую губернию с казацким полком, который он сформировал. Пошли тут требования более или менее неприятные и кляузные сношения и переписка с местными властями по части постоя, перевозки нижних чинов и других полковых потребностей. Дошла очередь и до губернатора. Тогда занимал эту должность князь Голицын (едва ли не сводный брат князя Александра Николаевича). Губернатор в официальном отношении к графу Мамонову написал ему: «Милостивый государь мой». Отношение взорвало гордость графа Мамонова. Не столько неприятное содержание бумаги задрало его за живое, сколько частичка мой. Он отвечал губернатору резко и колко. В конце письма говорит он: «После всего сказанного мною выше предоставляю вашему сиятельству самому заключить, с каким истинным почтением остаюсь я, милостивый государь мой, мой, мой (на нескольких строках), вашим покорнейшим слугою». Граф Мамонов был человек далеко недюжинного закала, но избалованный рождением своим и благоприятными обстоятельствами. Говорили, что он даже приписывал рождению своему значение, которого оно не имело и по расчету времени иметь не могло. Дмитриев, который всегда отличал молодых людей со способностями и любил давать им ход, определил обер-прокурором в один из московских департаментов Сената графа Мамонова, которому было с небольшим двадцать лет. Мамонов принадлежал в Москве обществу так называемых мартинистов. Он был в связи с Кутузовым (Павлом Ивановичем), с Невзоровым и с другими лицами этого кружка. В журнале последнего печатал он свои духовные оды. Вообще в свете видали его мало и мало что знали о нем. Впрочем, вероятно, были у него свои нахлебники и свой маленький дворик. Наружности был он представительной и замечательной: гордая осанка и выразительность в чертах лица. Внешностью своею он несколько напоминал портреты Петра 1-го. По приезде в Москву императора Александра в 1812 году он предоставлял свой ежегодный доход (и доход весьма значительный) на потребности государства во все продолжение войны; себе выговаривал он только десять тысяч рублей на свое годовое содержание. Вместо того было предложено ему чрез графа Растопчина сформировать на свой счет конный полк. Переведенный из гражданской службы в военную, переименован он был в генерал-майоры и назначен шефом этого полка. Все это обратилось в беду ему. Он всегда был тщеславен, а эти отличия перепитали гордость его. К тому же он никогда не готовился к военному делу и не имел способностей, потребных для командования полком. Пошли беспорядки и разные недоразумения. Еще до окончательного образования полка он дрался на поединке с одним из своих штаб-офицеров, кажется, Толбухиным. Сформированный полк догнал армию нашу уже в Германии. Тут возникли у графа Мамонова неприятности с генералом Эртелем. Вследствие уличных беспорядков и драки с жителями немецкого городка, учиненных нижними чинами, полк был переформирован: мамоновские казаки были зачислены в какой-то гусарский полк. Таким образом патриотический подвиг Мамонова затерян. Жаль! Полк этот под именем Мамоновского должен был сохраниться в нашей армии в память 1812 года и патриотизма, который одушевлял русское общество. Нет сомнения, что уничтожение полка должно было горько подействовать на честолюбие графа Мамонова; но он продолжал свое воинское служение и был, кажется, прикомандирован к генералу-адъютанту Уварову. По окончании войны он буквально заперся в подмосковном доме своем, в прекрасном поместье, селе Дубровицах Подольского уезда. В течение нескольких лет он не видал никого даже из прислуги своей. Все для него потребное выставлялось в особой комнате; в нее передавал он и письменные свои приказания. В спальной его были развешены по стенам странные картины кабалистического, а частью соблазнительного, содержания. Один Михаил Орлов, приятель его. имел смелость и силу, свойственную породе Орловых, выбить однажды дверь кабинета его и вломиться к нему. Он пробыл с ним несколько часов, но, несмотря на все увещания свои, не мог уговорить его выйти из своего добровольного затворничества. По управлению имением его оказались беспорядки и,притеснения крестьянам, разумеется не со стороны помещика-невидимки, а разве со стороны управляющих. Рассказывают, что один из дворовых его, больно высеченный приказчиком и знавший, что граф обыкновенно в такой-то час бывает у окна, выставил напоказ ему, в виде жалобы, если не совсем поличное, то очевидное доказательство нанесенного ему оскорбления. Неизвестно, какое последовало решение на эту оригинальную жалобу; но вскоре затем крестьяне и дворовые жаловались начальству высшему на претерпеваемые ими обиды. Наряжено было и пошло следствие; над имением его и над ним самим назначена была опека. Его перевезли в Москву. Тут прожил он многие годы в бедственном и болезненном положении. Так грустно тянулась и затмилась жизнь, которая зачалась таким блистательным и многообещающим утром. Есть натуры, которые при самых благоприятных и лучших задатках и условиях как будто не в силах выдерживать и, так сказать, переваривать эти задатки и условия. Самая благоприятность их обращается во вред этим исключительным и загадочным натурам. Кого тут винить? Недоумеваешь и скорбишь об этих несчастных счастливцах.
86
Американец Толстой говорит о ***: «Кажется, он довольно смугл и черноволос, а в сравнении с душою его, он покажется блондинкою». Однажды в Английском клубе сидел перед ним барин с красно-сизым и цветущим носом. Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением; но, видя, что во все продолжение обеда барин пьет одну чистую воду, Толстой вознегодовал и говорит: «Да это самозванец. Как смеет он носить на лице своем признаки им не заслуженные?»
87
Г-жа Б. не любила, когда спрашивали ее о здоровье. «Уж увольте меня от этих вопросов, — отвечала она, — у меня на это есть доктор, который ездит ко мне и которому плачу 600 р. в год».
88
Чудак, но умный и образованный чудак, Балк-Полев был министром нашим при бразильском дворе. Он рассердился на сапожника своего, который подал ему несообразный счет. Вслед за тем просил он аудиенции у императора, явился к нему, изложил свою жалобу и хотел вручить императору счет сапожника для рассмотрения. Счет, разумеется, не был принят. Тогда раздосадованный Балк швырнул императору счет в ноги и вышел из кабинета. Вскоре за тем был он отозван и уволен в отставку. Вот что можно назвать приключением a propos de bottes[6]. Он был очень горяч с прислугою своею и доходил с ней до рукоприкладства. Однажды на бале его в Москве у Григория Корсакова пошла кровь из носу. Он отправился в буфет, чтобы омыться. Один из прислуги сказал ему: «Что это с вами? Или и вас барин приколотил?»
89
Англичане роман рассказывают, французы сочиняют его; многие из русских словно переводят роман с какого-нибудь неизвестного языка, которым говорит неведомое общество. Гумбольдт (разумеется, шутя) рассказывает, что в американских лесах встречаются вековые попугаи, которые повторяют слова из наречий давно исчезнувшего с лица земли племени. Читая иные русские романы, так и сдается, что они писаны со слов этих попугаев.
90
Выражение квасной патриотизм шутя пушено было в ход и удержалось. В этом патриотизме нет большой беды. Но есть и сивушный патриотизм; этот пагубен: упаси Боже от него! Он помрачает рассудок, ожесточает сердце, ведет к запою, а запой ведет к белой горячке. Есть сивуха политическая и литературная, есть и белая горячка политическая и литературная.
91
Есть у нас грамотеи, которые печатно распинаются за гениальность Белинского. Нет повода сомневаться в добросовестности их, а еще менее заподозривать их смиренномудрие; стараться же вразумить их и входить с ними в прение — дело лишнее: им и книги в руки, то есть книги Белинского. Белинский здесь в стороне; он умер и успокоился от тревожной, а может быть, и трудной, жизни своей. Он служил литературе как мог и как умел. Не он виноват в славе своей, и не ему за нее ответствовать. Глядя на посмертных почитателей его, нельзя не задать себе вопроса: до каких бесконечно малых крупинок должны снисходить умственные способности этих господ, которые становятся на цыпочках и карабкаются на подмостки, чтобы с благоговением приложиться к кумиру, изумляющему их своею величавою высотою. Это напоминает шутку князя Я.И Лобанова. В старой Москве была замечательно малорослая семья; из рода в род она все мельчала. «Еще два-три поколения, — говорил он, — и надобно будет, помочив палец, поднимать их с полу как блестки».
92
Великий князь Константин Павлович, до переселения своего в Варшаву, живал обыкновенно по летам в Стрельне своей. Там квартировали и некоторые гвардейские полки. Одним из них, кажется конногвардейским, начальствовал Раевский (не из фамилии, известной по 1812 году). Он был краснобай и балагур; был в некотором отношении лингвист, по крайней мере обогатил гвардейский язык многими новыми словами и выражениями, которые долго были в ходу и в общем употреблении, например: пропустить за галстук, немного под-шефе (chaufe), фрамбуаз (framboise — малиновый) и пр. Все это по словотолкованию его значило, что человек лишнее выпил, подгулял. Ему же, кажется, принадлежит выражение: втонком, т.е. в плохих обстоятельствах. Слово хрип также его производства; оно означало какое-то хватовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственною хриплостью голоса. Великий князь забавлялся шутками его. Часто, во время пребывания в Стрельне, заходил он к нему в прогулках своих. Однажды застал он его в халате. Разумеется, Раевский бросился бежать, чтобы одеться. Великий князь остановил его, усадил и разговаривал с ним с полчаса. В продолжение лета несколько раз заставал он его в халате, и мало-помалу попытки облечь себя в мундирную форму и извинения, что он застигнут врасплох, выражались все слабее и слабее. Наконец стал он в халате принимать великого князя, уже запросто, без всяких оговорок и околичностей. Однажды, когда он сидел с великим князем в своем утреннем наряде, Константин Павлович сказал: «Давно не видал я лошадей. Отправимся в конюшни!» — «Сейчас, — отвечал Раевский, — позвольте мне одеться!» — «Какой вздор! Лошади не взыщут, можешь и так явиться к ним. Поедем! Коляска моя у подъезда». Раевский просил еще позволения одеться, но великий князь так твердо стоял на своем, что делать было нечего. Только что уселись они в коляске, как великий князь закричал кучеру: «В Петербург!» Коляска помчалась. Доехав до Невского проспекта, Константин Павлович приказал кучеру остановиться, а Раевскому сказал: «Теперь милости просим, изволь выходить!» Можно представить себе картину: Раевский в халате, пробирающийся пешком сквозь толпу многолюдного Невского проспекта.
Какую мораль вывести из этого рассказа? А вот какую: не должно никогда забываться пред высшими и следует строго держаться этого правила вовсе не из порабощения и низкопоклонства, а, напротив, из уважения к себе и из личного достоинства. Майор старого времени дивился в начале нынешнего столетия развязности молодых офицеров в отношении к начальству: «В наше время (говорил он) было не так. Однажды представлялся я фельдмаршалу графу Румянцеву-Задунайскому. «Что скажешь новенького?» — спросил он меня, а я поклонился и молчу. Граф, чем-то, по-видимому, озабоченный, изволил задумчиво ходить по комнате. Проходя мимо меня, он несколько раз повторял тот же вопрос, а я все по-прежнему: поклонюсь да и молчу. Наконец он сказал: «Если будешь все молчать, то можешь и убираться прочь». Я поклонился и вышел».
Пример этого майора и пример Раевского вдаются в крайности; но если непременно выбирать один из двух, то лучше следовать первому, чем второму: в поклонах и молчании майора более благоразумия, даже личного достоинства, нежели в халатной бесцеремонности Раевского.
93
Польский генерал Гельгуд носил стеклянный глаз. Перед каким-то праздником Васенька Апраксин говорит, что ему пожалуют глаз с вензелем. При этом же случае говорил он, что Куруте будет пожаловано прекрасное издание, в великолепном переплете. Жизней знаменитых мужей Плутарха.
94*
Есть лгуны, которых совестно называть лгунами: они своего рода поэты, и часто в них более воображения, нежели в присяжных поэтах. Возьмите, например, князя Щицианова]. Во время проливного дождя является он к приятелю. «Ты в карете?» — спрашивают его. — «Нет, я пришел пешком». — «Да как же, ты вовсе не промок?» — «О, — отвечает он, — я умею очень ловко пробираться между каплями дождя».
Императрица Екатерина отправляет его курьером в Молдавию к князю Потемкину с собольей шубою. Нечего уже говорить о быстроте, с которой проехал он это
пространство: подобные курьерские рассказы впадают в обыкновенную и пошлую прозу. Он приехал, подал Потемкину письмо императрицы. Прочитав его, князь спрашивает: «А где же шуба?» — «Здесь, ваша светлость!» И тут вынимает он из своей курьерской сумки шубу, которая так легка была, что уложилась в виде носового платка. Он встряхнул ее раза два и подал князю.
В трескучий мороз идет он по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыни. Он в карман, ан денег нет. Он снимает с себя бекешь на меху и отдает ее нищему, сам же идет далее. На перекрестке чувствует он, что кто-то ударил его по плечу. Он оглядывается. Господь Саваоф пред ним и говорит ему: «Послушай, князь, ты много согрешил; но этот поступок твой искупит многие грехи твои: поверь мне, я никогда не забуду его!»
Польский граф Красинский был тоже вдохновенным и замысловатым поэтом в рассказах своих. Речь его была жива и увлекательна. Видимо, он сам наслаждался своими импровизациями. Бывают лгуны, как-то добросовестно-боязливые; они запинаются, краснеют, когда лгут. Эти никуда не годятся. Как говорится, что надобно иметь смелость мнения своего (le courage de son opinion), так нужно иметь и смелость своей лжи; в таком только случае она удается и обольщает. Две приятельницы (рассказывал Красинский) встретились после долгой разлуки где-то неожиданно на улице. Та и другая ехали в каретах. Одна из них, не заметив, что стекло поднято, опрометью кинулась к нему, пробила стекло головою, но так, что оно насквозь перерезало ей горло, и голова скатилась на мостовую перед самой каретой ее искренней приятельницы.
Одного умершего положили в гроб, который заколотили и вынесли в склеп в ожидании отправления куда-то на семейное кладбище. Через некоторое время гроб открывается. Что же тому причиною? — «Волоса, — отвечает граф Красинский, — и борода так разрослись у мертвеца, что вышибли покрышку гроба».
Граф был блестящей храбрости, но вдохновение было еще храбрее самого действия. После удачного и смелого нападения на неприятеля, совершенного конным полком под его командою, прискакивает к нему на место сражения Наполеон и говорит: «Vincent je te dois la couronne» [Винсент, я обязан тебе короной] — и тут же снимает с себя звезду Почетного Легиона и на него надевает. «Как же вы никогда не носите этой заезды?» — спросил его один простодушный слушатель. Опомнившись, Красинский сказал: «Я возвратил ее императору, потому что не признавал действия моего достойным подобной награды».
Однажды занесся он в рассказе сроем так далеко и так высоко, что, не умея как выпутаться, сослался для дальнейших подробностей на Вылежинского, адъютанта своего, тут же находившегося. «Ничего сказать не могу, — заметил тот: — вы, граф, вероятно, забыли, что я был убит при самом начале сражения».
95
В старину Лунин (Петр Михайлович) был известен в Москве и Петербурге своим краснословием, тоже никому не обидным, а только каждому забавным. Но этот к слову прилагал иногда и дело. После многолетнего пребывания за границей возвращается он в Москву. Генерал-губернатор, давнишний приятель его князь Д.В.Голицын, приглашает его на большой и несколько официальный обед. Перед обедом кто-то замечает хозяину дома, что у Лунина какая-то странная орденская пряжка на платье. Князь Голицын, очень близорукий, подходит к нему и, приставя лорнетку к глазу, видит, что на этой пряжке звезды всех российских орденов, не исключая и Георгиевской. «Чем это ты себя, любезнейший, разукрасил?» — спросил его князь со своим известным отрывистым смехом. «Ах, это дурак Николашка, камердинер мой, все это мне пришпилил». «Хорошо, — сказал князь, — но все же лучше снять». Разумеется, так и было сделано.
96
Лев Пушкин (брат Александра) рассказывал, что однажды зашла у него речь с Катениным о Крылове. Катенин сильно нападал на баснописца и почти отрицал дарование его. Пушкин, разумеется, опровергал нападки. Катенин, известный самолюбием своим и заносчивостию речи, все более и более горячился. «Да у тебя, верно, какая-нибудь личность против Крылова». — «Нисколько. Сужу о нем и критикую его с одной литературной точки зрения». Спор продолжался. «Да он и нехороший человек, — сорвалось у Катенина с языка, — при избрании моем в Академию этот подлец один из всех положил мне черный шар».
97*
Александр Пушкин был во многих отношениях внимательный и почтительный сын. Он готов был даже на некоторые самопожертвования для родителей своих; но не в его натуре было быть хорошим семьянином: домашний очаг не привлекал и не удерживал его. Он во время разлуки редко писал к родителям, редко и бывал у них, когда живал с ними в одном городе. «Давно ли видел ты отца?» — спросил его однажды NN. «Недавно». — «Да как ты понимаешь это? Может быть, ты недавно видел его во сне?» Пушкин был очень доволен этою уверткою и, смеясь, сказал, что для успокоения совести усвоит ее себе.
Отец его, Сергей Львович, был также в своем роде нежный отец, но нежность его черствела в виду выдачи денег. Вообще был он очень скуп и на себя и на всех домашних. Сын его Лев, за обедом у него, разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. «Можно ли, — сказал Лев, — так долго сетовать о рюмке, которая стоит 20 копеек?» — «Извините, сударь, — с чувством возразил отец, — не двадцать, а тридцать пять копеек!»
98*
Дуэт, пропетый великим князем Павлом Петровичем и австрийским императором, напоминает мне другой дуэт, еще более оригинальный и который отклонил от России войну против Англии. Следующий рассказ передается со слов Растопчина, лично слышанных. Император Павел очень прогневался однажды на английское министерство. В первую минуту гнева посылает он за графом Растопчиным, который заведовал в то время внешними делами. Он приказывает ему немедленно изготовить манифест о войне с Англиею. Растопчин, пораженный как громом такою неожиданностью, начинает, со свойственной ему откровенностью и смелостью в отношениях к государю, излагать перед ним всю несвоевременность подобной войны, все невыгоды и бедствия, которым может она подвергнуть Россию. Государь выслушивает возражения, но на них не соглашается и им не уступает. Растопчин умоляет императора по крайней мере несколько обождать, дать обстоятельствам возможность и время принять другой, более благоприятный, оборот. Все попытки, все усилия министра напрасны: Павел, отпуская его, приказывает ему поднести на другой день утром манифест к подписанию. С сокрушением и скрепя сердце Растопчин вместе с секретарями своими принимается за работу. На другой день отправляется он во дворец с докладом. Приехав, спрашивает он у приближенных, в каком духе государь. «Не в хорошем», — отвечают ему. Входит он в кабинет государя. При дворе хотя тайны по-видимому и хранятся герметически закупоренными, но все же частичками они выдыхаются, разносятся по воздуху и след свой в нем оставляют. Все приближенные к государю лица, находившиеся в приемной пред кабинетом комнате, ожидали с взволнованным любопытством и трепетом исхода этого доклада. Он начался. По прочтении некоторых бумаг государь спрашивает: «А где же манифест?» — «Здесь», — отвечает Растопчин (он уложил его на дно портфеля, чтобы дать себе время осмотреться и, как говорят, ошупать почву). Дошла очередь и до манифеста. Государь очень доволен редакцией. Растопчин опять пытается отклонить царскую волю от меры, которую признает пагубной; но красноречие его так же безуспешно, как и накануне. Император берет перо и готовится подписать манифест. Тут блеснул луч надежды зоркому и хорошо изучившему государя глазу Растопчина. Обыкновенно Павел скоро и как-то порывисто подписывал имя свое. Тут он подписывает медленно, как бы рисует каждую букву. Затем говорит он Растопчину. «А тебе очень не нравится эта бумага?» — «Не умею и выразить как не нравится». — «Что готов ты сделать, чтобы я ее уничтожил»? — «А все, что будет угодно вашему величеству, например пропеть арию из итальянской оперы» (тут он называет арию, особенно любимую государем, из оперы, имя которой не упомню). — «Ну так пой», — говорит Павел Петрович. И Растопчин затягивает арию с разными фиоритурами и коленцами. Император подтягивает ему. После пения он раздирает манифест и отдает лоскутки Растопчину. Можно предстанить себе изумление тех, которые в соседней комнате ожидали с тоскливым нетерпением, чем разразится этот доклад.
99*
В одном маленьком французском журнале рассказываются два следующие анекдота из царствования Павла.
Паж Копьев бился об заклад с товарищами, что он тряхнет косу императора за обедом. Однажды, будучи при нем дежурным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спросил, кто это сделал. Все в испуге. Один паж не смутился и спокойно сказал: «Коса вашего величества криво лежала, я позволил себе выпрямить ее». — «Хорошо сделал, — сказал государь, — но все же мог бы сделать это поосторожнее». Тем все и кончилось.
На другой день Копьев бился об заклад, что он понюхает табаку из табакерки, которая была украшена бриллиантами и всегда находилась при государе. Однажды утром подходит он к столу возле кровати императора, почивающего на ней, берет табакерку, с шумом открывает ее и, взяв шепотку табаку, с усиленным фырканьем сует в нос. «Что ты делаешь, пострел?» — с гневом говорит проснувшийся государь. — «Нюхаю табак, — отвечает Копьев. — Вот восемь часов что дежурю; сон начинал меня одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, и подумал лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебною обязанностью». — «Ты совершенно прав, — говорит Павел, — но как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе».
Анекдот о косе известен в России; но, кажется, смелую шалость эту приписывали князю Александру Николаевичу Голицыну. Другой анекдот не очень правдоподобен, но, вероятно, и он перешел к французам из России. Не ими же выдуман он. Откуда им знать Копьева? Копьев был большой проказник, это известно. Что он не сробел бы выкинуть такую штуку, и это не подлежит сомнению; но был ли он в подобном положении, чтобы подобная проказа была доступна ему? Вот вопрос. И ответ, кажется, должен быть отрицательный. Сколько нам известно, Копьев никогда не был камерпажом и по службе своей не находился вблизи ко двору.
Копьев был столько же известен в Петербурге своими остротами и проказами, сколько и худобой своей крепостной и малокормленой четверни. Однажды ехал он по Невскому проспекту, а Сергей Львович Пушкин (отец поэта) шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довезти его. «Благодарю, — отвечал тот, — но не могу: я спешу».
100*
Уваров (Федор Петрович) иногда удачно поражал французов на поле сражения, но еще удачнее и убийственнее поражал французский язык в разговоре. Охота была смертная, а участь горькая. Известен ответ его Наполеону, когда тот спросил его, кто командовал русской конницей в блестящей атаке в каком-то сражении: — je, sire.
Граф Головкин, родившийся и воспитавшийся за границей, плохо говорил по-русски, но любил иногда щеголять своим отечественным языковедением. Когда собирался он ехать послом в Китай, кто-то подслушал разговор двух этих личностей:
Уваров: «Je vous en prie, mon neveu a la Kitay». Граф Головкин: — «Непременно, непременно приму его на Хину».
101
Нелединский не был исключителен в оценке человеческих побуждений и в разрешении психических задач. Однажды говорили о лихоимстве и взятках. Разумеется, никто их не защищал; но вот что сказал Нелединский: «Мне часто бывает совестно, когда, допрашивая себя, приговариваю к законному наказанию подсудимого взяточника. Я имею твердое и сознательное убеждение, что миллионами рублей не подкупить ни в каком деле голоса моего в Сенате; но приди ко мне красавица и умоляй она меня со слезами подать голос в пользу ее по делу, подлежащему рассмотрению Сената, я не уверен, что могу всегда устоять против сердечного обольщения. А такое обольщение не та же ли уступка совести и посягательство на правосудие?»
102*
В царствование императора Павла, вследствие какого-то беспорядка при разъезде карет, граф Кутайсов требовал, чтобы кучер Неелова был немедленно отправлен в полицию. «Помилуйте, ваше сиятельство, — возразил Неелов, — дайте мне хотя домой доехать; а после отдам кучера в полное ваше распоряжение: — можете, пожалуй, ему и лоб забрить».
103*
Говорили в Москве (в начале 20-х годов) о полицмейстере, и кто-то заметил, что он не знает французского языка. «Как не знает, знает очень хорошо, — сказал Неелов: — Каждое утро, когда соберутся у него полицейские чиновники и дает он им приказания свои, он всегда оканчивает французским романсом и поет им:
Vous me quittez pour aller a la gloire. Mon tendre coeur suivra partout vos pas. Al!ez, volez au temple de memoire, Allez, volez, mais ne m'oubliez pas[7].
Неелов — основатель стихотворческой школы, последователями коей были Мятлев и Соболевский; только вообще он был скромнее того и другого. В течение едва ли не полувека малейшее житейское событие в Москве имело в нем присяжного песнопевца. Шуточные и сатирические стихи его были почти всегда неправильны, но зато всегда забавны, остры и метки. В обществе, в Английском клубе, на балах, он по горячим следам импровизировал свои четверостишья. Жаль, что многие, лучшие из них не укладываются в печатный станок. Попробуем выручить у своевольной музы его хоть что-нибудь, чтобы дать не знавшим ее понятие о том, чем забавляла она современников. Вот что писал он родственнице, у которой намеревался остановиться по приезде своем в Москву:
Племянница моя, княгиня Горчакова,
Которая была всегда страх бестолкова,
Пожалуйста, пойми меня ты в первый раз
И на стихи мои ты вытаращи глаз.
Приеду я один, без моего семейства,
Квартира мне нужна не как адмиралтейство;
Но комната одна, аршина в три длины.
Где б мог я ночью спать, не корчивши спины.
А вот и любовные его стихи:
Если Леля взглянет.
Из жилета тянет
Мое сердце вон.
Солнцев был представлен Юсуповым в камергеры. В Петербурге нашли, что по чину его достаточно ему и звания камер-юнкера. Но Солнцев, кроме того, что уже был в степенных летах, пользовался еще вдоль и поперек таким объемистым туловищем, что юношеское звание камер-юнкерства никак не подходило ни к лицу его, ни к росту. NN говорил, что он не только сановит, но и слоновит. Князь Юсупов сделал новое представление на основании физических уважений, которое и было утверждено: Солнцев наконец пожалован ключом. Вся эта проделка не могла ускользнуть от летописца, подобного Неелову. Он записал в свой Московский Временник следующее четверостишие:
Чрез дядю, брата или друга
Иной по службе даст скачок;
Другого вывезет сестра или супруга,
Но он стал камергер чрез собственный пупок.
104*
В старых комедиях французских встречаются благотворительные дяди из Америки, которые неожиданно падают золотым дождем на бедных родственников и тем дают им возможность соединяться браками с предметами их любви. В старой Москве являлись подобные благодетельные дяди: неизвестные дотоле помещики, которые как снег на голову падали из какой-нибудь дальней губернии. Они поселялись в Москве и угощали ее своим хлебосольством, увеселениями и праздниками. Один из последних таковых дядей был Позняков. Он приехал в первопрестольную столицу потешать ее своими рублями и крепостным театром. Он купил дом на Никитской (ныне принадлежащий князю Юсупову), устроил в нем зимний сад, театральную залу с ложами и зажил, что называется, домом и барином: пошли обеды, балы, спектакли, маскарады. Спектакли были очень недурны, потому что в доморощенной труппе находились актеры и певцы не без дарований. Часто смеялись и смеются и ныне над этими полубарскими затеями. Они имели и свою хорошую сторону. Уж если есть законное крепостное состояние, то устройство из дворни своей певческих хоров, инструментальных оркестров и актеров не есть еще худшее самовластительное злоупотребление помещичьего права. Эти затеи прививали дворне некоторое просвещение, по крайней мере грамотность; если не любовь к искусствам, то по крайней мере ознакомление с ними.
Это все-таки развивало в простолюдинах человеческие понятия и чувства, смягчало нравы и выводило дворовых людей на Божий свет; они затверживали наизусть слова и мысли Фон-Визина и Коцебу, сливались хоть на минуту с лицами из другой среды, на минуту воплощали в себя лица, так сказать, другого мира. От этого скоморошества должны были неминуемо западать в них некоторые благие семена, которые в иных оставались не произрастительными, а в других, хотя и редко, отзывались впоследствии плодоносною жатвою. Эти полубарские затеи могли иметь и на помещиков благодетельное влияние: музыка, театральное представление отвлекали их отчасти от псовой охоты, карт и попоек. Но пора возвратиться к Познякову. Нечего и говорить, что на балах его, спектаклях и маскарадах не было недостатка в посетителях: вся Москва так и рвалась и называлась на приглашения его.
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?
говорит Чацкий. Только напрасно сваливает он это исключительно на голову Москвы.
Таков, Фелица, я развратен,
Но на меня весь свет похож,
сказал Державин, которого взгляд на свет и на людей был беспристрастнее и рассудительнее взгляда Чацкого. Как бы то ни было. Позняков самодовольно угощал Москву в своих покоях и важно на маскарадах своих расхаживал, наряженный не то персианином, не то китайцем. Нет сомнения, что о нем говорится в « Горе от ума»:
На лбу написано: театр и маскарад.
Не забыл Грибоедов и бородача, который во время бала в тени померанцевых деревьев щелкал соловьем:
Певец зимой погоды летней.
Все это очень забавно, но что же тут худого?
Если кому Бог даровал способность свистать и щелкать соловьем, почему же ему не пользоваться этим даром, как певцу голосом своим, скрипачу смычком? Но вот что ускользнуло от эпиграммы и злоречия Чацкого, а в этом есть высоко комическая черта. К московскому хлебосолу и увеселителю добровольно прикомандировал себя некто г-н Лунин (не из фамилии известных Луниных). Он был при нем вроде гофмаршала или камергера: хозяйничал при дворе его, приглашал на празднества и пр. В Москву ожидали турецкого или персидского посла. Разумеется, Позняков не мог пропустить эту верную оказию и занялся приготовлениями к великолепному празднику в честь именитого восточного гостя. К сожалению, смерть застала его в приготовлениях к этой .тысяче и одной ночи. Посол приезжает в Москву, и Лунин к нему является. Он докладывает о предполагаемом празднике и о том, что Позняков извиняется перед послом: за приключившеюся смертью его праздник состояться не может.
105*
Когда перед 1812 годом был выстроен в Москве большой театр, граф Растопчин говорил, что это хорошо, но недостаточно: нужно купить еще 2000 душ, приписать их к театру и завести между ними род подушной повинности, так чтобы по очереди высылать по вечерам народ в театральную залу: на одну публику надеяться нельзя. Страсть к театру развилась в публике позднее; но и тогда уже были театралы и страстные сторонники то русских актеров, то французских. В числе первых был некто Гусятников, человек зрелых лет и вообще очень скромный. Он вышел из купеческого звания, но мало-помалу приписался к лучшему московскому обществу и получил в нем оседлость. Он был большой поклонник певицы Сандуновой. Она тогда допевала в Москве арии, петые ею еще при Екатерине II, и увлекала сердца, как во время оно она заколдовала сердце старика графа Безбородки, так что даже вынуждена была во время придворного спектакля жаловаться императрице на любовные преследования седого волокиты. Гусятников был обожатель более скромный и менее взыскательный. В то время, о котором говорим, приехала из Петербурга в Москву на несколько представлений известная Филис-Андриё. Русская театральная партия взволновалась от этого иноплеменного нашествия и вооружилась для защиты родного очага. Поклонник Сандуновой, Гусятников, стал, разумеется, во главе оборонительного отряда. Однажды приезжает он во французский спектакль, садится в первый ряд кресел, и только что начинает Филис рулады свои, он всенародно затыкает себе уши, встает с кресел с заткнутыми ушами, торжественно проходит всю залу, кидая направо и налево взгляды презрения и негодования на недостойных французолюбцев (как нас тогда называли с легкой руки Сергея Глинки, доброго и пламенного издателя Русского Вестника).
106
Муж Сандуновой был тоже актер, публикою любимый. Одновременно брат его был известный обер-секретарь. Братья были дружны между собою, что не мешало им подтрунивать друг над другом. «Что это давно не видать тебя?» — говорит актер брату своему. «Да меня видеть трудно, — отвечал тот, — утром сижу в Сенате, вечером дома за бумагами; вот тебя — дело другое: каждый, когда захочет, может увидеть тебя за полтинник». — «Разумеется, — говорит актер, — к вашему высокородию с полтинником не сунешься».
107
Кто-то говорил, что он желает умереть не в надежде, что будет лучше, а что по крайней мере будет иначе. Молодой стихотворец приносит к опытному критику два стихотворения свои с просьбою сказать ему. которое из них можно напечатать. По выслушании первого стихотворения, критик не обинуясь говорит стихотворцу: «Печатайте второе!»
108*
Можно родиться поэтом, оратором; но родиться критиком нельзя. Поэзия, красноречие — дары природы, критика — наука: ее следует изучать. И у диких народов есть своя песня и свое красноречие, но критического исследования у них не найдешь. У нас есть критики или критиканы, но критики нет. Редкие попытки, редкие исключения в счет не входят. У нас завелись и развелись критиканы, потому что по примеру европейской журналистики понадобилось и в наших журналах иметь отделение критики. Вот издатели и вербуют на эту работу горячих борзописцев, которым и море и наука по колено. А на деле выходит, что они почти ничего не знают, мало читали не только из иностранной литературы, но равно и из своей, кроме текущей, и то с исключениями, смотря по погоде и приходу, к которому они принадлежат. Лучшие писатели наши еще не исследованы, не оценены. О них идет говор, но решающего, окончательного голоса нет.
Кроме науки и многоязычного чтения, для критики нужен еще вкус. Это свойство и врожденное, родовое, и благоприобретенное. Вкус — изящное чувство, какое-то тайное чутье, своего рода литературная совесть. В ином она более чутка и впечатлительна; в другом черства и огрубела. Впрочем, и вкус изощряется, совершенствуется учением, сравнением и опытностью. Теперь ставят ни во что критики Мерзлякова; в полном самодовольстве невежества пренебрегают ими, смеются над ними. Можно и должно не порабощаться суеверно критическим взглядам и законам Мерзлякова; но все же нельзя не признать в нем критика образованного, который говорит не наобум. В голосе и мнениях его отзывается изучение образцов, с которыми знакомился он в самом источнике. Есть чему научиться от него, потому что и сам он учился. Во Франции Лагарп, как критик, устарел, но Курс литературы его, как летопись, как справочная классическая книга, не совершенно утратил свое значение и достоинство. У нас теперь знают о нем по отзывам литературных выскочек, которые на лабазном языке своем, как говорит Дмитриев (или, вернее, на холопском), толкуют с презрением о лагарповщине. Во Франции, в некотором отношении, критика ушла вперед от Лагарпа; у нас она до Лагарпа еще не дошла.
109*
Луи-Филипп часто сетовал с огорчением о нерасположении к нему одного из могущественнейших европейских владык. Тьер старался успокаивать его и наконец сказал ему: «Да делайте то, что академик Сюар делал с женою своею». — «А что же он делал?» — «Она была очень брюзглива и часто изыскивала средства тормошить и мучить его. Бывало, ночью, когда он спит, она разбудит его и скажет: «Сюар, я не люблю тебя». — «Ничего, — отвечал он, — полюбишь после», — перевернется на бок и тут же заснет. Часа два спустя она снова будит его и говорит: «Сюар, я другого люблю». — «Ничего, — отвечает он, — после разлюбишь»; перевернется на бок и опять засыпает.
110
Кто-то спрашивал у сельского священника, отчего воспрещается отцу быть при крешении ребенка своего. Священник немного призадумался и наконец сказал: «Полагаю, оттого, что совесть убивает».
111
«И nous faut la guerre, il nous faut la guerre, mon cher Denis, — говорит Давыдову генерал Эммануель: — voyez un peu, en temps de paix Vitt meme devient colossal» («Нам нужна война, нам нужна война, мой любезный Денис: в мирное время, посмотри, и Витт становится колоссальным»).
112
Глубокая характеристическая черта выражается в крутом переносе одного местоимения на другое. В разгаре холеры в Петербурге Л. говорил приятелю своему: «А скверная вещь эта холера! Неожиданно нагрянет и все покончит. Того и смотри, что завтра зайдешь ты ко мне, и скажут тебе, что я... то есть, я зайду к тебе завтра и скажут мне, что ночью умер ты от холеры». Но этот предохранительный грамматический поворот не спас бедного Л... Несколько дней спустя после сказанных слов был он холерою похищен.
113
Однажды Пушкин между приятелями сильно руссо-фильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по наклонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина; наконец не выдержал и сказал ему: «А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек». Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его.
Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границею, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с любскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый.
114
Один французский писатель, помнится Жофре (Jaunret), в книге Екатерина II и царствование ее рассказывает следующее: Екатерина часто повторяла: «Глаз хозяина откармливает лошадей» (1'oeil du maitre engraisse les chevaux). Она умела расспрашивать и выслушивать. «Разговор с невеждами, — говорила она, — иногда более научит, нежели разговор с учеными. Этим господам стыдно было бы не дать ответа и по таким вопросам, о которых они понятия не имеют. Они никогда не решатся выговорить эти два слова, столь удобные нам, невеждам: «не знаю».
Однажды, путешествуя по берегам Волги, она спросила жителей: довольны ли они своим положением? Большая часть из них были рыбаки. «Мы очень были бы довольны заработками своими, — отвечали они, — если бы не обязаны были отсылать в конюшни вашего величества значительное количество стерлядей, а стерляди очень дороги». — «Хорошо сделали вы, — отвечала императрица улыбаясь, — что уведомили меня об этом; а я до сей поры и не знала, что лошади мои едят стерлядей. Постараемся это дело поправить».
Вот и другой случай под стать стерлядям. У кого-то из царской фамилии, кажется, у великого князя Павла Петровича, был сильный насморк. Ему присоветовали помазать себе нос на ночь салом, и была приготовлена сальная свеча. С того дня было впродолжение года, если не долее, отпускаемо ежедневно из дворцовой конторы по пуду сальных свечей — «на собственное употребление его высочества».
Кажется, А.А.Нарышкин рассказывал, что кто-то преследовал его просьбами о зачислении в дворцовую прислугу. «Нет вакансии», — отвечали ему. «Да пока откроется вакансия, — говорит проситель, — определите меня к смотрению хотя за какою-нибудь канарейкою». — «Что ж из этого будет?» — спросил Нарышкин. «Как что? Все-таки будет при этом чем прокормить себя, жену и детей».
Он же рассказывал, что один камер-лакей при выходе в отставку просил за долговременную и честную службу отставить его «не в пример другим» арапом.
В противоположность американским республикам во дворце выгоднее быть черным, чем белым. Ради Бога, не ищите здесь ни игры слов, ни косвенной эпиграммы: здесь просто сказано, что жалованье, получаемое арапами, превышает жалованье прочей прислуги.
115*
Вот и другой рассказ из того же источника. В день восшествия на престол Екатерины II прискакала она в Измайловскую церковь для принятия присяги. Второпях забыли об одном: о изготовлении манифеста для прочтения пред присягою. Не знали, что и делать. При таком замешательстве кто-то в числе присутствующих, одетый в синий сюртук, выходит из толпы и предлагает окружающим царицу помочь этому делу и произнести манифест. Соглашаются. Он вынимает из кармана белый лист бумаги и, словно по писанному, читает экспромтом манифест, точно заранее изготовленый. Императрица и все официальные слушатели в восхищении от этого чтения.
Под синим сюртуком был Волков, впоследствии знаменитый актер. Екатерина в признательность пожаловала импровизатору значительную пенсию с обращением ее и на все потомство Волкова. Император Павел прекратил эту пенсию.
Нужно удостовериться в истине этого рассказа. Я большой Фома неверный в отношении к анекдотам. Люблю слушать и читать их, когда они хорошо пересказаны; но не доверяю им до законной пробы. Анекдоты, даже и настоящие, часто оказываются не без лигатуры и лживого чекана. Анекдотисты, когда и не лгут, редко придерживаются буквальной и математической верности. Анекдоты их впродолжение времени являются в новых изданиях, исправленных или измененных и значительно умноженных. «В истории люблю одни анекдоты», — говорил Проспер Мериме. Наша русская история, к сожалению, мало анекдотична, особенно с тех пор, что хотят демократизировать историю. Полевой думал, что он создает новую русскую историю, потому что назвал худо сваренное творение свое Историей русского народа; на деле все же являются отдельные лица. Народ в истории тоже, что хоры в древней греческой трагедии; действие и содержание сосредоточиваются в действующих лицах, которые возвышаются над народом и господствуют над ним, хотя бы из него истекали.
116
NN говорит, что писатель X дарованием своим напоминает русскую песню:
Белый, кудреватый,
Холост, не женатый.
Ум его белый, слог кудреватый, стреляет он холостыми зарядами, а о потомстве и помину быть не может.
117*
Д.П.Бутурлин рассказывал, что в отроческих летах езжал он с отцом своим по соседству в деревню к известному Новикову. У него был вроде секретаря молодой человек из крепостных, которому дал он некоторое образование. Он и при гостях всегда обедал за одним столом с барином своим. В одно лето старик Бутурлин, приехав к Новикову, заметил отсутствие молодого человека и спросил, где же он. «Он совсем избаловался. — отвечает Новиков, — и я отдал его в солдаты».
Вот вам и либерал, мартинист, передовой человек! А нет сомнения, что Новиков в свое время во многих отношениях был передовым либералом в значении нынешнего выражения. Что же следует из того вывести? Ничего особенного и необыкновенного. Поступок Новикова покажется чудовищным, а потому и невероятным нынешним поколениям либералов. Он и в самом деле неблаговиден и бросает некоторую тень «на личность Новикова». Но в свое время подобная расправа была и законна, и очень просто вкладывалась в раму тогдашних порядков и обычаев. Дело в том, что можно быть передовым человеком по тому или другому вопросу, каковым был Новиков, например по вопросу печати и журналистики, а вместе с тем быть по иным вопросам строгим охранителем и сторонником порядков и учреждений не только нынешних, но и вчерашних. Подобные примеры почасту встречаются в Англии, в сей стране законной и общедоступной свободы. Тори, например, стоит за такое-то либеральное преобразование, а Виг отстаивает законную меру старую именно потому, что она старая. Многие этого не понимают, и им кажется, что уже если быть передовым, то надобно захватывать на лету каждую новизну и пускаться с нею или за нею в скачку с препятствиями, без оглядки и без отдышки. «Уж если быть либералом, — говорят они, — то быть круглым либералом». Мы думали до сей поры, что только можно быть круглым дураком, а что круглых умников не видать. Человеческий ум не бывает со всех сторон правильно обточен, все же где-нибудь отыщется угловатость или зазубрина.
Вот еще пример, что каждая медаль имеет свою оборотную сторону, каждая лицевая — свою изнанку.
Лопухин (Иван Владимирович), мартинист, приятель и сподвижник Новикова, был также в свое время передовым человеком. Чувство благочестия и человеколюбия было ему сродно. Он был милостив и щедролюбив до крайности, именно до крайности. Одною рукою раздавал он милостыню, другою занимал он деньги направо и налево и не платил долгов своих; облегчая участь иных семейств, он разорял другие. Он не щадил и приятелей своих, и товарищей по мартинизму. Вдова Тургенева, мать известных Тургеневых, долго не могла выручить довольно значительную сумму, которую Лопухин занял у мужа ее. Нелединский, товарищ его по Сенату и ездивший с ним на ревизию в одну из южных губерний, так объяснял нравственное противоречие, которое оказывалось в характере его. По мистическому настроению своему Лопухин вообразил себе, что он свыше послан на землю для уравновешения общественных положений: он брал у одного и давал другому.
118
Один пастор венчал двух молодых весьма невзрачной и непривлекательной наружности. По совершении обряда сказал он им напутственную речь и, между прочим, следующее: «Любите друг друга, мои дети, любите крепко и постоянно, потому что если не будет в вас взаимной любви, то кой черт может вас полюбить». Это приветствие мне всегда приходит на мысль, когда Z выхваляет X, а X выхваляет Z.
119*
Карамзин говорит о В.В. Измайлове, что он и письменно так же шепеляет, как устно.
120*
Князь А.Ф.Орлов (тогда еще граф) был послан в Константинополь с дипломатическим поручением. Накануне аудиенции у великого визиря доводят до сведения его, что сей турецкий сановник намеревается принять его сидя. Состоящие чиновники при князе предполагают войти по этому предмету в объяснение с Портою, чтобы отвратить это неприличие. «Нет, — отвечает Орлов, — никаких предварительных сношений не нужно: дело само собою как-нибудь обделается». На другой день он отправляется к визирю, который в самом деле не трогается с места при входе нашего уполномоченного посла. Алексей Федорович знаком был с ним и прежде. Будто не замечая сидения его, он подходит к нему, дружески здоровается с ним и, как будто шутя, мощною своею орловскою рукою приподнимает старика с кресел и тут же опять опускает его на кресла. Вот что называется практическая и положительная дипломатия. Другой пустился бы в переговоры, в письменные сношения по пустому вопросу церемониала. Все эти переговоры, переписки могли бы не достигнуть до желанной цели, а тут просто и прямо все решила рука-владыка. Орлов никогда не готовился к дипломатической деятельности. Поприще его было военная и придворная служба. Позднее обстоятельства и царская воля облекли его дипломатическим званием. Конечно, не явил он в себе ни Талейрана, ни Меттерниха, ни Нессельроде; но светлый и сметливый ум его, тонкость и уловчивость, сродные русской натуре и как-то дружно сливающиеся с каким-то простосердечием, впрочем не поддающимся обману, заменяли ему предания и опытность дипломатической подготовки. Прибавьте к тому глубокое чувство народного достоинства, унаследованное им от орла из стаи той высокой, которого воспел Державин, и отменно красивую и богатырскую наружность, которая что ни говори, всегда обольстительно действует на других, и можно будет прийти к заключению, что все это вместе возмещало пробелы, которые остались от воспитания и учения, недостаточно развитых. Граф Фикельмон с особым уважением отзывался о способностях, изворотливости и мудрой осторожности дипломата-самоучки. По мнению его, он при случае мог заткнуть за пояс присяжных и заматерелых дипломатов, как он, впрочем, в свое время и заткнул великого визиря. Дипломация все же еще придерживается какого-то педантства в приемах своих. Сырая сила простого здравомыслия может иногда с успехом озадачить ее.
Орлов знал, так сказать, наизусть царствования императоров Александра I и Николая 1; знал он коротко и великого князя Константина Павловича, при котором был некогда адъютантом. Сведения его были исторические и преимущественно анекдотические, общие, гласные, частные и подноготные. Жаль, если кто из приближенных к нему не записывал рассказов его. Он рассказывал мастерски и охотно, даже иногда нараспашку. Ни записок, ни дневника по себе, вероятно, не оставил: он для того был слишком ленив и не довольно литературен.
121*
Наталья Кирилловна Загряжская, урожденная графиня Разумовская, по всем принятым условиям общежитейским и по собственным свойствам своим долго занимала в петербургском обществе одно из почетнейших мест. В ней было много своеобразия, обыкновенной принадлежности людей (а в особенности женщин) старого чекана. Кто не знал этих барынь минувшего столетия, тот не может иметь понятия об обольстительном владычестве, которое присваивали они себе в обществе и на которое общество отвечало сознательным и благодарным покорством. Иных бар старого времени можно предать на суд демократической истории, которая с каждым днем все выше и выше поднимает голос свой; но не трогайте старых барынь! Ваш демократизм не понимает их. Вам чужды их утонченные свойства: их язык, их добродетели, самые слабости их недоступны вашей грубой оценке.
Во многих отношениях Н.К.Загряжская не чужда была современности, но в других сохранила отпечаток своей старины, отпечаток, так часто и легко сглаживаемый у других действием общественных преобразований и просвещения, или того, что называется просвещением. Упорная, упрямая натура не хороша, но нельзя не любоваться натурами, которые, при законных и нужных уступках господству времени, имеют в себе довольно сил и живучести, чтобы отстоять и спасти свою внутреннюю личность от требований и самовластительных притязаний того, что называется новыми порядками или просто модою. В новом обществе, в доме родственников своих, князя и княгини Кочубеевых, у которых жила, Загряжская была какою-то историческою представительницею времен и царствий давно прошедших. Она была, как эти старые семейные портреты, писанные кистью великого художника, которые украшают стены салонов новейшего поколения. Наряды, многие принадлежности этих изображений давным-давно отжили; но черты лиц, но сочувственное выражение физиономии, обаяние творчества, которое создало и передало потомству это изображение, все вместе пробуждает внимание и очаровывает вас. Вы с утонченным и почтительным чувством удовольствия вглядываетесь в эти портреты; вы засматриваетесь на них; вы, так сказать, их заслушиваетесь. Так и Пушкин заслушивался рассказов Натальи Кирилловны: он ловил при ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли; он в беседе с нею находил необыкновенную прелесть историческую и поэтическую, потому что и в истории много истинной и возвышенной поэзии, и в поэзии есть своя доля истории. Некоторые драгоценные частички этих бесед им сохранены; но самое сокровище осталось почти непочатым. Все мы, люди старого поколения, грешили какой-то беззаботностью, отсутствием скопидомства. Мы проживали, тратили вещественные наследства наших отцов: не умели сберечь и умственные наследства, ими нам переданные. Сколько капиталов устной литературы пропустили мы мимо ушей! Мы любили слушать стариков, но не умели записывать слышанное нами, то есть не думали о том, чтобы записывать. Поневоле и приходится сказать, с пословицею: глупому сыну не в помощь богатство. Теперь и рады бы мы записывать текущую жизнь; но, по выражению типографическому, не хватает оригиналу, или не хватает оригиналов — по житейскому значению.
В числе старинных примет, отличавших покойную Загряжскую, можно привести и отношения ее к прислуге своей. Она очень боялась простуды, и в прогулках ее пешком по городу старый лакей нес за ней несколько мантилий, шалей, шейных платочков: смотря по температуре улицы, по переходу с солнечной стороны на тенистую и по ощущениям холода или тепла, она надевала и скидывала то одно то другое. Однажды, возвратясь домой с прогулки, она смеясь рассказала разговор свой с лакеем. Этот, на требование ее, как-то замешкался в подаче того, что она просила. «Да подавай же скорее! — сказала она с досадою. — Как надоел ты мне». — «А если бы знали вы, матушка, как вы мне надоели», — проворчал старый слуга, перебирая гардероб, которым был он навьючен.
Мы знали Загряжскую уже сгорбленною старушкою; не думаем, чтобы и в молодости своей была она красавицею; но не менее того и она могла воспламенять сердца. Граф Андрей Шувалов, блестящий царедворец двора Екатерины, приятель Вольтера и Лагарпа (французского писателя), который и сам писал французские стихи, часто приписываемые лучшим французским современным поэтам, был ее почтительным обожателем. Так, по крайней мере, можно заключить из стихов его, к ней обращенных. В них много страсти и вместе с тем много сдержанности и рыцарской преданности. Кажется, нигде не были они напечатаны и сохранились только переданные из памяти в память одним поколением в другое. Вот они:
Get invincible amour que je porte en mon sein, Don! je ne parle pas, mais que tout, Vous atteste, Est un sentiment pur, une flamme celeste Que je norris, helas, mais c'est en vain, dc la seduction je ne suis pas 1'apdtre: Je serai fortune possedant Vos appas, Je vivrai malheureux, si Vous ne m'aimez pas, Je mourrai de douleur, si Vous aimez un autrc.
Нелединский, этот наш Петрарк, своими песнями, дышащими нежностью глубокого и тонкого чувства, особенно восхищался постепенностью и верностью трех последних стихов. Кажется, стихи Шувалова непереводимы на русский язык стихами. Доказательством тому, между прочим, служит и то, что Нелединский, так сочувствовавший этим стихам и так набивший руку на переводы, не пытался их перевести. Можно приблизительно передать следующим образом смысл этих стихов (повторяем: смысл, а не душу, не прелесть).
«Эта непобедимая любовь, которую ношу в груди, о которой не говорю, но о которой все вам свидетельствует, есть чувство чистое, пламень небесный. Питаю ее в себе, но увы! напрасно. Не хочу быть апостолом обольщения: я был бы благополучен, встречая вашу взаимность[8]; проживу свой век несчастным, если вы меня не полюбите; умру со скорби, если полюбите другого».
Иностранные биографические словари обыкновенно смешивают этого графа Андрея Шувалова с Иваном Ивановичем, который не был графом. Случается эта ошибка и у нас. Во французской литературе особенно славилось его Epitre a Ninon (послание к известной Ниноне де-Ланкло[9]). Она умерла в 1706 г., а послание написано в 1774-м. Оно теперь мало известно и сделалось литературной редкостью. Не худо было бы перепечатать его в одном из наших сборников. Оно все же изъявление русской умственной деятельности, так сказать барометрическое указание на температуру общества ей современного. Мы нынче смотрим свысока на эти игрушки старых детей старого времени; но игрушки игрушкам рознь, а если на игрушке есть отпечаток мысли и художества, то следует хранить ее в музее, как хранят мельчайшие утвари и безделки, выгребаемые из-под помпейских развалин. По этим безделкам судят об исторической и общественной обстановке того времени. Что же касается до того, что Шувалов писал французские, а не русские стихи, то по мне хорошая французская поэзия русского человека гораздо сочувственнее и даже более ласкает мое народное самолюбие, нежели пошлые русские стихи, написанные уроженцем одной из наиболее великороссийских губерний. Патриотизм есть чувство, которое многие понимают по-своему. «Надобно быть патриотом своего отечества», — говорил один почтенный старичок; другой говорил, что в Париже порядочному человеку жить нельзя, потому что в нем нет ни кваса, ни калачей. Еще одна заметка о графе Андрее Шувалове. Известно, что императрица Екатерина очень умно и своеобразно писала и по-французски и по-русски; равно известно, что она писала очень неправильно на том и другом языке. Храповицкий часто обмывал ее русское черное белье, или черновую бумагу. Граф Шувалов был такой же прачкой по части французского белья, по крайней мере одною из прачек. Между прочим исправлял он грамматические письма императрицы к Вольтеру. Даже когда бывал он в отсутствии, например в Париже, получал он черновую от императрицы, очищал ошибки, переписывал исправленное и отправлял в Петербург, где Екатерина, в свою очередь, переписывала письмо и таким образом в третьем издании посылала его в Ферней. Это сказывал Сперанский, который одно время занимался делами по имениям покойного графа Шувалова. Он же рассказывал следующие подробности про редакционные занятия государыни: она обыкновенно писала на бумаге большого формата, редко зачеркивая написанное, но если приходилось ей заменить одно слово другим или исправить выражение, она бросала написанное, брала другой лист бумаги и заново начинала редакцию свою.
122
Государь Павел Петрович обещал однажды быть на бале у князя Куракина, вероятно Алексея Борисовича. Перед самым балом за что-то прогневался он на князя, раздумал к нему ехать и отправил вместо себя Константина Павловича с, поручением к хозяину. Тот к нему явился и говорит: «Государь император приказал мне сказать вашему сиятельству, что вы, сударь, ж... ж... и ж...» С этими словами поворотился он направо кругом и уехал.
123
В первых годах текущего столетия можно было видеть визитную карточку следующего содержания: такой-то (немецкая фамилия) временный главнокомандующий бывшей второй армии.
О нем же рассказывали и это: он был очень добрый человек, любил подчиненных своих и особенно приласкивал молодых офицеров, которые поступали под начальство его, но слаб и сбивчив был он памятью. Например: явится к нему вновь назначенный юноша из кадетского корпуса. Он спросит фамилию его. — «Павлов». — «А не сын ли вы истинного друга моего Петрова? Вы на него и очень похожи». — «Нет, ваше превосходительство: я Павлов». — «А. извините, теперь припоминаю; вероятно, батюшка ваш, мой старый сослуживец и друг, Павел Никифорович Сергеев»... И таким образом в течение нескольких минут переберет он пять или шесть фамилий и кончит тем, что реченного Павлова пригласит, под именем Алексеева, к себе откушать запросто, чем Бог послал.
Кстати о визитных карточках. За границею попадаются такие с вольными и невольными ошибками; например: какой-нибудь надворный советник переводит на французский язык чин свой: conseiller de la cour de Russie [советник российского двора] вместо conseiller de cour. И добрые французы приветствуют в нем советователя императорского двора или государственного кабинета и нередко с большою наивностью говорят ему: по возвращении вашем в Россию вы должны были бы присоветовать правительству такую-то или другую меру. Губернский секретарь непременно возводит себя в secretaire du gouvernement [государственный секретарь], и так далее. Поди объясняй иностранцам весь условный и кабаллистический язык нашей табели о рангах.
124
Фельдмаршал граф Гудович крепко стоял за свое звание. Во время генерал-губернаторства его в Москве приезжает к нему иностранный путешественник. Граф спрашивает его, где он остановился. — «Аи pont des Marechaux». — «Des marechants ferrants — vous voules dire, — перебивает граф довольно гневно: — en Russie i! n' y' a de marechal que moi»[10].
Он говаривал, что с получением полковничьего чина он перестал метать банк сослуживцам своим. «Неприлично, — продолжал он, — старшему подвергать себя требованию какого-нибудь молокососа-прапорщика, который, понтируя против вас, почти повелительно вскрикивает: аттанде!» В Москве был он настойчивый гонитель очков и троечной упряжи. Никто не смел являться к нему в очках; даже и в посторонних домах случалось ему, завидя очконосца, посылать к нему слугу с наказом: нечего вам здесь так пристально разглядывать; можете снять с себя очки. Приезжавшие в город из подмосковных на дрожках, в телегах или на легких колясках, запряженных тройками, должны были, под опасением попасть в полицию, выпрягать у заставы одну лошадь и, привязывая ее сзади, ехать таким образом по улицам, что было очень некрасиво и неудобно для пешеходов, в которых эти лошади могли свободно лягать. Но вот наступил 1812 год. Меры благочиния, принимаемые против злоупотребления очков и третьей лошади, показались правительству недостаточными. Оно признало нужным вызвать в Москву новую, свежую, более энергичную силу. Граф Растопчин заменил графа Гудовича, при котором, между прочим, был домашний врач, кажется, Сальваторе. Этого последнего подозревали в неблагонадежности и в некоторых сношениях с неприятелем. Граф Гудович гнал очки, а граф Растопчин говорил в одной из своих газет, что он смотрит в оба, что, впрочем, не помешало ему просмотреть Москву, хотя и по обстоятельствам, от него не зависевшим.
125
Один из московских полицмейстеров того времени говорил перед вступлением неприятеля в Белокаменную: «Вот оказия! Сколько уже лет нахожусь я на службе в этой должности, — мало ли чего не было! Но ничего подобного этому не видал я».
126*
Полевой написал в альбоме г-жи Карлгоф стихи под заглавием: «Поэтический анахронизм, или стихи вроде Василия Львовича Пушкина и Ивана Ивановича Дмитриева, писанные в XIX веке». И какие же это стихи вроде Дмитриева! Вот образчик:
Гостиная — альбом.
Паркет и зала с позолотой
Так пахнут скукой и зевотой.
Паркет пахнет зевотой! Что за галиматья! А какое отсутствие вкуса и приличия, литературное бесстыдство в глумлении подобными стихами над изящными и образцовыми стихами Дмитриева! А есть люди, которые смотрели, есть такие, которые смотрят и ныне на Полевого как на критика и на литературного судию. Полевой был просто смышленый русский человек. Он завел литературную фабрику на авось, как завел бы ситцевую и всякую другую мастерскую. Не очень искусный и совестливый в работе своей, он выказывал товар лицом людям, не имеющим никакого понятия о достоинстве товара. Опять как русский человек, надувал он их немножко, как следует надувать русских потребителей. Почему же и нет? Это в порядке и шло благополучно. Товар по мастеровому, и покупщик по товару. Так вообще идут две трети всякой торговли.
127*
Хотя на водах и запрещено заниматься делами, но все не худо иметь всегда при себе в кармане нужные бумаги. Эта глупость напоминает мне анекдот Крылова, им самим мне рассказанный. Он гулял, или, вернее, сидел на лавочке в Летнем саду. Вдруг... его. Он в карман, а бумаги нет. Есть где укрыться, а нет, чем... На его счастье, видит он в аллее приближающегося к нему графа Хвостова. Крылов к нему кидается: «Здравствуйте, граф. Нет ли у вас чего новенького?» — «Есть: вот сейчас прислали мне из типографии вновь отпечатанное мое стихотворение», — и дает ему листок. «Не скупитесь, граф, и дайте мне 2-3 экземпляра». Обрадованный такой неожиданной жадностью, Хвостов исполняет его просьбу, и Крылов со своею добычею спешит за своим делом. Кстати о Крылове... Крылов написал трагическую фарсу Трумпф, которую в старину разыгрывали на домашних театрах и между прочим у Олениных. Старик, камергер Ржевский написал эпиграмму... Крылов отвечал ему:
Мой критик, ты чутьем прославиться хотел.
Но ты и тут впросак попался;
Ты говоришь, что мой герой...
Ан нет, брат, он...
Этот старик, камергер Ржевский — не наш московский Павел Ржевский, а родственник фельдмаршала графа Каменского. Он написал стихи на свадьбу Блудова, на которые очень забавно жаловался мне Блудов и требовал от меня, чтобы я его отомстил. Более всего Ржевский прославился тем, что имел крепостной балет, кажется в рязанской деревне, который после продал дирекции Московского театра. Грибоедов в Горе от ума упоминает об этой продаже.
128*
Когда Магницкий второю ссылкою своею был сослан в Ревель, Сперанскому были приписаны следующие слова: «Как можно посылать Магницкого в Ревель? Туда ездят за здоровьем, а он присутствием своим и воздух заразит».
Вот как нередко развязываются политические дружбы и связи!
Неизвестно, до какой степени Магницкий способен был заразить воздух, но по слухам несомненно, что он в ссылочных пилигримствах своих затронул не одно женское сердце. Он и в Ревеле был еще видный, статный и красивый мужчина. Черты лица правильные, лицо выразительное, взгляд уклончивый и вместе с тем вкрадчивый. Внешние приемы его отличались изящностью, щегольством, вежливостью и навыком к избранному обществу. Какие ни были бы политические замыслы его, наружность и обращение его постоянно носили отпечаток аристократический, свойственный всем благовоспитанным людям того времени. Одним словом, виден был в нем светский человек, в хорошем и полном значении, чего не было в Сперанском ни в первой поре возвышения, ни во второй поре восстановления его. Родовая оболочка Сперанского всегда более или менее выказывалась. Впрочем, должно заметить, что по крайней мере в последнем периоде своем он был отменно вежлив и предупредителен. С людьми, отличающимися умственными способностями или дарованиями, пускал он в ход даже некоторое искусное заискивание и обольщение. Во время первой силы его говорили, что, при разговоре о вельможах екатерининских времен, сказал он: «В наше время вельмож нет и быть не может. Вельможа разве один я». Сказал ли он это или нет, — ни утвердительно, ни отрицательно решить теперь нельзя; но во всяком случае можно признать за истину, что школа испытания, через которую он прошел, была ему в пользу, что, впрочем, и весьма естественно в человеке умном и отрезвившемся от хмеля счастья и фортуны.
Магницкого не знавал я на поприщах государственной деятельности: ни в Петербурге, где он вращался спутником или отблеском светила, то есть Сперанского, ни в Симбирске, где был он губернатором, ни в Казани, где управлял он университетом и учебным округом. Узнал я только Магницкого сосланного, и то видел его всего два раза, или, точнее, один раз: первый, мельком, в постороннем доме, другой у себя, накануне отъезда моего из Вологды. Посещение его продолжалось около двух часов. Он показался мне человеком умным и образованным, с некоторым оттенком литературы, хотя, впрочем, не знаю почему, Певец во стане русских воинов, который тогда прислан мне был из Петербурга, напоминал, по мнению его, английского поэта Драйдена в его Торжестве Александра. Говорил он правильно и бойко как по-русски, так и по-французски. Озлобления и желчи я в нем не заметил, а также и чванства прежнего блеска и чванства падения своего. (Есть люди, которые, так сказать, щеголяют и пыль пускают в глаза опалою своею. Это худшее чванство.) Ничего не было в нем ссыльного: он казался, как и все мы, москвичи, временно выселенным из Москвы по независимым от нас обстоятельствам. И только! На первых порах знакомства и, так сказать, при первой встрече со мной он был довольно откровенен, хотя, разумеется, не вполне разоблачил таинства деятельности Сперанского, которого был он подмастерьем и, так сказать, приказчиком. Не объяснил он подробно и причин крутого падения обоих. Общее впечатление, оставшееся мне после этой беседы, следующее. В замыслах Сперанского не было ничего преступного и, в юридическом смысле, государственно-изменнического, но было что-то предательское в личных отношениях Сперанского к государю. Неограниченная доверенность Александра не встречала в любимце и сподвижнике его полной взаимности. Напротив, могла встретить она поползновение употребить, если не во зло, то, нередко, через край эту царскую доверенность. Кажется, не подлежит сомнению, что в окончательных целях не было единства между императором и министром: сей последний хотел идти далее и в особенности скорее. С другой стороны, в приятельских разговорах, чуть ли даже не в переписке, пускаемы были шутки, насмешливые прозвища, заимствованные, между прочим, из сказок Вольтера. Все это, когда сделалось известным, не могло не иметь прискорбного отголоска в чувствах государя. Несколько мнительный и при всей кротости своей самолюбивый, Александр чувствовал себя нравственно и лично оскорбленным в этом тайном неуважении к нему Сперанского. В этом мог он видеть даже предательство и во всяком случае имел полную причину признать это неблагодарностью. Прибавьте к тому почти общее недовольство при оглашении государственных мер, вымышляемых Сперанским, неудовольствие, имевшее в Карамзине красноречивого обличителя, а в великой княгине Екатерине Павловне, в графах Растопчине и Армфельдте, в Балашове и, может быть, во многих других деятельных и сильных — и уже не просто теоретических — поборников; примите притом в соображение, что на Россию надвигалась туча, разразившаяся грозою 1812 года, и известны были наполеоновские и вообще французские сочувствия Сперанского; совокупите все эти обстоятельства, подведите их под один итог — и тогда, если еще не вполне, то по крайней мере несколько объяснится и оправдается неожиданное и всех изумившее падение могучего счастливца.
В рассказе своем Магницкий живописно изображал некоторые подробности этого падения и роковой аудиенции, на которой совершился разрыв. Сперанский прямо из дворца отправился к Магницкому, чтобы уведомить его о случившемся, но у подъезда дома, им занимаемого, узнал он, что Магницкий вывезен был под полицейским надзором. Не мудрено было догадаться ему, что та же участь ожидает и его. Подъехав к себе и выходя из кареты, увидел он через окно силуэтку Балашова, которая рисовалась на стене кабинета его: подлинные слова, сказанные Магницким, который, вероятно, передавал их из письма к нему Сперанского.
Изо всего разговора моего с Магницким осталось во мне впечатление, что в нем не было основы государственного человека. Впрочем, едва ли и сам Сперанский был таковым в полном значении этого выражения. Нечего и говорить, что он был человек, значительно возвышающийся над уровнем человеческих рядов. Стоит только прочесть послужной список его и проверить некоторые вехи, значащиеся на пути, им пройденном, от сельского священнического дома до высших государственных должностей и почестей, чтобы убедиться, что перед нами — натура избранная, сильная, живучая. Тут одним счастьем не объяснишь подобного перерождения и преобразования. Разумеется, счастье нужно и тут, и очень нужно; но притом нужны еще ум честолюбивый, врожденные способности и дарования, напряженная сила воли, ничем не развлекаемая и постоянно бьющая в одну цель. Талейран сказал о Тьере: «il n'est раз un parvenu, il est un arrive». Можно сказать и о Сперанском: он не выскочил, а дошел. Если хорошенько вглядеться в жизнь, способности и сокровенные свойства подобных государственных счастливцев, то убедишься, что их счастье не есть одно прихотливое создание самовластительного произвола: убедишься, что в них самих уже и ранее таились зародыши и залоги успехов их и возвышения. Разумеется, выборы власти, как и все человеческие действия, могут оказаться ошибочными; но власть вообще прозорлива: на стороне ее и при выборах, не совсем удачных, встречаются, при тщательном изыскании и дознании, побуждения и причины, которые могут в некоторой степени оправдывать эти выборы.
Сперанский был ум светлый, гибкий, восприимчивый, может быть слишком восприимчивый; но, с другой стороны, ум его был более объемистый, нежели глубокий, ум более сообразительный, нежели заключительный. При всей наклонности своей к нововведениям, он мало имел в себе почина и творчества. В нововведениях своих был он более подражатель, часто трафарельщик. Может быть, по свойствам своим и характеру, по быстроте перехода из положения более чем скромного к положению почти господствующему над всеми, он, при всем уме своем, при всей сметливости, не успел опомниться, осмотреться и хладнокровно оценить счастье свое. Он слепо и с упоением предался ему. Во время силы своей и лихорадочной преобразовательной деятельности он, разумеется, находил в людях усердные и порабощенные орудия себе: в ласкателях, в потакальщиках также недостатка не было и быть не могло. Но ни в среде правительственной, ни в среде общественной не имел он ни чистосердечных союзников, ни единомышленников. Он ни на что и ни на кого опереться не мог. Здесь не может быть и речи об опоре, которую он имел в самом государе, — опоре, разумеется, чересчур достаточной, чтобы поддержать и вполне застраховать его. Но по стечению и по роковой силе обстоятельств наконец и эта опора изменила ему. Он пал никем не оплаканный; разве один государь искренно и прискорбно сочувствовал падению, которого был он, так сказать, невольным виновником. Есть свидетельства, на это указывающие. Нет сомнения, что государь любил Сперанского более, нежели Сперанский любил его. Есть и на это неопровержимые свидетельства:
Кем-то[11] сказано, что Сперанский был преимущественно чиновник огромного размера.
Есть люди, которые веруют во всемогущество и все-творчество редакции. Они в пере своем видят рычаг Архимеда, а в листе бумаги точку опоры, о которой он тосковал. Едва ли не приближается Сперанский к этому разряду людей. Он оставил по себе много письменных памятников, проекты, уложения, регламентации, издательские, многотомные и весьма полезные, как справки, труды по части кодификации. Все это вообще, если не строго и придирчиво вникать в подробности, незабвенные и многоценные заслуги. Но все это мог оставить по себе и ученый профессор, не выходивший из кабинета своего. Государственной личности все еще тут не выказывается. Как бы то ни было, Сперанский займет видное место в нашей современной гражданской истории. Но существенных, прочных, вполне государственных следов его отыщется немного на отечественной почве. Не говорим уже о Пензе, где он просто милостиво, дружелюбно губернаторствовал по обыкновенным порядкам и общепринятому покрою; круг действия его в этих пределах был слишком ограничен, слишком тесен для властолюбивого ума его, требующего более простора и привыкшего к большему простору. Но как могла Сибирь не возбудить государственной деятельности его? Как эта земля обетованная, эта новь, обещающая такую богатую и плодоносную жатву руке трудолюбивой и зиждительной, которая посвятила бы себя обработке ее, — как не прилепила она его к себе? Как не овладела она всеми его умственными способностями и сочувствиями, чтобы он на ней, на почве ее, в самые недра этой почвы, а не только на бумаге, поселил и водворил свои государственные понятия и мысли, если они в самом деле были ему присущи? Тут расстилалось перед ним бесконечное и беспрепятственное поприще для многих действительных, а не только канцелярских, преобразований. Как не высказал, не выказал себя тут истинный нововводитель, прокладыватель новых путей, зачинщик новых порядков? Вот вопросы, которые, к сожалению нашему, напрасно возникают в уме при рассмотрении и оценке государственных способностей и призваний Сперанского. Истинный государственный человек (а впрочем, такого рода люди и у самой всеобщей истории на счету) полюбил бы Сибирь, подавил бы в себе сетования мелочной суетности и посвятил бы охотно несколько лет жизни своей обработке и воссозданию этой страны. Сибирь раскрывалась пред ним как пред новым Ермаком. Сперанский мог вторично завоевать ее и покорить России. Но нет: он скучал Сибирью, он тяготился обязанностями и мыслью о подвиге, который предстоял ему, он на скорую руку отделывался бумажной деятельностью. Как изгнанный Овидий писал в Рим свои черноморские элегии, так Сперанский отправлял по почте в свой Рим, в Петербург, свои сибирские Tristia[12]. Он суетно рвался в Петербург. Ему нужна была кипучая, в обширных размерах, писчебумажная, скороспелая канцелярская производительность. Канцелярия была форум его. Приложительная, полезная деятельность, в определенном круге действия, была не по нем.
При начале возвышения своего он чувствовал, и в этом совершенно единомысленно с императором Александром, что многое у нас не так и что многое требует исправления и подновления. Но одно — сознавать недостатки и зло, а третье — замещать эти недостатки правильными силами, а зло — надежным добром. Недаром вошел в общую пословицу стих Буало: «критика легка, но искусство мудрено». Крылов говорил о Шишкове как литераторе: «следовать примерам его не должно, а пользоваться иными критиками его может быть полезно». Крылов обычно одевал мысль свою обликом аполога. «Шишков в этом отношении, — продолжал он, — похож на человека, который доказывал бы, как опасно употреблять недостаточно луженую посуду, а стал бы советовать чаще лудить ее суриком». Мы видим из обшей истории, что встречаются преобразователи, к которым можно вполне применить аполог Крылова.
По нашему мнению, Сперанский, при других порядках, при других или иначе условленных обстоятельствах, мог бы сделаться очень полезным деятелем на гражданском поприще: например, при Екатерине. Он был бы для нее драгоценная находка. Она любила реформы, но постепенные; преобразования, но не крутые. Ломки не любила она. Она была ум светлый и смелый, но положительный. Любимый внук ее был ума более отвлеченного и романического; вместе с тем был он натуры отменно-доброжелательной и благонамеренной. Надежды, виды его на преобразовательное воспитание России и на благоденствие ее были чисты и возвышенно-благородны. Он предавался им с любовью. Но, может быть, не всегда изыскивал он твердую и благонадежную почву, чтобы положить прочную основу под предпринимаемые им постройки? Сперанский не имел в себе ничего романического: вероятно, было в нем мало и филантропического, в общем значении этого слова. Он был то, что позднее стали называть идеологом и доктринером, то есть человеком, который крепко держится несколькихпредвзятых понятий и правил и хочет без разбору подчинять им действительность, а не их согласовать с нею и с условиями и требованиями ее.
В этих оттенках и сошелся с ним Александр. Не желая быть только счастливым случаем, как выразился он в разговоре с м-м Сталь, но, по чувствам своим и внутреннему обету, решившийся упрочить на твердом и законном основании благоденствие и могущество России, он обрадовался встретя Сперанского. Он ухватился за него как за свежую силу, новое орудие, посланное ему провидением для осуществления заветных дум и желаний, которые озабочивали и волновали его в юношеские лета. Многие свойства и качества Сперанского были таковы, что вполне оправдывали сочувствие и пристрастие Александра.
Сперанский был ловкий и скорый редактор и приятный, то есть светлый и вразумительный, докладчик. Началась спешная работа. Государь увлекался благовидно-либеральными предначертаниями, которых смысл и дух носил он долго в груди своей. С другой стороны, Сперанский увлекался своею редакционною легкостью и способностью. Настоящие нужды России, истинные выгоды ее, то, что в нововведениях могло оказать вредное влияние на эти выгоды, — все это, за скоростью работы, за верою в редакцию, о которой мы говорили выше, все это более или менее оставалось без надлежащего и испытующего внимания. Между тем наступающий 12-й год, с своим предыдущим и опасениями за будущее, круто пресек все эти попытки и почины. Что вышло бы из них, если бы Сперанский так или иначе не утратил доверенности государя и не разразилась над Россией наполеоновская гроза — гроза, которая перенесла заботы, деятельность и честолюбивые цели Александра на совершенно иную почву? Что вышло бы? На сей вопрос отвечать трудно. О том знает разве один русский Бог. Судьбы России поистине неисповедимы. Можно полагать, что у нас и выдуман русский Бог, потому что многое у нас творится вне законов, какими управляется все прочее мироздание. Как знать, может быть, и Сперанскому суждено было оставить по себе память не только как издателя Полного Собрания Законов и Свода Законов, как ныне, но и главного сотрудника в деле коренного государственного преобразования России. Но точно так же, как русский Бог выдвинул Сперанского вперед, так он и отодвинул его. История падения Сперанского остается в летописи нашей одной из загадок и едва ли не останется и навсегда загадкою. По возможности навели мы здесь некоторые проблески света на нее; но, разумеется, далеко недостаточны они, чтобы вполне объяснить все таинственные стороны возвышения, могущества и падения Сперанского.
Для конца очерка нашего сберегли мы одно обстоятельство: оно вовсе не поясняет дела, может быть и пуще еще запутывает его, но оно указывает, между прочим, на личные отношения Александра к Сперанскому, которые пережили и разрыв с ним и падение его. Это обстоятельство, кажется, мало известно; может быть, известно разве двум или трем лицам. «Мы ехали, — говорил князь Петр Михайлович Волконский графу Павлу Дмитриевичу Киселеву, — с государем из Москвы в Петербург. На переезде от одной станции к другой, по Новгородской губернии, император вдруг приказал ямщику своротить в сторону. Я удивился этому приказанию и обратился лицом к нему. Он заметил удивление мое и спросил меня, знаю ли я, куда мы едем? На ответ мой, что не знаю, он улыбаясь сказал мне: «Ну, недальновиден же ты, любезнейший мой; сколько времени ты при мне — мог бы, кажется, успеть узнать меня, а не догадываешься, что едем к Сперанскому». Этот рассказ, переданный мне из уст самого князя Волконского, имеет в глазах моих и по убеждению моему историческую достоверность. Правдивость обоих лиц не может подлежать сомнению.
Слышал я это от Киселева в 1818 или 1819 году: следовательно, как полагать должно, вскоре после события. Свежая память не могла изменить Киселеву. В исторических и анекдотических рассказах должно, сколько есть возможности, по французской поговорке, ставить les points sur les i |точки над i]: то есть всякое лыко в строку.
Возвратимся на несколько минут к Магницкому, который одно время был отблеском, отражением Сперанского. Многие привыкли видеть в нем только лешего казанских лесов или Казанского университета- Как бы то ни было, но имел он некоторые и человеческие черты. Зачем же не приводить и их в известность? Он, кажется, был воспитанником благородного пансиона при Московском университете и воспитанником, кончившим курс свой с блестящим успехом. Вообще в нем было много блеска и представительности. В начале своей служебной деятельности проходил он через дипломатические должности при посольствах наших в Вене и в Париже. В молодости писал он стихи, которые Карамзин печатал в Аонидах своих. В некоторых поэтических попытках его прорывается стремление усвоить себе иные лирические замашки Державина. Вообще эти попытки могли быть задатками, надеждами на будущее. Долго была в ходу песня его:
Изменил и, признаюся,
Виноват перед тобой:
Но утешься: я влюблюся.
Изменю еще и той.
Кончалась она следующими стихами:
Лучше, лучше не влюбляться. Понемножку всех любить. Всех обманывать стараться, Чтоб обманутым не быть.
Песенка эта, видите вы, не отличается строгим нравоучением. Вероятно, попадись она, писанная студентом во времена казанского попечительства, куратор торжественно предал бы ее публичному костру.
В первых годах столетия Нелединский написал ему шуточное и приятельское послание. Нелединский был старше его годами и выше по общественному положению: он вообще был разборчив и воздержан в отношениях своих с людьми. Это обстоятельство также служит благоприятным свидетельством в пользу обвиненного, то есть Магницкого, qui depuis... mais alors il etait vertueux[13].
Ну, если и не совсем vertueux, то по крайней мере в то время был он человек, как водится, не только так себе, как говорится, но и в некотором отношении отличающийся от толпы и даже сочувственный. Честолюбие и одностороннее стремление, доводящее до фанатизма, могут исказить и подавить лучшие внутренние качества, умственные и нравственные. С другой стороны, развивают они и воплощают недобрые зародыши, которые в том или другом виде, в той или другой степени силы, гнездятся в глубоком тайнике каждого человека.
Вот, кажется, история и Магницкого. Мы, вообще, очень любим бичевать и добивать забитых. Мы злорадствуем, когда безответственно и безнаказанно предают нам кого-нибудь на заедение. Вот, например, Магний-кий. Он уже при жизни своей испытал кару власти и общественного мнения. Зачем еще предавать его и загробным пыткам? Не требуем, чтобы прикрывать молчанием и забвением все темное и недоброе в минувшем; но можно и должно требовать суда хладнокровного, нелицеприятного. Уж если где должны быть принимаемы в соображение les causes attenuants (облегчающие обстоятельства), то именно в суде и приговорах над деятелями минувшего времени, уже сошедшими с лица земли. Они не могут оправдывать себя, не могут пояснить многое, которое, может быть, не вполне оправдало бы их, но, по крайней мере, уменьшило бы их вину, часто плод обстоятельств, общественной температуры и других трудно одолеваемых условий. Пред виновными или над виновными людьми бывают и виновны обстоятельства и влияния. Обязанность и дело судии распутывать и определять эти сложные и нередко многосложные узлы. Наши судьи часто лицеприятны; они выдвигают на отдельную скамью обвинения лицо, которое они подозревают или которого не взлюбили, и устремляют на него все улики, все возможные натяжки, не возлагая на себя труда проверить, прочистить среду, окружавшую его.
129
Вдовый чадолюбивый отец говорил о заботах, которые прилагает к воспитанию дочери своей. «Ничего не жалею, держу при ней двух гувернанток, француженку и англичанку; плачу дорогие деньги всем возможным учителям: арифметики, географии, рисования, истории, танцев, — да, бишь, Закона Божия. Кажется, воспитание полное. Потом повезу дочь в Париж, чтобы она канальски схватила парижский прононс, так чтобы не могли распознать ее от парижанки. Потом привезу в Петербург, начну давать балы и выдам ее замуж за генерала». (Все это исторически достоверно из московской старины.)
Другой отец, тоже москвич, жаловался на необходимость ехать на год за границу. «Да зачем же едете вы?» — спрашивали его. «Нельзя, для дочери», - «Разве она нездорова?» — «Нет, благодаря Бога здорова; но, видите ли, теперь ввелись на балах долгие танцы, например котильон, который продолжается час и два. Надобно, чтобы молодая девица запаслась предметами для разговора с кавалером своим. Вот и хочу показать дочери Европу. Не все же болтать ей о Тверском бульваре и Кузнецком Мосте». (И это исторически верно.) Есть же отцы, которые пекутся о воспитании дочерей своих.
130
А.М.Пушкин забавно рассказывает один анекдот из своей военной жизни. В царствование императора Павла командовал он конным полком в Орловской губернии. Главным начальником войск, расположенных в этой местности, было лицо высокопоставленное по тогдашним обстоятельствам и немецкого происхождения. Пушкин был с ним в наилучших отношениях как по службе, так и по условиям общежительности. Однажды и совершенно неожиданно получает он, за подписью начальника, строжайший выговор, изложенный в выражениях довольно оскорбительных. Пушкин тут же пишет рапорт о сдаче полка по болезни своей старшему по нем штаб-офицеру и просит о совершенном своем увольнении. Начальник посылает за ним и спрашивает о причине подобного поступка. «Причина тому, — говорит Пушкин, — кажется довольно ясно выражена в бумаге, которую я от вас получил». — «Какая бумага?» Пушкин подает ему полученный выговор. Начальник прочитывает его и говорит: «Так эта-то бумага вас огорчила? Удивляюсь вам. Служба одно, а канцелярия другое. Какую бумагу подаст мне она, я ту и подписую. Службою вашею я совершенно доволен и вперед прошу вас, любезнейший Пушкин, не обращать никакого внимания на подобные глупости».
В одно из пребываний Александра Павловича в Москве он удостоил частное семейство обещанием быть у него на бале. За несколько дней до бала хозяин дома простудился и совершенно потерял голос. «Само провидение, — говорил тот же Пушкин, — благоприятствует этому празднику: хозяин не может выговорить ни одного слова, и государь избавляется от скуки слушать его».
131
NN говорит: «Я ничего не имел бы против музыки будущего, если бы не заставляли бы нас слушать ее в настоящем».
Вводить реализм в музыку то же, что вводить поэзию в алгебру.
132
Кто-то сказал: царедворцы вообще ближе и тверже изучают нравственные немощи и недостатки владык своих, чем благородные и доблестные свойства их. Это понятно и в порядке вещей. Они подобны врачам: и этим от здоровья и от здоровых ожидать нечего; они промышляют и наживаются болезнями. Как болезни для врачей, так и царские слабости для царедворцев составляют благонадежные доходные статьи.
С., говоря об одном из подобных царедворцев, метко и счастливо сказал: «Он знает государя своего, как пианист знает свой инструмент. Один изучил звук каждого клавиша, другой изучил каждое чувство, каждый нерв господина своего: он знает наперед, какой отголосок отзовется от прикосновения к нему».
133*
Приятель наш Лазарев женитьбой своей вошел в свойство с Талейраном. Возвратясь в Россию, он нередко говаривал: «Мой дядя Талейран». — «Не ошибаешься ли ты, любезнейший? — сказал ему Князь Меншиков. — Ты, вероятно, хотел сказать: «мой дядя Тамерлан».
Известно, что когда приехал в Россию Рубини, он еще сохранял все пленительное искусство и несравненное выражение пения своего, но голос его уже несколько изменял ему. Спрашивали князя Меншикова, почему не едет он хоть раз в оперу, чтобы послушать Рубини. «Я слишком близорук, — отвечал он, — не разглядеть мне пения его».
У князя Меншикова с графом Клейнмихелем была, что называется или называлось, контра; по службе ли, или по другим поводам, сказать трудно. В шутках своих князь не щадил ведомства путей сообщения. Когда строились Исаакиевский собор, постоянный мост через Неву и Московская железная дорога, он говорил: «Достроенный собор мы не увидим, но увидят дети наши; мост мы увидим, но дети наши не увидят; а железной дороги ни мы, ни дети наши не увидят». Когда же скептические пророчества его не сбылись, он при самом начале езды по железной дороге говорил: «Если Клейнмихель вызовет меня на поединок, вместо пистолета или шпаги предложу ему сесть нам обоим в вагон и прокатиться до Москвы. Увидим, кого убьет!»
Он же рассказывал: «Я ездил во внутренние губернии и заболел в одном уездном городе. Плохо становилось, и я думал, что приходит мой конец. Посылаю за священником. Он исповедует меня и под конец спрашивает: «Нет ли еше какого-нибудь грешка на душе?» Отвечаю, что, кажется, ничего не утаил и все чистосердечно высказал. Он настаивает и все с большим упорством и с каким-то таинственным значением допытывается, не умалчиваю ли чего. «Да что вы еше узнать от меня хотите?» — спросил я. «Вот, например, насчет казенных интересов...» — «Как, казенных интересов? Что вы этим сказать хотите?» — «То есть, попросту сказать, не грешны ли вы вдалее в деревню свою. На возвратном пути, проезжая через тот же уездный городок, вспомнил я священника, исповедь его и хотел добраться, почему так напирал он на своем духовном допросе. «Великодушно простите меня, ваша светлость: не знаю, с чего взял я, что вы — офицер путей сообщения».
При одном многочисленном производстве генерал-лейтенантов в следующий чин (полного генерала) Меншиков сказал: «Этому можно порадоваться; таким образом многие худые генералы наши пополнеют».
134*
Настасья Дмитриевна Офросимова была долго в старые годы воеводою на Москве, чем-то вроде Марфы Посадницы, но без малейших оттенков республиканизма. В московском обществе имела она силу и власть. Силу захватила, власть приобрела она с помощью общего к ней уважения. Откровенность и правдивость ее налагали на многих невольное почтение, на многих страх. Она была судом, пред которым докладывались житейские дела, тяжбы, экстренные случаи. Она и решала их приговором своим. Молодые люди, молодые барышни, только что вступивше в свет, не могли избегнуть осмотра и, так сказать, контроля ее. Матери представляли ей девиц своих и просили ее, мать-игуменью, благословить их и оказывать им и впредь свое начальническое благоволение. Что ни говори, это имело свою и хорошую сторону. В обществе нужна некоторая подчиненность чему-нибудь и кому-нибудь. Многие толкуют о равенстве, которого нет ни в природе, ни в человеческой натуре. Ничего нет скучнее и томительнее плоских равнин: глаз непременно требует, чтобы что-нибудь — пригорок, дерево — отделялось от видимого однообразия и несколько возвышалось над ним. Равенство перед законом дело другое. Но равенство на общественных ступенях — нелепость. Тут, для самой пользы общества и даже для приятности его, необходимы неровности, преимущества, вследствие прихоти судьбы, рождения, случайных, но узаконенных ус
тию сделать всех умными, надлежало бы сделать всех глупыми, чего, впрочем, многие бессознательно и прямо инстинктивно, может быть, и добиваются, В старой Москвеживали и умирал и тузы обоего пола. Фамусов прав был, когда гордился ими. Неужели лучше иметь в игре своей одни тройки да двойки? У Офросимовой был ум не блестящий, но рассудительный и отличающийся русскою врожденною сметливостию. Когда генерал Закревский назначен был финляндским генерал-губернатором, она сказала: «Да как же будет он там управлять и объясняться? Ведь он ни на каком языке, кроме русского, не в состоянии даже попросить у кого бы то ни было табачку понюхать!»
Она имела несколько сыновей. Все они истые и кровные москвичи. Один из них, Александр Павлович, кажется старший из братьев, был большой чудак и очень забавен. Он в мать был честен и прямодушен. Речь свою пестрил он разными русскими прибаутками и загадками. Например, говорил он: «Я человек бесчасный, человек безвинный, но не бездушный». — «А почему так?» — «Потому что часов не ношу, вина не пью, но духи употребляю». Он прежде служил в гвардии, потом был в ополчении и в официальные дни любил щеголять в своем патриотическом зипуне с крестом непомерной величины Анны второй степени. Впрочем, когда он бывал и во фраке, он постоянно носил на себе этот крест вроде иконы. Проездом через Варшаву отправился он посмотреть на развод. Великий князь Константин Павлович заметил его, узнал и подозвал к себе. «Ну, как нравятся тебе здешние войска?» — спросил он его. «Превосходны, — отвечал Офросимов. — Тут уж не видать клавикордничанья!» — «Как? Что ты хочешь сказать?» — «Здесь не прыгают клавиши одна за другою, а все движется стройно, цельно, как будто каждый солдат сплочен с другими». Великому князю очень понравилась такая оценка, и смеялся он применению Офросимова.
В 18-м или 19-м году в числе многих революций в Европе совершилась революция и в мужском туалете. Были отменены короткие штаны при башмаках с пряжками, отменены и узкие в обтяжку панталоны с сапогами сверх панталонов; введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах. Эта благодетельная реформа в то время еше не доходила до Москвы. Приезжий NN первый явился в таких невыразимых на бал М.И. Корсаковой. Офросимов, заметя его, подбежал к нему и сказал: «Что ты за штуку тут выкидываешь? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить; а ты вздумал нарядиться матросом».
Говорили о ком-то: «Что ему за охота ухаживать всегда за девчонками, ведь из этого ничего не выйдет, и смешно». — «Ничуть не смешно, — перебил Офросимов, — он хочет быть министром, он смотрит и метит вдаль. Девчонки выйдут замуж и вспомнят тогда, что он обращал на них внимание, да и отблагодарят его».
Он уморительно смешно рассказывал о сношениях своих с Кокошкиным (Ф.Ф.). У них была общая родственница, старая дева. Была она при смерти больна. Та и другая сторона имели в виду наследовать ей. Проживала она у Кокошкина. Офросимов отправляется к нему. Едва вошел он, в комнату явился и Кокошкин. Больная лежала на кровати выпуча глаза и не давала почти никаких признаков жизни.
Офросимов: Матушка моя прислала меня к вам узнать о здоровье.
Больная протяжно хрипит.
Кокошкин: Сестрица очень благодарит матушку вашу и вас за внимание к ней.
Офросимов еще ближе подходит к кровати больной и говорит:
— Матушка приказала мне спросить вас, не желаете ли вы и не нужно ли вам, чтобы она вас навестила.
Больная еще протяжнее хрипит.
Кокошкин: Сестрица очень благодарит матушку вашу за доброе предложение, но просит ее заехать к ней попозже, когда ей будет легче.
Офросимов: Да помилуйте, Федор Федорович, что это переводите вы мне по-своему мычание и хрипение сестрицы? Она ничего не слышит и не понимает и ни одного слова выговорить не может, а вы сочиняете за нее ответы.
Сестрица вскоре затем скончалась, а между наследниками началась тяжба.
Рассказ Офросимова, целиком в лицах переданный на сиене, мог бы придать живое и мастерское явление комедии нравов.
Он говорил оригинально, чистым, крепко отчеканенным русским словом, говорил несколько отрывисто и с особенным ударением, так сказать подчеркивал выражения, которым хотел дать усиленное значение и выпуклость.
Старая Москва была богатая руда подобных оригиналов-самородков. Когда живал я в ней, я их всегда отыскивал и привязывался к ним.
На всех московских есть особый отпечаток. То-то и беда, что не на всех, а только на некоторых. И за то спасибо! Оригинальность, когда она не напускная, не изученная, не поддельная, не подкрашенная, есть всегда более или менее признак независимости характера; а подобная независимость есть своего рода мужество, своего рода доблесть. Дон Кихот, может быть, смешон, но прежде всего он рыцарски благороден. Иногда уже и то вменяется в достоинство, что бываешь не похож на других. Мы не касаемся здесь исторических оригиналов, этих почтенных обломков другого века, другого славного царствования. Они на почве Москвы, хотя и старой, но которую все же начинало уже проветривать свежее влияние новых времен, составляли, так сказать, заматерелый слой: он не смешивался с другими. Для изображения подобных археологических оригиналов надобно приступить к начертанию исторической картины. Здесь, довольствуемся тем, что накидываем беглым карандашом отдельные очерки, рисунки для альбома или политипажи.
Вот еще несколько отдельных лиц, которые выглядывают из памяти моей.
Старик Приклонский едва ли не единый на твердой земле добросовестно и по глубокому убеждению не признавал за Наполеоном императорского титла. До конца жизни своей честил он его не иначе как первым консулом, к которому питал сочувствие. Он горячо отстаивал мнение свое и не менее горячо негодовал на слабодушие правительств и журналов, которые величали Наполеона императором.
Был еще оригинал, повсеместный, всюду являющийся, везде встречаемый. Он не был оригинал тонкой и примечательной грани; все было в нем довольно грубо и аляповато; со всем тем все любили его. Он вхож был во все лучшие дома. Дамский угодник, он находился в свите то одной, то другой московской красавицы. Откуда был он? Какое было предыдущее его? Какие родственные связи? Никто не знал, да никто и не любопытствовал узнать. Знали только, что он дворянин Сибилев, и довольно. Аристократическая, но преимущественно гостеприимная, Москва не наводила генеалогических справок, когда дело шло о том, чтобы за обедом иметь готовый прибор для того и для другого. Сибилев имел в Москве, вероятно, двадцать или тридцать таких ежедневно готовых для него приборов. Хотя и нахлебник, не был он, так сказать, дворовым ни в одном доме, а держал себя пристойно и даже с некоторою независимостью. Бедный, или по крайней мере весьма ограниченный в средствах своих, никогда не был он подлипалою пред богатою знатью. Еще одно достоинство: несмотря на проживанье его то там, то здесь — или и там и здесь, — он не был сплетником и не переносил сору из одного дома в другой. Вообще был он нрава веселого и большой хохотун. У него были кошачьи ухватки. Он часто лицо свое словно облизывал носовыми платками, которых носил в кармане по три и по четыре. Князь Юсупов говорил про него: «Он не только московский ловелас, но и московский ложелаз». Так прозвал он его потому, что, бывая во всех спектаклях, он никогда ничего не платил за вход, а таскался по ложам знакомых своих барынь.
Забавно, что, не зная французского языка и не понимая на нем ни полслова, он попался в театральную французскую историю, которая в свое время наделала много шуму в Москве как сама по себе, так и по своим последствиям. Русская барыня[14] содержала некоторое время труппу французских актеров. Лучшее московское общество охотно посещало театр. По каким-то закулисным или внекулисным обстоятельствам содержательница не взлюбила молодой актрисы, которая была любимицею публики. Однажды в ее роли на сцену явилась другая актриса. Публика встретила ее дружным шиканьем: не давали ей пикнуть. Вслед за тем стали требовать прежней актрисы. Шум и разные наступательные заявления поминутно разрастались. Публика начала вызывать к ответу директрису театра. Завелась гласная и крупная полемика между креслами и сценою. Пересылались с одной стороны к другой колкости и разные поджигательные вызовы. Полиция была в недоумении и не знала, на что решиться, тем более что спектакль не принадлежал императорской дирекции, а совершенно частной. Казус выходил неслыханный в летописях полиции и театра. Разумеется, донесли о нем в Петербург, и, вероятно, с некоторыми преувеличениями и вышивками. Из Петербурга не замедлило приказание арестовать зачинщиков театрального скандала и рассадить военных или военноотставных по гауптвахтам, а статских по съезжим домам. Наш бедный ложелаз, не повинный тут ни единым словом, попал в сей последний разряд. В числе временных жильцов съезжей был и богатый граф Потемкин. Сей великолепный Потемкин, если не Тавриды, а просто Пречистенки, на которой имел он свой дом, перенес из него в съезжий дом всю роскошную свою обстановку. Здесь давал он нам лакомые и веселые обеды. В восьмой день заточения приехал во время обеда обер-полицмейстер Шульгин 2-й и объявил узникам, что они свободны. Все это было довольно драматически и забавно, и замоскворецкий съезжий дом долго не забудет своих неожиданных и необычайных арестантов. Сибилев получил новый оттенок известности своим в чужом пиру похмельем.
В числе оригиналов как не упомянуть Новосильцева, приятеля графа Растогтчина! Он слыл каким-то таинственным нелюдимом, запертым в своем недоступном доме. Москва только и знала его как какого-нибудь стамбульского пашу. С трубкою во рту разъезжал он по городским улицам на красивом коне, покрытом богатым и золотом вышитым чепраком и увешанном богатою цепочною сбруею. Народ, встречаясь с ним, снимал шапки, недоумевая, как величать его.
Разве все это не живописно? Встречаются ли еще подобные оригиналы-самородки в нашей Белокаменной или и они переплавлены в общем литейном горниле в одну сплошную и безличную массу? Жаль, если так!
135
[Денис Давыдов! говорил о генерале, который претерпел в море ужасную бурю: «Pauvre homme, comme il a du souffrir, lui qui craint I'eau, comme le feu» (Бедняжка, что он должен был выстрадать — он, который боится воды как огня).
136
Когда в некоторых журналах наших встречаются (а встречаются часто) французские слова и поговорки, вкривь и вкось употребляемые, это всегда приводит мне на память рассказ Толстого. Он ехал на почтовых по одной из внутренних губерний. Однажды послышалось ему, что ямщик, подстегивая кнутом коней своих, приговаривает: «Ой, вы, Вольтеры мои!» Толстому показалось, что он обслушался; но ямщик еще раза два проговорил те же слова. Наконец, Толстой спросил его: «Да почем ты знаешь Вольтера?» — «Я не знаю его», — отвечал ямщик». — «Как же мог ты затвердить это имя?» — «Помилуйте, барин, мы часто ездим с большими господами, так вот кое-чего и понаслушались от них».
137
Клочки разговоров, мимоходом схваченных
Г. (хозяин за обедом): А вы любите хорошее вино?
NN: Да, люблю.
Г.: У меня в погребе отличное вино, еще наследственное: попотчую вас в первый раз, что пожалуете ко мне обедать.
NN (меланхолически и вполголоса): Зачем же в первый раз, а не в этот?
Князь *** (хозяин за ужином): А как вам кажется это вино?
Пушкин (запинаясь, но из вежливости): Ничего, кажется вино порядочное.
Князь ***: А поверите ли, что тому шесть месяцев нельзя было и в рот его брать.
Пушкин: Поверю.
Другой хозяин (за обедом): Вы меня извините, если обед не совсем удался. Я пробую нового повара.
Граф Михаил Вьельгорский (наставительно и несколько гневно): Вперед, любезнейший друг, покорнейше прошу звать меня на испробованные обеды, а не на пробные.
Третий хозяин: Теперь поднесу вам вино историческое, которое еще от деда хранится в нашем семейном погребе.
Граф Михаил Вьельгорский: Это хорошо, но то худо, что и повар ваш, кажется, употребляет на кухне масло историческое, которое хранится у вас от деда вашего.
NN говорит о Вьельгорском: Personne n'est plus aimable que lui, mais a un mauvais diner il devient feroce (Нельзя быть любезнее его, но за дурным обедом он становится свирепым).
Зрелая девица (гуляя по набережной в лунную ночь): Максим, способен ли ты восхищаться луною? Слуга: Как прикажете, ваше превосходительство.
Политический разговор
X: Сами признайтесь, ведь Пальмерстон не глуп; вот, что он на это скажет.
NN (перебивая его): Нет, позвольте, если Пальмерстон что-нибудь скажет, то решительно не то, что вы скажете.
138*
Donna Sol
Oh! je voudrais savoir, ange au ciel reserve, Ou vous avez marche, pour baiser le pave[15].
Драма В. Гюго: Эрнани
В начале тридцатых годов драма Гюго Эрнани наделала много шуму в Париже, Этот шум откликнулся и в Петербурге. В самом деле, в ней много свежей поэзии, движения и драматических нововведений, в которых, может быть, нуждалась старая французская трагедия, не расиновская, не вольтеровская, имевшие достоинство свое, а трагедия времен Наполеона. Стихи из нового произведения поэта переходили из уст в уста и делались поговорками. В то самое время расцветала в Петербурге одна девица, и все мы, более или менее, были военнопленными красавицы; кто более или менее уязвленный, но все были задеты и тронуты. Кто-то из нас прозвал смуглую, южную, черноокую девицу Donna Sol — главною действующею личностью испанской драмы Гюго. Жуковский, который часто любит облекать поэтическую мысль выражением шуточным и удачно-пошлым, прозвал ее небесным дьяволенком. Кто хвалил ее черные глаза, иногда улыбающиеся, иногда огнестрельные; кто — стройное и маленькое ушко, эту аристократическую женскую примету, как ручка и как ножка; кто любовался ее красивою и своеобразною миловидностью. Иной готов был, глядя на нее, вспомнить старые, вовсе незвучные, стихи Востокова и воскликнуть:
О, какая гармония
В редкий сей ансамбль влита!
И заметим мимоходом, что она очень бы смеялась этим стихам: несмотря на свое обшественное положение, на светскость свою, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем. Она угадывала (более того, она верно понимала) и все высокое и все смешное. Изящное стихотворение Пушкина приводило ее в восторг. Переряженная и масленичная поэзия певца Курдюковой находила в ней сочувственный смех. Обыкновенно женщины худо понимают плоскости и пошлости; она понимала их и радовалась им, разумеется, когда они были не плоско-плоски и не пошло-пошлы. Женщины брезгливы и в деле искусства; у них во вкусе есть своя исключительность, свой педантизм, свой «чин чина почитай». Наша красавица умела постигать Рафаэля, но не отворачивалась от Теньера, ни от карикатуры Гогарта и даже Кома. Вообще увлекала она всех живостью своею, чуткостью впечатлений, остроумием, нередко поэтическим настроением. Прибавьте к этому, в противоположность, не лишенную прелести какую-то южную ленивость, усталость. В ней было что-то от севильской женственности. Вдруг эта мнимая бесстрастность расшевелится или теплым сочувствием всему прекрасному, доброму, возвышенному, или (да простят мне барыни выражение) ощетинится скептическим и язвительным отзывом на жизнь и на людей. Она была смесь противоречий, но эти противоречия были как музыкальные разнозвучия, которые, под рукою художника, сливаются в какое-то странное, но увлекательное созвучие. В ней были струны, которые откликались на все вопросы ума и на все напевы сердца. Были, может быть, струны, которые звучали пронзительно и просто неприятно; но это были звуки отдельные, обрывистые, мимолетучие. Впрочем, и эта разноголосица имеет свою раздражительную прелесть: когда сердишься на женщину — это несомненный знак, что ее любишь.
Хотя не было в чулках ее ни малейшей синей петли, она могла прослыть у некоторых академиком в чепце[16]. Сведения ее были разнообразные, чтения поучительные и серьезные, впрочем не в ущерб романам и газетам. Даже богословские вопросы, богословские прения были для нее заманчивы. Профессор Духовной академии мог быть не лишним в дамском кабинете ее, как и дипломат, как Пушкин или Гоголь, как гвардейский любезник, молодой лев петербургских салонов. Она выходила иногда в приемную комнату, где ожидали ее светские посетители, после урока греческого языка, на котором хотела изучить восточное богослужение и святых отцов. Прямо от беседы с Григорием Назианзином или Иоанном Златоустом влетала она в свой салон и говорила о делах парижских с старым дипломатом, о петербургских сплетнях, не без некоторого оттенка дозволенного и всегда остроумного злословия с приятельницею или обменивалась с одним из своих поклонников загадочными полусловами, то есть по-английски flirtation, или отношениями, как говорилось в то время в нашем кружке. Одним словом, в запасе любезностей ее было, если не всем сестрам по серьгам, то всем братьям по сердечной загвоздке, как сказал бы Жуковский. Молодой русский врач С. был также в числе прихваченных гвоздем. Когда говорили о ней и хвалили ее, он всегда прибавлял: «А заметьте, как она славно кушает! Это верный признак здоровой натуры и правильного пищеварения». Каждый смотрел на нее с своей точки зрения: Пушкин увлекался прелестью и умом ее; врач С. исправностью ее желудка.
Вот шуточные стихи, которые были ей поднесены:
Вы — Донна Соль, подчас и Донна Перец!
Но все нам сладостно и лакомо от вас,
И каждый мыслями и чувствами из нас
Ваш верноподанный и ваш единоверец.
Но всех счастливей будет тот,
Кто к сердцу вашему надежный путь проложит
И радостно сказать вам может:
О, Донна-Сахар! Донна-Мед!
139*
16 июня 1853 г. узнал я о смерти Льва Пушкина. С ним, можно сказать, погребены многие стихотворения брата его не изданные, может быть даже и не записанные, которые он один знал наизусть. Память его была таже типография, частию потаенная и контрабандная. В ней отпечатлевалось все, что попадало в ящик ее. С ним сохранялись бы и сделались бы известными некоторые драгоценности, оставшиеся под спудом; и он же мог бы изобличить в подлоге другие стихотворения, которые невежественными любителями соблазна несправедливо приписываются Пушкину. Странный обычай чтить память славного человека, навязывая на нее и то, от чего он отрекся, и то, в чем часто неповинен он душою и телом. Мало ли что исходит из человека! Но неужели сохранять и плевки его во веки веков в золотых и фарфоровых сосудах?
Пушкин иногда сердился на брата за его стихотворческие нескромности, мотовство, некоторую невоздержность и распущенность в поведении, но он нежно любил его родственною любовью брата, с примесью родительской строгости. Сам Пушкин не был ни схимником, ни пуританином; но он никогда не хвастался своими уклонениями от торной дороги и не рисовался в мнимом молодечестве. Не раз бунтовал он против общественного мнения и общественной дисциплины; но, по утишении в себе временного бунта, он сознавал законную власть этого мнения. Как единичная личность, как часть общества, он понимал обязанности по крайней мере внешне приноровляться к ней и ей повиноваться гласною жизнью своею, если не всегда своею жизнью внутреннею, келейною. И это не была малодушная уступчивость. Всякая свобода какою-нибудь стороною ограничивается тою или другою обязанностию, нравственною, политическою или взаимною. Иначе не быть обществу, а будет дикое своеволие и дикая сволочь. Лев Пушкин, храбрый на Кавказе против чеченцев, любил иногда и сам, в мирном житии, гарцевать чеченцем и нападать врасплох на обычаи и условия благоустроенного и взыскательного общества. Пушкин старался умерять в младшем брате эти порывы, эти избытки горячей натуры, столь противоположные его собственной аристократической натуре: принимаем это слово и в общепринятом значении его, и в первоначальном этимологическом смысле. Не в гнев демократам будь сказано, а слово аристократия соединяет в себе понятия о силе и о чем-то избранном и лучшем, т.е. о лучшей силе.
Лев, или, как слыл он до смерти, Левушка, питал к Александру некоторое восторженное поклонение. В любовь его входила, может быть, и частичка гордости. Он гордился тем, что был братом его, и такая гордость не только простительна, но и естественна и благовидна. Он чувствовал, что лучи славы брата несколько отсвечиваются и на нем, что они освещают и облегчают путь ему. Приятели Александра — Дельвиг, Боратынский, Плетнев, Соболевский — скоро сделались приятелями Льва. Эта связь тем легче поддерживалась, что и в нем были некоторые литературные зародыши. Не будь он таким гулякою, таким гусаром коренным или драгуном, которому Денис Давыдов не стал бы попрекать, что у него на уме все «Жомини да Жомини», может быть, и он внес бы имя свое в летописи нашей литературы. А может быть, задерживала и пугала его слава брата, который забрал весь майорат дарований. Как бы то ни было, но в нем поэтическое чувство было сильно развито. Он был совершенно грамотен, вкус его в деле литературы был верен и строг. Он был остер и своеобразен в оборотах речи, живой и стремительной. Как брат его, был он несколько смуглый араб, но смахивал на белого негра. Тот и другой были малого роста, в отца. Вообще в движениях, в приемах их было много отцовского. Но африканский отпечаток матери видимым образом отразился на них обоих. Другого сходства с ней они не имели. Одна сестра их, Ольга Сергеевна, была в мать, и, кстати, гораздо благообразнее и красивее братьев своих.
Первые годы молодости Льва, как и Александра, были стеснены неблагоприятностью окружающих или подавляющих обстоятельств. Отец, Сергей Львович, был небогат, плохой хозяин, нераспорядительный помещик. К тому же, по натуре своей, был он скуп. Что ни говори, как строго ни суди молодежь, а должно сознаться, что не хорошо молодому человеку, брошенному в водоворот света, не иметь по крайней мере несколько тысяч рублей ежегодного и верного дохода, хотя бы на ассигнации. Деньги, обеспечивающие положение в обществе, это необходимый баласт для правильного плавания. Сколько колебаний, потрясений, крушений бывает от недостатка в уравновешивающем и охранительном баласте. Когда-то Боратынский и Лев Пушкин жили в Петербурге на одной квартире. Молодости было много, а денег мало. Они везде задолжали: в гостиницах, лавочках, в булочной — нигде ничего в долг им более не отпускали. Один только лавочник, торговавший вареньями, доверчиво отпускал им свой товар, да где-то промыслили они три-четыре бутылки малаги. На этом сладком пропитании продовольствовали они себя несколько дней.
Последние годы жизни своей Лев Пушкин провел в Одессе, состоя на службе по таможенному ведомству. Под конец одержим он был водяною болезнью, отправился по совету врачей в Париж для исцеления, возвратился в Одессу почти здоровый, но скоро принялся опять за прежний образ жизни; болезнь возвратилась, и он умер.
После смерти брата Лев, сильно огорченный, хотел ехать во Францию и вызвать на роковой поединок барона Геккерена, урожденного Дантес; но приятели отговорили его от этого намерения. Водяная бедного Льва напоминает сказанное Костровым Карамзину незадолго до смерти. Костров страдал перемежающейся лихорадкою. «Странное дело, — заметил он, — пил я, кажется, все горячее, а умираю от озноба».
140
Кто-то сказал про Давыдова: «Кажется, Денис начинает выдыхаться». — «Я этого не замечаю, — возразил NN, — а может быть, у тебя нос залег?»
141
Руссо употребляет где-то выражение mal-etre в противуположность bien-etre. И у нас можно бы допустить слово злосостояние по примеру благосостояние. Какой-то шутник в Москве переводил французское выражение «bien-etre general en Russie»[17] следующим образом: «хорошо быть генералом в России». В Москве много ходячего остроумия, этого ума, qui court la rue, как говорят французы.
В Москве и вообще в России этот ум не только бегает по улицам, но вхож и в салоны; зато как-то редко заглядывает он в книги. У нас более устного ума, нежели печатного.
142
Когда Карамзин был назначен историографом, он отправился к кому-то с визитом и сказал слуге: «Если меня не примут, то запиши меня». Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина дома нет, Карамзин спросил его: «А записал ли ты меня?» — «Записал». — «Что же ты записал?» — «Карамзин, граф истории».
143*
Мятлев, Гомер курдюковской одиссеи, служил некогда по министерству финансов. Директора одного из департаментов прозвал он целовальником, и вот почему: бывало, что графиня Канкрина ни скажет, он сейчас: «Ах, как это мило, графиня! Позвольте за то поцеловать ручку вашу».
Когда Сабуров определен был советником в банк, Мятлев сказал:
Канкрин наш, право, молодец!
Он не министр, родной отец:
Сабурова он держит в банке.
Ich danke, батушка, ich danke[18].
144
Александр Тургенев был довольно рассеян. Однажды обедал он с Карамзиным у графа Сергея Петровича Румянцева. Когда за столом Карамзин подносил к губам рюмку вина, Тургенев сказал ему вслух: «Не пейте, вино прескверное, это настоящий уксус». Он вообразил себе, что обедает у канцлера графа Румянцева, который за глухотою своею ничего не расслышит.
145
Другой забавный случай по поводу глухоты канцлера. Граф *** рассудительный, многообразованный, благородный, но до высшей степени рассеянный, приезжает однажды к графу Николаю Петровичу, уже страдавшему почти совершенною глухотою. На первые слова посетителя канцлер как-то случайно отвечает правильно. «Мне особенно приятно заметить, — говорит граф, — что ваше сиятельство изволите лучше слышать».
Канцлер: Что?
Граф***: Мне особенно приятно заметить, что ваше сиятельство изволите лучше слышать.
Канцлер: Что?
Граф***: Мне особенно приятно заметить, что ваше сиятельство изволите лучше слышать.
Канцлер: Что?
Граф: Мне особенно приятно заметить...
Канцлер: Что?
Таким образом перекинулись они еще раза два теми же словами с одной и с другой стороны. Канцлер, указывая на аспидную доску, которая всегда лежала перед ним на столе, просит написать на ней сказанное. И граф*** с невозмутимым спокойствием пишет на доске: «Мне особенно приятно заметить, что ваше сиятельство изволите лучше слышать». Граф Сергей Румянцев говорил о до-пожарной Москве, что в ней жить нельзя, и не знаешь, где провести вечер. «Куда ни приедешь, только и слышишь: барыня очень извиняется, что принять не может» — или потому, что полы моют, или потому, что служат мефимоны.
146
В каком-то губернском городе дворянство представлялось императору Александру в одно из многочисленных путешествий его по России. Не расслышав порядочно имени одного из представлявшихся дворян, обратился он к нему: «Позвольте спросить, ваша фамилия?» — «Осталась в деревне, ваше величество, — отвечает он, — но, если прикажете, сейчас пошлю за нею».
147
В холодный зимний день, при резком ветре, Александр Павлович встречает г-жу Д***, гуляющую по Английской набережной. «Как это не боитесь вы холода?» — спрашивает он ее. «А вы, государь?» — «О, я — это дело другое: я солдат». — «Как! Помилуйте, ваше величество, как! Будто вы солдат?»
148
NN писал к приятелю своему, который был на одной из высоких ступеней общественной лестницы: «В свете чем выше подымаешься, тем более человеку, признающему за собой призвание к делу, выходящему из среды обыкновенных дел, должно быть неуязвимым с ног до головы, непроницаемым, непромокаемым, несгораемым, герметически закупоренным, и к тому же еще иметь способность проглатывать лягушек и при случае переваривать ужей. Воля ваша, но я не полагаю, что ваше сложение и ваш желудок достаточно крепки для подобного испытания».
149
Откровенные и исповедные разговоры
1)Чиновник полицейского ведомства (в начале 20-х годов, или ранее, в Петербурге): Начальство поручило мне объясниться с вами. Оно заметило, что живете вы не по средствам своим, что издерживаете много денег, ведете даже жизнь роскошную, а по собранным справкам оказывается, что не имеете ни деревень, ни капиталов, ни родственников, которые помогали бы вам. Начальство желает знать, какие источники доходов ваших.
Страт.*** (с некоторою запинкою): Если начальству непременно нужно знать, какие источники доходов моих, то обязываюсь откровенно признаться, что пользуюсь женскими слабостями.
2) Барыня Г***: Какой несносный у меня духовник с любознательностью своею! Настоящая пытка!
NN: Как это?
Барыня: Да мало ему того, что приносишь чистосердечное покаяние в грехах своих: он еще допытывается узнать, как, когда и с кем. Всего и всех не припомнишь. Тут еще невольно согрешишь неумышленным умалчиванием.
150
Есть люди, которые огорчаются чужою радостью, обижаются чужим успехом и больны чужим здоровьем. Добро бы еще, если б действовали в них соперничество, ревность, совместничество, что французы называют jalous ie de metier [профессиональная зависть]. Нет, это — платоническая бескорыстная зависть. Они нисколько не желали бы поступить на место, которое занял другой. Нет, им бесцельно и просто досадно, что этот другой занял это место или получил такую-то награду. Я знавал подобного барина, несчастно впечатлительного и раздражительного. Он был молод, красив собою, богат, не был на службе и не хотел служить, мог пользоваться всеми приятностями блестящей независимости. Вдобавок не был он и автор и даже был достаточно безграмотен. Когда же Карамзину, в чине статского советника, была пожалована Анна первой степени, его взорвало. «Вот, — говорил он в исступлении, — прямо сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив!» У него была и другая равнохарактерная особенность, но эта прямо по его части. Он ревновал ко всем женщинам, даже и к тем, к которым не чувствовал никакого сердечного влечения. Подметит ли он, что молодая дама как-то особенно нежно разговаривает с молодым мужчиною, он сейчас заподозрит, что тут снуется [и начинает наез]жать к даме с угрозою, что тотчас пойдет к мужу ее и все ему откроет. Не ручаюсь, чтобы такая угроза не была иногда приводима в действие.
Был еще в Петербурге субъект той же породы: умный, образованный, не из русских, но вполне обрусевший по этой части. Он сам был довольно высоко поставлен на лестнице, известной под именем табели о рангах, а потому и не смущался он от мелочных служебных скачков. Его внимание обращено было выше. От этих астрономических и звездочетных наблюдений случались с ним приливы крови к голове. Особенно были для него трудны и пагубны для здоровья дни Нового года, Пасхи, высочайших тезоименитств. Это было хорошо известно семейству его: в эти роковые дни, по возвращении из дворца, ожидали его уже на дому доктор и фельдшер и, по размеру розданных александровских и андреевских лент и производств в высшие чины, ставили ему соответственное количество пиявок или рожков.
Был еще мне хорошо и приятельски знаком третий образчик этого физиологического недуга; но он был так простосердечен, так откровенен в исповедании слабостей своих, что обезоруживал всякое осуждение. Он не только не таил их под лицемерным прикрытием равнодушия и презрения к успехам и почестям, но охотно обнаруживал их с самоотвержением и, что всего лучше, с особенною забавностью и на этот случай с особенною выразительностью и блистательностью речи. И он состоял всегда под лихорадочным впечатлением приказов, как военных, так и гражданских, но преимущественно военных. Он был уже в отставке, но и отставной сохранил он всю свежесть и чувствительную раздражительность служебных столкновений и местничества. «Как хорошо знает меня граф Закревский, — говорил он мне однажды. — Раз зашел я к нему в Париже. «Что ты так расстроен и в дурном духе?» — спросил он меня. «Ничего», — отвечал я. «Как «ничего»? ты не в духе, и скажу тебе от чего: ты, верно, шут гороховый, прочел приказ в Инвалиде, сегодня пришедшем. Не так ли?» И точно: я только что прочел военную газету и был поражен известием о производстве бывшего сверстника моего по службе». Он когда-то состоял при князе Паскевиче; но по неосторожности или по другим обстоятельствам лишился благорасположения его, которым прежде пользовался, и вынужден был удалиться. Этот эпизод служебных приключений его бывал часто темою его драматических, эпических, лирических и, особенно, в высшей степени комических рассказов. Мы уже заметили, что раздражительность давала блестящий и живой оборот всем речам его. Он тогда становился и устным живописцем, и оратором, и актером, и импровизатором. Между прочим рассказывал он свидание свое с князем, Паскевичем, несколько лет спустя после размолвки их: «В один из приездов князя в Петербург, повстречавшись с братом моим, спрашивает он его, почему он меня не видит. Узнав об этом, почел я обязанностью явиться к нему. Принял он меня отменно благосклонно и в продолжение разговора вдруг спросил меня: «А что выиграли вы, не умевши поладить со мною и потерявши мое доверие? Остались бы вы при мне, вы были бы теперь генерал-лейтенантом, может быть генерал-адъютантом, кавалером разных орденов». Каково же было мне все это слышать? И с какою жестокостью, вонзив в сердце мое нож, поворачивал он его в ране моей. Вероятно, для этого заклания и желал он видеть меня». Сцена в высшей степени драматическая.
151*
Праздничная поэзия имеет также свою прозаическую и будничную изнанку. Когда знаменитая трагическая актриса Жорж (похищенная у парижского театра и привезенная в Россию молодым тогда гвардейским офицером, Бенкендорфом) приехала в Москву, я, тоже тогда молодой и впечатлительный, совершенно был очарован величеством красоты ее и не менее величественною игрою художницы в ролях Семирамиды и Федры. Я до того времени никогда еще не видел олицетворения искусства в подобном блеске и подобной величавости. Греческий, ваяльный, царственный облик ее и стан поразили меня и волновали. Воспользовавшись объявлением бенефиса ее, отправился я к ней за билетом. Мне, разумеется, хотелось полюбоваться ею вблизи и познакомиться с нею. Она жила на Тверской у француженки, мадам Шеню, которая содержала и отдавала комнаты в наймы с обедом в такое время, когда в Москве не имелось ни отелей, ни ресторанов. Взобравшись на лестницу и прикоснувшись к замку дверей, за которыми таился мой кумир, я чувствовал, как сердце мое прытче застукало и кровь сильнее закипела. Вхожу в святилище и вижу перед собою высокую женщину, в зеленом, увядшем и несколько засаленном капоте; рукава ее высоко засучены; в руке держит она не классический мельпоменовский кинжал, а просто большой кухонный нож, которым скоблит она деревянный стол. Это была моя Федра и моя Семирамида. Нисколько не смущаясь моим посещением врасплох и удивлением, которое должно было выражать мое лицо, сказала она мне: «Вот в каком порядке содержатся у вас в Москве помещения для приезжих. Я сама должна заботиться о чистоте мебели своей». Тут, понимается, было мне уже не до поэзии: кухонный нож выскоблил ее с сердца до чистейшей прозы.
В издаваемом им в то время Вестнике Европы Жуковский печатал мастерские и превосходные отчеты о представлениях девицы Жорж, как он называл ее. В этих беглых статьях является он тонким и проницательным критиком, как литературным, так и сценическим; нет в них ни сухости, ни пошлой журнальной болтовни, ни учительского важничания. Это просто живая передача живых и глубоких впечатлений, проверенных образованным и опытным вкусом. Перечитывая их и читая новейшие оценки театрального искусства и движения, нельзя не сознаться, что журналы и газеты наши, по крайней мере и этом отношении, ушли далеко, но только не вперед.
Лет тридцать спустя, в Париже, захотелось мне подвергнуть испытанию мои прежние юношеские ощущения и сочувствия. Девица Жорж уже не царствовала на первой французской сцене, сцене Корнеля, Расина и Вольтера: она спустилась на другую сцену, мещанско-мелодраматическую. Я отправился к ней. Увидя ее, я внутренне ахнул и почти пожалел о зеленом измятом капоте и кухонном ноже; во всяком случае, тогда была, по крайней мере, обоюдная молодость. Теперь предстала предо мною какая-то старая баба-яга, плотно оштукатуренная белилами и румянами, пестро и будто заново подмалеванная древняя развалина, обезображенный памятник, изуродованный временем, обломок здания, некогда красивого и величественного. Грустно мне стало за нее и, вероятно, за себя. Она уверяла, что очень хорошо помнит и Москву и меня. Спасибо за добрую память! Но от того было не легче. Вот новый удар по голове поэзии моей.
Die schOnen Tagen von Aranjuez
Sind nun vorbei
[Прошли счастливые дни Аранжуэца).
В виду одна печальная прозаическая изнанка. Можно ли было, глядя на эту безобразную массу, угадать в ней ту, которая как будто еще не так давно двойным могуществом искусства и красоты оковывала благоговейное внимание многих тысяч зрителей, поражала их, волновала, приводила в умиление, трепет, ужас и восторг? «Как! — говорил я, печально от нее возвращаясь — эта баба-яга именно та самая, которая в сиянии самовластительной красоты передавала нам так верно и так впечатлительно великолепные стихи Расина, еще и ныне звучащие в памяти:
Dieux, que ne suis-je assise a I 'ombre des forets! Quand pourrai-je аи travers d'une noble poussiere SuJvre de 1'oeil un char fuyant dans la carriere?[19]
Она произносила эти стихи как будто в забытьи, протяжно, словно невольно и бессознательно. При первых двух стихах она сидела на креслах; при третьем она немного привставала и наклонялась с движением рук, чтобы выразить, что она следит за колесницею.
Помню, что при всем восторге и юношеской неопытности моей мне не нравилась эта материальная подражательность, эта художественная жеманность.
Вот, кстати или некстати, маленькая историческая сплетня. Во время оно говорили, что при одном из первых свиданий двух императоров, Александра I и Наполеона I, была у них, между прочим, речь и о девице Жорж.
152
По поводу этих исторических и императорских свиданий припоминаю довольно забавную и замечательную черту нашего простого народа. Дело идет о первом свидании и первой встрече Александра с Наполеоном на плоту на реке Немане, в 1807 году. Все это время ходила в народе следующая легенда. Несчастные наши войны с Наполеоном грустно отозвались во всем государстве, живо еще помнившем победы Суворова при Екатерине и при Павле. От этого уныния до суеверия простонародного, что тут действует нечистая сила, недалеко, и Наполеон прослыл Антихристом. Церковные увещания и проповеди распространяли и укрепляли эту молву. Когда узнали в России о свидании императоров, зашла о том речь у двух мужичков. «Как же это, — говорит один, — наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристем? Ведь это страшный грех!» — «Да как же ты, братец, — отвечает другой, — не разумеешь и не смекаешь дела? Разве ты не знаешь, что они встретились на реке? Наш батюшка именно с тем и велел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уже допустить его пред свои светлые царские очи».
В течение войны 1806 г. и учреждения народной милиции имя Бонапарта (немногие называли его тогда Наполеоном) сделалось очень известным и популярны м во всех углах России. Народ как будто предчувствовал, угадывал в нем «Бонапартия» 12-го года. Одна старая барыня времен Екатерины, привыкшая к могуществу и славе ее, иначе не называла его как Бонапартиха, судя по аналогии, что он непременно не император, а императрица. По поводу милиции всюду были назначены областные начальники, отправлены генералы, сенаторы для обмундирования и наблюдения за порядком, вооружением ратников и так далее. Воинская деятельность охватила всю Россию. Эта деятельность была несколько платоническая; она мало дала знать себя врагу на деле, но могла бы надоумить его, что в народе есть глубокое чувство ненависти к нему и что разгорится она во всей ярости своей, когда вызовет он ее на родной почве и на рукопашный бой. Алексей Михайлович Пушкин, состоявший по милиционной службе при князе Юрии Владимировиче Долгоруком, рассказывал следующее. На почтовой станции одной из отдаленных губерний заметил он в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене. «Зачем держишь ты у себя этого мерзавца?» — «А вот затем, ваше превосходительство, - отвечает он, — что если неравно Бонапартий под чужим именем или с фальшивою подорожною приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и представлю начальству». — «А, это дело другое!» — сказал Пушкин.
Вот еще милиционное воспоминание и милиционная легенда. В начале столетия были известны в Москве два брата С. Они в своем роде и в некоторых кружках пользовались даже знаменитостью. Оба были видные и красивые мужчины. В них выражался некоторый разгул, некоторое молодечество, довольно обыкновенные в царствование Екатерины, обузданные и прижатые при императоре Павле и снова очнувшиеся на некоторое время с воцарением Александра. Собственно не принадлежали они аристократическому кругу; но, если верить соблазнительным хроникам, красивая наружность и отвага растворяли перед ними, мелкотравчатыми дворянами (особенно перед одним из них), потаенные двери в некоторые аристократические будуары. Один из них кропал стихи. Была известная песня его с припевом:
Тьфу, как счастлив тот, кто скот!
Но вот замечательнейшая черта из их биографии. В 1806 году находились они ополченцами в одном отдаленном губернском городе. В самое то время, перед 12 декабря, днем рождения императора Александра, губернатор входит с представлением к высшему начальству, испрашивая дозволения пить на предстоящем официальном обеде за здравие государя императора малагою, а не шампанским, потому что все шампанское, имевшееся в губернском городе и в уездах, выпито братьями С.
Тут есть что-то гомерическое, напоминающее богатырские пиршества, воспетые греческим песнопевцем.
153
Говорили, что Платов вывез из Лондона, куда ездил он в 1814 году в свите Александра, молодую англичанку в качестве компаньонки. Кто-то, — помнится, Денис Давыдов — выразил ему удивление, что, не зная по-английски, сделал он подобный выбор. «Я скажу тебе, братец, — отвечал он: — это совсем не для физики, а больше для морали. Она — добрейшая душа и девка благонравная; а к тому же такая белая и дородная, что ни дать ни взять ярославская баба».
154*
В.Л.Пушкин рассказывал, что князь Белосельский читал ему однажды стихи, написанные им на смерть камердинера своего.
Под камнем сим лежит признательный Василий: Мир и покой ему от всех земных насилий... И что есть человек? — Горсть пыли и водицы.
«J'aime cette водица [мне нравится эта водица], — прерывая чтение, сказал с умилением князь Белосельский. — Не правда ли, так, кажется, и видишь, как протекают наши дни?»
155
В.Л.Пушкин любил добродушно оказывать внимание и поощрение молодым новичкам на поприще литературном. Он по вечерам угощал их чаем, а нередко приглашал их к себе и обедать. Один из таких новобранцев был в Москве частым посетителем его. «А к какому роду поэзии чувствуете вы в себе более склонности?» — вопросил его однажды Пушкин с участием и некоторою классическою важностью. «Признаюсь, — отвечал тот смиренно, — любил бы я писать сатирические стихи, да родственники отсоветовали, говоря, что такими стихами могу нажить врагов себе и повредить карьере своей по службе». — «А скажите мне что-нибудь из ваших сатирических стихов». — «Вот, например, эпитафия: Под камнем сим лежат два друга:/ Колбасник и его супруга».
156*
Однажды Карамзин читал молодым приятелям своим некоторые главы из Истории Государства Российского, тогда еще не изданного. Посреди чтения и глубокого внимания слушателей вдруг раздался трескучий храп Тургенева. Все как будто с испуга вздрогнули. Один Карамзин спокойно и хладнокровно продолжал чтение, Он знал Тургенева: дух бодр, но плоть немощна. Впрочем, склонность его к засыпанию в продолжение дня была естественна. Он вставал рано и ложился поздно. Целый день был он в беспрестанном движении, умственном и материальном. Утром занимался он служебными делами по разным отраслям и ведомствам официальных обязанностей своих. Остаток дня рыскал он по всему городу, часто ходатаем за приятелей и знакомых своих, а иногда и за людей ему совершенно посторонних, но прибегавших к посредничеству его; рыскал часто и по собственному влечению, потому что в натуре его была потребность рыскать. Один из приятелей его говорил о нем: «II n'est pas le grand agitateur (известный ирландский великий агитатор Оконель), mais le grand agite» («He великий волнователь, но великий волнующийся»). Дмитриев прозвал его маленьким Гриммом, а потом пилигримом, потому что он был деятельным литературным корреспондентом и разносителем в обществе всех новых произведений Жуковского, Пушкина и др. (В половине минувшего столетия немец барон Гримм поселился в Париже, сблизился и подружился со всеми так называемыми философами и вел обширную литературную переписку со многими владетельными особами, Екатериной II, герцогом Сакс-Гота и другими.)
Александр Тургенев был типичная, самородная личность, хотя и не было в нем цельности ни в характере, ни в уме. Он был натуры эклектической, сборной или выборной. В нем встречались и немецкий педантизм, и французское любезное легкомыслие: все это на чисто русском грунте, с его блестящими свойствами и качествами и, может быть, частью и недостатками его. Он был умственный космополит; ни в каком участке человеческих познаний не был он, что называется, дома, но ни в каком участке не был он и совершенно лишним. В нем была и маленькая доля милого шарлатанства, которое было как-то к лицу ему. Упоминаем о том не в укор любезной памяти его: он сам первый смеялся своим добродушным и заливным хохотом, когда друг его Жуковский или другие близкие приятели ловили его на месте преступления и трунили над замашками и выходками его. В долгое пребывание свое в Париже сошелся он с Шатобрианом по салону милой Рекамье[20] (как назвал ее Дмитриев в написанном им шуточном путешествии Вас. Львовича Пушкина и как с легкой руки Дмитриева Тургенев постоянно называл ее в письмах своих). Тургенев сообщил Шатобриану много германских сведений, нужных ему для предпринятого им сочинения и совершенно недоступных и тарабарских ему (как и подобает истому французу, будь он Шатобриан и гений семи пядей во лбу). Французский писатель в предисловии своем изъявляет благодарность Тургеневу за просвещенные указания и содействие его в труде, который он совершил и говорит между прочим: «M-r le comte Tourgueneff, ci devant ministre de 1'instruction publique en Russie, homme de toutes sortes de savoir» etc. («Граф Тургенев, бывший министр народного просвещения в России, человек всякого рода познаний»).
«Угораздился же Шатобриан, — сказал Блудов, прочитав эти строки, — выразить в нескольких словах три неправды и три нелепости: Тургенев не граф, не бывал никогда министром просвещения и далеко не всеведущ». От ранней молодости до 1826 года Тургенев и Блудов были большими приятелями, чуть не братьями; Жуковский скреплял эту приязнь дружбою своею к тому и другому. Политические события навлекли тени на эту приязнь, т.е. приязнь, связывавшую Тургенева и Блудова, и обратили ее в непримиримый разрыв. Жуковский же оставался до конца другом того и другого, а в отношении к братьям Тургеневым был он нередко горячим ходатаем их пред верховною властью. Не станем входить в разбор и оценку самой сущности тяжбы, которая, разумеется, негласным и несудебным порядком, но не менее того прискорбно возникла между приятелями, до того единоверцами и единомышленниками. Александр Тургенев почитал себя в праве быть недовольным отзывом Блудова о его брате Николае в докладе следственной комиссии по делу 14 декабря и по делам, к нему прикосновенным. Давно политические вражды, которые волновали русское общество до воцарения Екатерины II, не проявлялись у нас. Могли быть политические разногласия, соперничества, совместничества, столкновения; но язва некоторых западных обществ — политическая вражда вследствие открытой борьбы мнений, падения одного или торжества другого из них — не раздирала общества нашего и не разделяла его на два неприятельские стана. Одним из прискорбных явлений и последствий злополучного 14 декабря и событий ему соответственных должно, без сомнения, признать и это насильственное раздвоение общества нашего, раздвоение, которое, между прочим, так сильно выразилось в честных, уважения и сочувствия достойных личностях, каковы Тургенев и Блудов.
Тургенев имел прекрасные, глубокие внутренние качества, но, как бывает вообще и с другими, имел свои слабости (не скажем недостатки), которые любил он выставлять напоказ, а иногда и на заказ, не зная (как тоже бывает со многими), что именно у него есть и чего нет, в чем таится настоящая сила его и где слабые и уязвимые его стороны. Например, он хотел выдавать себя — и таковым себя ложно признавал — за человека, способного сильно чувствовать и предаваться увлечениям могучей страсти. Ничего этого не было. Он, напротив, был от природы человек мягкий, довольно легкомысленный и готовый уживаться с людьми и обстоятельствами. Когда же он, бывало, упрется на какое-нибудь мнение, заупрямится, то, по французскому выражению — un poltron revoke [возмутившийся трус}, он выказывал в себе взбунтовавшееся, озлобившееся добродушие. Тут запылит он, закричит, выйдет из себя, и буквально выйдет: потому что у себя и в себе вовсе не чувствовал он подобного пыла, и никакая гроза в нем не бушевала. Однажды, в припадке притязания на такую страстность, бесновался он пред Жуковским: «Послушай, любезнейший, — сказал ему друг его: — ты напоминаешь мне людей, которые расчесывают малейший пупырышек, вскочивший на их лице и растравляют его до настоящей болячки. Так и ты: работал, работал, ковырял в сердце своем, да и расковырял его в страсть».
Во время другой сердечной разработки, когда он ухаживал за одною барышнею в Москве, в знак страсти своей похитил он носовой платок ее. Чрез несколько дней, опомнившись и опасаясь, что это изъявление может показаться слишком обязательным, он возвратил платок, проговоря с чувством два стиха из французского водевиля, который был тогда в большом ходу в Москве:
II troublerait ma vie entiere, Reprenez le, reprenez le. —
«Он внес бы смятение в мою жизнь. Возьмите его обратно».
Однажды должен он был жениться. Свадьба расстроилась и, кажется, по его почину. Невеста во всех отношениях и по высокому положению в обществе отвечала условиям счастливого и выгодного брака. Карамзин, питавший к Тургеневу чувства, так сказать, отцовские и братские, был огорчен этим разрывом и просил объяснить ему причины того. Тургенев пустился в длинные и подробные объяснения, путался, более часа держал Карамзина в ожидании окончательного объяснения и ничего не объяснил, так что Карамзин был сам не рад, что вызвал его на исповедь.
В пользу искренности его должно заметить, как указали мы выше, что хотя любил он иногда позировать и рисоваться, но он сам пред друзьями не щадил себя и выдавал им себя живьем. Вот одно доказательство тому из многих. В Англии познакомился он с В. Скоттом, который пригласил его к себе в Абботсфорд. «Дорогою к нему, — говорил он, — вспомнил я, что не читал ни одной строки В. Скотта». В следующем городе купил он первый попавшийся ему на глаза роман его. Поспешно и вскользь пробежал он его, «чтобы иметь возможность (продолжал он) при удобном случае намекнуть хозяину о романе или ввернуть в разговоре какую-нибудь цитату из него». Вообще он был мастер и удачлив на цитаты. На ловца и зверь бежит! Мало знавшие его могли предполагать, что он всю жизнь корпел над книгами и глубоко рылся в них. Напротив, он мало читал, да и некогда было читать ему. Но с удивительно острым умом, с сметливостью и угадчивою проницательностью он схватывал сливки с книги: он пронюхивал ее, смысл ее, содержание, и сам, бывало, окурится и пропитается запахом и испарениями ее. Другой до поту лица и до головной боли займется книгой, а Тургенев одним чутьем опередит его. Будь он более положителен, усидчив и в занятиях своих, и в действиях своих, он мог бы достигнуть до целей, немногим доступных; мог бы он оставить по себе память и отличного деятеля на поприще государственном и литературном. Конечно, так! Но зато лишились бы мы того Тургенева, которого мы знали и любили за добродетели его и за милые ребячества. В среде публичной деятельности было бы одним почетным лицом более; но в среде приятельской, но в избранном кругу любезных и увлекательных праздношатающихся, которые усвоили себе девизом: «Скользите, смертные, не напирайте!» —было бы место пустое и теперь незаместимое.
Будем довольствоваться и тем, что он был dilettante по службе, науке и литературе. Подобные личности худо оцениваются педантами и строгими нравоучителями, а между тем прелесть общества, прелесть общежительности и условий, на них основанных, держатся ими. Специальности, виртуозности, преподавательные и проповеднические приемы и обычаи хороши в свое время и на своем месте; постоянное же их присутствие и деспотизм, с которым хотят они насильственно и беспрекословно овладеть общим вниманием и покорством, есть сущая язва в обыденном потреблении и во взаимных отношениях людей, собравшихся вместе в силу аксиомы: «не добро быть человеку едину». Вот почему, мимоходом будь сказано, лицо в обществе, каков Чацкий на сцене, было бы, со всем остроумием и велеречием своим, невыносимо тяжелым и скучным. Наши плечистые и коренастые критики тяжести этой не чувствуют и о ней не догадываются, скукою же их не удивишь и не испугаешь: эта прилипчивая оспа с самого рождения их была им привита.
Дилетантизм Тургенева проглядывал и в политических убеждениях его. Когда обстоятельства, не столько его личные, сколько братнины, произвели крутой переворот в положении его и поставили преграды на служебном его поприще, он, по счастью и к чести его, очутился dilettante в рядах так называемой оппозиции. Вся оппозиция его сосредоточивалась и волновалась в страстной любви его к двум братьям своим. Может быть, и тут расковыривал он, по выражению Жуковского, болячку свою; но побуждение, которым он увлекался, было по существу своему так чисто, так благородно, что и в крайностях своих оно внушает сочувствие и уважение. Можно сказать, что несчастью, которому подверг себя брат его Николай, он принес в жертву все материальные и общежительские выгоды и преимущества. Он не поколебался ни на минуту разорвать дружеские связи свои с людьми, подобными Блудову и Дашкову, который, впрочем, был тут ни при чем. Он покинул родной отечественный очаг, с которым он свыкся и который любил. Он предал себя жизни скитальческой, вопреки благоразумным и теплым увещаниям друга своего Карамзина, так сказать пастыря и патриарха избранного тесного кружка, к которому еще, по родительским преданиям, принадлежал и Тургенев с самых отроческих лет. Все материальное и денежное благосостояние свое перевел он заживо в собственность брата своего Николая. Сам он жил более чем экономически, ограниченными средствами, которые за собою оставил. Вот, повторяем, деятельный круг оппозиции, в котором он вращался. Для соблюдения исторического беспристрастия внесем в этот круг оппозиции и некоторые резкие отзывы о событиях и людях и устные эпиграммы, которые мимолетно срывались с языка его и часто спросонья. В нем не было ни капли желчи, а если оказывалось что-нибудь похожее на злопамятливость, то это была скорее дань, приносимая им принципу: потому что и он, как многие из людей характера более уживчивого, чем упорного, любил иногда облекать себя во всеоружие неприступности и непреклонности. Многие, или по крайней мере некоторые, видели в нем человека, опасного для общественного спокойствия и гражданского благочиния; они приписывали ему тайные помыслы и виды. Близко знавшим его эти опасения были до крайности забавны и смешны. Не было человека более безвредного и безобидного, как он. Карамзин говаривал о нем, что доброта, благодушие его испаряются изо всех его потовых скважин (sortent par tous les pores). Может быть, ему самому иногда нравилось казаться и слыть таким пугалом. Как бы то ни было, вот забавный случай, породившийся от этих опасений. Он приехал в Москву, помнится, 30-го или 31-го года. К московскому приятелю его ходил в то время несчастный мелкий чиновник, служивший в так называемой тайной полиции: он желал переменить род службы и просил помянутого приятеля исходатайствовать ему другое место службы. Однажды приходит он к нему и говорит: «Вы всегда были так милостивы ко мне, окажите и ныне особую и великую милость. Вы хорошо знакомы с А.И.Тургеневым и в обществе встречаетесь с ним нередко. Мне по начальству поручено надсматривать и следить за ним и ежедневно доставлять рапортичку о выездах и действиях его. А как мне уследить за ним? Он с утра до поздней ночи колесит по всему городу из конца в конец. Да таким образом в три дня на одних извозчиков растрачу все свое месячное жалованье. Помогите мне: дайте мне материала для моих рапортичек». Вот приятель Тургенева и обратился в шпиона и в соглядатая его. Были продиктованы следующие бюллетени: такого-то числа Тургенев два раза завтракал, раз на Кузнецком мосту, другой — на Плющихе у того-то и того-то, три раза был у С[вербеев]ой, два раза отвозил письма свои в почтамт почт-директору А.Я.Булгакову, обедал в Английском клубе, вечером пил чай у митрополита Филарета, а во второй раз, позднее, у Ив.Ив.Дмитриева. Такого-то числа: прятался в сеновале манежа, чтобы смотреть, как девица Ш. ездит верхом, был на двух лекциях в университете, отвозил письмо к Булгакову, вечером на Трех Горах у К. вальсировал и любезничал с девицами Г. и Б. Такого-то числа пил чай вечером у г-жи X (именующейся в полицейских списках «известной X»), а вечером на бале у П. в Петровском опять любезничал и вальсировал с помянутыми девицами Б. и Г.
Таким образом с малыми изменениями были, в продолжение двух недель, составляемы кондуитные и явочные списки Тургенева. Всего чаще встречались в них имена С[вербеев]ой и митрополита Филарета. С последним был он в близких отношениях и по сочувствию и уважению к нему, а равно и по прежнему служению своему при князе А.Н.Голицыне.
Кто-то охарактеризовал следующим образом пребывание Тургенева в Москве:
Святоша вечный он и вечный волокита,
У ног [Свербеев]ой или митрополита.
Мы назвали Тургенева многосторонним dilettante. Но был один круг деятельности, в котором являлся он далеко не дилетантом, а разве пламенным виртуозом и неутомимым тружеником. Это — круг добра. Он не только делал добро по вызову, по просьбе: он отыскивал случаи помочь, обеспечить, устроить участь меньшей братии, где ни была бы она. Он был провидением забытых, а часто обстоятельствами и судьбой забитых, чиновников; провидением сирых, бесприютных, беспомощных. По близким отношениям своим к князю Голицыну пользовался он более или менее свободным доступом ко всем власть имеющим, а по личным свойствам своим был он также более или менее в связи, в соприкосновении с людьми, как-нибудь значащими во всех слоях и на всех ступенях общественной лестницы. В ходатайстве за других был он ревностен, упорен, неотвязчив. Он смело, горячо заступался за все нужды и оскорбления противу неправд, ратовал против произволов, беззаконностей начальства. Помню, как за обедом у графини Потоцкой живо схватился он с гр, Милорадовичем, бывшим тогда С.-петербургским военным генерал-губернатором, и упрекал его за нерасположение к одному из чиновников, при нем служивших. «Вы сами, — говорил он, — честный и благородный человек, а хотите удалить от себя единственного честного чиновника, через которого могут обращаться к вам порядочные люди. Нет, граф, стыдно будет вам, если не оставите его при себе». Милорадович оправдывался как мог и как умел; многочисленные гости за столом в молчании и с удивлением присутствовали при этой тяжебной распре. Правда, что Тургенев, как ловкий военачальник, призвал в союзницы себе двух красавиц—дочерей хозяйки, и победа осталась за ним. Список всех людей, которым помог Тургенев, за которых вступался, которых восстановил во время служения своего, мог бы превзойти длинный список любовных побед, одержанных Дон-Жуаном, по свидетельству Лепорелло, в опере Моцарта. Русская литература, русские литераторы, нуждавшиеся в покровительстве, в поддержке, молодые новички, еще не успевшие проложить себе дорогу, всегда встречали в нем ходатая и умного руководителя. Он был, так сказать, долгое время посредником, агентом, по собственной воле уполномоченным и аккредитованным поверенным в делах русской литературы при предержащих властях и образованном обществе. Одна эта заслуга, мало известная, ныне забытая, дает ему почетное место в литературе нашей, особенно когда вспомнишь, что он был другом Карамзина и Жуковского.
Позднее, когда сошел он с служебного поприща и круг влиятельной деятельности его, естественно, сузился, он с тем же усердием, с таким же напряженным направлением сделался в Москве ходатаем, заступником, попечителем несчастных, Пересылаемых в Сибирь. Острог и Воробьевы горы были театром его мирных и человеколюбивых подвигов, а иногда и скромных, но благочестивых побед, когда удавалось ему спасти или, по крайней мере, облегчить участь того или другого несчастного. Смерть, так сказать, неожиданно застигла его в исполнении усиленных и добровольно принятых им обязанностей. Жизнь его, светскую, рассеянную, но всегда согретую любовью к добру, смерть прекрасно увенчала и запечатлела бескорыстным и всепреданным служением скорби, а может быть, и пробуждением умиления и раскаяния, не в одном из сердец, возмущенных страстью и пороком. После тревожной жизни, платившей по временам дань суетности, умственным и нравственным немощам человечества, он, так сказать, отрезвился, смирился и на закате своем, отрешась от всего блестящего, что дает нам свет, сосредоточил все свойства и стремления свои в одном чувстве любви и сострадания к ближнему. Это чувство никогда не было ему чуждо, но здесь оно очистило, заглушило и поглотило все другие побуждения, замыслы и ненасытные желания, Примером, который он добровольно подал сверстникам и товарищам, Тургенев мог бы в России быть предтечей и основателем общины братьев милосердия.
Для пополнения очерка нашего нельзя не упомянуть о другой страсти его. Она, и говорить нечего, маловажнее первой; даже, пожалуй, она и не страсть, а укрепившаяся повадка, то, что на патологическом языке можно было бы назвать манией (mani). Но, впрочем, и эта мания имела свою хорошую сторону и пользу. Полагаем, что не было никогда и нигде борзописца ему подобного. Он мог сказать с поэтом: «Как много я в свой век бумаги исписал». Но ни друзья его, ни потомство, если оно захватит его, не ставили и не ставят того ему в упрек. Деятельность письменной переписки его изумительна. Она поборола несколько ленивую натуру его, рассеяние и рассеянность. Спрашиваешь: когда успевал он писать и рассылать свои всеобщие и всемирные грамоты? Он переписывался и с просителями своими, и с братьями, и с друзьями, и знакомыми, и часто с незнакомыми, с учеными, с духовными лицами всех возможных исповеданий, с дамами всех возрастов, различных лет и поколений, был в переписке со всею Россиею, с Францией, Германией, Англией и другими государствами. И письма его — большей частью образцы слога живой речи. Они занимательны по содержанию своему и по художественной отделке, о которой он не думал, но которая выражалась, изливалась сама собою под неутомимым и беззаботным пером его. Русским языком в особенности владел он, как немногим из присяжных писателей удается им владеть. Этого еще мало: при обширной разнообразной переписке он еще вел про себя одного подробный дневник. В фолиантах переписки и журнала его будущий историк нашего времени, от первых годов царствования Александра Павловича до 1845 года, найдет, без сомнения, содержание и краски для политических, литературных и общественных картин прожитого периода.
Еше была у него маленькая страстишка. Он любил, иногда и с грехом пополам, присваивать себе, натурою или списыванием, всевозможные бумажные редкости и драгоценности. Недаром говорили в Арзамасе, что он не только Эолова арфа (прозвание, данное ему, с позволения сказать, по обычному бурчанию в животе его), но что он и Две огромные руки, как сказано в одной из баллад Жуковского. В самом деле, это не две, а сотни бриарейских рук захватывали направо и налево, вверху и внизу все мало-мальски замечательные рукописи, исторические, политические, административные, литературные и т.д. В архиве его или в архивах (потому что многое перевезено им к брату в Париж, а многое оставалось в России) должны храниться сокровища, достойные любопытства и внимания всех просвещенных людей. О письменной страсти его достаточно, для убеждения каждого, рассказать следующий случай. После ночного, бурного, томительного и мучительного плавания из Булони в Фолькстон он и приятель его, в первый раз тогда посещавший Англию, остановились в гостинице по указанию и выбору Тургенева и, признаться (вследствие экономических опасений его), в гостинице весьма неблаговидной и далеко не фешенебельной. Приятель на первый раз обрадовался и этому: расстроенный переездом, усталый, он бросился на кровать, чтобы немножко отдохнуть. Тургенев сейчас переоделся и как встрепанный побежал в русское посольство. Спустя четверть часа он запыхавшись возвращается и на вопрос, почему он так скоро возвратился, отвечает, что он узнал в посольстве о немедленном отправлении курьера и поспешил домой, чтобы изготовить письмо, «Да кому же ты хочешь писать?» Тут Тургенев немного смутился и призадумался. «Да, в самом деле, — сказал он, — я обыкновенно переписываюсь с тобой, а ты теперь здесь. Но все равно: напишу одному из почт-директоров — или московскому Булгакову, или петербургскому»[21]. И тут же сел к столу и настрочил письмо в два или три почтовые листа. Мы уже заметили, что, несмотря на свой темперамент несколько ленивый, на расположение к тучности, на сонливость свою (он мог засыпать утром, только что встанет с постели, в полдень и вечером, за проповедью и в театре, за чтением книги и в присутствии обожаемого предмета), он был чрезвычайно подвижен и легок на подъем. В разговоре, когда речь коснется до струны, на этот час более в нем натянутой, он, бывало, вспыхнет, горячится и становится без всякой желчи, без озлобления, противником не всегда умеренным и разборчивым и, как говорится, не всегда деликатным. Может быть, иногда горячка эта была частью и напускная, тоже из уважения к принципу; но вообще недоброжелательства и озлобления в нем не было, разве за исключением некоторых лиц. Эти лица, также по принципу, ставил он себе в обязанность ненавидеть. Впрочем, если он что и скажет обидного в сердцах, то это бывало вспышкою: сердце его скоро остывало.
Относительно рысканий его нам приходит на память один случай. Приятель его из Москвы отправил к нему через К.Я.Булгакова письмо с следующею подписью на пакете: «Беспутному Тургеневу где-нибудь на распутий». В то время он на поклонение сердечному кумиру своему очень часто ездил в Царское Село. Булгаков, послав почтальона с письмом на Пулковскую гору, приказал ему сторожить Тургенева в проезд его, остановить коляску и передать письмо по адресу буквально.
По материальной части сделаем еще отметку. Он был не гастроном, не лакомка, а просто обжорлив. Вместимость желудка его была изумительная. Однажды, после сытного и сдобного завтрака у церковного старосты Казанского собора, отправляется он на прогулку пешком. Зная, что вообще не был он охотник до пешеходства, кто-то спрашивает его: «Что это вздумалось тебе идти гулять?» — «Нельзя не пройтись, — отвечал он, — мне нужно проголодаться до обеда».
В последних годах жизни своей он нередко наезжал в Москву и проживал в ней по нескольким месяцам. Он в Москве, как и в Париже, был дома. Он Москву любил: она была для него, так сказать, неутральным местом. Петербург мог напоминать ему и прежние успехи его и последовавшие за ними недочеты и неприятности; в гостеприимной и не участвовавшей во всем этом Москве было ему льготнее. Тогда московское общество — или, по крайней мере, часть его — было разделено на два стана, которые прозвали себя или были прозваны славянофилы и западники. Тургенев, по складу своего ума, по привычкам и убеждениям, разумеется, принадлежал более к последним; но и с первыми, по крайней мере с вожатыми их, был он в приятельской связи, основанной на сочувствии и на уважении к их личностям. Признак возвышенных натур есть уживчивость и терпимость в отношении к мнениям противным: эти два вооруженные стана сходились часто, едва ли не ежедневно, на поле диалектической битвы. Они маневрировали оружиями своими, живо нападали друг на друга и потом мирно расходились, не оставляя увечных и пленных на поле сражения, потому что весь бой заключался скорее в ловком фехтовании, нежели в драке на живот и на смерть. Каждый противник, думая, что победа за ним, возвращался с торжеством в свой стан; на другой день возобновлялась та же холостая битва, и так далее, пожалуй до скончания веков. Много ума, много выстрелов его расточено было в этих словесных сшибках; но завоеваний, кажется, не было ни с одной, ни с другой стороны. Но все же эти военные упражнения не остались совершенно бесплодными. Некоторые умы в них изощрились и окрепли; в самом обществе, не принимавшем в нем постоянного и деятельного участия, отголоски этих прений отзывались, зарождали мимоходом в умах новые понятия и бросали на почву ежедневной жизни семена, отличающиеся от обыкновенного и общим порядком заведенного посева. Следовательно, польза была, но польза несколько отвлеченная: много сеялось, но мало пожиналось. Дело, по мнению нашему, в том, что как западники, так и славянофилы, а в особенности последние, не имели твердой почвы под ногами. Те и другие вращались в каком-то тумане и часто витали в облаках. Они увлекались силою, прелестью и соблазнами слова. Дело у них было в стороне; а если они и гонялись за делом, то за несбыточным. Русский ум есть ум преимущественно практический; русский простолюдин, крестьянин, может быть круглым невеждою, но у него врожденное практическое чутье, которым он пробавляется и делает свое дело. Русские головы, которые хотя немцев и не любят, но несколько германизируются и отведывают плодов с немецкого древа познаний, философии и различных умозрений, обыкновенно утрачивают практическую трезвость свою. Хмель зашибает их. И выходит, что шумит у них в голове и не по-русски, и не по-немецки. Некоторые журнальные и полемические статьи, пущенные из этого лагеря, особенно при начале, так были писаны (хотя и русскими буквами), что невольно хотелось попросить кого-нибудь перевести их с немецкого на общеупотребляемый русский язык. Таким образом и самое русофильство не имело ни запаха, ни смака произведений русской почвы, а отзывалось или подражанием, или плодом, выхоженным в чужой теплице. Хлестаков говорит о каком-то захолустье, из которого скачи хоть три года, а никуда не доедешь. Есть тоже и вопросы, которые поднимай, про которые толкуй и спорь хоть двадцать лет, а ни до какого разрешения не дойдешь. Встречаются умы, которые любят охотиться за подобными вопросами, благо есть время, есть свора резвых и прытких собак; почему же не пуститься в веселой компании в бесконечное отъезжее поле? Есть ли там зверь, будет ли пожива — о том наши бескорыстные охотники не заботятся.
Как бы то ни было, Тургеневу было готовое место в этих увеселительных словесных упражнениях. Он и сам был Нимвродом, великим ловцом слова пред Господом Богом и пред людьми. В том и другом стане, как сказано нами, были у него приятели. Он не был завербован ни под одним из знамен, развевавшихся с кремлевских стен, а вольным наездником переезжал с одного рубежа на другой. Западники были, разумеется, современнее и, следовательно, опирались более твердою ногою на почву, которую избрали они себе. Славянофилы, или русофилы, были какие-то археологические либералы. Французского писателя, сподвижника Жозефа де-Местра, прозвали пророком минувшего; в учении славянофильском отзывались сетования и надежды подобного пророчества. Сколько нам известно, Тургенев, по мере ума и дарований тех и других, сочувствовал им, охотно с ними беседовал, иногда препирался с ними, но не увлекался их умозрениями и заносчивыми стремлениями ни вспять, ни вперед. Он слишком долго жил за границею, слишком наслушался прений во Франции, в Германии и Англии, прений и политических, и социальных, литературных и философических, чтобы придавать особенную важность московским опытам в этой умственной деятельности.
Тургенев сошелся в Москве с прежним петербургским приятелем Чадаевым[22]. Они были приятели, но вместе с тем во многих отношениях и противоположно расходились. Одни точки соприкосновения, существовавшие между ними, были: ум, образованность, благородство, честная независимость, вежливость (не только в смысле учтивости, а более в смысле благовоспитания, одним словом — цивилизации понятий, воззрений, правил обхождения, цивилизации, которая, мимоходом будь сказано, прививается и развивается в одной благоприятной и временем разработанной среде). Этих условий, этих свойств сродства достаточно, чтоб и при некотором разноречии в мнениях и разности в характерах порядочные люди группировались на одной стороне и сходились на неутральной почве общих сочувствий. Вот несомненные признаки людей, воспитавшихся в школе истинно высшего и избранного общества. Этих условий и держались Чадаев и Тургенев. Во всем прочем были они прямые антиподы. Тургенев жил более жизнью открытою и внешнею; хотя и он (греха таить нечего) любил иногда пускать пыль в глаза, но ничего не было в нем подготовленного, заранее придуманного. Скажем напрямик: шарлатанские выходки его были, по легкомыслию его, невинно-забавны и даже милы. Чадаев рисовался серьезно и с некоторым благоговением смотрел на подлинник, в который преображался. Он был гораздо умнее того, чем он прикидывался. Природный ум его был чище того систематического и поучительного ума, который он на него нахлобучил. Не будь этой слабости, он остался бы замечательным человеком и деятелем на том или на другом поприше. Чадаев, особенно в Москве, предначертил себе план особничества и ни на волос, ни на йоту от него не отступал. Тургенев был рассеян, обмолвливался иногда нечаянно, иногда умышленно, но всегда забавно и часто остроумно. Чадаев был всегда погружен в себя, погружен в созерцание личности своей, пребывал во внимательном прислушивании к тому, что сам скажет. Он был доктринер, преподаватель с подвижной кафедры, которую переносил из салона в салон. Тургенев был увлекательный собеседник, вмешивался в толпу и сгоряча и наобум говорил все, что родится и мелькнет в голове его. Чадаев был ума и обхождения властолюбивого. Он хотел быть основателем чего-то. Он готов был сказать и, вероятно, говорил себе, в подражание Людовику XIV: моя философия это я! Между тем, если он имел довольно слушателей (потому что говорил хорошо и что в Москве на досуге любят слушать), он, кажется, не создал себе адептов и единоверцев. Разве между дамами имел он несколько крылошанок и неофиток. Тургенев был ручнее, общедоступнее его. И положение его в обществе было, так сказать, блистательнее. Чадаев, при всей приязни своей, смотрел на него свысока. Пуританизм его смущался развязностью Тургенева; он осуждал некоторое легкомыслие его и отсутствие в нем всякого формализма и обрядного священнодействия. Тютчев забавно рассказывает о письме Чадаева к Тургеневу. Он однажды заманил к себе Тютчева и прочел ему длинную, нравоучительную и несколько укорительную грамоту. Прочитав ее, Чадаев спросил: «Не правда ли, это напоминает письмо Ж.Ж.Руссо к парижскому архиепископу?» — «А
что же, вы послали это письмо к Тургеневу?» — спросил Тютчев. — «Нет, не посылал», — отвечал Чадаев. Это характеристическая черта. А вот и другая. Чадаев очень дорожил своим литографированным портретом и прислал Тютчеву десятка два экземпляров для раздачи в Петербурге и рассылки по Европе. Нашел же он человека для исполнения подобного поручения. Эти экземпляры, кажется, так и остаются нерозданными и нетронутыми. У беспечного посредника и комиссионера. Чадаев назначил один день в неделе для приема знакомых своих в предобеденное время, т.е. от часа до четырех, в доме, им занимаемом на Басманной. Туда с поспешностью и с нетерпением стекались представители различных мнении и нравов. Бывали тут и простые слушатели или зрители даваемых даровых представлений. Иные, чтобы сказать, что и они были в спектакле, другие потому, что сочувствовали развлечениям подобного лицедействия. Утренний салон или кабинет Чадаева, этого Периклеса, по выражению друга его, Пушкина, был в некотором и сокращенном виде Ликей, перенесенный из Афин за Красные ворота. Тут показывались иногда и приезжие из Петербурга, бывшие товарищи и сослуживцы Чадаева, ныне попавшие уже в люди, как говорится. Хозяин бывал очень рад и польщен этими иногородними посещениями. В положении своем, если не совсем опальном, то по крайней мере несколько двусмысленном, он, вероятно, доволен был показать москвичам, что и он что-нибудь да значит в возвышенных общественных сферах. Однажды, в день посещения одного столичного гостя, постоянный из туземных посетителей его приехал как-то позднее и уже не застал почетного гостя. «Что это вы так опоздали? — сказал ему Чадаев, — уже все почти разъехались». — «Как все? — возразил опоздавший гость, — у вас еще много». — «Да, — отвечал Чадаев, — но такой-то только сейчас уехал». «Выходка для нас, присутствующих, не очень лестная», — заметил Н.Ф.Павлов, рассказавший мне этот разговор. Много ходило по городу подобных анекдотов. Некоторая суетность, можно сказать некоторое слабодушие встречаются иногда в людях, и одаренных, впрочем, твердостью и независимостью самобытности. Что же тут делать! Человек вообще сложное, а не цельное создание. Он не медная статуя, которая выливается сразу и в полном составе.
Можно вообразить себе, какою жизненностью, каким движением и разнообразием подобные личности одушевляли московское общество или, по крайней мере, один из кружков его. Тут нельзя было подметить красок и московских отпечатков фамусовской Москвы, в которую Грибоедов упрятал своего Чацкого.
К именам Тургенева и Чадаева причислим еще некоторые имена, придерживаясь одних покойников: умный, образованный, прямодушный Михаил Орлов; Хомяков, диалектик, облеченный во всеоружие слова, всегда неутомимого и не притупляющего; Константин Аксаков, мыслитель заносчивый, но прямодушный, с которым можно было не соглашаться, но которого нельзя было не уважать и не любить; отец его, С.Т.Аксаков, который под старость просветлел и ободрился силою и свежестью прелестного дарования; Киреевский, который начал Европейцем[23] и какими-то волнами был закинут на антиевропейский берег, но и тут явил какую-то девственную чистоту и целомудрие новых своих убеждений; Павлов, который при остром и легко постигающем уме мог бы сделаться лучшим и первым журналистом нашим и полемическим писателем, если бы одарен был способностью прилежать к труду, а не довольствоваться редкими и случайными взрывами, показывая, как много таилось и глухо кипело в нем дарований и зиждительных сил. Еще некоторые лица просятся в этот перечень; но пока довольно и поименованных, чтобы дать понятие об этом словесном факультете, который из любви к искусству для искусства и к слову для слова расточительно преподавал свое учение.
Впрочем, нельзя не упомянуть здесь еще об одном светлом имени. Боратынский никогда не бывал пропагандистом слова. Он, может быть, был слишком ленив для подобной деятельности, а во всяком случае слишком скромен и сосредоточен в себе. Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался наружу с шумом и обилием. Нужно было допрашивать, так сказать буровить, этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и светлую струю. Но зато попытка и труд бывали богато вознаграждены. Ум его был преимущественно способен к разбору и анализу. Он не любил возбуждать вопросы и выкликать прения и словесные состязания; но зато, когда случалось, никто лучше его не умел верным и метким словом порешать суждения и выражать окончательный приговор и по вопросам, которые более или менее казались ему чужды, как, например вопросы внешней политики или новой немецкой философии, бывшей тогда русским коньком некоторых из московских коноводов. Во всяком случае, как был он сочувственный, мыслящий поэт, так равно был он мыслящий и приятный собеседник. Аттическая вежливость, с некоторыми приемами французской остроты и любезности, отличавших прежнее французское общество, пленительная мягкость в обращении и в сношениях, некоторая застенчивость при уме самобытном, твердо и резко определенном — все эти качества, все эти прелести придавали его личности особенную физиономию и утверждали за ним особенное место среди блестящих современников и совместников его.
Приятно в картинной галерее памяти своей наткнуться на близко знакомые лица, остановиться перед ними, заглядеться на них и при этом задуматься грустно, но и сладостно. Вот кстати сказать:
Свежо предание, а верится с трудом.
И точно, верится с трудом, чтобы лет за двадцать или тридцать встречались на белом свете личности, подобные Тургеневу и некоторым из сверстников его, нами здесь упомянутых. Какая была в них мягкость, привлекательная сила, какая гуманность, в то время как это понятие и выражение не были еще опошлены и почти опозорены неуместным употреблением! Как чист и светел был их либерализм, истекающий еще более из души, нежели из сухих политических соображений, рабских заимствований, а часто и лжеумствований! Либерализм этих избранных людей был чувство, а не формальность. Самые слабости их облекались в какую-то умиротворяющую прелесть, которая вызывала снисхождение. Эти слабости, немощи, свойственные человеческой натуре, не избегали строгой оценки и суда, но и не отталкивали сочувствия к ним. Тургенев, как и многие, принадлежал к либералам, желающим улучшения в гражданском быту, а не к либералам, желающим ниспровержения и революции во что бы то ни стало. К сожалению, встречаются люди, в которых есть что-то претительное, возбуждающее почти враждебное противодействие при изъявлении ими начал, по-видимому честных и благонамеренных: так изъявления эти грубы, наглы и исключительно самовластительны. В подобных людях такая личность, как Тургенев, доживи он до настоящего времени, не возбудила бы ни малейшего сочувствия. Да и не поняли бы его, как лишенные чувства обоняния вовсе не догадываются об ароматных испарениях благоуханного растения. Одно, может статься, и способно ныне обратить внимание их на такую личность, а именно то, что Тургенев в свое время слыл либералом. «Следовательно, он наш», — говорят эти господа. Нет, милостивые государи, совсем не ваш, и с вами ничего сходного он не имеет.
Есть цеховые и положительные либералы, которые положительную посредственность свою (чтобы не сказать положительную ничтожность) расцвечивают либеральными узорами и виньетками, заимствованными из дешевых иностранных изданий. Чтобы подкрепить и усилить себя, они охотно вербуют задним числом в артель свою лиц, которых либерализм есть явное опровержение их ремесленного либерализма. Эти господа на числах неверных, на лживых данных берутся разрешать общественные задачи. Они выводят категории, раздувают системы, в которых нет ни достоверности, ни даже правдоподобия. Стоит только дотронуться до них булавкой исторической и практической критики, и все эти неловко и насильственно надутые пузыри тут же прокалываются, свертываются и скомкиваются. Суворов говорил, кажется, Каменскому: «Об императрице Екатерине может говорить Репнин всегда, Суворов иногда, а Каменский не должен говорить никогда». Можно бы вывести такое правило и для многих журнальных Несторов, которые, зря и мудрствуя лукаво, пишут общественные летописи про общество, которого они не знают, про людей совершенно им чуждых, с которыми они ни сблизиться, ни даже сойтись не могли, про события, которые доходят до них из третьих или четвертых рук. И эти лица и события перекладывают они на свой лад, развивают или сушат в жарко натопленной теплице своих сочувствий, благоприятных или враждебных. Хороши выходят их рассказы и картины, с коими потомству придется справляться для полного изображения минувшей эпохи! Не к одному из них, а ко многим прилично применить стих:
Живет он в Чухломе, а пишет о Париже.
157
[Русский путешественник прошлого столетия] рассказывает, что в молодости своей, путешествуя в Португалии, он рассердился на почтаря, который вез его очень медленно. В старые годы от русской досады до русской ручной управы было недалеко: русский путешественник потузил португальца. Тот, не говоря ни слова, ушел и оставил путешественника посреди дороги с коляскою и лошадьми. Тут этот последний догадался и заключил, что есть некоторая разница между португальскою и русскою ездою.
158
Говорили однажды о звукоподражательности, о собрании некоторых слов на разных языках, так что и не знающему языка можно угадать приблизительно, по слуху, к какой категории то или другое слово должно принадлежать. В Москве приезжий итальянец принимал участие в этом разговоре. Для пробы спросили его: «Что, по-вашему, должны выражать слова: любовь, дружба, друг?» — «Вероятно, что-нибудь жесткое, суровое, может быть и бранное», — отвечал он. «А слово телятина?» — «О, нет сомнения, это слово ласковое, нежное, обращаемое к женщине».
159
Выдержки из разговоров:
Дружеского:
В Таврическом дворце в прошлом столетии князь Потемкин, в сопровождении Левашова и князя Долгорукова, проходит чрез уборную комнату мимо великолепной ванны из серебра.
Левашов: Какая прекрасная ванна!
Князь Потемкин: Если берешься ее всю наполнить (это в письменном переводе, а в устном тексте значится другое слово), я тебе ее подарю. Левашов (обращаясь к Долгорукову): Князь, не хотите ли попробовать пополам?
Князь Долгоруков слыл большим обжорою.
Министерского:
Граф Канкрин:А по каким причинам хотите вы уволить от должности этого чиновника?
Директор департамента: Да стоит, ваше сиятельство, только посмотреть на него, чтобы получить к нему отвращение: длинный, сухой, неуклюжий немец, физиономия суровая, рябой...
Граф Канкрин: Ах, батюшка, да вы это мой портрет рисуете! Пожалуй, вы и меня захотите отрешить от должности.
160*
Пушкин забавно рассказывал следующий анекдот. Где-то шла речь об одном событии, ознаменовавшем начало нынешнего столетия. Каждый вносил свое сведение. «Да чего лучше, — сказал один из присутствующих: — академик** (который также был налицо) — современник той эпохи и жил в том городе. Спросим его, как все это происходило». И вот академик ** начинает свой рассказ: «Я уже лег в постель, и вскоре пополуночи будит меня сторож и говорит: «Извольте надевать мундир и идти к президенту, который прислал за вами». Я думаю себе: «Что за притча такая?» — но оделся и пошел к президенту; а там уже пунш». Пушкин говорил: «Рассказчик далее не шел: так и видно было, что он тут же сел за стол и начал пить пунш. Это значит иметь свой взгляд на историю».
Дмитриев гулял по Кремлю в марте месяце 1801 г. Видит он необыкновенное движение на площади и спрашивает старого солдата, что это значит. «Да съезжаются, — говорит он, — присягать государю». — «Как присягать и какому государю?» — «Новому». — «Что ты, рехнулся, что ли?» — «Да, императору Александру». — «Какому Александру?» — спрашивает Дмитриев, все более и более удивленный и испуганный словами солдата. «Да Александру Македонскому, что ли!» — отвечает солдат. (Слышано от Дмитриева).
161
От слова заговор вышло слово заговорщик. Почему же от слова разговор не вывести слова разговорщик (causeur)? Говорун — не то; собеседник — как-то неуместно-важно.
162
Летом в окрестностях Варшавы молодые барыни катались на лодке по большому озеру. Лодка покачнулась, и дамы попадали в воду. Англичанин, влюбленный в одну из них, увидя беду, тотчас кинулся с берега в озеро, нырнул и вытащил одну барыню; но, заметя, что это была не возлюбленная его, бросил ее опять в воду и нырнул еще раз, чтобы спасти настоящую.
163
Еще одно последнее сказание о старой Польше. Кажется, в начале минувшего столетия один из графов Потоцких, в видах патриотических и политических, переселился в Константинополь и обратился в магометанскую веру. Он совершенно отуречился, и все это в надежде снискать доверенность и уважение турецкого правительства и употребить их в пользу Польши, во вред России. Мысль об отступничестве между тем тревожила порою набожную совесть его. «Знаю, — говорил он в минуту смущения, — что Господь, по правосудию своему, сошлет меня в ад за мой грех, но, с другой стороны, я убежден, что, видя чистоту побуждений моих, он, по беспристрастию своему, и карая меня не откажет мне в уважении своем».
164
Пушкин спрашивал приехавшего в Москву старого товарища по лицею про общего приятеля, а также сверстника-лицеиста, отличного мимика и художника по этой части[24]: «А как он теперь лицедействует и что представляет?» — «Петербургское наводнение». — «И что же?» — «Довольно похоже», — отвечал тот. Пушкин очень забавлялся этим довольно похоже.
165
Французский поэт сказал: «La patrie est aux lieux ou I 'ame est enchainee[25]. Шутник заметил, что если так, то Россия есть отечество по преимуществу, потому что в ней встречаются души и крепостные и заложенные.
166
Хвостов где-то сказал:
Зимой весну являет лето.
Вот календарная загадка! Впрочем, у доброго Хвостова такого рода диковинки были не аномалии, не уклонения, а совершенно нормальные и законные явления.
Совестно после Хвостова называть Державина, но и у него встречаешь поразительные недосмотры и недочеты. В прекрасной картине его:
На темно-голубом эфире
Златая плавала луна
В серебряной своей порфире.
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой озаряла
И палевым своим лучом
Златые окна рисовала
На лаковом полу моем.
К чему тут серебряная порфира на золотой луне? А в другом стихотворении его:
Из-за облак месяц красный
Встал и смотрится в реке.
Сквозь туман и мрак ужасный
Путник едет в челноке.
Здесь что-нибудь да лишнее: или месяц красный, или ужасный мрак.
Поэзия поэзией, а стихотворство (или стихотворение) — стихотворением. Истинный поэт в творчестве своем никогда не собьется с пути; но в стихотворческом ремесле поэт может иногда обмолвиться промахом пера. В эти промахи он незаметно для себя и невольно вовлекается самовластительными требованиями рифмы, стопосложения и других вещественных условий и принадлежностей стиха. Было же когда-то у Пушкина:
Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к вам рифма младость?
А в превосходном своем Exegi monumentum разве не сказал он: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»! А чем же писал он стихи свои, как не рукою? Статуя ваятеля, картина живописца так же рукотворны, как и написанная песнь поэта.
И.И.Дмитриев в милой песенке своей говорит:
Всех цветочков боле
Розу я любил;
Ею только в поле
Взор свой веселил.
С каждым днем алее
Все как вновь цвела,
С каждым днем милее
Роза мне была.
Но на счастье прочно
Всяк надежду кинь:
К розе как нарочно
Привилась полынь.
Роза не увяла.
Тот же самый цвет;
Но не та уж стала:
Аромата нет.
Здесь следовало бы и кончить: но песельника соблазнил и попутал баснописец: он хотел вывести мораль, а тут и вышел забавный промах пера:
Хлоя, как ужасен
Этот нам урок!
Так, увы, опасен
Для красы порок.
Это неуместное и злосчастное нам причисляет, по грамматическому смыслу, самого Дмитриева к Хлоям и красавицам.
Капнист в одной песенке своей говорит:
Хоть хижина убога,
С тобой она мне храм;
Я в ней прошу от Бога
Здоровья только нам.
Нечеловеколюбиво и небратолюбиво это только перед словом нам. Это напоминает молитву эгоиста: «Господи ты ведаешь, что я никогда не утруждаю тебя молитвою о ближнем: молю только о себе и уповаю, что ты воздашь смирению моему и невмешательству в чужие дела».
Едва ли кто из поэтов древних и новых, русских или чужестранных, совершенно избежал подобных промахов, обмолвок, недосмотров, затмений. У кого их больше, у кого меньше.
167*
Повиновение не внушается разом: не нужно пояснять, что мы говорим о законном повиновении пред законом. Нужно заблаговременно, постепенно и постоянно возращать и развивать его в понятиях, нравах и привычках народа. Это своего рода нравственное образование. Вот отчего внутреннее устройство Англии так сильно и благонадежно. Стотысячные прогулки народа по лондонским улицам с развевающимися хоругвями протеста в руках против того или другого политического положения или с требованием такого или другого изменения в существующем порядке — совершаются почти мирно и не угрожают обществу волнением и бедствием, перейдя границы дозволенного; стоит только констабелям выставить на вид свои жезлики — и протестующее возмущение расходится, и город приходит в свой прежний и обыкновенный порядок. Не все города и не все народонаселения способны выдерживать подобные болезненные припадки и пароксизмы. Тут надобно иметь крепкую конституцию не только на бумаге, но и личную, внутренно-нравственную конституцию, что гораздо благонадежнее и вернее. В Париже, например, подобная уличная прогулка, вдвое, втрое малочисленнее, не раз бурным потоком своим увлекала, ниспровергала целые династии и затопляла общество и весь государственный строй.
Мне часто приходило на ум написать свою Россиаду, не героическую, не в подрыв херасковской, не «попранну власть татар и гордость низложенну» (Боже упаси!), а Россиаду домашнюю, обиходную — сборник, энциклопедический словарь всех возможных руссицизмов, не только словесных, но и умственных и нравных, то есть относящихся к нравам; одним словом, собрать, по возможности, все, что удобно производит исключительно русская почва, как была она подготовлена и разработана временем, историею, обычаями, поверьями и нравами исключительно русскими.
В этот сборник вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения, опять-таки исключительно русские, не поддельные, не заимствованные, не благо- или злоприобретенные, а родовые, почвенные и невозможные ни на какой другой почве, кроме нашей. Тут так бы Русью и пахло — хотя до угара и до ошиба, хотя до выноса всех святых! Много нашлось бы материалов для подобной кормчей книги, для подобного зеркала, в котором отразился бы русский склад, русская жизнь до хряща, до подноготной. А у нас нет пока порядочного словаря и русских анекдотов.
Вот, например, несколько пробных наметок, которые вошли бы в состав нашей Россиады. Пословицы: «Хоть не рад, да будь готов». — «Без вины виноват». — «Все — Божие да государево». — «Казенное на воде не тонет и в огне не горит». В этих пословицах, в этих заветах народной мудрости, мало либеральности, мало гуманности, еще менее пресловутого self-governement [самоуправления]. Но дело в том, что старая Русь не заботилась о том и в том не нуждалась. Под влиянием силы вещей и какого-то внутреннего голоса она чувствовала потаенную потребность сложиться, окрепнуть: безропотно, без отвлеченных умствований, она поддавалась опеке власти, и, может быть и даже вероятно, благодаря этой опеке, разрослась она и возмужала. Всему есть свое время. — А «недосол на столе, пересол на спине». В этой поваренной поговорке слышна и гастрономическая истина и чисто практическая истина, выражающая русское крепостное состояние. «Je ne sais si le cuisinier est bon, mais je sais qu'il est mon»[26], — говорил один провинциальный хлебосол и душевладелец на своем ниже городе ком французском языке. У нас есть старинная поговорка: «шей горшок да сам большой». Осмеливаемся думать, что это несколько искаженная редакция. Не правильнее и не скорее ли: «щей горшок да самый большой»?
Далее. Вскоре после бедственного пожара в балагане на Адмиралтейской площади в 1838 году кто-то сказал: «Слышно, что при этом несчастьи довольно много народу сгорело».
— Чего «много народа»! — вмешался в разговор департаментский чиновник: — даже сгорел чиновник шестого класса.
Сюда просится иностранная шутка, но выросшая на русской почве. Лорд Ярмут был в Петербурге в начале двадцатых годов; говоря о приятностях петербургского пребывания своего, замечал он, что часто бывал у любезной дамы шестого класса, которая жила в шестнадцатой линии.
А вот, кстати, и характеристическая английская черта. Известно, как англичане дома с чопорной строгостью соблюдают светский этикет и по туалетной части. На твердой земле они любят эмансипировать себя. Умный и образованный лорд Ярмут, в Москве, на большой бал к Екатерине Владимировне Апраксиной явился в цветном галстуке.
В Варшаву прибыл зверинец с разными дикими заморскими зверями. Большое раскрашенное полотно с изображением животных красовалось на стене балагана. Народ, ротозеи толпились перед ним. Счастливые, имевшие злотый в кармане, получали билет и входили в балаган. Неимущие ротозеи посматривали на них с завистью. В числе последних был и русский солдат. Он с отменным любопытством рассматривал живописную вывеску и в то же время грустно косился на конторку, в которой продавались билеты, и на дверь, в которую пропускались покупатели. В нем разыгрывалась целая внутренняя драма. Наконец, смелым движением бросился он к сидельцу при кассе и повелительным голосом спросил его: «Что это, казенные звери, что ли?» На лице его так и выражалось сознание, что если он получит в ответ: казенные, то и он, как человек казенный, имеет полное право, во имя всероссийского оружия, победоносно ворваться в желанный зверинец. В выражении этого лица был полный натурный этюд для живописца, физиолога, психолога, а особенно — русолога.
Здесь же, в Варшаве, не помнится по какому именно случаю, сделано было распоряжение вел. кн. Константином Павловичем, чтобы в такой-то день на службу в дворцовую русскую церковь были допускаемы одни русские и православные, за решительным исключением должностных и чиновных поляков, которые обыкновенно бывали по праздникам при богослужении. Наблюдение за этим порядком было поручено генералу В. Он стал в дверях и для безошибочного исполнения возложенной на него обязанности начал следующим образом допрашивать каждое сомнительное лицо: «Позвольте мне спросить вас: вы не русский?» - Нет. — «Вы не православного вероисповедания?» — Нет, — «Стало быть, вы поляк?» — Да. — «Стало быть, вы католик?» — Да. — «Ну, так пошел же вон!»
В отсутствие князя Паскевича из Варшавы умер в ней какой-то генерал, и князь был недоволен распоряжениями, сделанными при погребении. Он сделал за то выговор варшавскому генерал-губернатору, который временно замещал его. Не желая подвергнуть себя новой неприятности, осторожный и предусмотрительный генерал-губернатор пишет однажды князю Паскевичу, также тогда отсутствующему: «Долгом считаю испросить разрешения вашей светлости, как, на случай смерти Жабоклицкого (одного из чинов польского двора), прикажете вы хоронить его». Жабоклицкий в то время вовсе не был болен, а только стар и замечательно худощав.
Итальянец Тончи, живописец, особенно известный портретом Державина, был еще замечательный поэт и философ. Философическое учение его заключалось в том, что все в жизни и в мире призрачно, что ничего нет положительного и существенно-действительного. По системе его человек не что иное, как тень, как призрак, которому что-то грезится и мерещится; одним словом, он преподавал, что все, что есть, не что иное, как ничего. С итальянскою живостью своей, поэтическим настроением и особенным даром слова излагал и развивал он свое учение довольно увлекательно и, во всяком случае, занимательно. Были у него и адепты, между прочим, помнится, генерал Саблуков, а положительно, и Алексей Михаилович Пушкин. Он говаривал на своем смелом языке, что система его сближает человека с Создателем с глазу на глаз (nez a nez avec dieu).
Разумеется, эта мнимая жизнь, мнимая радость, мнимое страдание, все это вечно кажущееся относительно всего и всех давало повод к различным шуткам со стороны неверававших. Об этом и шла речь в одном петербургском салоне. Кто-то из дипломатов заметил, что хорошо бы, если бы во время преподавания системы своей философом кто-нибудь порядком ущипнул его или впустил иголку в икры ему. «Да, — подхватил тут один из собеседников (довольно крупная личность из русского чиноначалия), — любопытно было бы проверить, что скажет Тончи, если влепить ему пятьсот палок».
Вот дело так дело! Это чисто по-русски: аргумент прямо ad hominem. Мелкопоместный, мелкотравчатый дипломат думает, что достаточно пощипать и уколоть допросимое лицо. Нашему брату это кажется смешно и даже малодушно. Большому кораблю большое и плавание. Богатырю Илье Муромцу дай в руки палицу или по крайней мере дубинку батюшки Петра Алексеевича, а не булавку. Булавкой незачем и руку себе марать.
Вот пока что пришло мне на память из материалов, которыми хотел я соорудить свою Рос с над у. Это только закладка здания. Может быть, со временем выведу еще кое-что. Во всяком случае представляю усердным зодчим и этнографам докончить начатое мною; за собою оставляю одну честь почина. А мимоходом будь сказано, не мало починов моих даром пропало, то есть в отношении ко мне. Кое-какие изделия и товары мои пошли в потребление и в расход под чужими фирмами. Бог даст, когда-нибудь соберусь с духом и силами и выведу на чистую воду расчеты мои и укажу на должников своих, которые даже не признают меня заимодавцем своим, хотя поживились моими грошами.
Мы упомянули о портрете Державина, писанном Тончи. Известно, что поэт изображен в зимней картине: он в шубе, и меховая шапка на голове. На вопрос Державина Дмитриеву: что он думает об этой картине, — тот отвечал ему: «Думаю, что вы в дороге, зимой, и ожидаете у станции, когда запрягут лошадей в вашу кибитку».
168*
Добрый адмирал Рикорд, завидя однажды на Невском проспекте NN, начал издалека кричать ему: «Спасибо, большое спасибо за славную статью вашу, которую сейчас прочел я в журнале: нечего сказать, мастерски написана! Но, признаться надо, славная статья и этой бестии...» Есть же люди, которые странным образом умеют приправлять похвалы свои.
Вот еще пример подобного нелицеприятия и вместе с тем образчик наших литературных нравов. Один известный литературный деятель и делец говорил Ивану Ивановичу Дмитриеву о своем приятеле и сотруднике: «Вы, ваше высокопревосходительство, не судите о нем по некоторым выходкам его; он, спора нет, часто негодяй и подлец, но он добрейшая душа. Конечно, никому не посоветую класть палец в рот ему, непременно укусит; недорого возьмет он, чтобы при случае предать и продать тебя: такая уж у него натура. Но со всем тем он прекрасный человек, и нельзя не любить его». В продолжение вечера он не раз принимался таким образом обрисовывать и честить приятеля своего.
Тот же о том же сказал: «Утверждать, что он служит в тайной полиции, сущая клевета! Никогда этого не было. Правда, что он просился в нее, но ему было в том отказано».
169
В 1806 или 1807 году один из известнейших московских книгопродавцев рассказывал следующее приходящим в лавку его: «Ну, уж надо признаться, вспыльчив автор такой-то. Вот что со мною было. Приходит он на днях ко мне и ни с того ни с другого начинает меня позорить и ругать; я молчу и смотрю, что будет. Наругавшись вдоволь, кинулся он на меня и стал тузить и таскать за бороду. Я все молчу и смотрю, что будет. Наконец плюнул он на меня и вышел из лавки, не объяснив, в чем дело. Я все молчу и жду, не воротится ли он для объяснения. Нет, не возвратился: так и остался я ни при чем!»
170
Во время маневров император Александр Павлович посылает одного из флигель-адъютантов своих с приказанием в какой-то отряд. Спустя несколько времени государь видит, что отряд делает движение, совершенно несогласное с данным приказанием. Он спрашивает флигель-адъютанта: «Что вы от меня передали?» Выходит, что приказание передано было совершенно навыворот. «Впрочем, — сказал государь, пожимая плечами, — и я дурак, что вас послал».
171
На Каменном острову Александр Павлович заметил на дереве лимон необычайной величины. Он приказал принести его к нему, как скоро он спадет с дерева. Разумеется, по излишнему усердию приставили к нему особый надзор, и наблюдение за лимоном перешло на долю и на ответственность дежурному офицеру при карауле. Нечего и говорить, что государь ничего не знал об устройстве этого обсервационного отряда. Наконец роковой час пробил: лимон свалился. Приносят его к дежурному офицеру. Это было далеко за полночь. Офицер, верный долгу и присяге своей, идет прямо в комнаты государя. Государь уже почивал в постели своей. Офицер приказывает камердинеру разбудить его. Офицера призывают в спальню. «Что случилось? — спрашивает государь: — не пожар ли?» — «Нет, благодаря Богу о пожаре ничего не слыхать. А я принес вашему величеству лимон». — «Какой лимон?» — «Да тот, за которым ваше величество повелели иметь особое и строжайшее наблюдение». Тут государь вспомнил и понял, в чем дело. Александр Павлович был отменно вежлив, но вместе с тем иногда очень нетерпелив и вспыльчив. Можно предположить, как он спросонья отблагодарил усердного офицера, который долго после того был известен между товарищами под прозвищем «Лимон».
172
[Неелов] между прочим любил писать амфигури, и некоторые из них очень удачны и забавны. Это последнее свойство отличительная черта если не таланта, то способности Неелова. Забавность, истинная и сообщительная веселость очень редко встречаются в нашей литературе. А между тем в русском уме есть жилка шутливости: мы более насмешливы, чем смешливы, преимущественно на письме. Чернила как-то остужают у нас вспышки веселости. На русской сцене мало смеются и мало смешат. Мы почти можем сказать, что русской комедии не до смеха. У французов называются амфигури куплеты, положенные обыкновенно на всем знакомый напев: куплеты составлены из стихов, не имеющих связи между собою, но отмеченных шутливостью и часто неожиданными рифмами. Иногда это пародии на известные сочинения, легкие намеки наличности и так далее. Вот некоторые выписки из Неелова:
Пускай Тардив[27]
В компот из слив
Мадеру подливает:
А Жан Расин,
Как в масле блин,
В бессмертьи утопает.
Андрей Сушков
Лишь пять вершков
В природе занимает;
А Бонапарт
С колодой карт
Один в пасьянс играет.
Это было писано в 1813 году. Тут был забавный куплет о французских маршалах Давуст (рифма была куст) и Удино, но этой рифмы не скажу. В это время все содействовали патриотизму поражать врага: и лубочные народные карикатуры, и, пожалуй, лубочные стихи, которые на этот раз с большей меткостью попадали в цель, чем оды Державина.
В то самое время Неелов имел тяжбу, которая рассматривалась в Правительствующем сенате. Дело длилось. Неелов излил меланхолические чувства свои в заключительном куплете своего амфигури:
Мой геморрой
Иной порой
Вертит меня, ломает;
Но, ах, Сенат
Мне во сто крат
Жить более мешает.
Неелов, истинный поэт в своем роде, имел потребность перекладывать экспромтом на стихи все свои чувства, впечатления, заметки. Он был русская Эолова арфа, то есть народная игривая балалайка. Неелов два раза был женат, но детей не имел; а сердце a priori было очень чадолюбивое. Вот как эта любовь выразилась однажды:
Дай, судьба, ты мне ребенка;
Тем утешь ты жребий мой:
Хоть щенка, хоть жеребенка,
Лишь бы был мне сын родной.
Этот поэт, по вольности дворянства и по вольности поэзии, не всегда был разгульным циником. Он иногда надевал и перчатку на правую руку и мадригальничал в альбомах московских барышень. Вот что написал он во время грозы:
Я грома не боюся;
Он прогремит, пройдет.
Но равнодушья твоего страшуся:
Оно меня убьет.
173
Я говорил о балалайке: это напомнило мне рассказ Американца-Толстого. Высаженный на берег Крузенштерном, он возвращался домой пешеходным туристом. Где-то в отдаленной Сибири напал он на старика, вероятно сосланного: он утешал горе свое родными сивухою и балалайкою. Толстой говорил, что он пил хорошо, но еще лучше играл на своем доморощенном инструменте. Голос его, хотя и пьяный и несколько дребезжащий от старости, был отменно выразителен. Толстой помнил, между прочим, куплет из одной песни его:
Не тужи, не плачь, детинка;
В рот попала кофеинка,
Авось проглочу.
И на этом авось проглочу голос старика разрывался рыданием, сам он обливался слезами и говорил, утирая слезы свои: «Понимаете ли, ваше сиятельство, всю силу этого: авось проглочу!» Толстой добавлял, что редко на сцене и в концертах бывал он более растроган, чем при этой дикой и нелепой песне сибирского рапсода.
174
Кто-то говорил, что вообще наши статистики скорее статисты, которые, по определению нашего академического словаря, суть актеры без речей на сцене. И от наших статистиков больших речей и чисел ожидать нельзя. В статистику приходится верить более на слово. Хорошо еще в маленьком государстве; но у нас, с нашими пространствами, безграмотностью и недостатком правильного счетоводства, как уследить за всеми делами природы и делами рук человеческих? Прошу покорно вычислить, хотя приблизительно, хотя с некоторой вероятностью, число куриц и коров, и так далее, которые родятся, здравствуют и умирают
От хладных Финских скал до пламенной Колхиды.
В начале столетия и собирания статистических сведений одна местная власть обратилась в один уезд с требованием доставить таковые сведения. Исправник отвечал: «В течение двух последних лет, то есть с самого времени назначения моего на занимаемое мною место, ни о каких статистических происшествиях, благодаря Бога, в уезде не слышно. А если таковые слухи до начальства дошли, то единственно по недоброжелательству моих завистников и врагов, которые хотят мне повредить в глазах начальства, и я нижайше прошу защитить меня от подобной статистической напраслины».
175
Жена генерала Л., слывшего остряком, была, говорят, особенно глупа. При людях, боясь какой-нибудь чудовищной обмолвки, муж держал ее язык на привязи. Например, он не позволял ей открывать рот, пока не даст он условленного знака. Однажды на многочисленном вечере генерал, по обыкновению своему, краснобаял, рассказывал анекдоты, рассыпался шутками, острыми словами. В пылу витийства своего он необдуманно и нечаянно сделал головой условленный с женою знак. — «Ну, наконец, слава Богу, — вскрикнула она: — вот уже полчаса, что мигаю тебе: жажда меня замучила. Смерть хочется выпить. Человек, подай мне стакан воды».
В другой раз генерал ожидал какого-то почетного гостя; между тем необходимо было ему нужно отлучиться из дома. Он приказывает жене принять гостя и сказать, что он тотчас возвратится; вместе с тем строго наказывает ей не пускаться в дальние разговоры, а говорить только о самых близких и домашних предметах. Гость приезжает. «Что это за панталоны на вас? — обращается она к приезжему. — У моего мужа платье совсем не так сшито». Призывает она камердинера мужа и приказывает ему принести жилеты и панталоны барина. Приносят. Генерал возвращается домой и застает выставку. Вот картина! (Рассказано В.Л. Пушкиным, современником этих событий.)
176
NN говорит, что сочинения К. — недвижимое имущество его: никто не берет их в руки и не двигает с полки в книжных лавках.
177
Двоюродные братья князья Гагарины, оба красавцы в свое время, встретились после двадцатилетней разлуки в постороннем доме. Они, разумеется, постарели и друг друга не узнали. Хозяин должен был назвать их по имени. Тут бросились они во взаимные объятия. «Грустно, князь Григорий, — сказал один из них, — но, судя по впечатлению, которое ты на меня производишь, должен я казаться тебе очень гадок».
178
Рассказывают, что известный Копьев, чтобы убедить крестьян своих внести разом ему годовой оброк, говорил им, что такой взнос будет последний, а что с будущего года станут уплачивать все повинности и отбывать воинскую одною поставкою клюквы.
179*
Рассказывали, что в предсмертные дни Москвы, до пришествия французов, С.Н.Глинка, добродушный и добросовестный отечестволюбец, разъезжал по улицам стоя на дрожках и кричал: «Бросьте французские вина и пейте народную сивуху! Она лучше поможет вам». Рассказ, может быть, и выдуманный, но не лишенный красок местности, современности и личности.
180
Ф.П. Лубяновский, приятель и единоверец[28] Лопухина (Ивана Владимировича), рассказывал мне, что император Александр Павлович имел однажды намерение назначить последнего министром народного просвещения. Для этой цели выписали Лопухина из Москвы, где он был сенатором. Желая ближе с ним ознакомиться, государь велел пригласить его к обеду. Лопухин вовсе не был питух; но, необдуманно соблазнясь лакомыми винами, которые подавали за царским столом, он ничего не отказывал, охотно выпивал все предлагаемое и иногда в промежутках подливал себе еще вино из бутылок, которые стояли на столе. К тому же, на беду, его лицо, краснокожее и расцветающее почками багрово-синими, напоминало стихи Княжнина:
Лицо
Одето в красненький сафьянный переплет:
Не верю я тому, а, кажется, он пьет.
Император держался самой строгой трезвости и был вообще склонен к подозрению. Возлияния и влияния недогадливого Лопухина не могли ускользнуть от наблюдательного и пытливого взгляда императора. Ему не только казалось, но он убедился, что Лопухин пьет. «Нет, — сказал он приближенным своим, встав из-за стола, — этот не годится мне в министры». Тем министерство его и кончилось: он возвратился сенатором в Москву, как и выехал сенатором.
181
Однажды обедали мы с Плетневым у Гнедича на даче. За обедом понадобилась соль Плетневу; глядь, а соли нет. «Что же это, Николай Иванович, стол у тебя кривой», — сказал он (известная русская поговорка: «без соли стол кривой»). Плетнев вспомнил русскую, но забыл французскую поговорку: «не надобно говорить о веревке в доме повешенного» (Гнедич был крив).
182
Одна барыня старого времени имела в доме француза повара и француза дворецкого. Однажды за обедом подают ей дичь с душком. Она посылает дворецкого сделать выговор повару. Дворецкий возвращается и докладывает, что шеф кухни (le chef de cuisine) объясняет, que c'est de la viande mortifiee (мясо несколько замореное). «Dites lui et peredites lui (скажите и перескажите ему), — говорит княгиня, — que je n'aime pas les mortifications» (что я не люблю замариваний).
183
Иван Петрович Архаров, последний бурграф (burgrave) московского барства и гостеприимства, сгоревших вместе с Москвою в 1812 году, имел своего рода угощение. Встречая почетных или любимейших гостей, говорил он: «Чем почтить мне дорогого гостя? Прикажи только, и я для тебя зажарю любую дочь мою».
184
Карамзин был очень воздержан в еде и в питии. Впрочем, таковым был он и во всем в жизни материальной и умственной: он ни в какие крайности не вдавался; у него была во всем своя прирожденная и благоприобретенная диететика. Он вставал довольно рано, натощак ходил гулять пешком или ездил верхом в какую пору года ни было бы и в какую бы ни было погоду. Возвратясь, выпивал две чашки кофе, за ними выкуривал трубку табаку (кажется, обыкновенного кнастера) и садился вплоть до обеда за работу, которая для него была также пища и духовная и насущный хлеб. За обедом начинал он с вареного риса, которого тарелка стояла всегда у прибора его, и часто смешивал он рис с супом. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан пива, а стакан этот был выделан из дерева горькой квассии. Вечером, около 12-ти часов, съедал он непременно два печеных яблока. Весь этот порядок соблюдался строго и нерушимо, и преимущественно с гигиеническою целью: он берег здоровье свое и наблюдал за ним не из одного опасения болезней и страданий, а как за орудием, необходимым для беспрепятственного и свободного труда. Кажется, в последние годы жизни его вседневный порядок был несколько изменен; но в Москве держался он его постоянно в течение нескольких годов. Мы сказали, что он был в пище воздержан. Был он вовсе и неприхотлив. Но как никогда не писал он наобум, так и есть наобум не любил. В этом отношении был он взыскателен. У него был свой слог и в пище: нужны были припасы свежие, здоровые, как можно более естественно изготовленные. Неопрятности, неряшества, безвкусия не терпел он ни в чем. Обед его был всегда сытный, хорошо приготовленный и не в обрез, несмотря на общие экономические порядки дома. В Петербурге два-три приятеля могли всегда свободно являться к обеду его и не возвращались домой голодными. В 1816 году обедал он у Державина. Обед был очень плохой. Карамзин ничего есть не мог. Наконец к какому-то кушанью подают горчицу; он обрадовался, думая, что на ней отыграться можно и что она отобьет дурной вкус: вышло, что и горчица была невозможна. — Державин был более гастрономом в поэзии, нежели на домашнем очаге. У него встречаются лакомые стихи, от которых слюнки по губам так и текут. Например:
Там славный окорок вестфальской,
Там звенья рыбы астраханской,
Там плов и пироги стоят.
Шампанским вафли запиваю.
В двух первых стихах рифма довольно тощая, но содержание стихов сытное. — Или:
Багряна ветчина, зелены щи с желтком.
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны.
Тут есть и янтарь-икра, и щука с голубым пером. А эта прелесть:
Младые девы угощают.
Подносят вина чередой:
И Алиатико с шампанским,
И пиво русское с британским,
И Мозель с зельцерской водой.
185
Хозяин дома, подливая себе рому в чашку чая и будто невольным вздрагиванием руки переполнивший меру, вскрикнул: «Ух!» Потом предлагает он гостю подлить ему адвокатца (выражение, употребляемое в среднем кругу и означающее ром или коньяк, то есть адвокатеи, развязывающий язык), но подливает очень осторожно и воздержанно. «Нет, — говорит гость, — сделайте милость, ухните уже и мне».
186
За обедом, на котором гостям удобно было петь с Фигаро из оперы Россини: cito, cito, piano, piano (то есть: сыто, сыто, пьяно, пьяно), Американец-Толстой мог быть, разумеется, не из последних запевалыщиков. В конце обеда подают какую-то закуску или прикуску. Толстой отказывается. Хозяин настаивает, чтобы он попробовал предлагаемое, и говорит: «Возьми, Толстой! Ты увидишь, как это хорошо; тотчас отобьет весь хмель». — «Ах, Боже мой! — воскликнул тот, перекрестясь. — Да за что же я два часа трудился? Нет, слуга покорный, хочу оставаться при своем».
Он же одно время, не знаю по каким причинам, наложил на себя эпитимию и месяцев шесть не брал в рот ничего хмельного. В самое то время совершались в Москве проводы приятеля, который отъезжал надолго. Проводы эти продолжались недели две. Что день, -то прощальный обед или прощальный ужин. Все эти прощания оставались, разумеется, не сухими. Толстой на них присутствовал, но не нарушал обета, несмотря на все приманки и увещания приятелей, несмотря, вероятно, и на собственное желание. Наконец назначены окончательные проводы в гостинице, помнится, в селе Всесвятском. Дружно выпит прощальный кубок, уже дорожная повозка у крыльца. Отъезжающий приятель сел в кибитку и пустился в путь. Гости отправились обратно в город. Толстой сел в сани с Денисом Давыдовым, который (заметим мимоходом) не давал обета в трезвости. Ночь морозная и светлая. Глубокое молчание. Толстой вдруг кричит кучеру: «Стой!» Сани остановились. Он обращается к попутчику и говорит: «Голубчик Денис, дохни на меня!»
Воля ваша, а в этом дохни много поэзии. Это целая элегия. Оно может служить содержанием к картине; был бы только живописец, который бы постиг всю истину и прелесть этой сцены и умел выразить типические личности Дениса Давыдова и Американца-Толстого.
187*
Заключим длинную нашу застольную хронику рассказом о столовом приключении, которое могло кончиться и трагически и комически. Однажды проезжал из-за границы в Россию чрез Варшаву Петр Михайлович Лунин. С начала столетия и ранее был он очень известен обществам петербургскому и московскому. Его любили, а часто и забавлялись слабостями его. В числе их была страсть вышивать основу рассказов своих разными фантастическими красками и несбыточными узорами. Но все это было безобидно. Давно знакомый с Н.Н.Новосильцевым, Лунин заехал к нему. Тот пригласил его на обед. «Охотно, — отвечал Лунин, — но под одним условием: со мной ездит приятель мой и дядька (Лунин был тогда уже очень стар); позволь мне и его привезти». Оказалось, что это был старый французский повар, кажется по имени Aime, который долго практиковал в Петербурге и не без достоинства. Новосильцев посмеялся при такой странной просьбе; но, разумеется, согласился на нее. За обедом было только несколько русских, в числе их князь Александр Сергеевич Голицын (один из младших сыновей известного князя Сергея Федоровича), полковник гвардейского уланского полка. По волосам слыл он рыжим Голицыным. Он был любим в Варшаве и поляками, и земляками. Отличался он некоторым русским удальством и остроумием, мог много выпить, но никогда не напивался; а только, по словам дорогих собутыльников, видно было, как пар подымается из рыжей головы его. Этот Голицын за обедом у Новосильцева отпустил какую-то шутку, направленную на Людовика XVIII. Это происходило в первые года реставрации. Сотрапезник повар встает со стула и громко говорит: «Тот негодяй (так переводим мы крепкое французское выражение, употребленное поваром), кто осмеливается оскорбить священную особу короля. Я готов подтвердить слова свои где и как угодно. Не первую рану получу я за короля своего». И тут же снимает он свой фрак, засучивает рукав рубашки и указывает на руку. Была ли получена эта рана от кухонного ножа или от шпаги, в достоверности неизвестно; но вызов был сделан в формальном порядке. Можно вообразить себе общее удивление и смущение. Голицын принимает вызов. Много стоило труда Новосильцеву и некоторым из присутствующих, чтобы умирить эту бурю и уладить дело без кровопролития. Нечего и говорить, как много было бы несообразного и дикого в поединке русского князя, русского полковника с французским кухмистером. Вначале было не до смеха; но после много и долго смеялись этой застольной стычке.
188*
Выведем ученого и благочестивого немца. До имени его дела нет. Он был однажды за вечерним чаем у Карамзиных в Царском Селе. Приезжает туда же княгиня Г[олицы]на, которой он не знал. Зашла речь о Жуковском и сочинениях его. Княгиня говорит, что его обожает. Немец перебивает ее и спрашивает: «А позвольте узнать, милостивая государыня, вы девица или замужняя?» — «Замужняя». — «В таком случае осмелюсь заметить, что замужняя женщина никого и ничего обожать не должна, за исключением мужа». Понятно, что подобная назидательная выходка позабавила все общество, начиная от самой княгини. Нелишним будет притом вспомнить, что княгиня лет пятнадцать и более жила уже врозь с мужем. Вопрос и нравоучение немца были тем смешнее.
Княгиня Г[олицы]на была в свое время замечательная и своеобразная личность в петербургском обществе. Она была очень красива, и в красоте ее выражалась своя особенность. Она долго пользовалась этим пре имуществом. Не знаю, какова была она в первой своей молодости; но и вторая, и третья молодость ее пленяли какою-то свежестью и целомудрием девственности. Черные выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извивистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная; придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкие и благозвучные — и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Вообще красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней ничто не обнаруживало обдуманной озабоченности, житейской женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное. По обеспеченному состоянию своему, по обоюдно-согласному разрыву брачных отношений, она была совершенно независима. Вследствие того устроила она жизнь свою, не очень справляясь с уставом светского благочиния, которому подчинил себя несколько чопорный и боязливый Петербург. Но эта независимость, это светское отщепенство держались в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия не отемняли чистой и светлой свободы ее. Может быть, старожилы, укоренившиеся на почве прежних порядков, и староверы осуждали некоторые странности этой жизни, освободившиеся от крепостной зависимости; другие, может быть, исподтишка и смеялись над подобными эксцентричностями: общество назидательно обсуждает или себялюбиво предает осмеянию все, что осмеливается перешагнуть на сторону со столбовой дороги, которую проложило оно себе. Все это в порядке вещей. Все это могло выпасть и, вероятно, пало на долю княгини; но, повторим еще, доброе имя ее, и при этой общественной цензуре, осталось безупречно-неприкосновенным. При всем этом, не могла же такая личность проходить бесследно и не пробуждать нежных сочувствий в том или ином сердце. Так и было. Она, на молодом веку своем, внушила несколько глубоких и продолжительных приверженностей, почти поклонений. До какой степени сердце ее, в чистоте своей, отвечало на эти жертвоприношения и отвечало ли оно или только благосклонно слушало, — все это остается тайною. Да и, во всяком случае, для светского любопытства мало приманчивости и пищи в разгадке романа платонического. Большая часть читателей не зачитывается романом, в котором с первых страниц не угадывается, что будет продолжение впредь. Этого обыкновенного и неминуемого впредь и ожидают нетерпеливые читатели, а услужливые романисты считают обязанностью не томить терпения продолжительным ожиданием.
В числе известных поклонников княгини назовем двух, особенно отличавшихся умственными и нравственными достоинствами. Один из них — М.Ф.Орлов, рыцарь любви и чести, который не был бы неуместным и лишним в той исторической поре, когда рыцарство почиталось призванием и уделом возвышенных натур. Другой — князь Михаил Петрович Долгоруков, одна из блестящих, но рано угасшая надежда царствования императора Александра I. Говорили, что в отношении к последнему со стороны княгини были попытки и домогательства освободить себя путем законного развода, но упрямый муж не соглашался на расторжение брака. Как бы то ни было, смерть доблестного князя Долгорукова неожиданно разорвала недописанные листы этого романа.
Дом ее, на Большой Миллионной, был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такою обстановкою дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей своенравной и скоро-изменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне — хотелось бы сказать: в этой храмине, тем более что и хозяйку можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у нее собиравшемуся, что-то, не скажу, таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее. Можно было бы думать, что тут собирались не просто гости, а и посвященные. Выше сказали мы: собирались по вечерам . Найдется и тут поправка: можно было бы сказать — собирались medianoche, в полночь. Княгиню прозвали в Петербурге La Princesse Nocturne (княгиня ночная). Впрочем, собирались к ней не поздно, но долго засиживались. Княгиня не любила рано спать ложиться, а беседы длились обыкновенно до трех и четырех часов утра. Летом живала она на даче своей, на Неве. Прозрачные и светлые невские ночи еще более благоприятствовали этим продолжительным всенощным. Даже свирепствовавшая холера не мешала этим сходкам верных избранных. Едва ли не одновременно похитила она двух-трех из них. Кажется, в числе их был и граф Ланжерон.
События 1812 г. живо расшевелили патриотическую струну княгини. Помнится, вскоре после окончания .войны явилась она в Москве, на обыкновенный бал Благородного Собрания, в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами. Невозмутимо и с некоторой храбростью прохаживала она по зале и посреди дам в обыкновенных бальных платьях; с недоумением, а может быть, и насмешливым любопытством смотрели они на эту возрожденную Марфу Посадницу. Во всяком случае, эти барыни худо понимали, что это значит. Славянофильства и народолюбивых помышлений тогда и в помине не было: все довольствовались тем, что просто по-русски выпроводили незваных гостей из России и с почетом проводили их до Парижа. Каждому дню довлеет злоба его.
Была ли княгиня очень умна или нет? Знав ее довольно коротко, мы не без некоторого смущения задаем себе сей затруднительный и щекотливый вопрос. Но положительный ответ дать на него не беремся. Во-первых, по мнению нашему, ум такая неуловимая и улетучиваюшаяся составная часть, что измерить ее, взвесить и положительно определить невозможно. Кажется, в Испании не говорят о человеке: он храбр, а говорят: он был храбр в такой-то день, в таком-то деле. Можно применить эту осторожность и к умным людям. Особенно женский ум не поддается положительной оценке. Ум женщины иногда тем и ограничивается, но тем и обольщает и господствует, что он отменно чуток на чужой ум. Женский ум часто гостеприимен; он охотно зазывает и приветствует умных гостей, заботливо и ловко устраивая их у себя: так, проницательная и опытная хозяйка дома не выдвигается вперед перед гостями, но не перечит им, не спешит перебить им дорогу, а, напротив, как будто прячется, чтобы только им было просторно и вольно. Женщина, одаренная этим свойством, едва ли не перетягивает на свою сторону владычество женщины, наделенной способностями более резкими и властолюбивыми. Эта пассивность женского ума есть нередко увлекательная прелесть и сила. Кажется (сколько можем судить по позднему знакомству), этой силой должна была в высшей степени обладать известная г-жа Рекамье. Блистательная, и в некотором отношении гениальная, приятельница ее г-жа Сталь[29] должна была уступать ей первенствующее место в состязании поклонников, которые толпились пред той и другой. Известен ответ Талейрана. Г-жа Сталь в присутствии г-жи Рекамье спросила его: «Если мы обе тонули бы, которую из нас бросились бы вы сперва спасать?» — «О, я уверен, — отвечал лукавый дипломат, — что вы отлично плавать умеете». Бенжамен Констан[30] был в связи с г-жой Сталь, но до безумия влюблен был в г-жу Рекамье.
Сравнивать парижские салоны того времени с салонами Большой Миллионной было бы слишком смело; подводить под один знаменатель личности, которые встречались там, и те, которые могли встречаться у нас, было бы неловко. Ограничимся тем, что мы сказали, не принимая на себя ответственности решать вопрос ни в том, ни в другом отношении: ум вообще и женский ум в особенности остается пока еще открытым вопросом.
С своих чисто умозрительных и эстетических вершин княгиня сходила иногда на почву и прозаических общественных обсуждений.
В доказательство тому упомянем о противокартофельном доходе, который предприняла она против графа Киселева, когда новый министр государственных имуществ заботился об успешном разведении картофеля в сельских общинах. Ей казалось, что это нововведение есть посягательство на русскую национальность, что картофель испортит и желудки, и благочестивые нравы наших искони и богохранимых хлебо- и кашеедов. С упорством и страстью отстаивала она свой протест, которым довольно забавлялись в обществе.
Еще позднее и в последние годы жизни своей княгиня пустилась в высшую математику, соединенную с еще высшей метафизикой. Эти занятия признавала она каким-то наитием свыше. Она никогда к ним не готовилась и разрешала многотрудные задачи, так сказать, бессознательно и неведомо от себя. Таковы были собственные оценки трудов ее. Забывая свой прежний сарафан, переехала она на время в Париж, лучший и удобнейший город для подобных упражнений. Разумеется, русская княгиня, к тому же богатая, легко отыскала в ученой парижской братии усердных приверженцев и деятельных сотрудников. Она в это время издала на французском языке несколько брошюрок по этим темным и головоломным предметам. Но русская струя, но русский дух и тут были ей не совсем чужды: при ней в качестве секретаря или компаньонки (почему не сказать барской барышни?) находилась дочь Сергея Николаевича Глинки. Это был род русской ладонки от окончательного вражьего, иноземного соблазна.
Не знаю, продолжала ли княгиня, по возвращении своем в Петербург, заниматься опытами умозрительного сновидения своего; но мне жаль, что расстаюсь с ней на этом повороте жизни ее. В прежних видах и обстановках было более поэзии, самобытности и правды. «Quand le diable devint vieux, il se fit ermite»[31], — говорит французская поговорка.
Напрасно. Бесу лучше оставаться бесом до конца, а женщине женщиной, даже когда уже нет молодости. Метафизика для нее удушливое убежище. Хуже ее разве одна политика. Кажется, когда настанет для женщины пора линяния и отрезвления и нужно ей как-нибудь порешить с собою, то лучше уже откровенно и с самоотвержением приняться ей за нюханье табаку: табакерка в руках женщины есть знамение отречения от владычества своего и вместе с тем от сатаны и всех дел его. Впрочем, все это не касается до нашей княгини. При всей женственности, которою была она проникнута, она, кажется, по натуре ли своей или по обету, никогда не прибегала к обольстительным приемам, в которые невольно вовлекается женщина, одаренная внешними и внутренними приманками. Одним словом, нельзя представить себе, чтобы княгиня, когда бы и в каких бы обстоятельствах то ни было, могла, если смеем сказать, промышлять обыкновенными уловками прирожденного более или менее каждой женщине так называемого кокетства.
Со всем тем и Пушкин, в медовые месяцы вступления своего в свет, был маленько приворожен ею. Надолго ли, неизвестно, но во всяком случае неправдоподобно. В сочинениях его встречаются стихи, на имя ее написанные, если не страстные, то довольно воодушевленные. Правда, в тех же сочинениях есть и оборотная сторона медали. Едва ли не к княгине относится следующая заметка по поводу появления в свет первых 8-ми томов Истории Государства Российского: «Одна дама, впрочем весьма почтенная (в первоначальном тексте сказано милая), при мне, открыв 2-ю часть (Истории), прочла вслух: Владимир усыновил Святополка, однако не любил его... «Однако! зачем не но? Однако! Как это глупо! Чувствуете ли вы всю ничтожность вашего Карамзина?»
Как ни странна эта критика, но я ей радуюсь. Во-первых, доказывает она, что и в высшем обществе, осужденном за безграмотность многими не высшими судиями нашими, всякая замечательная, хотя бы и русская, книга не ускользает от внимания даже и великосветских барынь. Далее, радует меня сродство критики княгини с критикой многих наших журнальных борзописцев. Замечание княгини так бы и улеглось в любом русском журнале. Следовательно, нет этого вопиющего разрыва между литературою нашею и нашим обществом — разрыва, о котором у нас сетуют и против которого так негодуют.
Между тем не лишним допустить здесь предположение, что княгиня находилась тогда под влиянием всеславянского генерала Костенецкого, усердного посетителя и отчасти оракула этого капища. Впрочем, другой приверженец княгини, умный и образованный Михаил Орлов, был также недоволен трудом Карамзина: патриотизм его оскорблялся и страдал в виду прозаического и мещанского происхождения русского народа, которое выводил историк.
Вот еще заметка Пушкина: «Он (т.е. Орлов) пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, то есть требовал романа в истории».
Не дожил Орлов до исполнения патриотических требований и прихотей своих. Позднее возникла целая школа гипотез, более или менее блестящих: выбирай любую. Семь греческих городов спорили о месторождении слепого Омира; наберется, вероятно, столько же изыскателей колыбели русского народа. До окончательного решения спора приходится тысячелетнему младенцу быть без глазу у семи нянек или кормилиц своих.
Но скажем с поэтом:
И все то благо, все добро.
Может быть, иному скептику и позитивисту покажется довольно суетной и празднословною та упорная тяжба о происхождении нашем, тяжба, за многими и многими столетними давностями следующая на покой в архив. Но если, например, кому-нибудь захотелось бы досконально исследовать, какого цвета волос была кормилица его, давным-давно умершая, была ли она белокурая, рыжая, или скорее шандре, как говорит городничиха в Ревизоре, то почему не предоставить ему волю тешиться над этою невинною и никому не мешающего задачею? Нет сомнения, что каждому соблазнительна и лестна попытка доказать, что столетия и ученые авторитеты ошибались и врали чепуху, а что он один нашел слово истины. Во всяком случае, может быть, дело и не совсем бесполезное. Истина историческая, как и многие другие истины, не рождается в наше время в полном облачении, как родилась мудрость из больной головы Юпитера. Ныне истина добывается не так легко: она — часто многотрудная переработка, переплавка очищенных заблуждений, устаревших ошибок, предубеждений, суеверных предрассудков. А чтобы кончить с сим вопросом, позволим себе еще одно замечание: большой прибыли нам не будет, ежели даже откроются новые источники, новые достоверные и неопровержимые справки (чего теперь нет), по коим покажется как дважды два четыре, что Нестор ошибался или худо был понят, что ошибались и Шлецер и Карамзин. Мы теперь живем не младенческою жизнью, а жизнью уже взрослою и закаленною на огне событий. Как бы то ни было, мы столетиями и подвигами завоевали право называться русскими. И это право давно признано Европою, не безызвестно и Азии. Что же касается до утверждения отечественного прозвища нашего по восходящей линии вплоть до безыменных и баснословных праотцев наших, то в этом нет насущной и неотлагаемой потребности. Признаюсь, по мне, тут кстати сказать: кто ни поп, тот и батька; или кто ни батька, тот и поп. Был бы только приход цел и богохраним: вот это главное.
Незаметным для себя образом и увлекаясь течением мыслей наших, мы немного, и даже много, удалились от задачи, первоначально себе поставленной. Мы хотели вставить в определенную раму уголок из нашей общественной жизни и олицетворить его изображением личности, которая в свое время занимала не последнее место на сцене общежития нашего. Оказывается, что мы в очерке своем значительно перешли объем этой рамы, В извинение себе за подобное своеволие, мы прикрываем археографическое отступление свое (пожалуй, настоящий hors d'euvre) знаменитым сарафаном княгини на бале московского Дворянского собрания! Под этим нарядом и знаменем она без большого труда может вместиться в раздвижную раму нашу. Более того: мы даже уверены, что любезная тень ее не посетует на нас за то, что мы помянули о ней добрым словом в такой неженской и полемической обстановке.
Приписка. Когда в памяти нашей пробуждаются очерки, личностей, с которыми мы на веку своем встречались, живали и бывали в отношениях более или менее близких, мы всегда чувствуем желание — более того: потребность — уловить эти мелькающие призраки, эти в нас еще живые предания минувшего: мы хотим прикрепить их к бумаге. Успеваем ли в попытках своих, этот вопрос решить не нам. Но нам сдается, что на нас как будто лежит обязанность быть одним из хранителей и кустодов дел давно минувших лет и преданий старины глубокой, но еще свежей и не онемевшей в воспоминаниях наших.
За неимением кисти Ван-Дейка мы вырезываем на скорую руку силуэтки, которые со временем могут и пригодиться. Успел же знаменитый естествоиспытатель Кювье наблюдениями своими воссоздать по мелким обломкам остовов целые поколения существ, уже с незапамятного времени сошедших с лица земли, и распределить их в методическом и стройном порядке. Почему не надеяться, что и будущий русский Кювье-роман ист или историк нашего общежития не проследует по разбросанным очеркам нашим ход, правдивые положения и обстановку русского общества в периоде, который мы беглым взглядом окидываем? На будущее всегда позволительно уповать; но вместе с тем в настоящем зарождается в нас грустное чувство и сетование, что романисты наши, драматурги, так называемые нравоиспытательные публицисты наши, вообще столь мало знакомы с достоверными и, так сказать, олицетворенными преданиями русского общества. Вследствие невольного неведения (не хотим и думать о вольном и предумышленном) они бессознательно и не правдиво изображают это общество с самых неблаговидных сторон: они размалевывают картину свою резкими, неприятными и к тому же фантастическими красками. Одним словом, они клеплют на общество наше, чтобы не сказать — клевещут. Под их очерками оказывается, будто наше общество (разумеется, и с их стороны и с нашей речь идет о высшем обществе) было, если не есть и поныне, до крайности бесцветно, тщедушно, худосочно, малокровно. Если верить им, мышцы его дряблы: в нем нет ни твердости воли, ни способности действия. Существа, образующие это общество, не люди, а какие-то раскрашенные нарядные куклы. Едва ли оно так. Не спорим, что можно подсмотреть в нем многие недостатки; например, недостаток зрелой серьезности, упирающейся на почву, возделанную и обработанную постоянными и долговременными трудами. Просвещение наше, образованность наша, то есть цивилизация, в некоторых отношениях несколько поверхностны: они не вошли в нашу кровь и в нашу плоть, а более в привычки наши. Но спасибо и за это. Мы довольствуемся энциклопедическими сведениями: в нас мало специальности, потому что в нас нет долготерпения. G удивительным чутьем, с тонким и возвышенным сочувствием, с быстротою и ловкостью мы много хорошего и прекрасного уловляем на лету, а мало что добываем в поте лица, труда и науки. Но едва ли все эти недостатки не окажутся, при ближайшем исследовании, первородными грехами нашими, то есть свойствами и условиями истории нашей.
«И мимоидый виде человека слепа от рождества; и вопросиша Его ученицы Его, глаголюше: Равви, кто согреши, сей ли, или родители его, яко слеп родися? Отвеща Иисус: ни сей согреши, ни родители его, но да явятся дела Божия на нем».
История народа есть истинно глас Божий над ним.
Так или сяк, куда и откуда ни пересаживай генеалогическое дерево наше, но все же мы славяне, славянами родившиеся или в славян переродившиеся. Как ни увертывайся, а есть в нас доля благородной, добродушной и милой беззатейливости, прирожденной славянской натуре. «Гром не грянет, мужик (русский человек) не перекрестится». Эту поговорку выдумали не мы и не грамотеи, а мы подслушали ее опять-таки из уст самой истории. Нам не тягаться с доками - германцами. Пожалуй, мы иногда и перегоним их, но все же не догоним. Не I должно также терять из виду еще одно историческое обстоятельство. Провидение в одно прекрасное утро послало нам на должность воеводы, дядьки и учителя — богатыря, который был маленько горяч и скор и крепок на руку. Почву свою он не обсеменял в ожидании будущих благ. Он ждать не любил и не умел. Желуди были не по нем: давай ему сейчас дубняк. Вот он и стал целиком и живьем пересаживать его на обширных пространствах своей возлюбленной вотчины. И мы все — большие и малые, особенно большие, и старые и молодые, вольные и невольные — возросли и обжились под этим импровизированным дубняком. Кажется, князь Цицианов, известный поэзиею рассказов, говорил, что в деревне его одна крестьянка разрешилась от долгого бремени семилетним мальчиком, и первое слово его, в час рождения, было: «Дай мне водки!» Может быть, и мы начали пропитание свое не с молока матери, а прямо с водки. Как бы то ни было, но если упрекать высшее общество наше в недостатке, скажем опять, серьезности (за неимением другого слова под пером), усидчивости, духовной возмужалости, то в каких других общественных слоях наших найдем мы живые и поразительные улики в свойствах и качествах, которые могли бы пристыдить это высшее общество в легкомыслии его, недозрелости и в умственной и нравственной несостоятельности? Скажем беспристрастно и по совести, что все эти нарекания и междоусобные неприязненные притязания, оглашаемые некоторою частью печати нашей, неосновательны, несправедливы и неблаговидны. Высшее общество наше имеет в таком случае полное право сказать нашей печати: не вам бы говорить, не мне бы слушать.
189*
И.Б.Пестель[32], в звании петербургского почт-директора и президента главного почтового правления при императоре Павле, пользовался особенным благоволением его и доверенностью. Граф Растопчин, род первого министра, в то время был недоволен этим. Не любил ли он Пестеля, имел ли причину не любить, забывался ли пред ним Пестель при счастии своем и, может быть, в ожидании и надежде на счастье еще более возвышенное, опасался ли его Растопчин как соперника, который рано или поздно может победить его, или просто не доверял он искренности, преданности его к государю, — все это остается неразъясненною тайною. Но вот какую западню устроил Растопчин против Пестеля. Он написал письмо от неизвестного, который уведомляет приятеля своего за границею в заговоре против императора и входит в разные подробности по этому предмету; в заключение говорит он: «Не удивляйтесь, что пишу вам по почте; наш почт-директор Пестель с нами». Растопчин приказал отдать письмо на почту, но так (неизвестно, каким способом), что письмо должно было непременно возбудить внимание почтового начальства и быть передано главноуправляюшему для перлюстрации. Граф Растопчин хорошо знал характер императора Павла, но хорошо знал его и Пестель. Он не решился показать письмо императору, который по мнительности и вспыльчивости своей не дал бы себе времени порядочно исследовать достоверность этого письма, а тут же уволил бы его или сослал. Граф Растопчин также все это сообразил и с большою надеждою на удачу. Несколько дней спустя, видя, что Пестель утаивает письмо, доложил он государю о ходе всего дела, объясняя, разумеется, что единственным побуждением его было испытать верность Пестеля и что во всяком случае повергает он повинную голову свою пред его величеством. Государь поблагодарил его за прозорливое усердие к нему. Участь Пестеля решена: прекращены дальнейшие успехи его, по крайней мере на все настоящее царствование; он уволен от занимаемого им места. Но этим не довольствуется торжество Растопчина. Он был ума насмешливого, и ему захотелось еще пошутить над жертвою своею, так сказать подурачить ее. До сообщения Пестелю именного повеления, он приглашает его к себе на обед. Тот, обольщенный успехами своими, является к обеду впопыхах и с некоторою самоуверенностью. Хозяин расточается пред гостем своим в особенных вежливостях и ласках. Пестель при этом думает, что Растопчин начинает опасаться его и хочет задобрить. Он проговаривается и двусмысленными словами указывает на виды свои в будущем. Возвратившись домой от обеда, находит он официальную бумагу, вовсе не согласную с розовыми мечтаниями честолюбия его. (Слышано от Карамзина.)
Вот какие разыгрываются водевили, а иногда и драмы на скользкой сцене честолюбивых замыслов и столкновений. Граф Растопчин был человек страстный, самовластный. При всей образованности, которая должна была укрощать своевольные порывы, он часто бывал необуздан в увлечениях и действиях своих. Но он не был зол, хотя, может быть, был несколько злопамятен. Дружба его с доблестным князем Цициановым, уважение к Суворову, позднее постоянно приятельские сношения с Карамзиным, благоговейная признательность к памяти императора Павла, благодетеля своего, а во время служения при нем — искренность в изложении мнений своих, искренность, доходившая иногда до неустрашимости и гражданского геройства, — все это доказывает, что он способен был питать в себе благородные и возвышенные чувства.
190
Говорили об интересном и несколько двусмысленном положении молодой ***... «А муж ее, — сказала одна из ее приятельниц, — так глуп, что он даже не слыхал, что жена его беременна».
191*
Князь Андрей Кириллович Разумовский был в молодости очень красивый мужчина и славился своими счастливыми любовными похождениями, то есть благородными интригами, как говорится у нас в провинции и как говорилось еще и недавно в наших столицах. Он был назначен посланником в Неаполь. В то время неаполитанскою королевою была Каролина, известная красавица и не менее известная своими благородными, а может быть, и инородными, интригами. Долгое время фаворитом ее был ирландец Актон, а фавориткою леди Гамильтон, тоже известная в хронике любовных происшествий. После официального представления королеве граф Разумовский распустил по городу слух, что удивляется обшей молве о красоте ее, что он не видит ничего в ней особенного. Этот слух, разумеется, дошел до королевы: он задрал за живое женское и царское самолюбие. Опытный и в сердечной женской дипломатике, Разумовский на это и рассчитывал. Чрез месяц он был счастлив. (Рассказано графом Косаковским.)
Граф Разумовский был очень горд. Однажды на эрмитажном спектакле Павел Петрович подзывает Растопчина и говорит ему: «Поздравь меня; сегодня мне везет: Разумовский первый поклонился мне». (Слышано от графа Растопчина.)
Я познакомился с Разумовским (уже князем) в Вене в 1835 г.; он был уже стар, но видны были еще следы красивости его. Он показался мне очень приветлив и обхождения простого и добродушного, что, впрочем, заметил я за несколько лет перед тем и в брате его, графе Алексее Кирилловиче, который также слыл некогда гордецом. J'etais jeune et superbe[33] — могли сказать они с поэтом. Но жизнь присмирила их. Можно еще постигнуть молодого гордеца: тут есть чем похвастаться, когда есть молодость прекрасная, цветущая и к тому же еще одаренная разными преимуществами. Но что может быть жалче и глупее старого гордеца? Старость не порок, а хуже: она немощь и недуг. Пожалуй, стыдиться ее не для чего, но и похвалиться нечем. Граф Разумовский имел свой собственный великолепный дом в Вене и жил в нем по-барски. Город этот был совершенно по нем, и в нем оставался он до самой кончины своей, уважаемый и любимый венским аристократическим обществом, что дело не легкое и не всякому удается. Венское общество славилось всегда блеском своим, общежительством, но более между собою, и было довольно исключительно и недоступно для иностранцев и разночинцев, своих и чужеземных. Царский конгресс 1814 г., род политического вселенского собора, не мог выбрать в Европе лучше сцены для своих лицедеев и действий. Утром занимались делами, ворочали и переворачивали Европу;вечером присутствовали на великолепных праздниках и балах. Старый принц де-Линь, любезный и любимый собеседник и попутчик Екатерины Великой, доживший до конгресса, говорил: «Конгресс пляшет, но не подвигается вперед». Император Александр и министр его Разумовский достойно разыгрывали роли свои на этом театре, собравшем в одну группу все, что Европа имела блестящего и высокопоставленного. Венский конгресс мог в своих переговорах и прениях обмолвиться не одною ошибкою; но все же он был важное и занимательное историческое событие в европейских летописях. Наши политические недоброжелатели, чтобы не сказать враги, остались недовольны этим конгрессом, и в продолжение многих лет они напрягали все свои силы и козни, чтобы ослабить и уничтожить последствия его. Равно вооружались они, из неприязни к нам, и против Священного союза. Все эти враждебные усилия и постоянные, так сказать, злоумышления не доказывают ли, что в сущности, за исключением частных промахов и ошибок, была в этой политике и в основе ее, положенной Александром I, и своя доля пользы и первенствующей власти для России? Не из любви же к нам недоброжелатели наши так усердно, упорно и горячо работали, чтобы потрясти и окончательно ниспровергнуть создание рук императора Александра. А наши недальновидные, невинные журнальные политиканы туда же лезут за европейскими крикунами и с негодованием и ужасом порицают политику Александра I. Легко пересуживать задним числом попытки, действия и события минувшего! Не должно забывать, что провидение, что история имеют свои неожиданные крутые повороты, свои coup d'etat [государственный переворот] и coup de theatre [театральный эффект), которые озадачивают и сбивают с панталыку всякую человеческую мудрость. То, что казалось полезным и нужным в известное время, может в силу непредвидимых и неподлежащих человеческой видимости обстоятельств принять в другое время совершенно противоположный оборот.
В проезд мой через Вену жила у деверя своего графиня Мария Григорьевна Разумовская, вдова брата его, графа Льва Кирилловича. Она меня и представила хозяину дома. На прощанье граф посоветовал мне ехать на Прагу. «Она напомнит вам нашу Москву», — сказал он.
Граф Лев Кириллович был также замечательная и особенно сочувственная личность. Он не оставил по себе следов и воспоминаний ни на одном государственном поприще, но много в памяти знавших его. Отставной генерал-майор, он долго жил в допотопной или допожарной Москве, забавлял ее своими праздниками, спектаклями, концертами и балами как в доме своем на Тверской, так и в прекрасном своем загородном Петровском. Он был человек высокообразованный: любил книги, науки, художества, музыку, картины, ваяние. Едва ли не у него первого в Москве был зимний сад в доме. Это смешение природы с искусством придавало еще новую прелесть и разнообразие праздникам его. Брат его, граф Алексей Кириллович, имел в то время в Горенках замечательный и богатый ботанический сад, известный в Европе, и при нем равно известного и ученого ботаника Фишера, Москва в то время славилась не одним барством, а барство славилось не одною азиатскою пышностью. Граф Лев Кириллович был истинный барин в полном и настоящем значении этого слова: добродушный и утонченно вежливый, любил он давать блестящие праздники, чтобы угощать и веселить других. Но вместе с тем дорожил он ежедневными отношениями с некоторыми избранными: графом Растопчиным, Карамзиным, князем Андреем Ивановичем Вяземским[34], князем Андреем Петровичем Оболенским, графом Михаилом Юрьевичем Вьельгорским и другими. Сверх того у него были тесные связи с передовыми и старостами масонства. В молодости был он большой сердечкин и волокита. Дмитриев рассказывал, что на дежурства на петербургских гауптвахтах ему то и дело приносили, на тонкой надушенной бумаге, записки, видимо написанные женскими руками. Спешил он отвечать на них на заготовленной у него также красивой и щегольской бумаге. Таким образом упражнялся он и утешал себя в душных и скучных стенах не всегда опрятной караульни. Позднее влюбился он в княгиню Голицыну, жену богача, которого прозвали в Москве cosa rara. Она развелась с мужем и обвенчалась с графом Разумовским. Он страстно любил ее до самой кончины своей. Брак, разумеется, не был признан законным, то есть не был официально признан; но семейством графа, то есть Разумовскими, графом Кочубеем, Наталией Кирилловной Загряжской, Мария Григорьевна была принята радушно и с любовью. Дядя графа, фельдмаршал граф Гудович, был в Москве генерал-губернатором. В один из приездов императора Александра дядя, вероятно, ходатайствовал перед его величеством за племянника и племянницу. На одном бале в наместническом доме государь подошел к Марье Григорьевне и громко сказал: «Madame la comtesse, voulez vous me faire 1'honneur de danser une polonaise avec moi?»[35] С той минуты она вступила во все права и законной жены, и графского достоинства. Впрочем, общество как московское, так и петербургское, по любви и уважению к графу и по сочувствию к любезным качествам жены, никогда не оспаривало у нее этих прав.
Граф Лев Кириллович, или, как обыкновенно звали его в обществе, Lе comte Leon [граф Леон], был в высшей степени характера благородного, чистейшей и рыцарской чести, прямодушен и простодушен вместе. Хозяин очень значительного имения, был он, разумеется, плохой хозяин, как подобает или подобало русскому барству. Вопреки изречению Евангелия, у нас кому много дано, у того много и отпадает. Те у кого мало, имеют еще надежду, да и к тому же умение, округлить это малое. Граф был любезный говорун. При серьезном выражении лица и вообще покойной осанке (как иначе перевести выразительное слово tenue?) он часто отпускал живое, меткое, забавное слово. Он несколько картавил. Даже вечный насморк придавал речи его особенный и привлекательный диапазон: по крайней мере таково мое детское впечатление, уцелевшее и поныне. Я лет десяти особенно внимательно вслушивался в разговор его, когда он навещал отца моего, с которым был очень дружен. Детство восприимчиво и впечатлительно. Помню, как будто видел это вчера, сани его, запряженные парою красивых коней и светлой белизны покрывало, которым был обтянут передок саней. Малороссийский гайдук в большой меховой шапке стоял на запятках. Граф, войдя в первую комнату, бросал ловко и даже грациозно большую меховую муфту свою. Проходя мимо, он всегда приветствовал меня приветливым и веселым словом. Позднее удостаивался я и приязни его. Большое счастье для сына быть обязанным отцу своему доброжелателями, так сказать, по наследству, которые сохраняют прежние связи свои с умершими в лице их детей.
В воспоминаниях детства моего встречаюсь и с графинею Разумовскою, в то время еще княгинею Голицыною. С чуткою и бессознательною догадливостью бедовых детей (enfants terribles) скоро подметил я, что за муфтою графа не замешкает явиться и княгиня, или за княгинею немедленно покажется и муфта. Я всегда так и караулил эти неминуемые, одно за другим последовательные, явления. Она в молодости своей пела очень мило; впрочем, и до конца была любительницею и ценительницею хорошей музыки. Однажды задрала она за живое стихотворческое и русское самолюбие Нелединского. Пропев романс Ханыкова: «Quand sur les ailes des plaisirs» и пр.[36], графиня сказала Нелединскому: «Вот никак не передать этих слов на русский язык». На другой день привез он ей свой прелестный перевод. — Помню, как она меня, ребенка, учила петь следующий куплет:
Enfant cheri des dames, Je fus en tout pays Fort bien avec les femmes, Mai avec les man's[37].
Есть имена, которые, раз попавшись под перо, невольно вовлекают его в дальнейшие подробности. Имя гр. Разумовской принадлежит этому разряду. Она в некоторых отношениях едва ли имела много себе подобных. Во-первых, знавшие ее с молодых лет говорили, что она хорошела с годами, т.е. разумеется — до известного возраста. В летах полной зрелости, и даже в летах глубокой старости, она могла дать о себе понятие, что была некогда писаною красавицею, чего, говорят, никогда не было. Во-вторых, позднее, пережила она всех сверстников и свое современное поколение; пережила многих и из нового, так что мафусаиловские года ее оставались головоломною задачею для охотников до летосчисления. Долго по кончине графа, мужа своего, предавалась она искренней и глубокой скорби. Глаза ее были буквально двумя источниками непрерывных и неистощимых слез. Для здоровья ее, сильно пострадавшего от безутешной печали, присоветовали ей съездить на время в чужие края. Там мир новых явлений и впечатлений, новая природа, разнообразие предметов, а, вероятно, более всего счастливое сложение натуры и характера ее взяли свое. Она в глубине души осталась верна любви и воспоминаниям своим, но источник слез иссяк: траур жизни и одеяний переменился на более светлые оттенки. Она не забыла прежней жизни своей, но переродилась на новую. Париж, Вена приняли ее радушно: дом ее сделался опять гостеприимным. Русские, особенно богатые, имеют дар привлекать иностранцев; к тому же иностранцы умеют ценить благовоспитанность и дорожат ею. А должно признаться, что русские дамы высшего общества, в нем рожденные, в нем взросшие, чуждающиеся излишней эмансипации и не гоняющиеся за эксцентричностью (два слова и два понятия нерусского происхождения), умеют поставить себя везде в отношения благоприятные и внушающие уважение. Г-жа Жирарден в известных остроумных парижских письмах своих, печатаемых за подписью виконта де-Лоне, упоминает о графине Разумовской и ее парижском салоне. Благодарный Карлсбад посвятил ей памятник: она была на водах душою общества и хороводицею посетителей и посетительниц этого целительного уголка. Почин прогулок, веселий, праздников ей принадлежал. Такую власть иначе приобрести нельзя, как образованностью, навыком утонченного общежития, вежливыми приемами и привычками, которые делаются второю натурою.
По возвращении своем в Россию она тотчас устроила положение свое в Петербурге и заняла в обществе подобающее ей место. Дом ее сделался одним из наиболее посещаемых. Обеды, вечеринки, балы — зимою в городе, летом на даче — следовали непрерывно друг за другом. Не одно городское общество, но и царская фамилия были к ней благоприятно расположены. Император Николай и государыня Александра Феодоровна были к ней особенно милостивы и удостаивали праздники ее присутствием своим. И ее принимали они запросто в свои немноголюдные собрания. Великий князь Михаил Павлович, который любил шутить и умел вести непринужденный и веселый разговор, охотно предавался ему с графинею. Все это, разумеется, утешало и услаждало ее светские наклонности. Но, при всей любви своей к обществу, соблазнам и суетным развлечениям его, она хранила в себе непочатый и, так сказать, освещенный уголок, предел преданий и памяти минувшего. Рядом с ее салонами и большой залою было заветное, домашнее, сердечное для нее убежище. Там была молельня с семейными образами, мраморным бюстом Спасителя, работы знаменитого итальянского художника, с неугасающими лампадами и портретом покойного графа. Кто знает, какие думы, какие чувства сосредоточивались в ней, когда входила она в эту домашнюю святыню и пребывала в ней в молитве и с глазу на глаз с сердечной памятью своею? Она не любила рисоваться, не любила облекать себя в назидательную наружность: в ней не было и тени притворства; не было ни желания, ни умения прикрывать свои невинные слабости личиною умышленной и обдуманной внешности. Напротив, она скорее была склонна как бы хвалиться своими слабостями: не по летам моложавостью нрава своего, нарядов, обычаев, жадностью (доходившей до слабости) светских развлечений, веселий и вечно суетного движения. Но нет, она и тут не хвалилась: она ничем не хвалилась, а была таковою бессознательно, неприметно для себя самой, единственно потому, что натура таковою создала ее. Она была правдивая, чистосердечная личность. Общественное строгое суждение, насмешливое злоречие обезоруживались и немели пред нею. То, что могло бы казаться смешным в другой, находило везде не только снисхождение, но и сочувствие. Все были довольны, что она была довольна; все тому радовались, что ей было радостно и весело. Личности, одаренные такими свойствами и способностями, бывают в обществе столь редкие исключения, так много встречаешь людей скучающих жизнью, не умеющих ужиться с нею, жалующихся на нее, что невольно отдохнешь, когда попадается на глаза светлое изъятие из этой почти поголовной неуживчивости и брюзгливости. Говоря о слабостях ее, нельзя не указать особенно на одну из них, совершенно женскую, а именно на страсть ее к нарядам. Когда в 1835 году в Вене собиралась она возвратиться в Россию, просила она проезжавшего чрез Вену приятеля своего, который служил в Петербурге по таможенному ведомству, облегчить ей затруднения, ожидавшие ее в провозе туалетных пожитков. «Да что же намерены вы провезти с собою?» — спросил он. «Безделицу, — отвечала она: — триста платьев». Она была неутомительна в исправлении визитов: лошади ее не пользовались синекурою, а зарабатывали свой овес в труде и поте. Рассказывали в городе, что у нее была соперница по этой части, и когда кучера той и другой съезжались где-нибудь, то они один перед другим высчитывали и хвастались, сколько в течение утра сделали они визитов с своими барынями.
На этом фотографическом снимке не можем мы и не хотим кончить наше памятование о графине Разумовской. Прибавим еще несколько очерков. Она была отменно добра, не только пассивно, но и деятельно. Все домашние и близкие любили ее преданною любовью. Много добра и милостей совершала она без малейшего притязания на огласку. Она была примерная родственница и охотно делила богатство свое с родственниками и дальними, нуждающимися в пособии. Брату своему, князю Николаю Григорьевичу Вяземскому, подарила она свой великолепный дом на Тверской, обратившийся после в помещение Английского клуба. Свойство, а может быть, и погрешность, аристократического круга есть ограничение, суживание этого круга до самой тесной исключительности. Этого правила и обычая не держалась она: на балах и раутах ее в Петербурге встречались лица, часто совершенно незнакомые высшему петербургскому обществу. В присутствии царских особ, в наплыве всех блестящих личностей туземных и дипломатических, были ласково принимаемы ею и дальние родственники, приезжие из провинции. На это нужна была некоторая независимость и смелость, и сердечная доброта ее выказывала открыто эту независимость и смелость. Ей очень хотелось ехать в Париж на выставку 1861 года. Она, не слишком бережливая на расходы, скопила и отделила нужную сумму на совершение этой поездки, не теряя, вероятно, из виду освежить и наполнить свой туалетный пакгауз если не в численности венского счета, нами выше упомянутого, то все же в почтенном размере. Срок отъезда приблизился, а она не ехала. Я спросил ее: когда же она едет? Она отвечала неопределенно. Что же оказалось?
Сбереженным ею деньгам для увеселительной прогулки дала она другое назначение: узнав, что один из молодых родственников ее много задолжал и находится в нужде, она, долго не думая, употребила эти деньги на уплату долгов его. Такая черта была бы замечательна и прекрасна в каждом; но со стороны ее, которую обыкновенно почитали женщиною легкомысленною и беспредельно преданною развлечениям и соблазнам светским и которая в самом деле была такова, этот поступок имеет все свойства жертвы благочестивой и почти героической.
Вот чем довершу памятную записку свою о графине Марии Григорьевне Разумовской, которую все любили, но не все знали. Под радужными отблесками светской жизни, под пестрою оболочкою нарядов парижских нередко таятся в русской женщине сокровища благодушия, добра и сердоболия. Надобно только иметь случай подметить их и сочувственное расположение, чтобы их оценить и воздать им должную признательность.
В заключение светлых воспоминаний о семействе графов Разумовских приведем одно довольно мрачное воспоминание. Один из сыновей графа Алексея Кирилловича был в первых годах столетия заключен в суздальский Спасо-Ефимиев монастырь. Монастырь этот, не знаю с которого времени и по какому поводу, был и обителью благочестивых иноков, и какою-то русскою Бастилиею, в которую административными мерами ссылали преступников или провинившихся особенного разряда. Молодой граф был, без сомнения, не в нормальном умственном положении. Говорили, что учение иллюминатов вскружило ему голову за границею, что вследствие этого он предавался иногда увлечению диких страстей и совершал поступки, нарушающие законное и общественное благочиние. Замечательно, что сам отец слыл усердным, высокопоставленным членом в иерархии мартинистов. Пример его, может быть, пагубно подействовал на сына. Рассказывали, что молодой граф, ехавший по большой дороге в России, выстрелил в коляске из пистолета в ямщика, сидевшего на козлах. Все эти слухи, за достоверность коих не ручаемся; но дело в том, что он сидел в монастыре — и вовсе не по благочестивому призванию и не по доброй воле. В 1809 году, или около того, сенатор Петр Алексеевич Обрезков ревизовал Владимирскую губернию. Был он и в Суздале с чиновниками своими, был и в помянутом монастыре (в числе этих чиновников был и Алексей Перовский, будущий автор Монастырский). Это было в воскресный день. Архимандрит после обедни пригласил нас всех на завтрак или на закуску. В келье его нашли мы еще довольно молодого человека, прекрасной, но несколько суровой, наружности: лицо смуглое, глаза очень выразительные, но выражение их имело что-то странное и тревожное, волоса черные и густые. Одет он был в какой-то халат, обшитый, кажется, мерлушкою; на руке пальцы обвиты были толстой проволокою, вместо кольцев. Это был граф Разумовский, отрасль знатной фамилии, рожденный быть наследником значительного имения, по рождению своему и обстоятельствам призванный и сам занять в обществе блистательное и почетное место. Когда приступили мы к завтраку, граф с приметным удовольствием и жадностью бросился на рюмку водки, которую поднесли ему. Архимандрит говорил, что затворник всегда ждал с нетерпением этой минуты, которая повторялась только по воскресеньям и праздничным дням. Не помню, по какому поводу зашла речь об аде и о наказаниях, которым грешники в нем подвержены. Граф вмешался в разговор и сказал, что наказание их будет в том состоять, что каждый грешник будет видеть, беспрерывно и на веки веков, все благоприятные случаи, в которые мог бы он согрешить невидимо и безнаказанно и которые пропустил он по оплошности своей. Мысль довольно замысловатая. Не помню, есть ли что подобное ей в Божественной Комедии Данте; но эта кара могла бы занять не последнее место в адовой уголовной статистике великого поэта.
Вот еще просится под перо одно воспоминание из того же времени, из той же поездки и также по монастырской части. При выезде из Казани сенатора Обрезкова и жены его, Елисаветы Семеновны (которая была прославлена и обессмертена прекрасными стихами Нелединского), большая часть избранного казанского общества провожала нас до города Свияжска. Там ожидал нас напутственный завтрак. В числе встречавших нас был и архимандрит. И вот какая встреча тут случилась. Архимандрит вглядывается в молодого человека из провожателей: тот пристально вглядывается в архимандрита. Наконец архимандрит узнает в молодом человеке Чемесова (сына богатого казанского домовладельца и помещика), которого он, во время служения своего квартальным в царствование императора Павла, по повелению его, вывез из Петербурга. Эта драматическая, водевильная встреча очень нас всех позабавила.
192*
...Фрожер[38] был искусный мистификатор. Этому слову нет соответственного у нас. Мистификация не просто одурачение, как значится в наших словарях. Это, в своем роде, разыгрывание маленькой домашней драматической шутки. В старину, особенно во Франции — а следовательно, и к нам перешло, — были, так сказать, присяжные мистификаторы, которые упражнялись и забавлялись над простодушием и легковерием простяков и добряков. Так, например, Фрожер, мастер гримироваться и переряжаться не только пред лампами и освещением сцены, но и днем и запросто в комнате, бывал представляем в разные салоны под видом то врачебной европейской знаменитости, приехавшей в Петербург, то под известным именем какого-нибудь англичанина или немца и так далее. До конца вечера разыгрывал он невозмутимо принятую на себя роль. В обществе находились доверчивые простачки. Легко вообразить, какие выходили тут забавные недоразумения и qui pro quo (прошу покорнейше и это слово перевести по-русски).
В Париже был литератор Поансине (Poinsinet). По необыкновенной доверчивости своей был он мишенью всех возможных мистификаций. Однажды уверили его, что король хочет приблизить его ко двору и назначить придворным экраном (ширмы, щит перед камином). Поансине поддался на эту ловушку, несколько дней сряду стоял близехонько перед пылающим камином и без милосердия жарил себе икры, чтобы приучить себя к новой должности своей. Милый и незабвенный наш Василий Львович Пушкин был в своем роде наш Поансине. Алексей Михайлович Пушкин, Дмитриев, Дашков, Блудов и другие приятели его не щадили доверчивости доброго поэта. Однажды, несмотря на долготерпение свое, он решился, если смеем сказать, огрызться прекрасным, полным горечи стихом:
Их дружество почти на ненависть похоже.
Алексей Перовский (Погорельский) был позднее удачный мистификатор. Он однажды уверил сослуживца своего (который после сделался известен несколькими историческими сочинениями), что он великий мастер какой-то масонской ложи и властью своею сопричисляет его к членам ее. Тут выдумывал он разные смешные испытания, чрез которые новообращенный покорно и охотно проходил. Наконец, заставил он его расписаться в том, что он бобра не убил.
Перовский написал амфигури (amphigouri) — шуточную, веселую чепуху. Вот некоторые стихи из нее:
Авдул- визирь
На лбу пузырь
И холит и лелеет;
А Папий сын,
Взяв апельсин, —
уж не помню что из него делает. Но такими стихами написано было около дюжины куплетов. Он приносит их к Антонскому, тогдашнему ректору университета и председателю Общества любителей словесности, знакомит его с произведением своим и говорит, что желает прочесть стихи свои в первом публичном заседании общества. Не должно забывать, что в то время граф Алексей Кириллович Разумовский был попечителем Московского университета или уже министром народного просвещения. Можно вообразить себе смущение робкого Антонского. Он, краснея и запинаясь, говорит: «Стишки-то ваши очень-то милы и замысловаты-то; но, кажется, не у места читать их в ученом собрании-то»[39]. Перовский настаивает, что хочет прочесть их, уверяя, что в них ничего противуценсурного нет. Объяснения и пререкания продолжались с полчаса. Бедный Антонский бледнел, краснел, изнемогал чуть не до обморока.
А вот еще проказа Перовского. Приятель его был женихом. Вотчим невесты был человек так себе. Перовский уверил его, что и он страстно влюблен в невесту приятеля своего, что он за себя не отвечает и готов на всякую отчаянную проделку. Вотчим, растроганный и перепуганный таким признанием, увещевает его образумиться, одолеть себя. Перовский пуще предается своим сетованиям и страстным разглагольствиям. Вотчим не отходит от него, сторожит и не спускает его с глаз, чтобы вовремя предупредить какую-нибудь беду. Это продолжается с неделю и более. Раз все семейство гуляет в саду. Вотчим идет рука под руку с Перовским, который продолжает нашептывать ему свои жалобы и отчаянные признания; наконец, вырывается из рук его и бросается в пруд, мимо которого они шли. Перовский знал, что этот пруд был не глубок и не боялся утонуть; но пруд был грязный и покрыт зеленою тиною. Надобно было видеть, как вылез он из него зеленою русалкою и как Ментор ухаживал за своим злополучным Телемаком: одел его своим халатом, поил теплою ромашкою и так далее, и так далее.
Другой проказник мистификатор читает в Петербургских Ведомостях, что такой-то барин объявил о желании иметь на общих издержках попутчика в Казань. На другой день, в четыре часа поутру, наш мистификатор отправляется по означенному адресу и велит разбудить барина. Тот выходит к нему и спрашивает, что ему угодно. «А я пришел, — отвечает он, — чтобы извиниться и доложить вам, что я на вызов ваш собирался предложить вам товарищество свое, но теперь, по непредвидимым обстоятельствам, раздумал ехать с вами и остаюсь в Петербурге. Прощайте: желаю вам счастливого пути!»
Кажется, этот мистификатор чуть не был ли сродни Перовскому.
193*
Когда образовалось Арзамасское общество, пригласили и В.Л.Пушкина принять в нем участие. При том его уверили, что это общество — род литературного масонства и что при вступлении в ложу нужно подвергнуться некоторым испытаниям довольно тяжелым. Пушкин, который уже давно был настоящим масоном, легко и охотно согласился на все предстоящие искушения. Тут воображение Жуковского разыгралось. Он был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! При натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залоги карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острой замысловатостью. Прием Пушкина вдохновил его. Он придумал и устроил разные мытарства, чрез которые новобранец должен был пройти. Тут пошли в дело и символ, и Липецкие Воды Шаховского, и Расхищенные Шубы его, и еще Бог весть что. Барыня-Арзамас требует весь туалет: вот вся славянофильская Беседа заочно всполошилась, вспрыгнула с усыпительных кресел и прибежала или притащилась на крестины новорожденного арзамасца. Приводим здесь речи, которые были произнесены при этом торжественном обряде. Они познакомят непосвященных и несведущих с арзамасскими порядками. Много было тут шалости и, пожалуй, частью и вздорного; но не мало было и ума и веселости. В старой Италии было множество подобных академий, шуточных по названию и некоторым обрядам своим, но не менее того обратившихся на пользу языка и литературы. Может быть, и Арзамас, хотя недолго просуществовавший, принес свою долю литературной пользы. Во-первых, это было новое скрепление литературных и дружеских связей, уже существовавших прежде между приятелями. Далее, это была школа взаимного литературного обучения, литераторского товарищества. А главное, заседания Арзамаса были сборным местом, куда люди разных возрастов, иногда даже и разных воззрений и мнений по другим посторонним вопросам, сходились потолковать о литературе, сообщить друг другу свои труды и опыты и остроумно повеселиться и подурачиться.
Речи, читанные при приеме в Арзамасское общество Василия Львовича Пушкина
Какое зрелище пред очами моими? Кто сей обремененный толикими шубами страдалец? Сердце мое говорит, что это почтенный В.Л. Пушкин; тот Василий Львович, который снисшел с своею музою, чистою девою Парнасса, в обитель нечистых барышень покушения, и вывел ее из сего вертепа неосрамленною, хотя и близок был сундук[40]; тот Василий Львович, который видел в Париже не одни переулки[41], но г, Фонтаня и г. Делиля; тот В.Л., который могуществом гения обратил дородного Крылова в легкокрылую малиновку. Все это говорит мне мое сердце. Но что же говорят мне мои очи? Увы! Я вижу пред собою одну только груду шуб. Под сею грудою существо друга моего, орошенное хладным потом. И другу моему не жарко. И не будет жарко, хотя бы груда сия возвысилась до Олимпа и давила его как Этна — Энцелада. Так точно! Сей В.Л. есть Энцелад: он словно вооружился против Зевеса-Шутовского и пустил в него утесистый стих, раздавивший ему чрево[42]. Но что же? Сей издыхающий Зевес наслал на него, смиренно пешешествующего к Арзамасу, метель Расхищенных Шуб. И не спасла его девственная Муза, Матерь Буянова. И лежит он под страшным сугробом шуб прохладительных[43]. Очи его постигла куричья слепота Беседы; тело его покрыто проказою сотрудничества[44], и в членах его пакость Академических Известий, издаваемых г. Шишковым. О, друг наш! Скажу тебе просто твоим же непорочным стихом: терпение, любезный! Сие испытание, конечно, есть мзда справедливая за некие тайные грехи твои. Когда бы ты имел совершенную чистоту Арзамасского Гуся, тогда бы прямо и беспрепятственно вступил в святилище Арзамаса; но ты еще скверен; еще короста Беседы, покрывающая тебя, не совсем облупилась. Под сими шубами испытания она отделится от твоего состава. Потерпи, потерпи, Василий Львович. Прикасаюсь рукою дружбы к мученической главе твоей. Да погибнет ветхий В.Л.! Да воскреснет друг наш возрожденный Вот! Рассыпьтесь, шубы! Восстань, друг наш! Гряди к Арзамасу! Путь твой труден. Ожидает тебя испытание. Чудище обло, озорно, трезевно и лая и[45] ожидает тебя за сими дверьми. Но ты низложи сего Пифона, облобызай сову правды, прикоснись к лире мщения, умойся водой потока и будешь достоин вкусить за трапезою от Арзамасского Гуся, и он войдет в святилище желудка твоего без перхоты и изыдет из оного без натуги[46].
Не страшись, любезный странник, и смелыми шагами путь свой продолжай. Твоему ли чистому сердцу опасаться испытаний? Тебе ли трепетать при виде пораженного неприятеля? Мужайся! Уже ты освобожден от прохладительного удушья чудотворных шуб, и переход твой из одного круга подлунных храмин очищения в другой уже ознаменован великим событием. Ты пришел, увидел и победил, и совесть твоя, несмотря на изнеможденный лик растерзанного врага Арзамаса, спокойна. Так. любезный странствователь и будущий согражданин! Я нахожу на лице твоем все признаки тишины, всегда украшающей величавую осанку живого арзамасского знака! Какое сходство в судьбах любимых сынов Аполлона. Ты напоминаешь нам о путешествии предка твоего Данта. Ведомый божественным Вергилием в подземных подвалах царства Плутона и Прозерпины, он презирал возрождавшиеся препятствия на пути его, грозным взором убивал порок и глупость, с умилением смотрел на несчастных жертв страстей необузданных и наконец, по трудном испытании, достиг земли обетованной, где ждал его венец и Беата. Гряди подобно Данту, повинуйся спутнику твоему; рази без милосердия тени Мешковых и Шутовских[47] и помни, что «прямой талант везде защитников найдет»[48]. Уже звезда восточная на высоте играет; стремись к лучезарному светилу; там при его сиянии, ты вместо Беаты услышишь пение Соловья и Малиновки[49], и чувства твои наполнятся приятнейшими воспоминаниями. Принимая с сердечным умилением тебя, любезный товарищ, в недро отечественного Арзамаса, можем ли мы от тебя скрыть таинственное значение обрядов и символов наших? Можем ли оставить на глазах твоих мрачную завесу невежества беседного? Нам ли следовать примеру Бесед, сих рыкающих Сцилл и Харибд, между коими ты доныне плавал, и, подобно клевретам, тщательно прятать от слушателей и сочленов, даже от самих себя, здравый, обыкновенный смысл и самые обыкновенные познания? Что нам до Бесед? Арзамас далек от них, как Восток от Запада, как водяной Шутовской далек от Молиера, а Дед седой от Лагарпа. Нет. Сердце и таинства наши равно открыты новому нашему собрату, защитнику вкуса, врагу славянского варварства.
Вступая в сие святилище, ты на каждом шагу видишь цель и бытописания нашего общества. Ты переносишься в трудные времена, предшествовавшие обновлению благословенного Арзамаса, когда мы скитались в стране чужой, дикой, между гиенами и онаграми, между халдеями Беседы и Академии. На каждом шагу видишь следы претерпенных нами бурь и преодоленных опасностей, прежде нежели мы соорудили ковчег Арзамаса, дабы спастись в нем от потопа Липецкого. С непроницаемою повязкою на глазах блуждал ты по опустевшим чертогам; так и бедные читатели блуждают в мрачном лабиринте славенских периодов, от страницы до страницы вялые свои члены простирающих. Ты ниспускался в глубокие пропасти: так и досточудные внуки седой Славены добровольно ниспускаются в бездны безвкусия и бессмыслицы. Ты мучился под символическими шубами, и обильный пот разливался по телу твоему, как бы при виде огромной мелкой исписанной тетради в руках чтеца беседного. Может быть, роптал ты на излишнюю теплоту сего покрова; но где же было взять шуб холодных? Они остались все в поэме Шутовского. Потом у священных врат представился взорам твоим бледный, иссохший лик Славенофила: глубокие морщины, собранные тщательно с лиц всех усопших прабабушек, украшали чело его; глаза не зря смотрели на нового витязя Арзамаса, а из недвижных уст, казалось, исходил грозящий голос: «Чадо! возвратися вспять в Беседу вторую, из нее же исшел еси!» Но тебе ли устрашиться суетного гласа? Ты извлек свой лук, который, подобно луку Ионафана, от крове язвенных и от тука сильных не возвратися тощ вспять, наложил вместо стрелы губительный стих: Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье... и призрак упал, извергая из уст безвредный свой пламень. Не так ли упал перед тобою и сам Славенофил, тщетно твердя о парижских переулках! Наконец совершены все испытания. Уста твои прикоснулись к таинственным символам: к Лире, конечно не Хлыстова и не Барабанова, и к Сове, сей верной подруге Арзамасского Гуся, в которой истинные арзамасцы чтят изображение сокровенной мудрости. Не Беседе принадлежит сия посланница Афин, хотя седой Славенофил и желал себе присвоить ее в следующей песне, достойной беседных Анакреонов:
Сидит сова на печи,
Крылышками треплючи;
Оченьками лоп, лоп.
Ноженьками топ, топ.[50]
Нет, не благородная Сова, но безобразный нетопырь служит ему изображением, ему и всем его клевретам.
Настала минута откровений. Приближься, почтенный «Вот», новый любезный собрат наш! Прими же из рук моих истинный символ Арзамаса, сего благолепного Гуся, и с ним стремись к совершенному очищению. В потоке Липецком омой остатки беседной скверны, ее грубой коры, которую никогда не могут проникнуть лучи здравого рассудка; и потом, с Гусем в руках и в сердце, займи место, давно тебя ожидающее. Таинственный Гусь сей да будет отныне всегдашним твоим путеводителем. Не ищи его происхождения в новейших баснях: в них гуси едва ли опрятнее свиней собственных! Гусь наш достоин предков своих. Те спасли Капитолий от внезапного нападения галлов, а сей бодрственно охраняет Арзамас от нападения беседных халдеев и щиплет их победоносным своим клювом. И ты, любезный собрат, будешь, подобно ему, нашим стражем, бойцом Арзамаса, смело сразишься с гидрою Беседы и с сим нелепым чудовищем, столь красноречиво предсказанным в известном стихе патриарха славянофилов[51]:
Чудище обло, огромно, трезевно и лаяй.
Пусть лает сие чудище, пусть присоединяются к нему и все другие Церберы, по образу и по подобию его сотворенные; но пусть лают они издали, не смея вредить дарованиям, возбуждающим зависть и злобу их.
Так, добрый Вот, ты рассказывал о древних грехах твоих и, слыша в памяти вой и крик полицейских[52], ты проливал слезы раскаяния... О, несчастный, сии слезы были бесплодные: ты готов на грех новый, ужасный, сказать ли? На любодейство души! И вот, роковая минута. Меркнет в глазах твоих свет московской Беседы, и близок сундук Арзамаса. Ты погибал, поэт легковерный! Для тебя запираются врата Беседы старшей, и навсегда исчезают жетоны Академии. Но судьба еще жалеет тебя; она вещает: «Ты добрый человек, мне твой приятен вид»[53]. Есть средство спасения. Так, мой друг, есть средство. Оно в этой лохани. Взгляни — тут Липецкие Воды; в них очистились многие. Творец сей влаги лишь вздумал опрыскать публику, и все переменилось. Баллады сделались грехом и посмешищем; достоинство стихов стали определять по сходству их с прозой, а достоинство комедий по лишним ролям. Что говорю я? Один ли вкус переменился? Все глупцы сделались умными, и в честных людях мы узнали извергов. То же будет с тобою. Окунись в эти воды и осмотрись: увидишь себя на краю пропасти. О, пилигрим блуждающий, о пилигрим блудливый! Знаешь ли, где ты? Но расслепленный сухою водою узнаешь, узнаешь, что Арзамас есть пристань убийц, разбойников, чудовищ. Вот здесь они вокруг стола сидят
И об убийстве говорят, Готовясь на злодейства новы.
Там на первом месте привидение, исчадие Тартара, с щетинистой бородой, с хвостом, с когтями, лишь только не с рогами; но вместо рогов торчит некое перо. Смотри, на нем, как на ружье охотника, навешена дичина, и где же она настрелена? И в лесу университетском, и в беседных степях, и в театральном болоте. Увы! и в московском обществе[54]. С ним рядом старушка, нарушительница мертвых: она взрывала могилы, сосет кровь из неопытной Музы, и под ней черный кот Сын Отечества. За нею сидит с полуобритою бородою красная девушка; она проводит дни во сне и ночи без сна перед волшебным зеркалом, и в зеркале мелькают скоты и Хвостов. И вот твое чудное зрелище. Ты видишь и не знаешь, что видишь, гора ли это, или туча, или бездна, или эхо. Чу! там кто-то стонет и мычит по-славянски. Но одни ли славяне гибнут в сей бездне? В ней погрязли и Макаров Московский, и Анастасевич Польский, и сей Хвостов не-славянский и не-русский. Над пропастию треножник, на нем тень Кассандры. Ей хочется трепетать, и предсказывать, и воздымать свои волосы; но пророчества не сбываются, и в волосах недостаток. Вдали плывет челнок еще пустой. Увы, он скоро нагрузится телами. Из него выпрыгнул Кот и для забавы гложет не-русского сына русской отчизны. А там Журавль с другим Хвостовым на носу. А там единственная, ветреная арфа, без злодейств и без струн. и, наконец, там Громобой-самоубийца; он пером проколол сердце, в коем был образ Беседы. Какое скопище безумных злодеев! Бедный Вот! Ты увидишь и ужаснешься; но берегись, берегись полотенца. Если оно сотрет воду прозрения, ты ослеп навсегда: злодеи будут твоими друзьями, безумцы твоими братьями. Избирай: тьма или свет? Вертеп или Беседа?
Непостижимы приговоры провидения! Я, юный ратник на поле жизни, младший на полях Арзамаса, приемлю кого? Героя, поседевшего на бурях житейских, прославившегося давно под знаменами вкуса, ума и Арзамаса! Того, который первый водрузил хоругвь независимости на башнях халдейских, первый прервал безмолвие робости, первый вырвал перо из крыла безвестного еще тогда Арзамасского Гуся и пламенными чертами написал манифест о войне с противниками под именем послания к Светлане, и продолжал после вызывать врагов на частые битвы, битвы трудные, но навсегда увенчавшие сына арзамасской крепости новою славою, новыми трофеями, новыми залогами победы. Не смею толковать приговоров судьбы, благоговею пред нею и с признательностию исполняю обязанность, возложенную на меня. Приди, о мой отче! О, мой сын, ты, победивший все испытания, переплывший бурные пучины вод на плоту, построенном из деревянных стихов угрюмого певца, с торжественным флагом, развевающим по воздуху бессмертные слова:
Прямой талант везде защитников найдет!
Ты, верною рукою поразивший урода халдейского прямо в чело! Приди, ты, безбедно, но не без славы приставший к арзамасскому брегу! Посвяти мокрую одежду свою коварному богу Липецких Вод и займи место свое между нами. Оно давно призывало тебя. Давно трапеза арзамасская тосковала по собеседнике знаменитом, давно кладбище халдейское требовало священных остатков сего певца угрюмого, сего Филина-великана, прокричавшего на гробах целую ночь, возмутившего сон усопших и погрузившего в сон живущих. Настал час удовлетворения. Почтеннейшие собратия! Он здесь, сей муж опыта, он заседает с нами; на открытом челе его читаю зрелые надежды и вечную славу Арзамаса. Еще рука его дымится чернилами; еще взор его, упоенный благородным тщеславием, указывает нам на труп распростертый, хладный, как Пожарский, Минин и Гермоген, бездушный, как Петр Великий, или, по словам одного арзамасца, Петр Долгой[55], безобразный, как оды, читанные в Беседе[56].
Излишне и дерзновенно было бы хотеть мне руководствовать тебя моими советами. Семена арзамасских правил давно таились в душе твоей, и уже некоторые из противников Арзамаса подавились ранними плодами, взращенными от них усердием твоим, угадавшим, что некогда перенесутся они на почву благословенную, на землю обетованную. Судьба, отворившая тебе двери святилища после всех и, так сказать, замыкающая тобою торжественный ряд Арзамасских Гусей, хотела оправдать знаменитое предсказание, что некогда первые будут последними, а последние первыми. Сердце мое и рассудок удостоверяют меня в справедливости моей догадки. Так! Ты будешь староста Арзамаса. Благодарность и осторожность вручат тебе патриархальный посох. Арзамасский Гусь приосенит чело твое покровительствующим крылом и охранит его от коварного крыла времени — сего алчного ястреба, «скалящего зубы»[57] на все, что носит на себе печать дарования, вкуса и красоты. Но если пророчество мое — одна мечта, то по крайней мере современники мои и потомство скажут о нем, вздохнувши: «Жаль, что не исполнился сон доброго человека».
Правила почтеннейшего нашего сословия повелевают мне, любезнейшие арзамасцы, совершить себе самому надгробное отпевание, но я не почитаю себя умершим. Напротив того, я воскрес: ибо нахожусь посреди вас; я воскрес, ибо навсегда оставляю мертвых умом и чувствами. Не мертв ли духом и умом тот, который почитает Омира и Вергилия скотами, который не позволяет переводить Тасса и в публичном, так называемом ученом, собрании ругает Горация? Не мертв ли чувствами и тот, который прекрасные баллады почитает творением уродливым, а сам пишет уродливые оды и не понимает того, что ему предстоят не рукоплескания, но свистки и мидасовы уши.
Ныне, говоря об ушах мидасовых, долгом почитаю обратиться к пресловутой петербургской Беседе. О, сколько тут длинных ушей находится! Сколько мы в ней встречаем старых, юных, сухих, чреватых[58], бледных и румяных Мидасов! Беседа петербургская ни в чем, конечно, московской не уступает, но, по моему мнению, во всем ее превосходит.
К сожалению моему, я исполню сердца любезных арзамасцев чувствительною горестию. Я возвещу вам кончину юноши, достойнейшего, питомца великого патриарха халдеев, утверждающего, что тротуары должны называться пешниками, а жареный гусь печен иною; юноши, которому кортик[59] не препятствовал держать в руке перо на бесславие литературы, не во славу досточестной Беседы.
Тщетно я силюсь, чувством гнетомый (позвольте мне употребить собственные слова умершего), тщетно я силюсь изобразить все происходящее в Беседе. Она лишается наилучших усастых сочленов своих.
Тучей над ними гибель висит.
Туча, обрушась, варваров губит.
Губят их глупость, губит бесстыдство,
Губят их уши, губит язык.
Тысяща поприщ телами полны.
Множеству теней тесен стал ад.
Так точно! Они валятся как мухи от мухоморов, и мы здесь, в почтеннейшем нашем собрании, отпеваем их, превозносим и удивляемся их дарованиям. Например, как не дивиться творцу лирического песнопения! Сотворить поэму, в которой находится неисчетное множество строф и нет поэмы; отказаться навсегда от Аполлона и Муз и, несмотря на то, заниматься поэзией; не ему ли одному сие предстояло? Не он ли воспел, как от грозного взора патриарха халдейского галльское слово[60] умирает на устах каждого? Не ему ли надлежало на такой предмет сочинить оду? Изящный талант превозмогал все трудности, и вместе с талантом возрастали и уши лирико-песнопевца. Нет более невинного умом и телом. Он лежит бездыханен.
Обратимся, слушатели, к плачевному сему зрелищу. Следуйте за мною в мрачную храмину, обитую академическими сочинениями! Горящие свещи, обернутые в Письма Схимника, освещают воздвигнутый усопшему катафалк. Рассуждения о старом и новом слоге служат ему возглавием, рассуждения об одах в деснице его, Бдения Тассовы, похвальные слова и переводы Андромахи, Ифигении, Гамлета и Китайской Сироты[61] лежат у подножия гроба. Патриарх халдеев изрыгает корни слов[62] в ужасной горести своей. Он, уныло преклонив седожелтую главу свою, машет над лежащим в гробе Известиями Академическими и кадит в него прибавлением к прибавлениям. Он не чувствует, что тем лишь умножаются печаль, скука и угрюмость друзей, хладный труп окружающих. Плодовитый творец бесчисленных и бессмысленных од, палач Депрео и Расина, стоит смиренно над гробом и, осыпая умершего грязью и табаком, бормочет стихи в похвалу его[63]. Увы! Он еще сплел их до кончины несчастного, успел напечатать, ибо любитписать стихи и отдавать в печать, раздает их сотоварищам своим, и сотоварищи его не читают их. Секретарь Беседы, ничего никогда не сочинивший и едва знающий грамоте, беснуясь, топает ногами и стучит крючковатою тростию[64]. Толсточреватый сочинитель Липецких Вод кропит ими в умершего и тащится согреть его овчиными шубами своими. Но все тщетно: он лежит бездыханен! Давно ли я, дерзновенный, воспевал невинного юношу, именуя его Варягороссом и кумом Славенофила? И се успе! Длинные уши его повисли, уста охладели, ноги протянулись. Стихотворения песнопевца, в которых столь мало глаголов и столь много пустоглаголения[65], останутся навсегда в подвалах Глазунова и Заикина[66], останутся на съедение стихожадным крысам, и даже сам патриарх халдейский забудет о них!
О, vanitas vanitatum, omnia vanitas [суета сует и всяческая суета].
Почтеннейшие сограждане Арзамаса! Я не буду исчислять подвигов ваших. Они всем известны. Я скажу только, что каждый из вас приводит сочлена Беседы в содрогание точно так, как каждый из них производит в собрании нашем смех и забаву. Да вечно сие продолжится! Что с нами будет, если не будет, если не будет Известий Академических? Что нам останется делать, если патриарх халдейский престанет безумствовать в разборе происхождения слов и принимать черное за белое? Куда сокроемся мы, если толсточреватый комик догадается, что комедии его не что иное суть, как печать глупости, злобы и невежества? Какая нам будет польза в том, если неутомимый рифмоткач узнает наконец, что у козла нет свиной туши, а у голубей зубов, точно так, как нет здравого рассудка в стихах его? Не совершенная ли беда для нас будет, если Мидасы, оглянувшись друг на друга, приметят, что уши их еще длиннее похвальных слов, читаемых в пресловутой их Беседе? Да сохранят нас от того златовласый Феб и Музы. Пусть сычи вечно останутся сычами: мы вечно будем удивляться многоплодным их произведениям, вечно отпевать их, вечно забавляться их трагедиями, плакать и зевать от их комедий, любоваться нежностию их сатир и колкостию их мадригалов. Вот чего я желаю и чего вы, любезнейшие товарищи, должны желать непрестанно для утешения и чести Арзамаса.
194*
Боратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя после вечера, у него проведенного, ему всегда кажется, что он был у всенощной. Трудно разгадать эту странность. Между тем он высоко ставил дарование поэта. Пушкин, обратно, нередко бывал строг и несправедлив к поэту, но всегда увлекался остроумною и любезною речью его.
195*
Есть на языке нашем оборот речи совершенно нигилистический, хотя находившийся в употреблении еще до изобретения нигилизма и употребляемый доныне вовсе не нигилистами. «Какова погода сегодня?» — «Ничего». — «Как нравится вам эта книга?» — «Ничего». — «Красива ли женщина, о которой вы говорили?» — «Ничего». — «Довольны ли вы своим губернатором?» — «Ничего». И так далее. В этом обороте есть какая-то русская, лукавая сдержанность, боязнь проговориться, какое-то совершенно русское себе на уме.
196
NN говорил о ком-то: «он удушливо глуп; глупость его так и хватает нас за горло».
В скуке, которую иные навевают на нас, есть точно что-то и физическое и болезненно-наступательное.
197
Жуковский припоминал стихи Мерзлякова из одной оперы италианской, которую тот, для бенефиса какого-то актера, перевел в ранней молодости своей:
Пощечину испанцу Титу
Во всю ланиту!
Он, т.е. Жуковский (на ловца и зверь бежит), подметил в опере Херубини следующий стих. Водовоз, во французской опере, спасает в бочке, во время парижских смут, несчастного, приговоренного к смерти и прикрывавшего себя плащом, и поет: «Hest seuve, l'home ou manteau».
В русском переводе отличный и превосходный актер Злов должен был петь:
Спасен, спасе, мой друг в плаще.
Этот стих долго был у нас поговоркою.
Странно, как подобные поговорки, прибаутки неприметно и невольно вкрадываются, а иногда вторгаются в речь. Часто сами по себе они не имеют никакого определенного смысла, но при частом употреблении кончают тем, что получают условное и обыкновенно забавное значение в применении к лицу или событию. В Париже беспрестанно бегают по улицам подобные выходки, клички. Москва также отличалась ими. Например, в 1810 и 1811 годах можно было слышать в высшем московском обществе слова: comme ca [так себе] брусника. Дело в том, что кто-то подслушал, как кучер, разговаривая на дворе с товарищами, сказал: комса брусника. И сам расхохотался он, и слушатели расхохотались. Подслушавший усвоил себе это выражение и перенес его шуткою в некоторые салоны; оно там принялось и разошлось. Вошло оно в употребление и по стихотворной части. Кто-то написал:
Пускай Сперанский образует,
Пускай на вкус Беседа плюет
И хлещет ум в бока хвостом;
Я не собьюся с панталыка.
Нет, мое дело только пить
И, на них глядя, говорить:
Comme ca брусника.
С этим припевом написано было несколько куплетов. Вьельгорский положил их на музыку, и они весело и шумно распевались на приятельских ужинах.
198
Забавный чудак, служивший когда-то при московской театральной дирекции, был между прочим, как и следует русскому человеку, а тем паче русскому чиновнику, охвачен повальною болезнью чинолюбия и крестолюбия. Он беспрестанно говорил и писал кому следует: «Я не прошу кавалерии чрез плечо или на шею, а только маленького анкураже (encourage) в петличку». Пушкин подхватил это слово и применил его к любовным похождениям в тех случаях, когда в обращении не капитал любви, а мелкая монета ее: то есть, с одной стороны, ухаживание, а с другой — снисходительное и одобрительное кокетство. Таким образом, в известном кругу и слово анкураже пользовалось некоторое время правом гражданства в московской речи.
А вот еще жемчужина, отысканная Жуковским, который с удивительным чутьем нападал на след всякой печатной глупости. В романе Вертер есть милая сцена: молодежь забавляется, пляшет, играет в фанты, и между прочими фантами раздаются легкие пощечины, и Вертер замечает с удовольствием, что Шарлотта ударила его крепче, нежели других. Между тем на небе и в воздухе гремит ужасная гроза. Все немножко перепугались. Под впечатлением грозы Шарлотта с Вертером подходят к окну. Еще слышатся вдали перекаты грома. Испарения земли, после дождя, благоуханны и упоительны. «Шарлотта, со слезами на глазам смотрит на небо и на меня, — говорит Вертер, — и восклицает: «Клопшток!» (Так говорит Гёте, намекая на одну оду германского поэта). Но в старом русском переводе романа Клопшток превращается в следующее: «Пойдем играть в короли» (старая игра). Что же это может значить? Какой тут смысл? спрашиваете вы. Послушайте Жуковского. Он вам все разъяснит, а именно: переводчик никогда не слыхал о Клопштоке и принимает это слово за опечатку. Вначале было говорено о разных играх: Шарлотта, вероятно, предлагает новую игру. Клопштос — выражение известное в игре на бильярде: переводчик заключает, что Шарлотта вызывает Вертера сыграть партийку на бильярде. Но по понятиям благовоспитанного переводчика такая игра не подобает порядочной даме. Вот из всего этого и вышло: пойдем играть в короли.
Жуковский очень радовался своему комментарию и гордился им.
199
Издатель журнала должен был Боратынскому довольно крупную сумму. Из деревни писал он должнику своему несколько раз о высылке денег. Тот оставлял все письма без ответа. Наконец Боратынский написал ему такое, что могло назваться ножом к горлу. Журналист пишет ему: «Как вам не совестно сердиться за молчание мое? Вы сами литератор и знаете, что мы народ беспечный и на переписку ленивый». — «Да я вовсе и не хлопочу, — отвечает Боратынский, — о приятности переписки с вами; держите письма свои при себе: они мне не нужны, а нужны деньги, и прошу и требую их немедленно».
200
Алексей Михайлович Пушкин рассказывает, что из дома воспитательницы его Мелиссино старый слуга был отпущен на волю. Несколько лет спустя встречает он Пушкина и говорит: «Что же вы, барин, никогда к нам не пожалуете?» Пушкин, воображая, что он при месте в каком-нибудь клубе или гостинице, спрашивает его: «Да где же ты теперь находишься?» — «Как же, ваше превосходительство, — отвечал он, — вот уже третий год, что служу при Иверской».
Он же рассказывал, что у какой-то провинциальной барыни убежала крепостная девушка. Спустя несколько лет барыня проезжает через какой-то уездный город и отправляется в церковь к обедне. По окончании службы дьячок подносит ей просвиру. Барыня вглядывается в него и вдруг вскрикивает: «Ах каналья, Палашка, да это ты?» Дьячок в ноги: «Не погубите, матушка! Вот уже четыре года, что служу здесь церковником. Буду за ваше здравие вечно Бога молить».
201
У Ермолова спрашивали об одном генерале, каков он в сражении. «Застенчив», — отвечал он.
202
Дельвига знавал я мало. Более знал я его по Пушкину, который нежно любил его и уважал. Едва ли не Дельвиг был между приятелями ближайшая и постояннейшая привязанность его. А посмотреть на них: мало было в них общего, за исключением школьного товарищества и любви к поэзии. Пушкин искренно веровал в глубокое поэтическое чувство Дельвига. Впрочем, не было мне и случая короче сблизиться с ним. Он постоянно жил в Петербурге, я постоянно жил в Москве. Когда приезжал я на время в Петербург, были мы с ним, что называется, в хороших отношениях, встречаясь нередко на приятельских обедах, вечеринках. Но и тут казался он мне мало доступен. Была ли это в нем застенчивость или некоторая нелюдимость, объяснить я себе не мог; но короткого сближения между нами не было. На сходках наших он мало вмешивался в разговор, мало даже вмешивался в нашу веселость. Во всяком случае, был он мало разговорчив: речь его никогда не пенилась и не искрилась вместе с шампанским вином, которое у всех нас развязывало язык. Спрашивали одного англичанина, любит ли он танцевать. «Очень люблю, — отвечал он, — но не в обществе и не на бале (jamais en societe), а дома один или с сестрою». Дельвиг походил на этого англичанина. Однажды убедился я в том и имел возможность оценить его и понять нежное сочувствие к нему Пушкина. Мы случайно провели с ним с глазу на глаз около трех часов. Мы ездили к общему знакомому нашему обедать на дачу, верст за пятнадцать от Петербурга. Тут разговорился он. Я отыскал в нем человека мыслящего, здраво и самобытно обдумавшего многое в жизни. Я удивился и обрадовался находке моей. Между прочим рассказал он мне план повести, которую собирался писать. План был очень оригинальный и совершенно новый, а именно рассказ о домашней драме, подмеченной с улицы. Лица, имена, происхождение их оставались тайною как для читателей, так и для самого автора; но при этой тайне выказывалась истина и подлинная, живая жизнь со всеми своими переворотами, треволнениями, радостями и скорбью. Как мы уже заметили, автор не вводил читателей в дом действующих лиц и сам не входил в него, но все сквозь окна подсмотрел с улицы, и вышел полный рассказ, создалась полная повесть.
Вот как это было. Кто-то, пожалуй сам автор, нанял себе две-три комнаты в доме на Петербургской стороне. Он был человек, озабоченный разными занятиями, часто должен был выходить из дому и домой возвращаться. Куда бы он ни шел, он должен был проходить мимо одноэтажного низенького домика с садиком. Домик не имел ничего замечательного, но как-то обратил на себя внимание соседа. Каждый раз, что он проходил мимо (а это случалось часто), он заглядывал в окна; а как окна были низки, он мог читать в комнатах и в том, что в них делается, как в открытой книге. Жилец домика должен был быть и хозяин его, холостой, одинокий. Судя по первым впечатлениям, по усам его, по архалуку, по чепраку, прибитому к стене, и по сабле, на нем повешенной, вообще по ухваткам его, можно было заключить достоверно, что он отставной кавалерийский офицер, может быть бывший кавказец. Казался он уже не молод, но и не стар: походка бодрая, движения свободные, развязные; лицо светлое, еще довольно свежее и выражающее много простоты и добродушия. Сосед задал себе как будто задачу изучить его. Каждый раз, что проходил мимо, он пристально вглядывался в окошко. Замечает он, что незнакомый хозяин начал как-то опрятнее и щеголеватее одеваться. Спустя несколько дней заметил он большое движение в домике: его обчищают снаружи и внутри, обивают стены новыми светлыми бумажками, изукрашенными яркими гирляндами и какими-то фигурочками, чуть ли не амурчиками с крыльями и со стрелами. Из гостиного двора приносятся коврики, столовые часы, приносятся маленькие клавикорды, различная мебель, и между прочим большая, красного дерева двуспальная кровать. Загадка начинает разгадываться. Недели через две в домике справляется свадебный пир. Сосед наш еще медленнее, чем прежде, проходит мимо домика, еще с большим любопытством, даже с нескромностью, проникает глазами во внутренность комнат. Никакой добросовестный и хорошо оплаченный шпион не мог бы следить за лицом, на которое указало ему начальство, как он сторожит, допытывает этот домик и совершенно неизвестных ему жильцов его. Да он и не хочет знать, кто они; а с каким-то темным предугадыванием ожидает удобного случая, чтобы сами события, сама жизнь открыли ему, кто и что они и что будет с ними. Как читатель, пристрастившийся к чтению романа, он не хочет, чтобы автор намекал ему заранее на действия и положение героев; он даже боится, что автор как-нибудь проговорится и слишком скоро укажет на развязку романа. Молодая хозяйка красива, стройна, одета всегда просто, но всегда со вкусом. Выражение лица ее живое, беспечное, веселое. На глаза она годами, по крайней мере, пятнадцатью моложе мужа; но и муж как будто помолодел, еще выпрямился и вторично расцвел. Медовые месяцы проходят благополучно, во всей сладости, во всем благоухании своем. Супруги неразлучны; они милуются, целуются; муж жену в щеки и губы; она обыкновенно целует его в лоб: знак нежности и вместе почтительности. Она разливает чай и подносит чашку ему, прихлебнув из нее немножко, чтобы знать, довольно ли чай крепок и подслащен сахаром. Она оправляет трубку и подает ему курить. Иногда садится она за клавикорды, играет и поет. Он, облокотясь на стул, слушает со вниманием, кажется умилительным: переворачивает листы нотной тетрадки. Часто по вечерам, поздней осенью и зимою, сидят они перед камином: он в широких креслах, она на стуле, почти не опираясь на спинку его. Она вслух читает ему газеты или книгу. Сосед все это видит. Он жалеет, что еще не последовал примеру соседа своего и не обзавелся женкою и домиком. Между тем смутно ожидает, что будет впереди. Ожидал он недолго, то есть с год, не более. К двум действующим лицам присоединяется третье: молодой офицер наружности очень красивой. Быт и порядки в доме не изменились: все идет по-прежнему, только часто и все чаще и чаще приемная комната оживляется присутствием нового лица. Гость и муж за чайным столом беседуют и покуривают вместе: один трубку, другой сигару. Гость с каждым разом засиживается долее и позднее, часов до одиннадцати, однажды даже до половины двенадцатого. Муж начинает зевать; жене, по-видимому, спать вовсе не хочется. Так тянулись дни довольно однообразно в течение двух или трех месяцев. Наконец соглядатай наш замечает, что в доме идет как-то неладно. Муж нахмурен, в лице как будто похудел и пожелтел. У жены нередко заплаканные глаза. Офицер все-таки еще является, а иногда и по утрам; хозяйка и он сидят вдвоем; мужа, вероятно, нет дома. Вечером все три налицо, но уже как будто не вместе: хозяйка с гостем в одном углу комнаты; в другом муж сидит за столом и раскладывает пасьянс, а может быть, и гадает. Чего тут загадывать? Тут шпиону нашему пришла необходимость выехать из Петербурга. Больно было ему оставить обсерваторию свою; больно было прервать чтение романа, который живо заинтересовал его. Месяцев через семь возвращается он на свое жительство. Нечего и говорить, что, только отряхнувшись с дороги, побежал он к своей сторожке. Смотрит: хозяин дома так же и тут же, с знакомою трубкою во рту. Но он за это короткое время постарел десятью годами: осунулось лицо, изнуренное и скорбное. Видно, что большое горе прошло по этому лицу и по этой жизни. Вдруг из дверей показывается кормилица с грудным ребенком на руках и проходит по комнате. Хозяин, озлобленно взглянув на них, что-то пробормотал сквозь зубы; по выражению, по сморщившимся чертам лица можно было догадаться, что слова были недобрые: он скорыми шагами вышел из комнаты и сердито хлопнул дверь за собою.
Не помню, как намеревался Дельвиг кончить свою семейную и келейную драму. Кажется, преждевременною смертью молодой женщины.
Разумеется, в этом беглом рассказе, в этом сколке, не упоминается о многих подробностях и частных случаях, которые связывали эти сцены, наметанные на живую нитку, и пополняли накинутый рисунок. Не знаю, как вышла бы повесть из-под пера Дельвига; неизвестно, и вышла ли бы она, потому что Дельвиг был, кажется, туг на работу; но в первоначальной смете своей повесть очень естественна и вместе с тем очень занимательна и замысловата. Много тут жизни и движения; под покровом тайны много истины. Все проходит тихомолком, а слышишь голоса живые. Дельвиг рассказал мне свой план ясно, отчетливо и с большим одушевлением. Видно было, что эта повесть крепко в уме его засела. В эту же поездку речь наша как-то коснулась смерти. Я удивился, с какою ясною и спокойною философиею говорил он о ней: казалось, он ее ожидал. В словах его было какое-то предчувствие, чуждое отвращения и страха; напротив, отзывалось чувство не только покорное, но благоприветливое. Для меня, по крайней мере, этот разговор был лебединая песня Дельвига: я выехал из Петербурга и более не видал его, а он скоро затем умер.
203*
Отпевали Шишкова в Невском. Народа и сановников было довольно. Шишков не велел себя хоронить прежде шести суток. Шишков был и не умный человек, и не автор с дарованием, но человек с постоянною волею, с мыслию, idee fixe [навязчивая идея], род литературного Лафаета, non le heros des deux mondes [не герой двух миров], но герой двух слогов — старого и нового, кричал, писал всегда об одном, словом, имел личность свою и потому создал себе место в литературном и даже государственном нашем мире. А у нас люди эти редки, и потому Шишков у нас все-таки историческое лицо. Я помню, что во время оно мы смеялись нелепости его манифестов; ...но между тем большинство — народ, Россия — читали их с восторгом и умилением, и теперь многие восхищаются их красноречием; следовательно, они были кстати... Карамзина манифесты были бы с большим благоразумием, с большим искусством писаны, но имели ли бы они то действие на толпу, на большинство, — неизвестно; а если бы и имели, то что это доказало бы? Что ум и нелепость все равно; а мы все думаем, что все от нас, все от людей. Замечательно, что Шишков два раза перебил место у Карамзина. Император Александр имел мысль назначить Карамзина министром просвещения (и назначить после Разумовского), а в другой раз государственным секретарем после падения Сперанского. Перебил он и третье место у него: президента Академии. Новый слог победил старый, то есть Карамзин Шишкова; естественнее было бы Карамзину быть в лице президента представителем русского языка и русской литературы. Шишков писал в 1812 году письмо к государю, коим он убеждал его оставить армию. Государь ничего не отвечал и никогда не упоминал Шишкову об этом письме, но спустя несколько дней оставил армию. Письмо было написано с согласия графа Н.А.Толстого и, кажется, Балашова. Слышал я это от Шишкова.
Шишков в записках своих называет лягушек насекомыми, и забавно, что в то самое время, когда император Александр назначил его, по просьбе его, после смерти Нартова, президентом Российской академии и сказал ему, что со свечкою не отыщешь лучшего человека. Это было вовремя перемирия в 13-м году в местечке Петере вал ьдау, где Шишков, сидя один со свечкою перед кабинетом государя, ждал, когда позовет он его, слушая беспрестанное квакание лягушек. Как при назначении своем в Академию не воспользовался он этим случаем и доверенностью своею у государя и своевременною ненавистью ко всему иноплеменному и иноязычному, чтобы перевести на славянский язык слова президент и Академия, ибо в этих же записках говорит он где-то: «русскому уху надлежит свои звуки любить» — и нападает на слова литература и патриотизм. Простосердечие, а часто и простоумие Шишкова уморительны. Каково было благообразному, благоприличному и во всех отношениях державному джентльмену подписывать его манифесты! Иногда государю было уже не в мочь, и он под тем или другим предлогом откладывал бумагу в длинный ящик. Говоря о том с императрицею, которая также читает записки Шишкова, и с государем[67], заметил я, что император Александр если не по литературному, то по врожденному чувству вкуса и приличия никогда не согласился бы подписывать такой сумбур, предложенный ему на французском языке. Но малое поверхностное знакомство с русским языком — тогда еще не читал он Истории Карамзина — вовлекало его в заблуждение: он думал, что, видно, надобно говорить таким языком, что иначе нельзя говорить по-русски, и решался выть по-волчьи волками. Под чушью слов не мог он расслушать и чуши их смысла. Одним словом, он походил на человека, который бессознательно и вследствие личной доверенности подписывает и усваивает себе бумагу, писанную на языке для него чужом и совершенно непонятном.
Опять тревожная ночь со всеми припадками и взрывами прежних бессонниц. Опять принялся я за ночного товарища своего Шишкова. Несмотря на тоску свою, мне почти забавно было видеть, как бедный моряк с трудом уживался с военными тревогами главной квартиры. То объезжает он большие дороги, чтобы не попасться в плен французам, то — по проселочным дорогам, боится, чтобы не опрокинули его с коляскою. И все это рассказывает он с каким-то ребяческим простосердечием. Вообще все его путевые впечатления и замечания совершенно детские. А между тем на досуге сочиняет он манифесты ни только по заказу императора, но иногда и для своего собственного удовольствия на всякий случай. Как государь ни безразборчиво и слепо подписывал подобные его бумаги, но случалось, что и он догадывался иногда о неприличии и невозможности говорить то, что заставлял его говорить Шишков. Один из таких несостоявшихся манифестов, после Лейпцигского сражения, Шишков кончает следующими словами: «Сего ради повелеваем: да отворятся во всем пространстве области нашей все божественные храмы etc. etc, да пролиются от всего народа горячие слезы благодарности и проч. и проч.». Довольно забавно заставлять государя говорить: повелеваем плакать.
В первом приказе по армиям, писанном Шишковым 13 июня 1812 г., между прочим сказано: в них издревле течет громкая победами кровь славян. Что за ералаш? Громкая кровь течет победами. Но в рескрипте фельдмаршалу Салтыкову бессмертные слова: «Я не положу оружия, доколе ни одного неприятельского воина не останется в царстве моем!» Эти слова тем прекраснее, что они оправданы были на деле.
Добрый Шишков удивительно забавен своим простодушием, чтобы не сказать простоумием. Он рассказывает, что на дороге от Твери в Петербург видел он на небе два облака, из которых одно имело вид рака, а другое — дракона, и что рак победил дракона. «Сидя один в коляске, — говорит он, — долго размышлял я: кто в эту войну будет раки кто дракон». Другому пришло бы в голову, что рак означает Россию, потому что армия наша все ретируется; но добрый Шишков чистый израильтянин, в нем нет лести, и ему пришло, что рак означает Россию, поелику оба сии слова начинаются буквой Р. «И эта мысль, — заключает он, — утешала меня всю дорогу».
204
Иногда самые, по-видимому, маловажные приметы убедительнее значительнейших явлений. Когда я думаю об участи Наполеона III и о продолжительности настоящего порядка дел во Франции, две приметы удостоверяют меня, что все это ненадежно и непрочно. Нельзя веровать в положение, в котором негодяй Дантес-Геккерен сенатор, а негодяйка Матильда Демидова разыгрывает роль императорской принцессы. Случай часто проказит, но проказы его непродолжительны.
205
Пензенский театр. Директор Гладков-Буянов, провонявший чесноком и водкой. Артисты крепостные, к которым при случае присоединяются семинаристы и приказные. Театр, как тростник от ветра колыхаясь, ветхий и холодный, род землянки. В ложи сходишь по лестнице крючковатой. Освещение сальными свечами, кажется поголовное по числу зрителей: на каждого зрителя по свечке. В мое время горело — или, лучше сказать, тускнело — свеч 13. Я призвал в ложу мальчика, которого нашел при дверях, и назначил его историографом и биографом театра и артистов и содержателя. «Кто эта актриса?» — «Саша, любовница барина. Он на днях ее так рассек, что она не могла ни ходить, ни сидеть, ни лежать». — «Кто эти?» — «Буфетчик и жена его!» — «Этот?» — «Семинарист, который выгнан был из семинарии за буянство». — «А этот?» — «Бурдаев, приказный, лучший актер». — «А этот?» — «Бывший приказный, который просидел год в монастыре на покаянии. Он застрелил случайно на охоте друга своего Монактина, также приказного». По несчастию, Гладков имеет три охоты, которые вредят себе взаимно: охоту транжирить, пьянство и собачью. Собаки его не лучше актеров. После несчастной травли он вымещает на актерах и бьет их не на живот, а на смерть. После несчастного представления он вымещает на собаках и велит их убивать. Вторая охота его постоянная, служит подкреплением каждой в особенности и совокупно. Впрочем, Саша не дурна собою и не многим, а может быть, и ничем, не хуже наших императорских. Актер также недурен. Давали Необитаемый остров. Казачий офицер и дивертиссемент с русскими плясками и песнью 3а морем синичка не пышно жила. Вообще мало карикатурного, и, должно сказать правду, на Московском театре, в сравнении столицы с Пензою и прозваньем Императорским с Гладковским, более нелепого на сцене, чем здесь. Больнее всего, что пьяный помещик имеет право терзать своих подданных за то, что они дурно играли или не понравились помещику. Право господства не должно бы простираться до этой степени. При рабстве можно допустить право помещика взыскивать с крепостных своих подати деньгами или натурой и промышленностью, свойственные их назначению и включенные в круг действия им сродного, и наказывать за неисполнение таковых законных обязанностей, но обеспечить законною властью и сумасбродные прихоти помещика, который хочет, чтобы его рабы плясали, пели и ломали комедь без дарования, без охоты, — есть уродство гражданское, и оно должно быть прекращаемо начальством, предводителями как злоупотребление власти. И после таких примеров находятся еще у нас заступники крепостного состояния! Лубяновский рассказывал мне о возмущении крестьян Апраксина и Голицыной в Орловской губернии числом 20 000 душ, когда по восшествии Павла приказал он и от крестьян брать присягу на верноподданничество. Крестьяне, присягнув государю, почитали себя изъятыми из владения помещичьего. Непокорность их долгое время продолжалась, и Репнин ходил на них с войском. Лубяновский был тогда адъютантом при князе. У крестьян были свои укрепления и пушки. Присланного к ним для усмирения держали они под арестом. Репнина, подъехавшего к селению их со словами убеждения и мира, прогнали они от себя, ругали его. Репнин велел пустить на них несколько холостых выстрелов. Сия ложная угроза пуще их ободрила. Они бросились вперед. Наконец несколько картечных выстрелов привели возмущенных к покорству. Происшествие — похожее на происшествие 14 декабря, только последствия были человеколюбивее. Зачинщиков не нашли и не искали. Репнин велел похоронить убитых картечью и поставил какую-то доску с надписью над ними. Дело это казалось так важно, что Павел писал Репнину: «Если мой приезд к вам может быть нужен, скажите, я тотчас приеду». Возмущения нынешние в деревнях приписывают проделкам либералов. Кто из либералов тогда действовал на крестьян? Рабство, состояние насильственное, которое должно по временам оказывать признаки брожения и, наконец, разорвать обручи недостаточные.
206*
Пред свадьбою в городе много говорили об обнародовании освобождения крестьян, по крайней мере в петербургской губернии. При этом случае рассказали мне ответ старика Философова. Александр советовался с ним о поданном ему проекте об освобождении крестьян. «Царь, — отвечал он, — вы потонете в нашей крови». Этот вопрос — важнейший из всех государственных и народных вопросов. Следовательно, должно о нем помышлять. Но как разрешить его? И как разрешится он? Во всяком случае не теперь приступать к разрешению. У нас нет ни одного государственного человека в силах приступить к нему.
207
Бездарность, талантливый — новые площадные выражения в нашем литературном языке. Дмитриев правду говорил, что «наши новые писатели учатся языку у лабазников».
208
В одно время с выпискою из письма Жуковского дошло до меня известие о смерти Лермонтова. Какая противоположность в этих участях. Тут есть, однако, какой-то отпечаток провидения. Сравните, из каких стихий образовалась жизнь и поэзия того и другого, и тогда конец их покажется натуральным последствием и заключением. Карамзин и Жуковский: в последнем отразилась жизнь первого, равно как в Лермонтове отразился Пушкин. Это может подать повод ко многим размышлениям. Я говорю, что в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи-Филиппа, Вот второй раз, что не дают промаха. По случаю дуэли Лермонтова князь А.Н.Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между князем Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит и не совсем правильно, по крайней мере так в городе говорили, и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке. Князь Александр Николаевич видел написанную по этому случаю записку Екатерины. Она, между прочим, говорила, что поединок хотя и преступление, не может быть судим обыкновенными уголовными законами: тут нужно не одно правосудие, но правота; что во Франции поединок судится трибуналом фельдмаршалов, но что у нас и фельдмаршалов мало, и этот трибунал был бы неудобен, а можно бы поручить Георгиевской думе, то есть выбранным из нее членам, рассмотрение и суждение поединков. Она поручила Потемкину обдумать эту мысль и дать ей созреть.
209
Когда весь город был занят болезнью графа Канкрина, герцог Лейхтенбергский, встретившись с Меньшиковым, спросил его: «Quelles nouvelles a-t-on aujourd'hui de la sante de Cancrine?» — «De fort mauvaises, — отвечал он: <неразборчиво> vas beaucoup mieux». [«Какие сегодня известия о здоровьи Канкрина?» — «Самые дурные: ему гораздо лучше»].
Забавная шутка, но не шуточное свидетельство о единомыслии нашего министерства.
210*
Булгарин напечатал во 2-й части Новоселья 1834 года повесть Приключение квартального надзирателя, которая кончается следующими словами:
«Это я заметил, служа в полиции». Фаддей Булгарин.
Вот славный эпиграф!
211*
Отпевали Полевого в церкви Николы Морского, а похоронили на Волковом кладбище. Множество было народа; по-видимому, он пользовался популярностью. Я не подходил к гробу, но мне сказывали, что он лежал в халате и с небритою бородою. Такова была его последняя воля. Он оставил по себе жену, девять человек детей, около 60 000 р. долга и ни гроша в доме. По докладу графа Орлова, пожалована семейству его пенсия в 1000 рублей серебром. В литераторском кругу — Одоевский, Сологуб и многие другие — затевают также что-нибудь, чтобы прийти на помощь семейству его. Я объявил, что охотно берусь содействовать всему, что будет служить свидетельством участия, вспомоществованием, а не торжественным изъявлением народной благодарности, которая должна быть разборчива в своих выборах. Полевой заслуживает участия и уважения как человек, который трудился, имел способности, — но как он писал и что он писал — это другой вопрос. Вообще Полевой имел вредное влияние на литературу: из творений его, вероятно, ни одно не переживет его, а пагубный пример его переживет и, вероятно, надолго. Библиотека для Чтения, Отечественные Записки издаются по образу и подобию его. Полевой у нас родоначальник литературных наездников, каких-то кондотьери, низвергателей законных литературных властей. Он из первых приучил публику смотреть равнодушно, а иногда и с удовольствием, как кидают грязью в имена, освященные славою и общим уважением, как, например, в имена Карамзина, Жуковского, Дмитриева, Пушкина.
212*
Я писал Жуковскому о нашей народной и русославной школе. «Tout ce qui n'est pas claire n'est point francais [что не ясно — то не по-французски], — говорят французы в отношении к языку и слогу. Всякая мысль не ясная, не простая, всякое учение, не легко применяемое к действительности, всякое слово, которое не легко воплощается в дело, — не русские мысль, учение, слово. В чувстве этой народности есть что-то гордое, но вместе с тем и холопское. Как пруссаки ненавидят нас потому, что мы им помогли и выручили их из беды, так наши восточники ненавидят Запад. Думать, что мы и без Запада справились бы, — то же, что думать, что и без солнца могло бы светло быть на земле. Наше время, против которого нынешнее протестует, дало, однако же, России 12-й год, Карамзина, Жуковского, Державина, Пушкина. Увидим, что даст нынешнее. Пока еще ничего не дало. Оно умалило, сузило умы. Выдумывать новое просвещение на славянских началах, из славянских стихий — смешно и безрассудно. Да и где эти начала, эти стихии? Отказываться от того просвещения, которое ныне имеешь, в чаянии другого просвещения, более родного, более к нам приноровленного, то же, что ломать дом, в котором мы кое-как уже обжились и обзавелись, потому что по каким-то преданиям, гаданиям, ворожейкам где-то, в какой-то потаенной, заветной каменоломне должен непременно скрываться камень-самородок, из которого можно построить такие дивные палаты, что пред ними все нынешние дворцы будут казаться просто нужниками. Вот эти русославы и ходят все кругом этого места, где таится клад, с припевами, заговорами, заклятьями и проклятьями Западу, а своего ничего вызвать и осуществить не могут. Один пар бьет столбом из-под обетованной их земли. Эти русославы гораздо более немцы, чем русские.
213
Посмотрите, до какой нелепости доходят наши газеты: С.-Петербургские Ведомости, №220, 11 августа, сопоставляют патриотическую песню, сочиненную князем черногорским, и песню турецкую. Про первую говорят «Гимн черногорцев преисполнен рыцарского великодушия и глубоко человечного чувства». Другой, т.е. турецкий: «воплями дикой свирепости и жестокого изуверства». А дело в том: вся разница в гимнах заключается в следующем: сербы алчут турецкой крови, турки — сербской. Сербы поют: «Раны моей души будут исцелены турецкою кровью»; турки поют: «Омочи в сербской крови свой меч». Не много рыцарства и человечности ни там, ни здесь, а одна человеческая кровожадность, которая, к прискорбию, свойственна всем народам, когда они враждуют и воюют между собой. Тут турки те же христиане, а христиане те же турки. В литературном отношении в турецкой песне более поэзии и силы, нежели в сербской. Например: «Наглость гяуров возносится до седьмого неба. Их вой, когда они лают на луну, проникает до престола Аллаха». Лают на луну — очень поэтически выражает прозвание, данное турками гяурам. «Блаженно улыбайся, когда среди битвы твой дух отделится от тела». Вот это почти рыцарски. «Не плачьте над нашими трупами и оставляйте их на поле битвы, чтобы они распространяли чуму в логовищах гяуров». Поэзия свирепая, но поэзия. Есть что-то в этом роде у Мицкевича в поэме Валленрод.
214*
Вигель в записках своих, упоминая о Козодавлеве, говорит между прочим, что он был добрый человек и даже не худой христианин, но видно было из всего поведения и поступков его, что он более надеялся на милосердие Божие, нежели на правосудие. В записках его много злости и много злопамятности, но много и живости в рассказе и в изображении лиц. Верить им слепо, кажется, не должно. Сколько мог я заметить, есть и сбивчивость и анахронизмы в событиях. К тому же он многое писал по городским слухам, а не всегда имел возможность проникать в сокровенные причины описываемых им явлений, а мы знаем, как слухи служат иногда неверными и часто совершенно лживыми отголосками событий. Со всем тем, эти записки очень любопытны, и Россия со всеми своими оттенками политическими, правительственными, литературными, общежительными, включая столицы и провинцию, и личностями отражается в них довольно полно, хотя, может быть, и не всегда безошибочно и непогрешительно верно. Вчера вечером читал он у нас многие отрывки из них.
215
Есть у нас приятель; он с некоторым заиканием, говорит скороговоркою, а воображение его еще и языка скороговорчивее. Спрашивают его: «Есть ли лес в купленной им подмосковной?» — «Как же, — отвечает он, — сорок четыреста четыре тысячи сорок тысяч десятин строевого леса». Мы думали, что он дойдет до четырех сот тысяч десятин, да как-то духу у него не хватило, и он остановился. Заметка для читающего или для повторяющего этот рассказ: не надобно ставить запятых между цифрами ни письменно, ни устно; иначе пропадет вся прелесть этого crescendo.
216
В этом же роде рассказывал Алексей Перовский. Был ему хорошо знаком один зубной врач, не опровергавший французской поговорки: «Mentir comme un arracheur de dents» (лгать как зубодерг). Однажды говорит он Перовскому: «На прошлой неделе вырвал я зуб у старого князя***. Как думаете, что он дал мне за операцию?» Перовский, зная хорошо приятеля своего, отвечает ему: «Тысячу рублей». — «Мало». — «Три тысячи?» — «Мало». — «Десять тысяч?» Ошеломленный зубной врач не посмел идти дальше и сказал: «Да, именно десять тысяч рублей, вы угадали». Но, одумавшись немножко, добавил: «И еще подарил мне славного рысака».
217
К празднику Светлого воскресенья обыкновенно раздаются чины, ленты, награды лицам, находящимся на службе. В это время происходит оживленная мена поздравлений. Кто-то из подобных поздравителей подходит к Жуковскому во дворце и говорит ему: «Нельзя ли поздравить и ваше превосходительство?» — «Как же, — отвечает он, — и очень можно». — «А с чем именно, позвольте спросить?» — «Да со днем Святой Пасхи».
Жуковский не имел определенного звания по службе при дворе. Он говорил, что в торжественно-праздничные дни и дни придворных выходов он был знатною особою обоего пола (известное выражение в официальных повестках).
218
Кривой К., после долгого разговора с кривым О., сказал: «Я очень люблю беседовать с ним с глазу на глаз».
219
Заметка о NN. Не знаю, простит ли Бог ему грехи его, но он не прошает Богу ни малейшего насморка своего.
220
Добрая старушка, довольная участью своею, говорила с умилением: «Да будет Господь Бог вознагражден за все милости его ко мне».
221
Прогрессивные провинциалы — а есть такие провинциалы и в столицах — говорят с ужасом, с ожесточением о нравах и обычаях старого времени, особенно проявлявшихся в помещичьем быту. Боже сохрани защищать и оправдывать все эти нравы и обычаи; но за исключением тех из них, которые имели на себе неблаговидные и предосудительные оттенки, почему предавать анафеме и те обычаи, которые были чисто комического свойства и невинно-забавны? Если все доводить до правильного и благочинного однообразия и благообразия, если хотеть всю жизнь подчинить законам и условиям платонической академии и платонической республики, то куда же денем мы смех, который также есть радостная и животворящая принадлежность жизни и человека? Не дай Боже заглушить, задушить в нас это физиологическое явление, которое служит нам отдыхом и отрадою за слезы, проливаемые нами тоже по законам натуры нашей и жизни. Я, по крайней мере, не вхожу в исступление при картинах, имеющих более забавный, нежели порочный характер. Если умел бы я писать комедии или романы, я дорожил бы преданиями нашей старины: без озлобления, без напыщенного декламатерства выводил бы я на сцену некоторых чудаков, живших в удовольствие свое, но, впрочем, не в обиду другим. Старый быт наш имел свое драматическое олицетворение, свое движение, свои разнообразные краски. Имей я нужное на то дарование, я обмакивал бы кисть свою не в желчь; не с пеною во рту, а с насмешливою улыбкою растирал бы я для картин своих свежие и яркие краски простосердечной шутки. Я возбуждал бы в читателях и зрителях симпатический смех, потому что сам давал бы я им пример не злостного, а искреннего и не обидного смеха. Я бегал бы, чуровался бы от всякого тенденциозного направления, как от злого наития. Так, кажется, вообще поступал и Гоголь. Где в художествах, в литературе, в живописи является тенденция, с притязаниями на учительство, там уже нет ни натуры, ни искусства. Реальная правда в созданиях мысли и воображения не может быть живою правдой: она уже охолодевший труп под лекарским ножом, не в театре живых людей, а в театре анатомическом, по французскому выражению.
Например, был один помещик, принадлежавший довольно знатному роду, по воспитанию своему образованный. Когда бывал в столицах, жил и действовал он как другие в среде ему подобающей; но столичная жизнь стесняла его.
Мне душно здесь, я в лес хочу, — то есть в село свое, — говорил он про себя. И там в деревне, на свежем воздухе, на просторе, разыгрывались прирожденные и таившиеся в нем наклонности, причуды и странности. Он любил, — ему, по натуре его, нужно было — чудачить, и он чудачествовал себе в свое удовольствие. По преданиям старого барчества, которые могли быть ему не чужды, он дома завел обряды и этикет наподобие любого немецкого курфюршества. Он составил свой двор из дворни своей. До учреждения мундира он достигнуть не осмелился; но завел в прислуге официальные жилеты разного цвета и покроя, которые, по домашнему значению, равнялись мундирам. Жилеты были распределены на разные степени, по цвету и пуговицам. Он жаловал, производил, повышал, например, Никифора в такой-то жилет высшего достоинства. Панкратий за пьянство или за другой поступок был разжалован в жилет низшего достоинства, со внесением в формулярный список. Когда, по воскресеньям и другим праздничным дням, барин отправлялся в церковь, дворовый штат его, по старшинству жилетов, становился в две шеренги на пути, по которому он изволил шествовать. Были дни, в которые все жилеты и все находящиеся при них юбки имели счастье лобызать барскую ручку. Все дома и в домашнем быту подходило к такому порядку. Дни и часы были распределены, как восхождение и захождение солнца, по календарю. Хозяин музыку люби л, особенно итальянскую. Это музыкальное дарование было родовым свойством в семействе его. Из крепостных и взятых во двор голосов избирались всевозможные сопрано, контральто, теноры, баритоны, басы, все ступени со всеми извилинами музыкальной лестницы. Из них составлялись концерты, которые можно было слушать с удовольствием. Здесь, по уравнению званий, аристократические голоса барских детей сливались с плебейными голосами челядинцев. Здесь барин был уже не барин, а подпевающий отец поющего семейства. В селе своем подметил он однажды попадью, которую можно было завербовать с успехом в вокальное общество. Начал он и ее итальянизировать и заставлял петь арии и дуэты из разных итальянских опер-буфф. Разумеется, притом и принаряжал он ее в приличные тому костюмы: шелковые платья с длинными шлейфами. Выписывал он для нее из Москвы токи со всеми возможными и невозможными перьями. Показалось ему, что она должна быть забавна верхом. И вот заказал он ей амазонское платье и шляпку с вздернутым вверх козырьком, посадил ее на коня и разъезжал с ней по полям и по лесам. Слухи обо всем этом дошли до местного архиерея. Он возымел подозрение, что тут кроется что-то недоброе. Он послал за попадьею. Явилась она. При виде ее подозрение рассеялось. Он говорит ей: «Извини меня, матушка, что я тебя напрасно потревожил; мне не так доложили. Ты так стара и некрасива, что греху поживиться тут нечем. Возвращайся с Богом домой. Счастливый путь!»
Все это не просится ли под кисть русского Теньера, под перо русского Лесажа (автора Жиль-Блаза), русского Диккенса? Тут с ту лье в ломать ненужно. Не нужно стучать и пером о бумагу как кулаком. Пиши с натуры, не черни ее, не клепли на нее, и выйдут картины, очерки забавные, но миловидные, и с сатирическими оттенками. Литература ни в каком случае не должна быть учреждением параллельным уголовной палате. А наша литература все любит карать. Правда, что кому охота есть, легче быть подмастерьем палача, нежели талантливым живописцем.
222
Барон Мальтиц, немецкий поэт и русский дипломат, впоследствии времени наш поверенный в делах при Веймарском дворе, зять и друг Ф.И.Тютчева, забавно рассказывает, при какой обстановке получил он, в молодых еще летах, первый знак отличия. Он был тогда секретарем при нашей миссии в Берлине; посланником был Алопеус. Министр призывает его в свой кабинет и торжественно обращается к нему со следующей речью: «Милостивый государь, наш августейший властитель (notre auguste maitre), всемилостивейший государь всероссийский (empereur de toutes les Russies), в непрестанной заботливости о благе подданных и в великодушном внимании к заслугам усердных служителей своих, благоволил пожаловать вас, милостивый государь, кавалером ордена святого равноапостольного великого князя Владимира четвертой степени: это последняя» (1'ordre du grand due Saint Wladimir, egal aux apotres, de la quatrieme classe: c'est la derniere).
Все это, разумеется, было сказано на французском языке.
223
В старое время была целая устная литература, литература анекдотическая, забавно искаженной французской речи. «Чьи это портреты?» — «Посередке ma femme, а по бокам pere d'elle и mere d'elle». А исторический и знаменитый «Je» Федора Петровича Уварова? Наполеон I, в котором-то из сражений, любовался русскою кавалерийскою атакою и, как рассказывают, воскликнул: «Браво! браво!» Вырвавшийся крик из груди художника. Позднее, когда Уваров представлялся ему, Наполеон, вспомнив впечатление свое, спросил его, кто командовал русскою кавалериею в таком-то деле? — «Je, sire». Тоном пониже, но его же. В сенях театра, при выкличке карет полицейским солдатом, он повторял: «Pas ma, pas ma». Наконец провозгласил карету его. «Ма, та, та», — воскликнул он и выбежал из сеней.
Барыня, довольно высокоименитая, была в Риме и представлялась папе. Не знаю, целовала ли она туфлю его святейшества; но известно, что на какой-то вопрос его отвечала она: «Oui, mon раре».
Другая русская путешественница, на представлении немецкой королеве, говорила ей: sirene — на том основании, что королю говорят: sire. — Вольно же французскому языку не быть логически-последовательным!
Чрез какой-то губернский город проезжал ученый путешественник, сильно рекомендованный из Петербурга местному начальству. Губернатор решился дать в честь его обед; но, на беду, он никакого иностранного языка не знал. Для того чтобы помочь этому горю, выписали уездного предводителя, который был в числе военных гостей, посетивших Париж в 1814 году, и поэтому прозван был в уезде парижанином. Губернатор просил его заняться во время обеда разговором с путешественником и сказать несколько приличных слов, когда будут пить за здравие его. Наш парижанин охулки на язык не положил. В витиеватой речи он несколько раз выхвалял достоинства «de Pillustre coupable du triomphe d'aujourd'hui» (знаменитого виновника нынешнего торжества).
В детстве своем знавал я барина, который в русскую речь — а он иначе как по-русски не говорил — вклеивал поминутно слово или, вернее, звук: «мунштр». Кто-то спросил у него истолкования этой странности. — «В молодости моей я совершенно владел французским языком, но прожил двадцать лет в деревне и совершенно потерял навык говорить на нем. Одно только это слово осталось у меня в памяти и невольно навертывается на язык». Кто-то предполагал, что, вероятно, когда-нибудь жена или одна из приятельниц назвала его monstre, и эта кличка однажды навсегда так и врезалась в него.
Немцы также произношением своим делают забавные промолвки. В Москве, на одной вечеринке, хозяйка дома пригласила барона *** сесть за ужин; он извинился и просил позволения de roter autour de la table (roder). Дипломат, родом венецианец, в русской службе, чуть ли не Мочениго, в конце донесения своего императрице Екатерине II говорил: «J'ai le bonheur d'etre jusqu'a la mort attache a la grande potence de votre majeste[68] (potenza — держава).
Можно бы собрать целый фолиант подобных археологических и архаических редкостей. Эти промахи языка тем были забавнее, что французские слова вообще очень поддаются на двусмысленное значение. Ныне что-то и этого смеха нет. Уста, чтобы не сказать губы, разучились смеяться; они надулись и нахмурились. Одни щеголеватые фельетонисты и модные повествователи великосветских событий пробуждают улыбку нашу, когда они, с грехом пополам, испещряют французскою мозаикою свой русский текст.
Мы сказали: губы нахмурились. Выражение совершенно правильное. На польском языке сохранилось славянское слово хмура, то есть: облако, тучи. Напрасно нет этого слова в нашем академическом словаре. Вообще было бы не худо пересмотреть повнимательнее лексиконы польского языка. В них, нет сомнения, нашлось бы довольно слов, которые ускользнули из наших, а на деле принадлежат обоим языкам. Поляки могли бы сделать и у нас подобный повальный обыск. Тут политических перекоров бояться нечего. Никому не было бы в обиду: все были бы в барышах.
224
Брюлов говорил мне однажды о ком-то: «Он очень слезлив, но когда и плачет, то кажется, что из глаз слюнки текут».
Мы с ним прогуливались в Риме и вышли за городские стены, в так называемую la compagna di Roma, римскую равнину, римскую степь. Ее воспевали поэты, живописцы старались воспроизводить ее в картинах своих; путешественники любуются ее величавою и грустною прелестью. День тогда был пасмурный, а в Риме нужны переливы сияния. «Жаль, что нет солнца, — сказал Брюлов: — будь оно, и все это пред нами так бы и запело». Замечательно, что он свое поэтическое выражение заимствовал не из живописи, а из музыки.
Но вот слово его же, которое так и носит отпечаток великого живописца. В Петербург приезжала англичанка, известная портретистка. Спрашивали Брюлова, что он думает о ней.
— Талант есть, — сказал он, — но в портретах ее нет костей: все одно мясо.
225
Робкий, по крайней мере на словах, молодой человек, не смея выразить устно, пытался под столом выразить ногами любовь свою соседке, уже испытанной в деле любви. «Если вы любите меня, — сказала она, — то говорите просто, а не давите мне ног, тем более что у меня на пальцах мозоли» (исторически верно).
226
В Москве допожарной жили три старые девицы, три сестрицы Лев ***. Их прозвали тремя Парками. Но эти Парки никого не пугали, а разъезжали по Москве и были непременными посетительницами всех балов, всех съездов и собраний. Как все они ни были стары, но все же третья была меньшая из них. На ней сосредоточилась любовь и заботливость старших сестер. Они ее с глаз не спускали, берегли с каким-то материнским чувством и не позволяли ей выезжать из дома одной. Бывало, приедут они на бал первые и уезжают последние. Кто-то однажды говорит старшей: «Как это вы в ваши лета можете выдерживать такую трудную жизнь? Неужели вам весело на балах?» — «Чего тут весело, батюшка! — отвечала она. — Но надобно иногда и потешить нашу шалунью». А этой шалунье было уже 62 года.
227*
Василий Перовский, принимая морское ведомство, когда оно являлось к нему, сказал: «Теперь, что казак управляет морскою силою, можно надеяться, что дела хорошо пойдут». Частные лица, даже сами действующие лица, по русскому благоразумию и русской смышлености, сейчас схватывают смешную и лживую сторону каждого неправильного положения, но власть лишена у нас этого природного и народного чутья. Разумеется, Меншиков был импровизированный моряк, но Меншиков а la specialite d'etre un homme universel [его специальность быть универсальным], а что нашли морского в Перовском? Разве неудачный поход его в Хиву на верблюдах, названных, кажется, Шатобрианом, les vaisseaux du desert (корабли пустыни)?
228
Про одну даму, богато и гористо наделенную природою, NN говорит, что, когда он смотрит на нее, она всегда напоминает ему известную надпись: сии огромные сфинксы.
229
Карамзин рассказывал, что кто-то из мало знакомых людей позвал его к себе обедать. Он явился на приглашение. Хозяин и хозяйка приняли его очень вежливо и почтительно и тотчас же сами вышли из комнаты, где оставили его одного. В комнате на столе лежало несколько книг. Спустя 10 минут или '/4 часа являются хозяева, приходят и просят его в столовую. Удивленный таким приемом, Карамзин спрашивает их, зачем они оставили его. «Помилуйте, мы знаем, что вы любите заниматься, и не хотели помешать вам в чтении, нарочно приготовили для вас несколько книг».
230
Дмитриев рассказывал, что какой-то провинциал, когда заходил к нему и заставал его за письменным столом с пером в руках: «что это вы пишете, — часто спрашивал он его, — нынче, кажется, не почтовый день».
231
Дмитриев любил Антонского, но любил и трунить над ним, очень застенчивым, так сказать пугливым и вместе с тем легко смешливым. Смущение и веселость попеременно выражались на лице его под шутками Дмитриева. «Признайтесь, любезнейший Антон Антонович, — говорил он ему однажды, — что ваш университет — совершенно безжизненное тело: о движении его и догадываешься только, когда едешь по Моховой и видишь сквозь окна, как профессора и жены их переворачивают на солнце большие бутыли с наливками».
232
Я писал Жуковскому: чувство, которое имели к Карамзину живому, остается теперь без употребления. Не к кому из земных приложить его. Любим, уважаем иных, но все же нет той полноты чувства. Он был каким-то животворным, лучезарным средоточием круга нашего, всего отечества. Смерть Наполеона в современной истории, смерть Байрона в мире поэзии, смерть Карамзина в русском быту — оставили по себе бездну пустоты, которую нам завалить уже не придется. Странное сличение, но для меня истинное и не изысканное! При каждой из трех смертей у меня как будто что-то отпало от нравственного бытия моего и как-то пустее стало в жизни. Разумеется, говорю здесь как человек — часть общего семейства человеческого, не применяя к последней потере частных чувств своих. Смерть друга, каков был Карамзин, каждому из нас есть уже само по себе бедствие, которое отзовется на всю жизнь; но в его смерти, как смерти человека, гражданина, писателя, русского, есть несметное число кругов все более и более расширяющихся, поглотивших столько прекрасных ожиданий, столько светлых мыслей.
233*
Если Державин русский Гораций, как его часто называют, то князь И.М. Долгоруков, в таком же значении, не есть ли русский Державин? В Державине есть местами что-то горацианское; в Долгорукове есть что-то державинское. Все это — следуя по нисходящей линии. Державин кое-где и кое-как обрусил Горация. Долгорукову удалось еще обрусить или перерусить русского Державина, опопуляризировать его. Державин не везде и не всегда каждому русскому впору. Долгорукова каждый поймет. Не знаю в точности почему, а может быть, просто и ошибаюсь, но, читая Долгорукова, я невольно припоминал Державина: разумеется, не того, который парит, а того, который легко и счастливо скользит по земле и метко дотрагивается до всего житейского. Впрочем, не думаю, чтобы Долгоруков именно и умышленно подражал Державину. Он не искал его; а просто сходился с ним на некоторых проселках. По большим дорогам поэзии он не пускался. В том и другом много житейской философии: в Долгорукове более потому, что он не увлекался в сторону и на высоты. В том и в другом есть поэзия личная, так сказать автобиографическая; но в Долгорукове даже ее более, нежели у Державина; она может быть даже живее и разнообразнее. Он более держится около себя, менее обращая внимание на события, а более на впечатления и ощущения свои. Как ни своенравен певец Фелицы, как ни далек он от так называемой классической поэзии, но все же подмечаются в нем некоторые классические приемы. Видно, что и ему хочется быть академиком и показать, что он чему-нибудь учился. В другом никак не отыщешь этих изволений, этих притязаний. Читая его, нельзя не убедиться, что в поэтах он более охотник, чем присяжный и ответственный поэт. Он писал стихами потому, что так пришлось, потому, что рифмы довольно легко и послушно ложились под перо его. Еще — и здесь отделяется он от Державина — бывал он поэтом, когда бывал влюблен, а влюблен бывал он очень часто. Это раскрывает он нам в первом выпуске стихов своих: Бытие сердца моего. Это бытие разделяется на многие, маленькие отделения. Мог бы он назвать книгу свою. Летописью о сердечных мятежах. Но междуцарствия в сердце его не бывало; только часто сменялись пари, то есть царицы. Кто же из влюбленных не бывал в свой час поэтом? Не у каждого выливались стихи на бумагу, но поэтическая нота, хотя и глухо, а звучала в груди каждого. И каждый мог сказать:
Auch ich bin in Ancadien geboren.
[И я родился в Аркадии. — Стих Шиллера.]
А Долгоруков не только родился в этой Аркадии, но исходил ее из края в край, вдоль и поперек и постучался у каждого женского сердца. Он влюбчивый поэт. Он поэт-сердечкин, но не вроде князя Шаликова. В нем была искренность, была нередко глубина чувства. Вот начало одной песни его:
Без тебя, моя Глафира,
Без тебя, как без души,
Никакие царства мира
Для меня не хороши.
Разумеется, это не из лучших стихов его. Здесь ничего нет особенного: ничего нет художественного ни в выражении, ни в отделке, ни в фактуре стиха; но есть замечательное движение в приступе. Это невольное сердечное восклицание. Так и слышится, что оно вырвалось из груди и высказано прежде, чем было оно написано. Опять, может быть, ошибаюсь и обманывают меня первоначальные впечатления мои; но эти четыре стиха как-то особенно приятно и нежно звучат в памяти моей.
Ум поэта нашего был преимущественно русского склада. Этим складом и выразил он себя. Русские поговорки так им и расточаются и почти всегда с толком и удачно. Он вовсе не ищет блеснуть мужиковатостью своею; он употребляет простонародную поговорку, потому что она сподручна мысли его. Этот русский склад, с поговорками или без поговорок, особенно заметен в нем, Державине и в Крылове. В Пушкине более обозначалась народность историческая; в тех трех — народность житейская. Немного парадоксируя, Пушкин говаривал, что русскому языку следует учиться у просвирен и у лабазников; но, кажется, сам он мало прислушивался к ним и в речи своей редко просто народ ничал. Странное дело, и нельзя кстати здесь не заметить: рождением простолюдин и холмогорец, Ломоносов едва ли из наших писателей не наименее русский в том значении, которое присваиваем определению нашему. Даже Сумароков, который изо всей мочи подражал французам и выдавал себя за прямого питомца Расина и Вольтера, имел в жилах своих более русской крови: он более глядит русским, нежели Ломоносов. Этот немцев ненавидел, но ум свой одел в немецкое платье.
В Долгорукове, может быть, отыщешь еще более коренного русского языка, всем общедоступного, более руссицизма, нежели у самого Крылова. Но у Крылова эти руссицизмы очищеннее и в самой простоте своей художественнее. От Долгорукова художества не жди: он не родился художником, художником и не сделался. Ему некогда было воспитывать дарование свое. Он сам вам говорит:
Угоден, пусть меня читают;
Противен, пусть в огонь бросают:
Трубы похвальной не ищу.
И это в нем не уловка смирения. У него была своя публика, разукрашенная разными Глафирами, Парашами, Людмилами, Рандами и многими другими, которые, все вместе и каждая в свою очередь, одаряли поэта вдохновением. В предисловии к третьему изданию сочинений своих он прямо говорит: «Первое издание моих стихов, вышедшее в 1802 году, и второе — в 1808-м, были посвящены женскому полу». И чистосердечно, и похвально! Критике нечего тут совать свой нос и перо свое. Это не по ее части.
Любопытно также и то, что в предисловии своем говорит он о новом издании сочинений своих. «Я очень мало поправлял свои стихотворения, и в 3-м издании так же много старого вздору оставил, как и в прежних двух, да еще и много нового прибавил: потому что я в стихах моих хотел сохранить все оттенки чувств своих, видеть в них, как на картине, всю историю моего сердца, его волнения, перемену в образе мыслей». «Я ни одной безделки, ни одного стиха не вымарал, потому что всякий напоминает мне какое-либо происшествие, или мысль, или чувство, которое на меня действовало тогда и тогда».
Нет сомнения, что в изданных четырех частях Долгорукова не все изящный товар, а довольно есть и баласта. Читатели, конечно, не могут разделить с автором приятное чувство собственности, с которым он, так сказать, любуется каждым стихом, напоминающим ему день, час, минуту протекшей жизни его. Но мы можем выбрать из жизни и сочинений его то, в чем способны сочувствовать ему, то, что не исключительно личное и для нас постороннее: с ним во многом можно не только встретиться, но и сойтись. Во всяком случае, полагаем, что сокращенное, выборное дешевое издание Долгорукова могло бы найти читателей и сочувствие между грамотными простолюдинами нашими. Простонародная литература наша очень бедна. Даже басни Крылова не совершенно общедоступное чтение. Не думаю, чтобы басня могла встретить большой успех в простом народе. Он так сжился, свыкся с животною и прозябаемою натурою, что мудрено увлекаться ему художественным воспроизведением этой натуры. Он знает, что дуб, заяц, лошадь не говорят, и не станет слушать их речей, когда со стороны заставят их говорить. Воображение этих людей мало развито, мало изощрено. Им нужны не иносказания, а сказания простые, живые, следовательно действительные. Мир басни заманчив и хорош для нас, разрозненных с натурою. За отсутствием настоящей, мы любуемся очерками ее в художественных картинах; нас пленяет простота в хорошей басне потому, что в нас самих простоты уже нет; попав нечаянно в деревню, мы лакомимся ломтем оржаного хлеба и крынкою свежего молока, потому что в городе пресытились белым хлебом и разными пряными приправами.
Вот разговорился я о Долгоруковом. как покойник о покойнике. Но для кого разговорился я? Кто знает Долгорукова? Кто читает его? Кому до него теперь дело? Правда, Пушкин еще знал наизусть несколько десятков стихов его; но едва ли и Пушкин не смотрит покойником. Пока еще хорошо бальзамированным покойником, почетным. Все это так, но все же за живого выдавать его нельзя. Посмотрите на живых: они совсем другие!
Вот видите ли, я думаю: в чем дело и отчего на Долгорукова нет ныне потребителей? «В нем вовсе нет гражданских мотивов», — скажут многие. Не знаю, есть ли такие мотивы в нем, и как-то худо понимаю сродство гражданских мотивов с поэзиею. Поэзия сама по себе, гражданство само по себе. На это есть у вас журналы, газеты. Неужели мало с вас? Но, за неимением гражданских, в Долгорукове встречаются человеческие мотивы. В них звучит своя грудная, а не головная нота; напевы здесь не поддельные, не напускные; здесь слышится отголосок теплого, любящего чувства. В поэзии нет ничего суше, противнее тенденциозности политической, социальной, обличительно-полицейской, уголовно-карательной. Неужели весело вам видеть рабочий вопрос в стихах? «Долгорукова нельзя читать, язык его так устарел», — говорят другие. Нет, устарел не язык, языки не стареют. Стареют, т.е. видоизменяются, некоторые формы языка, выражения, приемы и оттенки, иногда к лучшему, иногда к худшему. Нынешние формы естественнее, свободнее, развязнее, изящнее. Стих Жуковского и Пушкина победил старый стих. Это неоспоримо. Но никого и не принуждают держаться старого почерка, когда усовершенствованная каллиграфия ввела новые образцы. Из того не следует, что не надобно читать и хорошее, когда писано оно старым почерком, почерком своего времени. Милости просим, пишите пушкинскими стихами, если кто из вас умеет ими писать; но что мы такие за деспотические щеголи, что не только сами носим платье по самому новейшему покрою и повязываем шейный платок таким узлом, что старине и присниться бы он не мог, но не пускаем на глаза свои и несчастных стариков, которые не одеты, не приглажены и не причесаны как мы?
Это напоминает гробовщика, который объявляет в газетах, что он для желающих изготовляет гроба в новейшем вкусе и совершенно нового фасона.
234*
Александр Булгаков рассказывал, что в молодости, когда он служил в Неаполе, один англичанин спросил его: «Есть ли глупые люди в России?» Несколько озадаченный таким вопросом, он отвечал: «Вероятно, есть, и не менее, полагаю, нежели в Англии». — «Не в том дело, — возразил англичанин, — вы меня, кажется, не поняли: мне хотел ось узнать, почему правительство ваше употребляет на службу чужеземных глупцов, когда имеет своих?»
Вопрос, во всяком случае, не лестный для того, кто занимал посланническое место в Неаполе.
235
Жуковский однажды меня очень позабавил. Проездом через Москву жил он у меня в доме. Утром приходит к нему барин, кажется, товарищ его по школе или в года первой молодости. По-видимому, барин очень скучный, до невозможности скучный. Разговор с ним мается, заминается, процеживается капля за каплею, слово за словом, с длинными промежутками. Я не вытерпел и выхожу из комнаты. Спустя несколько времени возвращаюсь: барин все еще сидит, а разговор с места не подвигается. Бедный Жуковский видимо похудел. Внутренняя зевота першит в горле его; она давит его и отчеканилась на бледном и изможденном лице. Наконец барин встает и собирается уйти. Жуковский, по движению добросердечия, может быть совестливости за недостаточно дружеский прием и вообще радости от освобождения, прощаясь с ним, целует его в лоб и говорит ему: «Прости, душка!»
В этом поцелуе и в этой душке выглядывает весь Жуковский.
Он же рассказывал Пушкину, что однажды вытолкал он кого-то вон из кабинета своего. «Ну, а тот что?» — спрашивает Пушкин. «А он, каналья, еще вздумал обороняться костылем своим».
236
У нас слова оратор, ораторствовать вовсе не латинского происхождения, а чисто русского — от слова орать. Послушайте наших застольных и при торжественных случаях витий!
237
Начало Арзамасского общества следующее: князь Шаховской написал комедию Липецкие Воды (еще прежде написал он на Карамзина комедию Новый Стерн). В Липецких Водах выставил он балладника, т.е. Жуковского. Разумеется, все наше молодое племя закипело и вооружилось. Дмитрий Николаевич [Блудов] написал Видение в Арзамасе (желательно было бы отыскать его). Подобное тому, что аббат Morlet написал под заглавием La Vision, вследствие комедии Les philosophies, в которой Palissot выставил многих из тогдашних энциклопедистов. Дашков написал и напечатал в Сыне Отечества письмо к новейшему Аристофану и куплеты с припевом: «Хвала тебе, о, Шутовской». Я разлился потоком эпиграмм и, кажется, первый прозвал Шаховского Шутовским, как после и Булгарина окрестил в Фиглярина и Флюгарина. Это Видение в Арзамасе и передало нашему литературному обществу свое название. Деятельными учредителями, а после и ревностнейшими членами были Дмитрий Николаевич, Жуковский и Дашков. Я тогда жил еще в Москве. Наименованный членом при самом основании его, начал я участвовать в нем позднее, то есть в 1816 г., когда приезжал я в Петербург с Карамзиным, который привозил восемь томов своей истории в рукописи, для поднесения императору. В уставе общества было сказано, между прочим, следующее: «По примеру всех других обществ, каждому нововступающему члену Арзамаса подлежало бы читать похвальную речь своему покойному предшественнику; но все члены нового Арзамаса бессмертны, и так, за неимением собственных готовых покойников, новоарзамасцы положили брать на прокат покойников между халдеями Беседы и Академии». Протоколы заседаний, которые всегда кончались ужином, где непременным блюдом был жареный гусь, составлены были Жуковским, в них он давал полный разгул любви и отличной гениальности своей и способности нести галиматью. Все долго продолжалось одними шутками, позднее было изъявлено желание дать обществу более серьезное, хотя исключительно литературное, направление и вместе с тем издавать журнал. Кажется, граф Блудов составил новый проект устава. Но многие члены разъехались, обстоятельства изменились, и все эти благие намерения преобразования остались без последствия. Самое Общество умерло естественной смертью или замерло в неподвижности, остались только дружеская связь между членами и употребление наших прозвищ в дружеских наших переписках. Карамзин писал об этом обществе из Петербурга в Москву к жене своей: «Здесь из мужчин всех любезнее для меня арзамасцы — вот истинная русская академия, составленная из молодых людей умных и с талантом». Для подробностей и хронологических справок обо всем этом можно обратиться к Запискам Вигеля. Один экземпляр их хранится в Императорской библиотеке, а другой, как я слышал, куплен Катковым у наследников. Вероятно, все эти справки и подробности там находятся и могут служить руководством, хотя в сущности эти Записки, может быть, и подлежат иногда сомнению для тех, которые знали характер и пристрастие автора.
238*
В конце минувшего столетия было в Петербурге вовсе не тайное, а дружеское и несколько разгульное общество, под именем Галера. Между прочим были в нем два Пушкина: Алексей Михайлович и Василий Львович — и Хитров, в свое время ловкий и счастливый волокита. Сей последний был что-то вроде Дон-Джовани. Любовные похождения были в то время в чести и придавали человеку известность и некоторый блеск. Нравы регентства были не чужды нам, и знаменитый по этой части Ришелье мог бы найти в России совместников себе, а может быть, у кого-нибудь и поучиться. Рассказывали Про Хитрова, что он на разные проделки в этом роде был не очень совестлив. Не удастся ему, например, достигнуть где-нибудь цели в своих любовных поисках, он вымещал неудачу, высылая карету свою, которая часть ночи стоит неподалеку от жительства непокорившейся красавицы. Иные подмечали это, выводили из того заключения свои, а с него было довольно. Впрочем, он был умен, блистателен и любезен; товарищи и молодежь очень любили его. Он был образован и в своем роде литературен. Алексей Пушкин рассказывал, что однажды на военной сходке заметил он книжку в гусарской сумке его: это были элегии Парни, только что изданные в Париже. Хитров бросился к Пушкину и говорит ему: «Ради Бога молчи и не губи меня! Товарищи в полку любят меня потому, что считают меня служакой и гулякой и чуть ли не безграмотным. Как скоро проведают они, что занимаюсь чтением французских книг, я — человек пропадший и мне в полку житья не будет». Хитров был очень любим великим князем Константином Павловичем, который умел ценить ум и светскую любезность. Пользовался он и благоволением императора Александра. Умер он в царствование его, кажется во Флоренции, посланником при тосканском дворе. Был он женат на дочери князя Кутузова-Смоленского, вдове графа Тизенгаузена, незабвенной в петербургских преданиях Елизавете Михайловне.
Вот еще любезная личность, которую миновать не может сочувственное воспоминание. В летописях петербургского общежитья имя ее осталось так же назаменимо, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмонт, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в двух этих салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий; был и premier Petersbourg с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше — эта всемирная изустная разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь. А какая была непринужденность, терпимость, вежливая и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах! Даже при выражении спорных мнений не было и слишком кипучих прений: это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок, система: free trade [свободная торговля], приложенная к разговору. Не то что в других обществах, в которых задирчиво и стеснительно господствует запретительная система: прежде чем выпустить свой товар, свою мысль, справляешься с тарифом; везде заставы и таможни.
В числе сердечных качеств, отличавших Елизавету Михайловну Хитрову, едва ли не первое место должно занять, что она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено; но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого. Несчастная смерть Пушкина, окруженная печальною и загадочною обстановкою, породила много толков в петербургском обществе; она сделалась каким-то интернациональным вопросом. Вообще жалели о жертве; но были и такие, которые прибегали к обстоятельствам, облегчающим вину виновника этой смерти, и если не совершенно оправдывали его (или, правильнее, их), то были за них ходатаями. Известно, что тут замешано было и дипломатическое лицо. Тайна безыменных писем, этого пролога трагической катастрофы, еще недостаточно разъяснена. Есть подозрения, почти неопровержимые, но нет положительных юридических улик. Хотя Елизавета Михайловна по змеиным связям своим и примыкала к дипломатической среде, но здесь она безусловно и исключительно была на русской стороне. В Пушкине глубоко оплакивала она друга и славу России. Помню, что при возвращении из-за границы в Петербург, при выходе моем с парохода на берег, узнал я о недавней кончине Елизаветы Михайловны. Грустно было первое впечатление, приветствовавшее меня на родине: не стало у меня внимательной, доброй приятельницы; вырвано главное звено, которым держалась золотая цепь, связывающая сочувственный и дружеский кружок; опустел, замер один из петербургских салонов, и так уже редких в то время.
239
А вот жемчуг печатных проказ и злости. Был когда-то молодой литератор, который очень тяготился малым чином своим и всячески скрывал его. Хитрый и лукавый Воейков подметил эту слабость. В одной из издаваемых им газет печатает он объявление, что у такого-то действительного статского советника, называя его полным именем, пропала собака, что просят возвратить ее — и так далее, как обыкновенно бывает в подобных объявлениях. В следующем № является исправление допущенной опечатки. Такой-то — опять полным именем — не действительный статский советник, а губернский секретарь. Пушкин восхищался этой проделкою и называл ее лучшим и гениальным сатирическим произведением Воейкова.
240
Мы говорили выше о веселом обществе Галера. Василий Львович Пушкин был в нем запевалом. Вот отысканный в старых бумагах первый куплет песни, пропетой им в последний день масленицы:
Плыви, Галера, веселися,
К Лиону в маскарад пустися.
Один остался вечер нам!
Там ждут нас фрау-баронесса,
И сумасшедшая повеса,
И Лиза Карловна уж там.
Веселое, молодое время! Любезный поэт Опасного соседа тогда не говорил: «Ох, дайте отдохнуть и с силами собраться».
Тогда он не думал и не хотел отдыхать, а с ним и все поколение его. С силами собираться было нечего: силы были все налицо — свежие, кипучие. Вносим все это в поминки свои, в грешные поминки! Но в свое время все это было, жило, двигалось, вертелось, радовалось, любило, пело, наслаждалось; иногда, вероятно, грустило и плакало. Все эти люди весельчаки, имели утро свое, полдень свой и вечер; теперь все поглощены одною ночью. Почему ночному караульщику не осветить мимоходом эту ночь, не помянуть живым словом почивших на ее темном и молчаливом лоне? Почему мельком, на минуту, не собрать эти давно забытые, изглаженные черты? не расцветить их, не дать им хотя призрак прежнего облика и выражения? Почему не перелить в один строй, в один напев, эти разлетевшиеся звуки и отголоски, давно умолкшие? Но от них никакой пользы и прибыли не будет. Не спорю. Но и от сновидения ничего не дождешься, а все же как-то приятно проснуться под впечатлением приснившегося отрадного и улыбчивого сна. Почему, наконец, не помянуть и неизвестную нам Лизу Карловну, puisque Лиза Карловна <неразборчиво> ей. Шиллер обессмертил же в своем Wallenstein Lager красавицу из пригородка, близ Дрездена: «Was! der Hitz! Das ist die Gustel aus Hasevitz».
В пятидесятых годах еще показывали путешественникам эту Gustel, которая в молодости тронула сердце поэта, но без успеха для него, так что, по иным рассказам, он упрятал ее в стих более с сердцов и злопамятства. Василий Львович, разумеется, далеко не Шиллер; но зато можно заключить из доброты его, что если он упомянул о Лизе Карловне, то, наверное, из благодарности.
Все эти выше разбросанные заметки, куплеты, газетные объявления и так далее сами по себе малозначительны, взятые отдельно; но в совокупности они имеют свой смысл и внутреннее содержание. Все эти отголоски когда-то живой речи, указатели, нравственно-статистические таблицы и цифры, которые знать не худо, чтобы проверить итоги минувшего. Мы все держимся крупных чисел, крупных событий, крупных личностей, дроби жизни мы откидываем, но надобно и их принимать в расчет.
Французы изобилуют сборниками подобных мелочей. Историки их пользуются ими, а потому история их оживленнее, люднее, нежели другие. Они не пренебрегают ссылаться на современные песни, сатиры, эпиграммы. Один подобный рукописный сборник, известный под именем Monrepos, хранится бережно в государственном архиве, в многотомных фолиантах. Можно сказать, что все царствование Людовика XV переложено на песенник. Известный Храповицкий оставил после себя большую рукопись, в которой собраны были многие любопытные и неудобопечатаемые, по крайней мере в то время, случайные и карманные, более или менее сатирические стихотворения. Тут и важный Ломоносов был вкладчиком с одою к бороде или о бороде (одою, вовсе не похожею на другие торжественные и официальные оды его). Были тут и сатиры и куплеты князя Дмитрия Горчакова, сказки довольно скоромные Александра Семеновича Хвостова и, помнится, Карабанова, переводчика вольтеровой Альзиры. Находилось и стихотворение, которое можно было, по складу и блеску, приписать Державину. Помню из него два стиха, и то не вполне.
Когда таврическая ночь
Брала себе...на лоно...
Было тут несколько исторических эпиграмм, бойких и едких. Являлся тут со стихами своими и какой-то Панцербитер — имя, кажется, не поддельное, а настоящее. Кто теперь знает, что был у нас поэт Панцербитер? Где эта рукопись? Вероятно, сгорела она в московском пожаре 12-го года. По крайней мере, все попытки отыскать ее оказались напрасными. На всякий случай здесь изложена явочная пометка о пропавшей без вести. В Вестнике Европы, издания Жуковского, было напечатано несколько эпиграмм, взятых из этого сборника и, разумеется, позволительных и целомудренных.
241*
Кажется, можно без зазрения совести сказать, что русский народ — вообще поющий и пьющий. Наш простолюдин поет и пьет с радости и с горя; поет и пьет за работою и от нечего делать, в дороге и дома, в праздник и в будни. В Германии, например, редко услышишь отдельную и одинокую песню. Но зато в каждом городке, в каждом местечке есть общество, братство пения; а иногда два-три ремесленника, цеховые, сбираются, учатся петь, спеваются, иногда очень ладно и стройно; потом сходятся в пивную и, за кружками пива, дают вокальные концерты, что любо послушать. Немцы и французы имеют целую литературу застольных песней. А мы, охотно поющие и охотно пьющие, ничего такого не имеем.
В старых московских бумагах отыскалась подобная исключительная застольная песня, которую сюда и заносим:
Веселый шум, пенье и смехи,
Обмен бутылок и речей:
Так празднует свои потехи
Семья пирующих друзей.
Все искрится — вино и шутки!
Глаза горят, светлеет лоб,
И взачастую, в промежутки,
За пробкой пробка хлоп да хлоп.
Хор
Подобно, древле, Ганимеду,
Возьмемся дружно заодно.
И наливай сосед соседу:
Сосед ведь любит пить вино!
Денис! Тебе почет с поклоном,
Первоприсутствующий наш!
Командуй нашим эскадроном
И батареей крупных чаш.
Правь и беседой и попойкой:
В боях наездник на врагов,
Ты партизан не меньше бойкий
В горячей стычке острых слов.
Хор
Подобно, древле, Ганимеду и проч.
А вот и наш Американец!
В день славный, под Бородиным,
Ты храбро нес солдатский ранец
И щеголял штыком своим.
На память дня того Георгий
Украсил боевую грудь:
Средь наших мирных братских оргий
Вторым ты по Денисе будь!
Хор
Подобно, древле, Ганимеду и проч.
И ты, наш меланхолик милый,
Певец кладбища, русский Грей,
В венке из свежих роз с могилы,
Вином хандру ты обогрей!
Но не одной струной печальной
Звучат душа твоя и речь.
Ты мастер искрой гениальной
И шутку пошлую поджечь.
Хор
Подобно, древле, Ганимеду и проч.
Ключа Кастальского питомец
И классик с головы до ног!
Плохой ты Вакху богомолец
И нашу веру пренебрег
По части рюмок и стаканов;
Хоть между нами ты профан,
Но у тебя есть твой Буянов:
Он за тебя напьется пьян.
Хор
Подобно, древле, Ганимеду и проч.
Законам древних муз подвластный,
Тибула нежный ученик!
Ты с Юга негой сладострастной
Смягчил наш северный язык.
Приди и чокнемся с тобою,
Бокал с бокалом, стих с стихом.
Как уж давно душа с душою,
Мы побраталися родством.
Хор
Подобно, древле, Ганимеду и проч.
Нас дружба всех усыновила.
Мы все свои, мы все родня,
Лучи мы одного светила,
Мы искры одного огня.
А дни летят и без возврата!
Как знать? быть может, близок час,
Когда того ль, другого ль брата
Недосчитаемся средь нас.
Хор
Пока, подобно Ганимеду,
Возьмемся дружно заодно.
Что ж? Наливай сосед соседу…
[1] Непериодическое издание драматических сочинений (43 т.), выходившее с 1786 по 1794 г.
[2] 3a этими инициалами почти всегда скрывается сам Вяземский. Очень часто те же замечания, которые в тексте, предназначенном им для печати, приписываются NN. в черновых частях «Записных книжек» откровенно высказываются от первого лица.
[3] В другом месте «Записной книжки» Вяземский пишет: «Ломоносов сказал: «Заря багряною рукою»!
Это хорошо, только напоминает прачку, которая в декабре месяце моет белье в реке. A propos de Гаигоге aux doigts de rose [по поводу розоперстой зари]: все это — a propos людей, которые повторяют, что железные дороги удивительным образам сократили пространства и сблизили расстояния, а иные вольнодумцы, libres penseurs, еще добавляют: по моему мнению. Для меня человек, который это скажет, человек решенный. Кажется, Ривароль сказал: «Que le premier qui a dit» Гаигоге aux doigts de rose «etait un homme d'esprit, le second — un sot» [Первый, кто сказал: «розоперстая заря», — был умный человек, второй — глупец]. Один Гомер и один Жуковский могут повторять это беспрестанно, не надоедая».
[4] Род пушки.
[5] Русский Инвалид — официозный журнал
[6] Игра на двойном смысле фразы: из-за сапог — из-за пустяков.
[7] «Вы меня покидаете, чтобы идти навстречу славе. Мое любящее серлие повсюду следует за вами. Идите, летите в храм памяти, идите, летите, но не забывайте меня»
[8] «Posseder vos appas» — по-французски как-то неловко, а по-русски было бы уже чересчур материально. — Прим. П.Вяземского.
[9] Французская куртизанка.
[10] На мосту Кузнецов (Кузнецкий Мост)... В России нет маршалов, кроме меня. (Непереводимая игра слов, основанная на созвучии во французском языке слов маршал и кузнец.)
[11] Карамзиным
[12] Так Овидий назвал стихи, которые он писал в изгнании.
[13] Который потом... но тогда он был добродетелен — Прим. П.Вяземского.
[14] Карцева. — Прим. П. Вяземского
[15] «О, ангел предоставленный небу! Желал бы я знать, где ты ходила, чтобы целовать ту землю». — Перевод П.Вяземского.
[16] Намек на строки из Евгения Онегина:
Не дай мне Бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шали
Иль с академиком в чепце.
[17] «Всеобщее благосостояние в России» (Каламбур основан на созвучии слов: генерал и всеобщий.)
[18] Благодарю, батушка, благодарю.
[19] «Боги, почему не сижу я в тени лесов! Когда смогу я сквозь благородную пыль следить взором за убегающей колесницей?»
[20] Жена французского банкира; красавица, прославившаяся салоном, в котором в течение многих лет собирались представители науки, искусства и политики.
[21] Почт-директорами были два брата — Константин и Александр Булгаковы — оба приятели Вяземского и Тургеневых.
[22] Так везде у автора.
[23] Европеец — журнал И. Киреевского, будущего идеолога славянофильства, — начал издаваться в 1831 г. и на втором номере был запрещен правительством.
[24] М.Л.Яковлев.
[25] «Отечество там, где душа закрепощена» — Перевод П.Вяземского.
[26] Я не знаю, хорош ли повар, но знаю, что он мой». — Перевод П. Вяземского.
[27] Петербургский ресторатор. — Прим. П.Вяземского.
[28] Лопухин был масоном.
[29] Знаменитая французская писательница, автор романов и книги «О Германии», ознакомившей Францию с идеями немецкого романтизма.
[30] :Бенжамен Констан — автор нашумевшего романа «Адольф», в конце 20-х гг. переведенного Вяземским на русский язык.
[31] «Когда черт стареет, то делается отшельником». — Перевод П. Вяземского.
[32] Отец декабриста.
[33] «Я был молод и горд». — Перевод П.Вяземского.
[34] Отец П.А.Вяземского.
[35] «Графиня, не угодно ли вам сделать мне честь протанцевать со мною польский?» — Перевод П.Вяземского.
[36] Когда на крыльях удовольствия». — Перевод П.Вяземского.
[37]«Любимое дитя дам, я во всех странах был очень хорош с женами, нехорош с мужьями». — Перевод П.Вяземского
[38] Актер французской труппы, игравшей в Петербурге 1819 г.
[39] Антонский имел привычку прилагать к словам частичку: то — Прим. П.Вяземского.
[40] Поэма Пушкина: Опасный сосед. — Прим. П.Вяземского. Намек на строки из Опасного соседа:
Проклятая, стыжусь, как падок, слаб ваш друг.
Свет в черепке погас и близок был сундук...
[41] Шишков где-то намекал, что Пушкин таскался только по парижским улицам и переулкам. — Прим. П.Вяземского.
[42] Шаховской отличался необыкновенной тучностью.
[43] Намек на острословие графа Д.Н.Блудова: ты в «Шубах», Шутовский, холодный; в «Водах» ты, Шутовский, — сухой. — Прим. П. Бартенева.
[44] Беседа была разделена на четыре разряда, из которых каждый имел действительных членов и сотрудников.
[45] Стих из Телемахиды, огромной эпической поэмы Тредьяковского. Цитата не точна, у Тредьяковского:
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй.
[46] Ввиду того, что город Арзамас славился породой гусей, гусь был избран символом литературного Арзамаса и в жареном виде составлял непременную принадлежность арзамасских ужинов.
[47] Прозвища Шишкова — Мешков, Дед Седой,Славено-фил, а также прозвища Шутовской (Шаховской), Хлыстов (Хвостов), Барабанов (Карабанов) — взяты из полемической арзамасской литературы; главным образом из Певца в беседе славянороссов (эпико-лиро-комико-эпорадический гимн) Батюшкова, где читаем:
Хвала тебе, Славенофил, О муж неукротимый!
Хвала тебе, о дед седой!
А также из блудовского «Видения в какой-то ограде», прозаической сатиры, действие которой происходит в арзамасском трактире (отсюда и пошло название Арзамас). Там неудачливый литератор (очевидно, шишковец) произносит следующую речь: «И клял я судьбу мою, творящую наперекор мне во всех дедах моих, ибо слезчив в сатирах своих и забавен в своих трагедиях; и хочу я, чтоб смеялись над врагами моими, и смеются одни враги мои; и люблю я красавицу, и урод я мне любовница; и пишу я стихи, и стихи мои — проза. И вздохнул я от глубины утробы моей и воскликнул я гласом великим и тонким: «о, кто стихам моим даст игривость и легкость Мешкова и силу тельца Барабанова и чистоту двух Хтыстовых!»
[48] Стих из Опасного соседа, относящийся к Шаховскому:
Сидела сводня тут с известною красоткой
Две гостьи дюжие смеялись, рассуждали.
И Стерна Нового, как диво, величали. —
Прямой талант везде защитников найдет..
[49] (Басня) сочинение В.Л.Пушкина, которую он особенно любил читать. — Прим. П.Вяземского.
[50] Стихи Шишкова.
[51] Арзамасцы объявили Тредьяковского патриархом и покровителем шишковцев. В сатире Батюшкова — певец обращается к тени Тредьяковского:
Почто на нас, о муж седой,
Вперил ты страшны очи9
Мы все клялись, клялись тобой —
С утра до полуночи
Писать как ты, тебе служить.
Мы все с рассудком в ссоре И Т.Д.
[52] Намек на сцену из «Опасного соседа», когда в момент скандала и драки
.... спокойствия рачитель.
Брюхастый офицер, полиции служитель.
Вступает с важностью в мундирном сюртуке.
«Потише, — говорит, — вы здесь не в кабаке.
Пристойно ль, господа, у барышень вам драться?»
[53] В «Опасном соседе» эту фразу Автору говорит проститутка.
[54] Всем членам Арзамаса были даны прозвища, взятые по большей части из баллад Жуковского и обыгранные далее П. Вяземским. Асмодей (из романа Лесажа Хромой бес) — прозвище Вяземского; Старушка — С.С. Уваров, Красная девушка, т.е. Светлана, — Жуковский. Ч у — Д.В. Дашков; Кассандра — Д. Н. Блудов; Очарованный челнок — П И. Полетика; Резвый Кот —Д.П. Северин; Ивиков журавль — Ф.Ф. Вигель; Эолова арфа — АИ. Тургенев, прозванный так за бурчание в животе. Громовой — С.И. Жихарев.
[55] В 1810 г, Батюшков написал на Шихматова эпиграмму:
Какое хочешь имя дай
Твоей поэме полудикой:
«Петр длинный». «Петр большой», но только «Петр великий» —
Ее не называй.
[56] Намеки на поэмы князя Шихматова. — Прим. П.Вяземского.
[57] Хвостов в одной басне своей придал зубы голубю. — Прим. П. Вяземского.
[58] Опять намек на тучность Шаховского.
[59] Говорится про моряка, князя Шихматова. — Напомним читателю, что в Арзамасе в каждом заседании отпевали и хоронили кого-нибудь из членов Беседы. — Прим. П.Вяземского.
[60] Обращаясь к Шишкову, Шихматов писал о людях, говорящих в обществе по-французски:
Узрев лице твое сурово.
Он дрожь почувствует и страх.
И пиитов дерзостное слово
Умрет на трепетных устах.
[61] Произведения Шишкова и Шаховского.
[62] Шишков занимался корнесловием, т е. производил новые слова непременно от русских или славянских корней.
[63] Д.И. Хвостов.
[64] Н.И. Соколов, непременный секретарь Российской академии.
[65] «Покойник» — князь Ширинский-Шихматов, никогда не употреблявший в своих стихах глагольных рифм. В Домике в Коломне Пушкин назвал его «Шихматов безглагольный». В письме 1816 г. лицеист Пушкин называет Вяземского: «князь, гроза всех князей-стихотворцев на Ш» (т.е. Шаликова, Шаховского, Шихматова).
[66] Известные книгопродавцы.
[67] Речь идет об Александре II и императрице Марии Александровне.
[68] Вследствие созвучия получается: «Я имею счастье быть до гроба прикрепленным к большой виселице вашего величества».
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
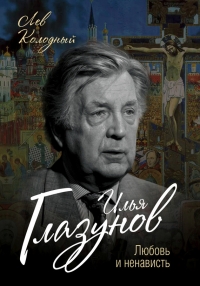

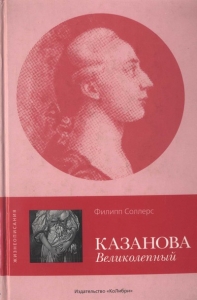
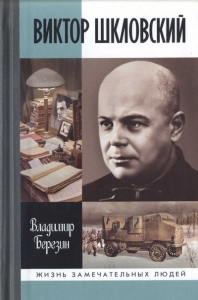
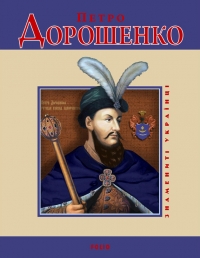




Комментарии к книге «Старая записная книжка», Петр Андреевич Вяземский
Всего 0 комментариев