Соболев Семен Никитович
Исповедь
Hoaxer: Воспоминания С.Н. Соболева написаны непосредствено и живо. Соболев, будучи призванным на военную службу в 1942 г., попал в Асинское военно-пехотное училище, но их курс был выпущен в феврале 1943 г. досрочно, без присвоения офицерских званий, и Соболев стал артиллеристом (76-мм паб). Воевал в составе 2-го Укранского фронта, прошёл Румынию, Венгрию, Чехословакию, где встретил Победу. После войны служил в Германии. Мемуары Соболева в сокращённом варианте были выпущены издательством "Приамурские ведомости" под названием "Фронтовыми дорогами: воспоминания ветерана Великой Отечественной войны". Электронное же издание - полное, без купюр.
Содержание
Развязывая узелки памяти
В военном училище
Аты-баты, шли солдаты...
На Второй Украинский фронт
По Румынии
По Венгрии
По Чехословакии
Конец войне
Бросок в Германию
Дембель
Эпилог
"Нам дороги эти позабыть нельзя...". Е. Олейникова
Развязывая узелки памяти
Родился я в селе Лебяжье Ново-Егорьевского района Алтайского края. Село наше растянулось по степи в одну улицу на несколько верст, в центре его стояла церковка с зеленой колоколенкой и от нее в обе стороны в один ряд шли крестьянские дома и избы, обернувшись окнами к растянувшемуся узкой лентой пресному озеру, за которым сразу же начинался сосновый бор. На задах крестьянских усадеб располагались огороды и бани, а за ними расстилалась бескрайняя степь.
Родители мои были крестьянами. Наша избушка стояла на самом краю села. Два подслеповатых оконца смотрели на луг, поросший травкой-муравкой, за которым был выгон, уходивший далеко влево, вдоль соснового бора. Здесь же перед нашей избушкой, за лугом заканчивалось озеро и у конца его в полдень пестрело стадо сельских коров, с раннего утра напасшееся на выгоне и в полдневный зной перебывавшее на водопое у озера. Влево, в степь, уходила накатанная крестьянскими телегами дорога к нашим заимкам, где были хлебные пашни.
Треть избушки занимала русская печь - постоянное наше обиталище в долгие зимние вечера, перед печью стол, а за ним вдоль всей стены широкая лавка, на которой можно было, и сидеть, и прилечь; в другом углу - иконы, а напротив печи, у двери, сработанная деревенским столяром кровать отца и матери с подвешенной под матицей люлькой, в которой по очереди начинали жизнь мы, дети, в свои первые годы на земле.
Продолжением избы были холодные сени, в которых стоял ларь с мукой и караваями печеного хлеба, по стенам висела не нужная по сезону одежда, лошадиная сбруя и прочая утварь, А над ларем было маленькое оконце, смотревшее в огород и в сторону уходившей в степь, к заимкам дороги, В это оконце часто посматривала мама, ожидая с пашни или сенокоса "мужиков", чтобы поскорее собирать на стол. А "мужики" - это мой отец и мой старший брат Ваня, которому в ту пору едва ли было десять лет. Но каким же он тогда казался мне взрослым парнем! Хотя он не мог запрячь лошадей, маловато было силенки, но он уже мог ими править, а это уже много для крестьянского мальчишки, и для отца такая помощь много значила, когда они на двух телегах ездили за сеном или за дровами в бор, или возили хлеб с пашни.
Продолжением сеней был коровник и курятник под одной крышей, чтобы курам зимой было теплее. За ним, тоже под одной крышей, стоял сеновал, продолжением которого была конюшня. На отшибе от конюшни в самом дальнем углу двора стоял рубленый амбар с урожаем хлеба. В центре двора располагался колодец с журавлем, деревянной бадьей и длинной колодой, в которую наливали воду для скотины. Для питья воду брали из колодца, который был вырыт на улице, перед домом дедушки Дмитрия, еще один колодец мой отец вырыл за избой в огороде, где росла всякая зелень, требующая полива.
Двор наш, огороженный забором в две жерди, был открыт всем ветрам, и зимой его вместе с избушкой заносило снегом. Мы прямо с крыши на ледянках, слепленных из теплого коровьего навоза и облитых на морозе водой, лихо катались с горки. В долгие зимние ночи к самым окнам подбегали стаи волков, печально и жутко выли. Отец, боясь, как бы они не заели последнюю коровенку, выходил за дверь и ударами железа о косу отгонял их.
Летом наша плоскокрышая избушка, забросанная сверху землей, прорастала всяким бурьяном и вокруг, и сверху, и для нас, малышей, была чем-то сказочным. Однако с самой ранней весны, когда появлялись самые крошечные проталинки, нас уже тянуло на лужок перед окнами. В какой-то из ранних весенних праздников, возвещавших приход весны, мама выпекала из теста птичек жаворонков с распластанными крыльями. Мы брали их, выходили на первые проталинки, подбрасывая кверху, призывали прилет настоящих жаворонков, скворцов, синичек. И уж скоро, скоро прилетят они с юга и засвистят свои радостные трели...
И однажды, в какое-то утро и жданно, и неожиданно вдруг подует теплый ветер, во дворе сразу сделается тепло, с крыш зазвенит веселая капель, появятся лужицы воды и веселые весенние ручейки. Вот уж где для нас начинается работа - расчищать ручейки, помогать им быстрее уносить воду, пускать кораблики, сделанные из всякого корья, и уж, конечно, погрызть сосульки. Полянки все растут и растут, сливаясь друг с другом, и уже вся степь начинает чернеть, только кое-где белея проплешинами снега, и из разогретой степи вдруг хлынет поток талой воды через наш лужок по неглубокому ложку, поросшему травкой, прямо к нашему озеру. Вот уж счастье-то где! Мальчишки постарше начинают играть в лапту, или чижик, или вдруг ватагой уходят в степь, а с ними и мы, малыши, где по логам шумят бурные вешние воды. И разве можно вовремя уйти домой от такой красоты? И мальчишки постарше, благо, что весенняя страда еще не началась, и мы, мелюзга, возвращаемся домой только к позднему вечеру с загорелыми лицами, с промокшими ногами, голодные, как волчата, но бесконечно счастливые. Дома, конечно, нас ждет нагоняй. Малышей загоняют на печь отогревать озябшие от сырости ноги, а с тех, что постарше, спрос особый, за недогляд за малышами. Нам их жалко и мы изо всех сил стараемся взять вину на себя, все твердим и твердим, что мы сами, нас никто не звал и не брал, что мы все сами, сами...
- Сидите уж, мокроносые, а то я вот вам! - грозит мама. Но мы знаем, это она так, только стращает. Она у нас добрая, наша мама. Она нас никогда, никогда не наказывала битьем.
Но это было потом, когда мне было уже года четыре, а до этого...
Из выживших детей я был третьим ребенком в семье. Старше меня был мой брат Ваня, которого мы все очень любили и частенько дрались между собой за право спать рядом с ним. За ним шла моя сестренка Аня, потом я, а за мной мой младший братишка Кузя, который качался еще в колыбельке.
Родился я поздней ненастной слякотной осенью. И жизнь моя на земле начиналась, как разгораются мокрые дрова в печке: дымят, шипят, а ни тепла, ни света. И где-то месяца через полтора-два, как рассказывали потом бабушки, совсем уж собрался отдать богу душу. Спасло, видно, то, что в те времена не было современного множества болезней, которые в нас открывают теперь доктора. Тогда было всего одно болезненное состояние: "захворал" и выхода из этого состояния было всего два - "поправился" или "помер". Ни врача, ни фельдшера ближе сорока верст не было, и всех болящих пользовали деревенские бабки. И когда я уже дышал на ладан, консилиум их, ссылаясь на мою невообразимую худобу, порешил, что у меня приключилась хворь под экзотическим названием "собачья старость". А раз собачья старость, то надо ее и изгонять известным способом. И вот натопили бабки баню по-черному, притащили меня туда, туда же приволокли заблудящего щенка, разложили нас на полке, наподдавали пару, и начали нас, чередуя удары, охаживать березовым веником: то по мне, то по щенку, то по мне, то по щенку...
Я полагаю, что жара была несусветная, мокрые и косматые бабки страшны, и кто из нас громче орал - я или щенок, тому уже нет свидетелей. Дранье это веником должно было продолжаться по неписаным бабкиным лечебникам до тех пор, пока кто-то из нас не окачурится. И хотя худ я был, однако моя взяла щенок сдох, а я выжил. И видно с душой его, переселившейся в меня, вошла в меня на всю оставшуюся жизнь и собачья привязанность к близким мне людям.
Подрастал я все таким же тонким и очень стеснительным. Мой младший братик Кузя был более общительный и бойкий. На призыв отца он подбегал к нему, тот сажал его на нашего смирного коня Рыжку, где он восседал, уцепившись, как клещ, в гриву. Отец был доволен и восклицал:
- Во, мой сын! Весь в меня...
Он и в самом деле, как две капли воды, походил на отца. Когда же отец звал меня, я либо стоял, потупившись, либо жался к маме.
- Э-э-э, мамся, - корил меня отец, - ничего из тебя не выйдет.
И однажды в такую минуту, будучи слегка под шафе, шлепнул меня слегка по попе и подтолкнул в направлении стоявшей тут же мамы. Шлепок этот был всего лишь прикосновением, и боли я не ощутил даже, но как долго в моей детской душе тлела обида на него - ведь это было на глазах всей моей семьи.
Однако когда же я начал сознавать себя в этом мире? Года в два.
Первый раз я остался совершенно один. Был жаркий июльский день. Отец уехал на заимку, Ваня убежал на озеро с ребятишками, мама с моей сестренкой ушла за избу в огород, а я, прихворнувший, уснул. Проснувшись, я обнаружил, что лежу на маминой кровати, в избе никого нет, двери в сени открыты, но дверь во двор заперта. Окна завешаны плотными шалями. Это чтобы в темноте меня не донимали мухи. Лишь маленький лучик, пробиваясь из-под шали, чуть-чуть освещал куть. Мне стало бесконечно жалко себя, разморенного и сном, и хворью, и одиночеством. Чувство заброшенности подчеркивалось редкими поскрипываниями сверчка, обманутого темнотой, и поцвиркивающего за печкой, да бесконечным жужжанием большой мухи, бившейся о стекло. Я было хотел уже зашмыгать носом, но скрипнула дверь и, тихо ступая босыми ногами, вошла мама. Она потрогала мой лоб ладонью, пахнущей землей, солнцем и огородными травами.
- Проснулся, сынок? Давай я тебя умою и покормлю.
Прикосновение маминых рук... Что может сравниться с ними? Они снимают все страхи, все обиды, все боли. Это они делают окружающий мир таким добрым и безопасным - мамины руки.
Они запомнились мне еще одним случаем. Было лето, я, будучи уже большим, года в три-четыре, бегал по лугу перед нашим двором со своим сверстником Митькой Ситниковым, жившим от нас через два двора, мы с ним там всегда бегали после обеда. До обеда там паслись гуси, и ходить туда в это время мы побаивались. Старые гусаки и гусыни с гусятами, охраняя свое стадо, гонялись за нами и, если догоняли, то больно щипали за ноги. А к полудню, напасшись на траве, гуси вдруг с гоготом срывались и летели к озеру, где и плавали там до самого вечера. Вот в эту пору лужок был уже наш. Мы с Митькой ползали там, искали кандык и ели его, и ничего в этот миг не было вкуснее этого кандыка. Мама моя в эту пору принялась шить мне рубашку. Машинки швейной у нее не было, шила она иглой на руках, кроила, как бог на душу пошлет, поэтому шила медленно и долго, часто окликая меня, чтобы я прибежал на примерку. Я прибегал с лужка, становился перед мамой в ожидании ее волшебных прикосновений. Мама набрасывала на меня кое-где схваченные куски материи, прикладывала их на мне руками, приглаживала, подтягивала, поправляла. Прикосновения ее рук были легкими, едва ощутимыми, она что-то приговаривала про себя, а все мое маленькое тельце обволакивала какая-то блаженная аура, сердечко мое замирало от счастья, по спине к затылку ползли мурашки и волосики на голове от блаженного напряжения вставали дыбом. Я почти терял сознание от неизмеримого счастья. Но в это время, уже прикинув, что к чему, мама снимала с меня недошитую рубашку и ласково говорила:
- Иди, играй...
А я не мог сдвинуться с места, пытаясь продлить этот миг счастливейшего блаженства,
- Иди, иди, я тебя еще позову, - говорила мама, и я убегал на свой лужок к Митьке.
Вот так однажды, играя на лужке с Митькой, мы завозились с ним, я повалил его и сел на него верхом.
- Эй, вы, абсатары! - услышал я окрик отца, выезжавшего на телеге со двора. Он всегда кричал нам это свое "абсатары", когда между нами начиналась слишком бойкая возня, что это означало, мы не знали, но тут же утихали. На этот раз, услышав окрик отца, я бросился к дороге, рассчитывая, что он возьмет меня на заимку, где я еще ни разу не был. Но отец крикнул, чтобы я шел домой, и подхлестнул лошадь. Я прибавил резвости и пустился следом, думая, что подальше от дома он все-таки возьмет меня. И отъехав уже изрядно, отец вдруг действительно остановил лошадь. Я с радостью, запыхавшись, подбежал к телеге, уже воображая, как далеко сейчас прокачусь. Но каково же было мое разочарование, когда отец взял меня за плечики, круто повернул лицом к дому, шлепнул по попке, а сам сел в телегу и покатил дальше один. Я заревел не от боли, а от обиды, и поплелся к дому, контуры которого расплывались в моих слезах. Однако впереди маячил Митька, я прекратил рев, чтобы потом не задразнили плаксой.
Детское сердечко мое инстинктивно тянулось к старшим: к отцу, к маме, к братику Ване в ожидании ласки. Однажды, набегавшись по лужку, весь прогретый солнцем, я вбежал в прохладную избу и в полумраке заметил отца, отдыхавшего на кровати. Я подошел к нему, прижался бочком к кровати и, потупившись, стоял молча.
- Наигрался? - улыбнувшись одними глазами, спросил он, а сам положил свою руку на мою стриженую голову и, пошевеливая пальцем, долго поглаживал вставшие вдруг ежиком мои волосы. Так почесывают за ухом, лаская, собаку. Так скупо ласкал в ту минуту меня отец. Что значила для меня эта минута, можно только представить. С той минуты прошло уже более семи десятков лет, уже полвека нету на земле моего отца, а я все еще помню этот счастливый миг моего детства. Эти редкие отцовские ласки я объясняю не его суровостью, а постоянной занятостью крестьянской работой. Семья уже в ту пору состояла из шести человек. Ее надо было кормить, одевать, а жила она только за счет натурального хозяйства. И сколько я помню в ту пору, отец еще затемно, до свету, уезжал то на заимку, на пашню, то на сенокос, то возил хлеб с поля, то сено, то ездил в лес за дровами, и возвращался домой только к закату солнышка, а то и совсем уже ночью.
К этому времени мама, бывало, уже избегается во двор, все выглядывая на дорогу - не едет ли, не случилось ли что, не повредились ли лошади, не сломалась ли телега, а зимой - не перевернулся ли на раскате воз с сеном. Лицо ее мрачнело, голос становился глухим и тревожным. И только заслышав родные звуки от постукивания колес нашей телеги, которые она могла отличить от десятков таких же, но чужих звуков, она еще раз стремглав выскакивала во двор, смотрела на дорогу, восклицала: "Наши едут!" - и уже совсем другим, зазвеневшим голосом выдавала нам команды, а сама начинала собирать на стол, выхватывая ухватом чугуны из печи, нарезая хлеб, чтобы накормить уставших "мужиков", с кем бы отец ни приехал - со своим старшим сынишкой Ваней, со своим ли братом дядей Митей, либо с ватагой других мужиков.
Мужики же, не спеша, распрягали лошадей, ставили в стойло, убирали сбрую, только потом с шумом, как казалось нам, загнанным мамой на печь, чтобы не мешались под ногами, заходили в избу. Начинались расспросы, что случилось, почему так задержались и рассказы мужиков. А мы, навострив уши, жадно прислушивались, пытаясь представить себе, что же это за дорога такая, где всякое может приключиться. И как нам хотелось поскорее вырасти, чтобы побывать на этой дороге, прокатиться на высоченном возу с сеном или зимой на санях. Какое же это было счастливое, безмятежное время! Это было ощущение не бессмертия, нет - я тогда еще не знал, что такое смерть и что она существует. Но это было ощущение незыблемости мира. Вот есть мама, отец, братья, сестренка, бабушки и дедушки, есть Митька Ситников, есть наша изба, наш конь Рыжка, перед окнами лужок, за ним бор и степь... И казалось, что все это будет всегда. Надо только проснуться утром и посмотреть вокруг - и вот оно все, что было вчера, позавчера и всегда, было, есть и будет. Как хорошо и спокойно жить в этом мире, где ничего не меняется.
Но почему-то хочется вырасти. Зачем? Я еще не знаю. Но хочется сходить дальше нашего лужка. Вот идти бы и идти в степь, туда, откуда осенние ветры гонят катуны, дойти до края земли, где небо опирается на землю и заглянуть за край... Там, наверное, глубоченный обрыв и туда можно сорваться. Нет, до самого края подходить не надо, нельзя, как мама не разрешает подходить к колодцу, потому что можно упасть в него и утонуть. А за краем земли можно сорваться и улететь совсем с земли. В тартарары, как ругается мама, когда выгоняет из огорода шкодливого поросенка: "Штоб тебе провалиться в тар-тарары, непутевая животина!". Но от нашего огорода и от нашего двора до края земли далеко и поросенок туда не бегает. Поэтому мама и наказывает нам, чтобы мы смотрели за этим пронырой, за поросенком.
Однажды я вышел за ворота и увидел, что чьи-то лошади пощипывают травку у нашего забора. Наверное, это были дедовы лошади, потому что не походили на нашего Рыжку и нашего Серка. Вспомнив наказ мамы следить за поросенком, я подумал, что это тоже непорядок, когда чужие лошади пасутся у нашего забора. Я взял прутик и хлестнул по ногам ближайшего от меня коня. Тот отшагнул шага два и снова стал пощипывать травку. Я подбежал и хлестнул еще раз, конь отошел еще шага три, тогда я подбежал поближе и хлестнул еще раз - и тут же полетел кубарем назад от удара копытом в живот. Будь я подальше, удар пришелся бы в голову, а так это был почти бросок. Мне было не очень больно, но так неожиданно, что, поднявшись на ноги, я ошалело смотрел по сторонам. Однако урок усвоил твердо - конь это не поросенок и сзади к нему подходить нельзя. А к: чужим коням лучше совсем не подходить. Это наш Рыжка смирный и всегда тянется мягкими губами; чтобы ему дали что-нибудь съесть. Когда он пасся за нашим огородом, мы с братом Ваней рвали с подсолнухов листья и давали ему, и он красиво так хрумкал ими. Мы рвали еще этих листьев и относили ему в кормушку на ночь.
Однажды я все-таки попал на заимку с отцом. Как это произошло, как мы собирались, как ехали - не помню, а вот что я был там, помню хорошо. Заимкой оказалась маленькая, будто курятник, избушка и с ней рядом открытый с одной стороны навес, а рядом поле нашей пшеницы, овса, проса. На заимке почему-то кроме нас никого не была. Отец должен был скашивать то ли пшеницу, то ли овес - я в три года еще не разбирался, косилкой с этакими машущими гребками, называвшейся лобогрейкой. У нее было два сидения в виде металлических тарелок на пружинящих кронштейнах - одно спереди для коногона, правящего упряжкой, другое сзади; для косца, который вилами сбрасывал накопившийся охапок скошенной пшеницы. Работа, в самом деле, была монотонной и напряженной. "Грела лоб".
Отец посадил меня на переднюю тарелку без ограждений, наказал, чтобы я держался крепче и я, как клещ, вцепился руками за края сиденья. Сам сел на заднее с вилами и мы поехали. Лошадьми управлять было некому, умный Рыжка сам шел вдоль прокоса точно так, как надо. И все бы ничего, хорошо так покачивало на пружинящей тарелке, проехали один круг, пошли по второму. И тут то ли меня укачало, и я задремал, то ли подкинуло на кочке, но я слетел с сиденья и не успел отец закричать, чтоб кони встали, как железное колесо с зубьями прокатилось через меня. Моя левая рука как-то легла на висок, и колесо прокатилось по руке. Как я не попал под ножи косилки? Ведь могло бы поломать тоненькие детские руки или ноги. И как не поломало их зубчатым колесом? Отец подскочил ко мне, как только кони по его окрику встали, стал осматривать меня, ощупывать, спрашивать, где больно... А на мне ну ни единой царапины, ни синяка. Господь еще раз сохранил меня.
Отец тут же перепряг лошадей в телегу, и мы поехали домой. Мы не сговариваясь, решили никому ничего не рассказывать, особенно маме. Однако мама стала спрашивать, что случилось, почему так рано приехали. Отец уклончиво что-то отвечал о поломке косы, но что-то чуяло мамино сердце - она все приглядывалась ко мне, спрашивала, как мы съездили, что я делал на заимке, но я молчал.
А на другой день, может быть отец ей что сказал, но мама повела меня в церковь ко причастию. Погода была теплая, солнечная. Мы шли по улице, поросшей травкой-муравкой, а я то и дело прятался за маму то от деревенских собак, то от гусей, пасшихся тут же.
В церкви никого не было, кроме батюшки, было тихо, прохладно и все в полумраке. Мама о чем-то поговорила с батюшкой, потом взяла меня на руки и подошла к нему. Это был старичок с серенькой бородкой и в черной рясе. Он дал мне из ложечки что-то кисловато-сладкое, а в руки дал просвирку. Больше я ничего не помню из этого первого посещения храма.
Однажды мы с моим старшим братом Ваней ползали меж кустов картошки и собирали на вареники ягоду черного паслена, которую мы называли бзникой. Мама, пропалывая огород, специально оставляла кустики паслена, чтобы нам было, где пастись летом. А иногда мы отваживались насобирать ягоды в кружечки на вареники. Вот и на этот раз, бросая бзнику то в кружку, то в рот, Ваня спросил меня:
- Сенька, хочешь сегодня поехать со мной в ночное? Я чуть бзнику не рассыпал от неожиданности. Еще бы не хотеть! Конечно, хочу!
Как волчата, однажды выбравшись из логова, с каждым днем кружат все дальше и дальше от него, осваивая окружающий мир, так и мне, перешагнувшему однажды порог своей избы, хотелось побывать все дальше и дальше. А в ночное... Ночное - это когда ватага ребятишек уезжает на ночь на своих лошадях на пастбище, где кони пасутся всю ночь, а мальчишки караулят их, Я там еще ни разу не был, хотя на свете живу уже больше, чем... - и я посмотрел на свои растопыренные три пальца. Считать я еще не умел. Я тут же перестал кидать бзнику в рот, а только в кружку, чтобы поскорее собраться в ночное, хотя день только еще начинался. И так он тянулся бесконечно долго! И мне было боязно - вдруг передумают и меня не возьмут. Но вот, наконец, день склонился к вечеру, солнышко повисло над самыми верхушками бора и я слышу, как мама собирает какую-то одежонку, и наказывает Ване не застудить мальчонку. Это меня.
Сразу: после ужина Ваня вывел из конюшни Рыжку и Серка, подвел к крыльцу избы, а уж с крыльца запрыгнул на Рыжку. Мама подняла меня и посадила впереди Вани.
- С богом! - сказала мама, и мы шагом выехали со двора. Пока ехали шагом, мне было хорошо, но когда Ваня подхлестнул Рыжку и он затрусил вприпрыжку, мне стало страшно - не упасть бы, хотя Ваня придерживал меня с обеих сторон руками. Я вцепился руками в гриву, зад мой отстукивал чечетку о твердую спину Рыжки, было больно, но я терпел и не показывал виду. В поле к нам присоединился дядя Вася и еще два его дружка, которых я не знал. Дядя Вася - это младший брат моего отца, он был ровесником моего брата Вани, и они всегда были неразлучными дружками.
Скоро мы подъехали к ложку в конце выгона, спешились. Ребята стали стреноживать и отпускать пастись коней, а я стоял и смотрел.
- Ну, что, Сенька, жопа не болить? - засмеялся дядя Вася.
- Не - а, - соврал я, незаметно щупая, не до крови ли разбил копчик. Там пощипывало.
- Ну, тогда давай, собирай сухие коровьи лепешки...
Я смотрел и никаких лепешек не видел вокруг себя.
Закончив стреноживать лошадей, парни разбежались по выгону и, пока было еще светло, насобирали и натаскали большую кучу этих "лепешек". Когда стемнело, разожгли небольшой костерок из коровьих лепешек. Здесь, в степи, дров не было. Костерок потихоньку курился дымком, отгоняя комаров. От недалекого озера по низине потянуло прохладой. Небо было чистое и все усеяно мерцающими звездами. Ваня под дымком постелил мне какую-то одежонку, и прикрыл меня чем-то сверху. Было тепло и уютно. Я первый раз смотрел в ночное небо, такое бесконечное, и ждал, что ребята тоже заговорят о нем. Но они сначала пекли в костре картошку и ели, а потом начали рассказывать всякие страшные истории о волках, о разбойниках, о конокрадах... Мне стало страшновато, тем более что за маленьким кружком, едва освещаемом тлеющим костерком, стояла непроглядная чернота ночи. Но парни (а им было лет по десять) сидели спокойно, изредка отходили от костра по малой нужде и опять возвращались. Где-то недалеко паслись кони, и было слышно их пофыркивание. Я успокоился, и глаза мои незаметно сомкнулись. Сон мой был так безмятежен и крепок, что я не заметил, как пролетела ночь.
- Сенька, ясь твою мась, вставай, все ночное проспал! - услышал я окрик дяди Васи, просыпаясь. "Ясь твою мась" - это такое беззлобное восклицание, которое усвоили мои дядья от их сурового отца, моего деда Дмитрия. Как рассказывали старшие, дед однажды услышал от кого-то из них матерное ругательство на плохо тянущих лошадей. Дед спокойно дождался, когда воз встал на место во дворе, отцепил от недоуздка вожки, смотал их в кольцо и давай им охаживать ругателя, приговаривая: "Не ругайся матом, сукин сын, не ругайся матом"... С тех пор мои дядьки забыли про мат, а если и кричали на лошадей, либо на кого-то, то только "ясь твою мась" да "ечмит твою мичь".
Ребята быстро взнуздали лошадей, распутали их, и мы поехали домой. Копчик мой пощипывало, все-таки набил я его до крови - это была единственная моя трата в ночном, но это была моя тайна, о которой никто не должен знать.
Над горизонтом поднималось теплое солнышко, от деревни тянулось стадо коров, степь поблескивала на солнце росой - мир был открытым и добрым.
- Семушка, работничек мой приехал, - встретила нас мама во дворе.
Как хорошо, когда есть братик, мама, Рьжка, наша изба и этот теплый мир под горячим солнцем...
Через несколько дней, как-то во второй половине дня, мама отпарила в шайке мои ноги, сплошь покрытые цыпками, и намазала их сметаной. Ноги щипало нещадно, я только покряхтывал, едва удерживая слезы.
- Что, щипет? - спросила мама, услышав мое кряхтенье. - Вот, не будешь по лужам бегать, А то ишь, все лужи перемерял, поросенок. В избу забежал дядя Вася.
- Няньк, а где Ванька?
- В сарае. А куда это вы?
- На озеро, карасей бреднем ловить будем. Пойдем, няньк?
После женитьбы мой отец жил в семье деда, своего отца, поэтому моя мама нянчилась не только со своими детьми, но и с детьми своей свекрови: с дядей Митей, с тетей Марусей, с дядей Васей. Поэтому и после того, как отец отделился и построил себе избу рядом с усадьбой своего отца, они так и продолжали до самой ее смерти звать мою маму нянькой.
- И я хочу с вами, - встрепенулся я, кинувшись к дяде Васе.
- Опять по воде будешь бродить, - запротестовала мама.
- Не, мы его не пустим. Пусть идеть, нянька, - заступился за меня дядя Вася. - Только штаны одень, а то крась табак откусить... - засмеялся дядя Вася.
Дядя... Это мне он казался взрослым. А в самом деле, дядя Вася был ровесником моего старшего брата Вани, и им было лет по десять или около того. Дяде Мите было лет двенадцать.
Когда мы вышли, дядя Митя с бреднем на плече стоял с Ваней у ворот, поджидая дядю Васю.
- А этого огольца зачем взял? Его же комары закусают, - спросил дядя Митя у своего брата.
- Не закусають, он парнишка терпеливый...
Не знаю, откуда дядя Вася взял этот диалектический "шик" - "скажуть", "сядуть", "закусають"... Никто в их семье так не говорил, кроме него. Правда тетя Нюра еще, старшая сестра моего отца позволяла себе что-то вроде "Ванькя", "Манькя", "Афонькя"... Но ни дед, ни бабушка так не говорили. Может быть, дед со своими детьми какое-то время жил в других краях с другими диалектами? В селе он появился, наверное, не так давно. Об этом же говорило и то, что дом его стоял в самом конце села, значит, появился он в селе после вcex. И только изба моего отца построилась на самом, самом краю, рядом с дедовым домом, но это уж тогда, когда отец выделился в самостоятельное хозяйство. В том моем возрасте меня это не могло интересовать. Но позже, намного позже, настолько поздно, непоправимо поздно, когда на белом свете я остался один, крайний, когда все умерли, и спросить было уже не у кого, я стал задумываться - откуда же пошли корни моего рода, откуда я и все мы?
Бывая в разных концах Советского Союза, я прислушивался к местному говору, сравнивал его с говором моей бабушки Прасковьи Григорьевны, матери моего отца и все искал какую-то связь. Вспоминал рассказ бабушки, как дед однажды поехал, или пошел в лес ловить тетеревов решетом. Пришел на ток, насторожил решето, насыпал под ним овса, протянул веревку от насторожки в скрадок и стал ждать... А мороз на зорьке градусов сорок. Долго ждал дед, замерз совсем и уходить не хочется. Но вдруг с шумом присела стая косачей. Дед будто и дышать перестал, и как сидел в неудобной позе, так и замер. Тетерева долго не шли под решето, видно что-то чуяли, все оглядывались по сторонам. Однако голод и холод взяли свое, пошли они на корм, сначала самые смелые, потом еще, еще... А дед все ждал, когда под решетом соберется вся стая. И вот настал миг... Дед дернул... Но намерзшая рукавица только с шумом проскользнула по веревке, не выдернув насторожку из-под решета. Косачи с шумом вспорхнули в разные стороны, а под решетом не попался ни один. Эх, и поматерился же, говорила бабушка, дед. И всю дорогу и дома еще, пока не отогрелся совсем. А когда отогрелся, то и сам над собой давай смеяться.
В наших краях косачи не водятся. Откуда же дед приехал в Алтайские степи? По говору бабушки я определил, что откуда-то с Печоры, но это только предположение. А где же истина? Она ушла в могилу вместе с моими бабушкой и дедом. А я... Теперь я думаю, что все, что нас может заинтересовать, надо узнавать еще в детства от своих родителей, от бабушек, дедушек. И все самое доброе, самые теплые слова надо им говорить и говорить, пока они еще живы, пока они еще могут слышать нас. Когда же их уже не стало, мне мучительно больно и стыдно, что со всем этим я уже опоздал, я не успел. Что проку в том,что я теперь это знаю? Что могу это сказать молодым? Но они так же глупы, как был глуп и я в своей молодости.
Увы! Никто не родится сразу мудрым. Детство, молодость - пора радости. А мудрость рождается в страданиях.
...Мы быстро перешли неширокую луговину до озера, взяли еще метров триста вправо по берегу. Видно было, что не только я, бежавший вприпрыжку, но и мои старшие спутники были возбуждены и хорошо разогрелись.
Размотали бредень, привязанный к двум палкам, мои дяди разделись, оставшись только в подштанниках, а мы с Ваней должны были нести по берегу их одежду и ведро для рыбы.
- Ну, ты пойдешь по глубине, а я у берега, - взял дядя Вася за одну палку.
-Охолонь маленько, простынешь, - остепенил его по - стариковски рассудительный дядя Митя. Он был всегда невозмутимо спокойный, ходил медленно, вразвалочку, но шаг его был широкий, как у мужика, так что за ним надо было еще успеть. Он никогда не дрался со своими сверстниками, а если на него задирались, не бил первым.
- Ну, вдарь, ну, вдарь, - медленно говорил он сопернику, но, видя его невозмутимость и спокойствие, "вдарить" не решались, а так, попетушившись для виду, расходились без драки.
- Ну, однако, пошли, - сказал дядя Митя и потянул свое крыло бредня в воду.
Бредень был небольшой, весь чиненый - перечиненный, но и его хватало, потому что далеко заходить не позволяла глубина озера. Протянули метров тридцать вдоль берега, беззлобно поругиваясь, когда кто-нибудь из них высоко поднимал крыло.
- Прижимай, прижимай, уйдеть!
- Прижимай... Тут глубоко, не прижмешь.
- Что-то тяжело, видать уже полно. Заводи на берег! - скомандовал дядя Вася. Завели. Вытащили на пологий берег, поросший травой. Скатилась вода из мотни, и осталась там только трава да половинка кирпича, завязанная в мотне вместо грузила.
Забрели во второй раз, вытянули - результат тот же. Со степи наносило тучу, стало прохладно.
- Дождик, однако, будет. Может, хватит? - проговорил, подрагивая, дядя Митя.
- Ну, ясь твою мась, как же хватить? А как же без рыбы? Давай последний раз протянем подальше и домой.
- Ну, давай, нито.
На этот раз вытягивали почти напротив дедова дома. Вытащили и... Вот она рыба! Выволокли с четверть ведра карасей.
Мои дядьки, повернувшись задом к деревне, сбросили с себя мокрые подштанники, выкрутили их, бросили в ведро поверх рыбы, оделись в сухое. Ваня в это время смотал уже бредень, и мы почти побежали к дому.
- Надо было подштанники под низ положить, а рыбу сверху, ведро была бы полная, - засмеялся дядя Вася.
Забежали сначала к нам, отделили нашу долю. За окошком полыхнуло, загремел гром, и по крыльцу застучали крупные капли дождя.
- Как во время вы успели! - воскликнула мама. - Ну, завтра спеку пирог с рыбой!
После этого первого выхода к озеру, я уже не отставал от своего "братки" Вани, как мы его звали, и в погожие жаркие дни пропадал там целыми днями. Старшие ребята переплывали через озеро, надергивали там целые снопы куги, приплавляли на этот берег и мы все ели их сочные основания. Плавать мы с Митькой Ситниковым не умели, но хвастались друг перед другом, изображая "плавание" вдоль берега, опираясь при этом о дно руками.
Однажды старшие ребята связали из остатков несъеденной куги снопики и позвали нас с Митькой плыть на другой берег, где росла куга. Мы с Митькой легли животами на эти снопики и, подгребая руками, поплыли вслед за старшими ребятами. О том,что можно сковырнуться со снопика, или что снопик может развязаться, мы не думали. На той стороне озера, стоя на переплетениях корней, мы выдергивали отдельные стебли куги и ели молодые корневые отростки, пиками отходившие от основания стебля. Мы их звали хренками, только в значительно более взрослом произношении. А нам-то что? Как слышим, так и говорим. Правда, при этом понимаем, что дома при, взрослых так говорить нельзя. Но самыми вкусными были старые длинные корни, плетями отходившие от стебля. Снаружи они были коричневые, покрытые кожицей. Их надо было раздирать пополам вдоль корня, и внутренность их состояла из продольных волокон, пропитанных сметанообразной массой и по вкусу напоминавшей сметану. Мы их так и называли сметанкой. Они были очень вкусны. Надо сказать, что дома я сметану не ел и все, забавляясь, норовили мазнуть мне по губам ложкой, измазанной сметаной. И когда это удавалось, я брезгливо вытирался, ревел и бросался на обидчика с кулаками. А вот, поди ж ты, эту вот, выдранную с кугой "сметанку", ел с удовольствием.
Так пролетела первая половина лета, и однажды отец сказал, что завтра все поедем в бор собирать грибы, ягоды, заготавливать березовые веники для бани. С вечера еще погрузили в телегу кадки для грибов, корзинки, всякие емкости-кому что под силу. А утром на следующий день, сразу после завтрака, отец запряг в телегу Рыжку, в телегу уселись мама, тетя Маня, папина сестренка, я и мы поехали. Ваня - верхом на Серке, дядя Вася и Дядя Митя тоже верхом на своих лошадях. Быстро переехали луговину и въехали в сосновый бор. Его уже разогрело солнцем и густо пахло сосновой хвоей и живицей. Дороги почти не было. Вился по песку едва заметный след от колес телеги; извивавшийся по просветам между соснами. Телега нещадно прыгала по корням сосен, стелящимся по самой поверхности. Ехали шагом. Стволы сосен были голые и только на верхушках обрамлялись сучьями и хвоей. Прохлада леса перемежалась со снопами солнечного света, пробивавшимися сверху через кроны сосен. Изредка сердито цокали сидевшие на сучьях сосен белки, да где-то раздавалась дробь работающих дятлов, и далеко отвечало эхо.
Ехать надо было версты две. Не доезжая до другого озера Горького, когда началось разнолесье. остановись. И началась работа: отец срубал ветки берез, Ваня собирал их в охапки и таскал в телегу, я вроде бы "помогал" укладывать их в телеге, а мама с тетей Маней обходили окрест и сносили в кадушки корзинами грибы. Грибы были разные: грузди, рыжики, волнушки. Особенно много было груздей и рыжиков. Грибы вкусно пахли. Когда кадушки были наполнены грибами, все разбрелись по лесу собирать землянику. Лес наполнился звонкими голосами мамы и тети Мани, то и дело аукающими друг другу. Я сначала испугался, услышав голос мамы, не волки ли напали на нее? Но отец меня успокоил.
- Это они кричат, чтобы не потеряться друг от друга. Не боись, придет твоя мама.
Телега между тем была уже доверху нагружена березовыми ветками, а часа через два то удаляющегося, то приближающегося ауканья, вся ватага сборщиков собралась у воза, показывая, кто сколько насобирал земляники.
Солнце хорошо пригрело, лошади то и дело били ногами, сгоняя с себя назойливых оводов. Мы поехали дальше, но немного погодя остановились у самой опушки. Впереди блестело огромное озеро, дальние берега которого то ли действительно синели на самом горизонте, то ли это было марево.
Распрягли Рыжку, и пошли все купаться. Это было озеро Горькое. Вода в нем была такая соленая и плотная, что держала на поверхности даже не умеющего плавать человека, чему я был особенно рад. Вода была абсолютно прозрачна, через двухметровую толщу четко просматривалась на дне песчаная рябь, освещенная солнцем. Я плавал рядом с мамой и тетей Маней, а немного левее отец мой с Ваней и своими братьями купали лошадей. Это для них было прекрасное лечебное купание. От крепко соленой воды все ссадины, все разъеденные оводами места на шкуре лошадей, после купания быстро зарастали.
Накупавшись, вылезли из озера, и пошли к телеге под тень деревьев обедать. Мама расстелила на траве скатерть и стала доставать из телеги взятую из дома снедь. Тело мое после высыхания, как мукой покрылось осевшей солью.
- Ну, Сенька, ты теперь так просолился, что тебя теперь никакая зараза не
возьметь, - засмеялся дядя Вася.
- Сень, скажи, ты на себя-то посмотри, - заступилась за меня тетя Маня.
- Ну, я не так. Сенька шибче.
- Ну, давай, налетай, орда! - скомандовала мама, разложив на скатерти еду. Проголодавшись во время купания, все дружно начали похрумкивать огурцами с хлебом, постукивать вареными яйцами и покрякивать, запивая все это холодным резким квасом. Лес иногда издавал легкий шипящий шум от пробегавших порывов ветра, над головой шелестели листья березы, в тени было не жарко. Но от раскаленного солнцем песчаного пляжа излучалось тепло. Перед нами блестело на солнце озеро. После обеда можно было бы и вздремнуть на свежем воздухе.
Как хорошо жить, когда есть мама, отец, братка Ваня, дядя Митя и дядя Вася, тетя Маня... И это озеро, и лес, и небо, и солнце... Хорошо лежать в тени и смотреть в высь под ласковым ветерком. Но чем становилось жарче, тем назойливее становились оводы. Отец запряг Рыжку в телегу, и мы поехали домой. Домой было ехать лучше, лежа на прохладных ветках березы, нарезанных для веников. Это было мое первое и последнее посещение озера Горького. А может быть и не последнее, может быть я запамятовал возможность такого, потому что мне помнится вот такая вот картинка: идем мы - дядя Митя, дядя Вася, Ваня и я по бору в сторону дома. Жарко. Еле приметная дорожка по песку раскалена, да еще засохшие иголки сосновой хвои покалывают босые ноги. Дядя Митя, как обычно, широко шагая, ушел далеко вперед, Ваня и дядя Вася, разморенные жарой, плетутся, далеко отстав от него, а я совсем сзади едва поспеваю передвигать босые ноги по обжигающему песку. Вдруг потянуло зловонием.
- Вот Синюк, ясь твою мась, навонял, - протянул дядя Вася.
Это они дядю Митю дразнили Синюком. Почему "синюк"? Не знаю. Вот "синюк" и все. Однако, пройдя еще немного, мы увидели двух гадюк, кем-то убитых и перекинутых через сук дерева. Вот от них-то и исходил зловонный запах.
Я змей боялся. Тем более что старшие мальчишки, коротая время в ночном, или у озера рассказывали разные байки, которые они тоже от кого-то слышали, будто змея, когда гонится за человеком, то хватает свой хвост в зубы, становится колесом и катится с такой скоростью, что убежать невозможно. О таком даже подумать страшно. Тут так-то еле тащимся по раскаленному песку, а убегать от катящейся колесом змеи - не дай бог.
Откуда мы шли? Не помню. Абсолютный провал памяти. Может быть от Горького озера? Однако скоро пролетело лето. Отец и Ваня собрали на бахче и привезли домой целый воз арбузов и дынь. Живот мой был набит ими, как барабан. Но они были такие вкусные, что хотелось есть еще и еще.
- Смотри, поросенок, ночью опять рыбачить будешь, - корила мама. В три-то года я все еще грешил иногда этим. Бабки советовали маме выдрать меня голиком от веника, говорили, что очень помогает. Мама этой методой не пользовалась, но для острастки иногда перед сном напоминала:
- На двор-то сходил? Али опять рыбу ловить будешь? Смотри, а то голик-то вон он, - указывала она на обшарпанный березовый веник, стоявший в углу у шайки под рукомойником.
Вспомнив про голик, я уже по иному взглянул на арбузы. А, ну их! И побежал к дедову дому, перед которым, творилось что-то необычное. Туда свозили скошенный хлеб. Перед домом стояла паровая машина и громко чуфыркала. От нее шел длинный ремень и крутил барабан молотилки, которая ревела еще громче. Мой дед, отец и еще какие-то мужики подносили снопы и толкали в жерло молотилки, там что-то хрустело, гудело и бубухало. Рядом была уже горка пшеницы и отвалы соломы. Мужики, переговариваясь, кричали во всю мочь, чтобы услышать друг друга в этом гуле. Тут же крутился и Митька Ситников. Было интересно. Но нас тут же прогнали прочь.
Уже около десятка лет, ведя раздельное хозяйство, мой отец и дед Дмитрий во время молотьбы объединялись и перед дедовым домом молотили хлеб по очереди, но трудились при этом общей артелью. Чей это был паровик и молотилка, я не знаю. Знаю только, что появлялись они перед дедовым домом во время молотьбы, а в прочее время на усадьбе деда их не было. Возможно, это были артельные машины, приобретенные вскладчину, и пользовались ими совладельца по очереди.
Усадьбы наши были рядом и отделялись друг от друга бревенчатым заплотом. У деда был пятистенный дом под тесовой шатровой крышей. Перед большими окнами со ставнями бабушкин палисадник, огороженный штакетником, где она вылащивала цветы. Рядом с домом тесовые ворота и калитка, за домом обширный двор с хозяйственными постройками. Рядом с этим великолепием наша избушка о двух маленьких оконцах выглядела бедновато. Бедней нашего подворья во всем селе была только землянка деревенского гончара, у которого совсем не было никакого хозяйства, и семья эта, в которой было одиннадцать детей, перебивалась только от продажи горшков и корчаг. У нас же было две лошади, корова и прочая мелкая живность, обычная в крестьянском дворе.
Дед мой, высокий жилистый, старик, с худым лицом и длинной узкой бороденкой, был жаден до работы. В семье у него три сына и две дочери - все здоровые, крепкие, работящие. Этой-то артелью дед и сколотил крепкое хозяйство. Кроме летнего сезонного хлебопашества, в межсезонье, зимой дед целыми днями в бане валял валенки, чем неплохо зарабатывал. Старшую дочь свою Анну он выдал замуж за зажиточного односельчанина, впоследствии раскулаченного. Когда же женил моего отца, как рассказывали бабушки, то тот проявил удивительную строптивость. По бытовавшим тогда стандартам, не очень видный, рыжеватый (да простятся мне слова эти), он отверг с десяток предложенных ему (какой скандал!) при сватовстве невест и женился на моей матери из небогатой семьи. За такую непослушность перед женитьбой дед выдрал жениха вожжами, а после свадьбы вскоре отделил отца, выделив ему телушку и две рабочие лошади. Скорому его отделению способствовал также непокорный характер моей матери, что, конечно же, не могла долго терпеть ее свекровь, моя бабушка Прасковья Григорьевна.
Бабушка эта, хоть мы и жили рядом, навсегда осталась для нас лишь нареченной бабушкой, между нею и нами, ее внуками, никогда не возникало теплого чувства, хотя потом, спустя годы, уже после смерти моей мамы, нам и приходилось жить вместе. В дом деда нам, внукам, негласно дорога была заказана, и заходили мы туда только на Рождество, когда ходили славить. Вот тогда, стоя у порога в ожидании награды (нескольких леденцов да медных копеечек) за пропетое "Рождество твое Христе боже наш...", я дивился, глядя на висящую над столом большую десятилинейную лампу (а у нас-то была маленькая трехлинейка - керосин экономили), да через открытую дверь горницы на чистую кровать, застеленную покрывалом с кружевными подзорами с горой подушек. Получив несколько конфеток и медных монеток, я тогда удалялся. И никаких тебе поцелуев, ни ласковых слов - просто пришли чужие дети славить Рождество Христово...
Между бабушкой и моей мамой после отделения сохранилось какое-то безмолвное соперничество: у кого лучше испечен хлеб, у кого лучше возделан огород, хотя никаких контактов и сравнений не происходило. На нашей усадьбе, между огородом деда и нашим, отец сеял полосу конопли и чтобы, не дай Бог, мы не вздумали перелезть через плетень в огород бабушки (а что там нам было делать то?), нам внушали, что в конопле живет Баба-яга. И в подтверждение этого, бабушка наша, иногда, завидев нас малышей одних, без мамы, на нашем огороде, пугала нас криком: "А-а-а-а-а", ударяя при этом себя ребром ладони по горлу. Получалось страшное: "Га-гага-га...". Мы опрометью бросались бежать в свой двор.
Коноплю эту осенью выдергивали, отвозили в озеро вымачивать, потом перед избой расстилали на лужке на просушку, потом мяли во дворе на мялке, трепали, расчесывали и получали кудели волокна, Потом в долгие зимние вечера мама пряла на прялке из волокна суровые нитки, а в середине зимы отец привозил от бабушки - маминой матери, как мы ее звали бабушки Ишутиной, ткацкий стан, устанавливал под иконами в левом углу - стан занимал четверть нашей избы. И всю зиму вечерами, постукивая, мама ткала из ниток холсты. Следующим летом холсты эти расстилали на лугу на солнце для отбеливания и из них мама шила одежду: полотенца, простыни. Но к этому времени поспевал новый урожай и в поле, и в огороде, и все начиналось сначала. Бедные мамины руки никогда не отдыхали...
Отец мой, вложивший много труда в дедово хозяйство (он был старшим сыном у него), после отделения, как рассказывали бабушки, долго держал обиду на деда и в каждый праздник, принявши свою дозу горячительного, через высокий заплот обзывал деда "сплататором" и кидал в него через заплот поленья. Дед кидал их назад и предлагал "сукину сыну" поберечь дрова, чтобы не отморозить зимой голый зад. Покидавши так с опаской, чтобы не ушибить друг друга, они расходились, ворча каждый себе под нос ругательства.
А на другой день, протрезвевшие, виновато взглядывая друг на друга, сходились на улице перед дедовым домом, протягивали друг другу: кисеты с табаком и заводили такой окольный разговор о том, о сем, что касалось хозяйства, и даже нельзя было даже подумать, что накануне между ними пробежала черная кошка. Я этой картины не наблюдал. Видимо, ко времени моего рождения обида отца на деда поулеглась, затихла, и отец мой привык выживать со своей семьей самостоятельно, не пытаясь соревноваться с моим дедом в ведении хозяйства. Может быть, в зту пору отец мой и усвоил оптимистическую поговорку, которую он повторял из года в год, столкнувшись с какими-либо затруднениями:
- Э-э-э, ясное море! Будет день - и будет пища...
Откуда он взял это "ясное море"? Он никогда не бывал на море и не видел его. Скорее оно родилось в его мечтательной душе.
Второго своего деда, жившего на другом конце села, я почти не знал. Раза два зимой он заезжал к нам замерзший, в заледенелой шубе, с бородой с намерзшими сосульками, что-то выгружал во дворе и вскоре уезжал к себе. Со временем я его забыл совсем и не мог вспомнить, какой он был. Только много-много лет спустя, когда я отпустил свою бороду, и пока она росла у меня по неопытности моей еще дикая и неухоженная, взглянув однажды на себя в зеркало, я вдруг увидел там моего второго дедушку Ишутина - так я был похож на него!
А в ту пору - это уже было время перед началом организации коммун, время продзаготовок, его за что-то арестовали и посадили в тюрьму, отвезя за сорок верст от родного села, где он так безвестно и сгинул. За что? Возможно за то, что он воспротивился продотрядовцам, забиравшим "излишки" зерна? В ту пору я был настолько мал, что не мог этим интересоваться, а позже жизнь так повернулась, что спросить было уже не у кого.
Бабушка моя по матери (бабушка Ненила) была рыхлая и болезненная старушка, но добрейшей души. Зимой частенько отец, подстеливши сена в сани, привозил ее с другого конца села и она, охая и жалуясь на свой бок ( "Ой, бок болыть..."), каждый раз при встрече плакала, обнимая нас, называла своими сыночками, развязывала узелок и одаривала всех своими пирожками и ватрушками, такими же, какие пекла и наша мама, но какие же они были вкусные для нас с морозным запахом, сдобренные воркованием бабушки.
Отец уходил распрягать Рыжку, а мама тут же ставила самовар, расшуровывала его через трубу сапогом, и он вскоре начинал шуметь и посвистывать. Шумно усаживались за стол, ревниво пощипывая друг друга в тайной борьбе за место рядом с бабушкой, так же, как мы делали это, укладываясь спать и отвоевывая место рядом с моим старшим братом - браткой Ваней.
Орудуя ухватами, мама вытягивала из печи чугуны со снедью. Обмениваясь житейскими новостями, ужинали, прибирались, мама уходила во двор с подойником доить корову, а мы ждали, когда же пойдем спать. Наконец, наступал этот миг. Забравшись кто на печь, кто на полати, мы устраивались поудобнее и под завывание вьюги в печной трубе погружались в таинственный мир сказок с богатырями, русалками, с Иван - царевичем и Кощеем Бессмертным, со злыми мачехами и несчастными сиротками... Ровно гудела железная печурка, играя светлыми бликами по потолку и стенам, изредка всхрапывал наработавшийся за день отец, а хрипловатый, надтреснутый голос бабушки все сплетал и сплетал замысловатые перипетии и так до тех пор, пока сон не одолевал нас. Засыпал первым я, потому что был младше всех, и на другой день просил начать со средины и продолжать. Мои старшие брат и сестренка требовали новую, начинался спор, потыкивания под бока друг друга...
- А вот, послушайте, что я вам расскажу, - примирительно вступала бабушка. И начиналась новая сказка, еще интереснее вчерашней. Сколько их было, сказок, начатых, но оставшихся без конца!.. И сама та жизнь, неповторимая, словно начатая и не дослушанная сказка...
Между тем жизнь шла своим чередом. Зимние дни коротки, смеркалось рано. Напоив лошадей и задав им корма, отец с мороза приходил в избу. Мама к тому времени уже подоила корову и собрала на стол ужин. Все сели чинно за стол, поужинали, не спеша, и тут же все на отдых. Лампу часто не зажигали, экономили керосин. Отец растапливал железную печку, стоявшую рядом с русской печью - тепло ее за день выносило, дверь в избу выходила прямо в холодные сени, поэтому, когда кто-то входил, от двери через всю избу пробегала волна холодного, морозного пара. Обмерзшие оконца почти не пропускали света. Лед на стеклах от внутреннего тепла все время подтаивал, на подоконниках собирались лужицы воды, которая по тряпичатым фитилькам стекала в подвешенные под подоконником бутылки. Железную печку протапливали вечером перед сном и рано утром. Хороши были вечера, когда у нас гостевала наша бабушка Ишутина с ее множеством сказок. А когда ее не было, было скучновато. Однако и тогда было хорошо лежать на теплой печи, а внизу, на полу при этом ворковали дружным пламенем и потрескивали дрова в железной печке, загадочно высвечивая светлые блики на потолке и стенах через отверстия в дверце.
Затихали последние слова отца и матери, укладывавшихся на свою постель, изредка начинал поцвиркивать сверчок за печкой. И где он там жил? Его никогда не было видно. Иногда слышался резкий удар - лопалась замерзшая на улице земля, либо бревно в срубе избы. Но все постепенно затихало, и сон смаривал всех, даже деревенские собаки переставали лаять. И кот в чьих-то счастливых детских объятиях, промурчав свою благодарную песню, затихал, ровно дыша - все спали. Но где-то среди ночи начинали горланить первые петухи. Отец вставал, закуривал самокрутку своего самосаду; и выходил во двор,"до ветру", а заодно и задать корму лошадям, чтобы к раннему утру они были готовы к дневной работе. Вернувшись в избу, он снова ложился, и все затихало до вторых петухов. А когда они заводили свою перекличку во второй раз - поднималась мама и, когда при лампе, когда при свете лучины, подмешивала в квашне тесто, растапливала большую русскую печь и начинала готовить пищу на большую семью на целый день. При третьих петухах. снова вставал отец, шел во двор поить лошадей, навести порядок в их стойлах и подготовить все необходимое к сегодняшней поездке либо на сенокос, где хранились стога с сеном, либо в лес за дровами, либо с зерном на мельницу, чтобы перемолоть его на муку, либо в город на базар за сорок верст и вернуться при этом на другой, а то и на третий день к позднему вечеру озябшим, проголодавшимся. Нелегка была крестьянская жизнь, везде надо было поспеть.
Но вот уже засвистел самовар, запахло свежими лепешками - мама собрала на стол отцу. Он спешно завтракает, одевает поверх полушубка свою пеструю собачью доху и уходит до позднего вечера. А мама? Мама уже подоила и напоила корову, дала ей корму на день и занята своей печью. Надо все доварить, напечь лепешек либо пирожков и дать их по-за трубой нам, уже проснувшимся, вымесить и посадить в печь хлебы, а потом уж усаживать всех за стол.
Прибегает тетя Маня, предпоследнее дитя бабушки Прасковьи Григорьевны светловолосая, румяная красавица, веселая и игривая. Ее девичья грудь уже рвет пуговицы на кофте. Она любит полакомиться чем-нибудь вкусненьким.
- Нянька, что сегодня пекла? - а сама уже тянется на полку перед печью, куда мама составляла листы с пирогами либо ватрушками.
- Да садись с нами за стол, что ты все на бегу?
- Нет, я побегу, а то мама, заругает, что долго.
В отличие от бабушки, все они - и дядя Митя, и дядя Вася, и особенно тетя Маня - все они любили мою маму. Со всеми ими она нянчилась, когда они были маленькие, когда отец мой, женившись, все еще продолжал жить одной семьей с дедом.
Но вот все накормлены, напоены, прибрано со стола, перемыта посуда. А дальше? Отдых? Нет. Надо садиться за прялку и прясть, либо за ткацкий стан и ткать полотно. Либо заниматься стиркой, если в этот день не пекла хлеб, либо кому-то что-то шить или чинить, а по субботам еще и мыть полы, топить баню, перекупать всех малышей... Ох, нелегка жизнь крестьянки, матери семейства... Не потому ли так плакали русские девушки - невесты.
Только это я стал понимать, когда прожил долгую, нелегкую жизнь. А тогда, в свои четыре года, я сидел на печи, дожевывая поданный мамой пирожок. В руке у меня конь, выстроганный из обрезка дощечки, а по печи разложены сосновые шишки, которые изображают и людей, и волков, и овец, и прочих сказочных тварей. Передвигая их с места на место и озвучивав все это долженствующими репликами, я разыгрываю то охоту, то крестьянский труд, то детские игрища, развивая в то же время свою фантазию,
Хорошо, конечно, на печи, только однообразно и скучно. Хорошо бы одеться и пойти во двор, покататься с самой крыши избы по сугробу на ледянке, слепленной мамой из соломы и теплых коровьих лепешек и политой водой на морозе. Эх, и лихо же на ней кататься, погромыхивая на заледенелом снегу! Только не в чем мне идти. Ни разу не подарил мне мой дедушка Дмитрий-пимокат свалянных им валенок. Что мешало ему? То ли неприязненнее отношение бабушки к моей маме, а заодно и к нам, ее детям? Или дедова жадность? Не знаю, только не носил я дедовых валенок. А ведь скоро уже пойдет его хозяйство прахом. В единственных валенках, которые у нас были на всех детей, Ваня ушел в сельскую школу, и они мне доставались очень редко. Так вот и сидел я на печи со своим деревянным конем и сосновыми шишками, пока не надоест. А днем, слезая с печи, садился на лавку у окошка, дыханием или пальцами протаивал на замерзшем окне маленький глазок и с тоской глядел в него на заснеженный луг перед избой, на замерзшее и покрытое снегом озеро, на заиндевелый сосновый бор за ним, на весь этот недоступный мир божий, расстилавшийся за окном,
Однажды, глядя в свой глазок на улицу, я с тоской воскликнул: "Воподи, воподи, (господи, господи), когда же будет лето?!". Хлопотавшая у печи мама, вытерла руки о фартук, подошла ко мне, села рядом на лавку, обняла меня, поцеловала в маковку и так посидела молча, о чем-то размышляя. А после обеда засобиралась в сельскую лавку за какой-то мелочью. Купить спичек, соли, а может быть, леденцов пососать... Да где там? Ведь частенько у нас не было даже керосина в лампе, и мама, вставши рано, хлопотала у печи при свете лучины или коптящей жировушки. Денег не было, семья жила натуральным хозяйством с пашни, с огорода, с какой-то живности во дворе.
Только следующим летом, в 1929 году, отец мой стал пайщиком потребительской кооперации, а заодно и работал в ней в свободное от сельскохозяйственных дел время, занимался извозом с несколькими своими приятелями. Они ездили за сорок верст на станцию Рубцовка, и привозили оттуда товары для этой потребкооперации.
В ту пору отец мой познакомился где-то с китайцем, занимавшимся торговлей (это было время НЭПа) и тот частенько заезжал к нам со своей русской женой. Он привозил нам конфет, каких-то длинных, как карандаши, алма - атинских яблок и в ту пору мы стали чаще лакомиться ими. А до чего были душисты яблоки! Крупные, красные. Мама прибирала их в свой кованый сундук, и они пропитывали там все вещи своим ароматом, и даже после, когда яблоки были давно съедены, от белья, лежавшего в сундуке, пахло фруктовым садом.
Отец и мать мои были людьми гостеприимными. Мама начинала лепить пельмени, а отец шел за бутылкой. Вася-китаец смотрел, как мама лепит пельмени, ему казалось это занятие долгим. Он подходил с бесконечной улыбкой к столу, клал на ладонь кругляшек теста, на него кусочек фарша, сжимал кулак и получался бесформенный пельмень. Все смеялись, но, по сути, это был пельмень. Вася-китаёц смеялся вместе со всеми и с широченной улыбкой, обнажавшей его зубы, восклицал:
- Ха-ра-со! Вася - китаиса, харасо!...
Иногда приходили приятели моего отца, с которыми он занимался извозом. Получалась веселая компания. Подвыпив, мужики иногда выдавали свои секреты, чувствуя, что они в своей среде, среди своих. Одним из секретов было, как они удовлетворяли свое желание выпить на дармовщинку. Среди товаров в их телегах были и ящики с бутылками алкоголя. Эти ящики грузили в задок телеги. Можно было бы взять бутылку и выпить. Но тогда надо было бы платить. Хитрецы по дороге разгоняли заднюю упряжку в догон передней, ехавшей шагом, при догоне дышло заднего воза било в ящики, лежавшие в задке передней телеги, какие-то бутылки разбивались, хмельное зелье текло... Но тут уже проворные руки подставляли пустое ведро под телегу - не пропадать же добру! Это списывалось, как бой при перевозке. Вот такой вот "шалостью" занимались эти взрослые дяди.
Но все это было потом. А пока... А пока я сидел на лавке и через свой глазок силился увидеть, как возвращается мама. Но окно смотрело не вдоль улицы, а поперек на луг, на озеро, на сосновый бор. Ворота в наш двор из окна не просматривались. Я уже истомился в ожидании. Воображал, вот придет мама, вытащит бумажный кулек и достанет оттуда красивую, как цветное стеклышко, лампосейку, как называли тогда дешевенькие леденцы. Того, что у мамы нет денег, я по - детски не знал.
Наконец, хлопнула дверь в сенях, раскрылась дверь избы и следом за волной холодного пара вошла мама. Озябшая, но с веселыми глазами. Размотала шаль с головы, сняла свой плисовый сак и стала вытаскивать из холщовой сумки покупки. Ну вот, я так и знал: соль, спички, завернутую в бумажку селедку... Пустая сумка уже плоско лежала на столе. Я разочарованно направился было к печи.
- А иди-ка, сынок, посмотри, что я тебе купила, - позвала, наконец, мама и вытащила из сумки книжку.
Я обомлел. Я был в восторге! Я никогда раньше не держал в руках книжки. Так, издали, в руки Ваня не давал, только его школьные учебники, какие-то серые, невзрачные. А эта! Цветная, с красочными картинками! Я уже не помню, что это была за книга, какого автора, но помню, что о каких-то путешествиях по теплым морям, с цветными картинками морских животных, с кораблями под всеми парусами, пробивавшимися сквозь штормы... Читать я не умел. Это была первая книжка в моих руках. Одни только картинки будили мое воображение, почти как бабушкины сказки. Хе! Лампосейки! Ерунда. Немного пососешь, и ее уже нету. А книгу можно рассматривать и рассматривать. Только бы у меня ее не отобрали, чтобы, не дай бог, не случилось чего - так я боялся дать ее кому-нибудь в руки. И тут же шмыгнул на печку. Там, мне казалось, книжка будет сохраннее. А на ночь я буду класть ее под подушку, где до этого ночевал мой деревянный конь и сосновые шишки.
-Куда же ты, сынок? Иди, будем учиться читать.
Я мигом шмыгнул с печи на пол, и мы сели с мамой за стол, на лавку. Мама показала мне несколько букв, попросила найти эти буквы в другом месте и назвать их. Я это усвоил легко и быстро. И еще не зная всех букв алфавита, забравшись снова на печь, я сразу же ринулся в чтение, с частыми остановками перед незнакомыми буквами. Поминутно шла перекличка.
- Мама, - кричал я, - а как кочерга, какая буква? А как тубаретка?
Мама мне подсказывала. И пошло, и поехало! Как весело оказалось учиться! Я читал и перечитывал снова и снова, позабыв своего деревянного коня и сосновые шишки, и бабки свои отдал братке Ване. Наверное, через месяц я уже читал бегло, на радость маме и на удивление Вани и дяди Васи, ходивших в школу, а читавших хуже меня. Они частенько делали домашние задания у нас вместе. Я вертелся рядом с ними и из-за плеча то одного, то другого что-то читал в их учебниках.
- Ну, Сенька, кляча, ясь твою мась, как это у тебя ловко получается! дивился дядя Вася. Я млел от похвалы и даже на "клячу" не обижался.
- Сенькацевр! - восклицал Ваня и начинал меня тискать, позабыв об уроках.
Так пролетела зима. Подошла масленица. У меня появились какие-то старенькие валенки. Я катался на своей ледянке. А однажды, дядя Митя, дядя Вася, Ваня и еще их большие дружки, взяли дровни, стоявшие во дворе без оглобель, затащили на избу и всей ватагой, и я с ними, катались с крыши по сугробу во двор.
- Крышу мне проломите, окаянные! - кричала с крыльца мама, видно в избе слышался грохот от нашей возни на крыше избы.
Тогда старшие мои дядьки и брат нагрузили в дровни соломы, и, впрягшись вместо лошадей, вывезли за ворота, и на заснеженном лугу жгли костер. Было очень весело. Со взрослыми почему-то всегда веселее.
А в последние дни масленицы отец запряг в сани Рыжку, постелил соломы, взял меня с собой, и мы поехали на другой конец села за нашей бабушкой Ишутиной. Вот где славно мы прокатились! А вечером, забравшись на печь, я читал бабушке свою книжку.
В четыре года я уже читал бойко. А крестьянская жизнь в эту пору бурлила, как брага. Мужики летом собирались перед чьим-нибудь домом на завалинке, либо на лавочке и долго судачили о том, "куда пойдет Рассея, и какая она будет жизня у деревенского мужика"? Зимой они часто собирались у нас, кто-нибудь из них, побывавший в городе, привозил затертую газету. Грамотные среди них если и были, то читали по складам и так медленно, что пока доходили до конца фразы, то уже забывалось начало. Тогда они стаскивали с печи меня, угощали кусочком сахара, завалявшимся в кармане, грязным, и очень горьким оттого, что он лежал вместе с табаком, и просили почитать. Я поначалу, очевидно из желания похвалиться, начинал тараторить бегло, позабыв о точках и запятых.
- Да ты не шибко, не шибко, а то не понятно, - осаживали меня.
Я начинал сначала, уже размеренно, посматривая из-подо лба на мужиков
ладно ли читаю.
- Ну и парнишка у тебя, Микитка, чисто Ленин! - восклицал кто-нибудь из них. Отец мой расцветал, а я не знал, хвалят меня или ругают.
Я читал, а глаза мне щипало от дыма - так нещадно они курили самосад.
- Это как же так? - восклицал кто-нибудь, не согласный с тем, что напечатано в газете. - Как же это - все отдай, а сам с чем оставайся?
Начинался громкий спор, я замолкал, соображая, не меня ли они ругают.
- Ты вот это место растолкуй, что ты прочитал...
Им еще надо было растолковывать, что начинающему пропагандисту, которому шел всего пятый год, было совершенно не под силу. А они огромные, бородатые, с огромными натруженными ручищами, нависали надо мной, смотрели на меня и ждали откровения, пока мама не отнимала меня и не уносила в куть, к предпечью, где было меньше дыма.
- Совсем задымили мальчонку, окаянные. Что вам ребенок растолкует? Шли бы вон в сельсовет, - незлобиво ворчала мама.
- И, правда, мужики, у его же еще губы от сиськи не обсохли.
А в газетах писали об организации коммун, и этот вопрос о том,что же это за "коммуния" и какая в ней будет жизнь, волновал всех. Исподволь, в селе происходили какие-то перемены. Однажды вдоль села развезли одинаковые, очищенные от корья бревна и разложили их на одинаковом расстоянии друг от друга. Потом прошли землекопы, выкопали рядом с бревнами ямы, поставили в них бревна и снова закопали. Получился ровный ряд столбов, который, пройдя сквозь село, одним концом уходил к станции Рубцовка, а другим - куда-то в степь, наверное, к другим селам. Следом прошли бригады молодых мужиков, которые, взбираясь на столбы, прикручивали наверху белые фарфоровые чашечки, а затем через эти чашечки от столба к столбу протянули провода.
Деревенские бабки, сойдясь вместе на улице, недружелюбно косясь на работающих мужиков, сокрушенно качали головами и судачили:
- Вот оно, правда, написано в писании, что придет антихрист и опутает землю железной паутиной.
- А эт што жа, вот она проволка-то, она и есть паутина...
- О, господи! До чего дожили, до чего дожили...
А однажды по селу проехал, грохоча мотором, трактор Фордзон с будкой на колесах на прицепе. Это было невиданное чудо. Без лошадей железная машина с большой телегой проворно катила вдоль села. За трактором вдоль всего села рысью мчались с полсотни сельских зевак: старики, мужики, детвора; лошади, ломая оглобли, вырывались из упряжек и мчались в степь, и всё живое, кроме любопытных людей, опрометью скрывалось в своих дворах.
Это была агитация за организацию коммун. Организовывались машино-тракторные станции - МТС, которые вели обработку земли в коммунах. И этот трактор, видимо, проехал в какое-то село, лежащее дальше нашего в бескрайней степи.
Прогрохотал трактор, и все вроде бы стихло. Мы, мальчишки, бегали к столбам и, приложив к ним ухо, слушали, как гудят провода. Говорили, что по этим проводам будут пересылать телеграммы. А мы смотрели и гадали, как же это телеграммы будут лететь по проводам, ведь они же будут цепляться за чашечки... Вот уровень невежества, с которым, придя к власти, приняли коммунисты Россию.
Ваня с дядей Васей откуда-то притащили радио, протянули провода в дедов дом, включились и весь вечер пытались что-то услышать, но кроме шипения и потрескивания, ничего не было слышно.
- Не спалите мне дом, окаянные, - ругалась бабушка Прасковья Григорьевна. Возбужденные на сельской сходке, откуда они только прибежали, Ваня и дядя Вася будто и не замечали бабушкиных слов.
- Ты, мам, не понимаешь. Это советская власть несет свет народу. Не то, что ваш царь, - начал было, дядя Вася, пересказывая услышанное на сходке.
- Молчи уж! - встрепенулась бабушка. - Вот как просвечу сковородником-то. Што ты понимаешь-то? При царе то мы жили припеваючи. А как вот вы проживете при советах то? Они вам ишо покажут.
Дед хмуро молчал. У него были свои заботы. Коммуны угрожали его хозяйству. Он решал разделить его, но как, с кем? Выделять что-то еще моему отцу, жившему отдельным хозяйством со своей семьей, - это значило отдать насовсем. А вот как бы вроде и отдать и в то же время оставить под своим контролем -это был бы то, что надо. И он решил женить дядю Митю, и часть хозяйства переписать на него, не выделял сына в отдельное хозяйство.
- Митька, - позвал он однажды сына, с которым дед чистил конюшню от навоза, - ишши невесту, осенью свадьбу сыграем.
Сказал, как отрезал. Все было обдумано и окончательно решено. Митька молча принял слова отца, как приказ, хотя было ли ему в ту пору семнадцать лет. Дядя Митя был молчун. Обрадовался ли он предстоящей женитьбе или огорчился - не знаю. С одной стороны заканчивалась вольная жизнь холостого парня. А с другой стороны греховная плоть уже вставала на дыбы и требовала своего. Но нравы в те времена были строгие, и редкая девушка не соблюдала себя до свадьбы. А если случался такой грех, то его старались без особой огласки прикрыть поспешной свадьбой, соединяя в семью нетерпеливых деток.
Дядя Митя молчал, но стал еще более, чем прежде, по - стариковски рассудительным. Как - то он пришел к нам, сел на лавку рядом с моим отцом, своим старшим братом, и стал с ним советоваться.
- Вчера я был в сельсовете. Так и так, говорю, жениться собираюсь, метрики мне надо. А он мне: а годов-то тебе сколько? Ну, я ему - так и так, говорю, - столько - то. А он мне: годов - то, говорит, тебе не хватает. А если я тебе годов прибавлю, возьмешься сельских коров пасти? Положим тебе по столько - то со двора деньгами, ну и по очереди кормить тебя будем.
- Я сказал, подумаю. Вот и думаю. - И он стал подсчитывать, сколько дворов, сколько денег получит. - Опять же приварок, - часто повторял он, как бы убеждая себя, что дело стоящее.
- Ты как, братка, думаешь? 0пять же приварок, - повторил он для убедительности.
- А отец - то, что говорит?
- Да отец - то не хотел бы. Тогда ведь на хозяйстве одному ломаться придется. Васька-то еще парнишка. А отца раскулачить могут...
- Ну, так, выходит, деваться тебе некуда. Тут, как ни кинь - везде клин.
Дядя Митя еще долго сидел в задумчивости.
- Опять же приварок, - сказал тихо и вздохнул.
За окном уже стояла темная ночь. Где-то дзенькнула гармошка и пьяный мужской голос запел:
Коммунисты - лодари.
Всю Расею продали,
Много денег накопили,
Черта лысого купили...
- Ну, я пойду, - сказал дядя Митя, вставая. Отец вышел его проводить во двор.
Пролетело незаметно лето. Даже на озеро мы почти не ходили - было не с кем. Ваня и дядя Вася либо помогали дома по хозяйству, либо бегали на сельские сходки, на вечерки, где крутились вместе со взрослыми парнями и девками и домой приходили поздно.
Подошел мясоед. На селе начались свадьбы. Во дворах резали скот, готовясь к празднествам. В какой-то день и грянула свадьба дяди Мити. Я был еще мал, и наблюдать ее во воем действе не мог, меня никуда не брали. Но знаю, что длились застолья целую неделю. В первый день гуляли у жениха, в доме деда и мы через заплот кое-что могли видеть: выезд жениха в сопровождении родни и дружков в церковь на венчание, возвращение оттуда уже с невестой, а потом - застолье в доме деда, скрытое от наших детских глаз за его стенами. Только видно было, как время от времени мужики и парни группками выходили во двор покурить, да слышался приглушенный женский хор голосистый с приухиванием мужских басов, да разудалая игра гармошки и топот пляшущей свадьбы.
На другой день вся свадьба переместилась в дом родителей невесты. Это было уже где-то на другом конце села. Потом по очереди то у кого-то из братьев жениха, либо у сестер, у кумовьев, у дядьев и проч. и проч., так все сельские гулянки в те времена, объединявшие всех близких и дальних родственников и считавших своим долгом принять всю эту гуляющую братию у себя дома. Поэтому и свадьбы длились по неделе, а то и по две.
Наконец, где-то в конце второй недели свадьба дяди Мити докатилась и до нас. И все это было на наших глазах - сидя на печи, мы сверху вниз обозревали все действо. Только народ уже устал от гульбы. Жених с невестой уже не сидели под образами, Дружки и подружки жениха и невесты уже не приходили. Уже откололись дальние родственники, кроме любителей выпить в любое время. Поэтому собрались только самые близкие родственники. После негромкого говора и обсуждения вчерашних и намеднишних событий, снова выпили круговую. Немного попели песни. Гармошки уже не было. Гости, поправив хмельные головы, понемногу разошлись.
Вечерело. Опустились сероватые сумерки, но света еще не зажигали. За столом сидели отец, дядя Митя и тетя Нюра. Мама ушла доить корову. В избу зашел дед Дмитрий. В валенках, хотя до зимы было еще далёко, в старых засаленных штанах, старой серой рубахе. Волосы и борода его были взлохмачены. Он налил себе стакан самогонки, отпил немного, брезгливо поморщившись, и отставил его в сторону. Посидел, угрюмо оперевшись лбом на свою руку. Потом вдруг вскочил и запрыгал по избе, высоко поднимая по очереди ноги, изображая какой-то дикий пляс и подпевая себе в такт одно и то же: "Я осталси бис рубахи, бис штанов... Я осталси бис рубаки, бис штанов... Я осталси бис рубахи, бис штанов...". Потом вдруг сел, сжался, осунулся и стал тихим и жалким. Все, чего он так боялся, свершилось.
А по селу в эти дни ходила комиссия от сельсовета и описывала все, что имелось в хозяйстве и у тех, кто собирался записаться в коммуну, и у тех, кто был намечен на раскулачивание. Опасение было резонным. Те, кто хотел вступить в коммуну, совсем не хотели свести в ее хозяйство больше других, а у иных и не было ничего, поэтому резали и съедали скот, чего раньше никогда бы не позволила расчетливая крестьянская душа.
Вот и к деду пришли. Описали все и предупредили строго, чтобы не была зарезана ни одна скотина, не продана ни одна сельскохозяйственная машина и даже домашняя утварь и одежда... Дед шел под раскулачивание. Все, что он нажил, работая на пашне от темна до темна, а зимой в бане, валяя валенки, все у него отняла власть. Агитация вступления в коммуну проводилась доходчиво, по принципу: кто не с нами, тот наш враг. Кто не хотел вступать в коммуну, того раскулачивали и высылали куда-то в горы. Может быть, поэтому однажды отец пришел домой с сельской сходки, порубил иконы, растопил ими самовар и объявил матери, что он записался в коммуну.
Мать поплакала над порубленными иконами и совсем не поверила, что, развенчавши бога, можно построить рай на земле. Мама моя была набожная и никогда не садилась за стол, не помолившись, утро ее начиналось с молитвы, а перед сном, уже раздевшись и погасив лампу, она в одной ночной рубашке подолгу стояла перед иконами, шепотом читала молитвы, крестилась и кланялась поясным поклоном. Только сотворивши этот ежевечерний молитвенный ритуал, тяжело вздохнув, она ложилась в постель. И вот ее икон больше нету. Если нету бога, то кто защитит ее и ее детей в этом жестоком мире? Кто защитит ее дом и его неразумного хозяина?
Через несколько дней отец отвел лошадей, угнал корову, поросенка, переловил кур и отвез в коммуну на общий двор. Нас же из нашей избушки перевели в большой дом, хозяина которого раскулачили и сослали. В этом чужом доме чувствовали мы себя неуютно, все в нем было чужое, слишком много прохладного воздуха и ничем не заставленного пространства. А большие, без штор, окна нагоняли страх: будто нас раздели и выставили на всеобщее обозрение.
Первой убежала в старую избушку кошка. Пригорюнившись, не находя себе места и применения, сидела, понурившись мама. Жить в чужом доме на селе, хозяина которого выселили ни за что ни про что - это же какую надо было иметь совесть? Поэтому мы и сами чувствовали себя будто в ссылке.
А через небольшое время пришел отец грустный. Любимого его рысака, которого он привез года за три до коллективизации чуть ли не из Туркмении, его гордость, на котором он не работал, а лишь изредка, будучи слегка под градусом, запрягши воронка в легкий ходок, выезжал лихо прокатиться по селу, его рысака уже заездили в коммуне и согнали с него весь прежний лоск. Нет, отец мой не был пьяницей. Пил только по большим праздникам, когда гуляла по неделе вся деревня, а в более позднее время, уже, будучи люмпеном, только с аванса и с получки со своими товарищами по работе, не более пол - литра на артель. Однако его считали пьющим и когда укоряли тем, что он каждому гостю рад и тут же бежит в сельскую лавку за бутылкой, он отвечал:
- Э-э-э, ясное море, - это была его любимая присказка, - не имей сто рублей, а имей сто друзей!
Когда же советовали не жить одним днем, а думать о будущем, он резонно парировал:
- Будет день и будет пища...
Но дело, видимо, было не только в его рысаке. Очевидно организационные трудности в коммуне, разброд и вольница вчерашних единоличников, бывших еще недавно хозяевами самим себе, породили столько беспорядков, что их не вынесла вольная душа моего отца. А свидетельством тому был скорый распад этой коммуны. Но это было уже позже, этого распада отец мой не дождался. А примерно через месяц после вступления в коммуну, отец оставил все свою живность в коммуне и попросил отпустить его в город и помочь только транспортом, чтобы довезти до него свое семейство,
Нам дали две подводы, погрузили мы в них бедный скарб наш, состоявший из кое-какой одежонки, постели и небольшого запаса продуктов, и тронулись в путь.
Справа, полого опускаясь к озеру, расстилался луг. Слева уходили назад крестьянские избы. У некоторых из них стояли старики или старушки и, сделав над глазами козырьком ладошки, всматривались, пытаясь рассмотреть, кого же это и куда опять повезли. Так увозили ссыльных. Так уезжали мы в добровольную ссылку, оставив все, что поддерживало нашу прежнюю жизнь, что давало кров и пропитание.
Вот проплыл назад сельсовет с красным флагом над крыльцом, вот тихо отошла церковка с зеленой колоколенкой и железным кованым забором. Потом еще ряд крестьянских домишек, вот изба Митьки Ситникова, потом пустырь и мазанка сельского гончара, потом опять пустырь. И вот дедов дом с палисадником перед окнами и с тесовыми воротами, а за ним - наша избушка с маленькими добрыми глазками окошек, забором в две жерди и настежь раскрытыми воротами. Проезжая в конце села мимо своей избушки, мать тихо безмолвно всплакнула, растирая по щекам слезы. Здесь прошла нелегкая, но по-своему счастливая пора ее замужней жизни, первое ощущение своего гнезда, первые одоления бедности и ее дети пятерых детей родила она здесь в этой приземистой с почерневшими от времени углами сруба избушке. Отец сидел, насупившись, а мы, детвора, беззаботно радовались мягкому потряхиванию телеги и движению вперед в неизведанное.
Скоро кончились огороды, потом распаханные поля и началась нетронутая ковыльная степь. В небе заливались жаворонки, кружились широкими кругами коршуны без единого взмаха крыльями, изредка вскрикивали возчики, взявшиеся отвезти нас. Деревня уже давно скрылась за горизонтом, а вместе с нею и наше беззаботное детство. Навсегда, безвозвратно.
Много лет спустя, уже после войны, меня вдруг потянуло на родину, туда, где я впервые увидел небо, степь, наш бор, где я впервые ощутил босыми ногами нагретую солнцем землю и прохладу травки. Попутными машинами я приехал к тете Нюре, сестре отца, которая после высылки вернулась в родное село и работала в колхозе. Муж ее давно умер, она снова вышла замуж, и жили они вдвоем - дети поразъехались кто куда. Тетя Нюра постарела, но все так же была говорливая и во всю мочь ругала колхозных руководителей за нерадивость к делу, за корыстолюбие, а особо за пьянство.
Переночевавши, я утром побежал на другой конец села, где мы когда-то жили. Все там переменилось. Не было там ни нашей избушки, ни дома деда, ни луга перед ними - все было вытоптано стадом. Не было за лугом ковыльной степи, по которой когда-то подкочевывали к самой нашей деревне казахи-кочевники и ставили свои юрты прямо напротив нашей избы - все было распахано.
На другой день я ушел, чем совсем озадачил тетю Нюру. На душе было пусто, вокруг пусто, той прежней родины не было, она была утрачена, утеряна, украдена кем-то и надо было где-то искать ее уже в других, более широких границах. Тогда я прошагал сорок километров до города Рубцовска, прямо, без дороги, по степи, ориентируясь на элеваторы, едва мерцавшие в мареве, ни на минуту не присев, чтобы отдохнуть.
Но все это было потом, много лет спустя.
А тогда мы ехали, день клонился к концу, лошади устали, нуждались в водопое и мы остановились на ночлег. Возчики нашли в ложке воду, напоили лошадей, принесли воды к возам, мы насобирали кое-какого сушняку, сухого хвороста в тощем тальничке, старого засохшего навоза и разложили еле коптивший костерок. Сварили похлебку, наскоро поужинали, пока не наступила полная темнота, и разместились на ночлег прямо в возах. Опустилась ночь совершенно темная, месяца не было, в небе мерцали мохнатые звезды. Где-то в темноте пофыркивали пасшиеся стреноженные кони, а у еле светившегося костерка еще долго отец мой и возчики о чем-то в полголоса говорили. О чем? Наверное, о том неведомом и страшноватом, что ждет нас, оборвавших корни со своей землей и еще о том, "куды пойдет Расея". Может быть, мужики пугали отца трудностями, а он, как всегда беззаботно отвечал им:
- Э-э-э, мать им берег, чего гадать? Будет день и будет пища...
Приученный к любому крестьянскому труду, отец мой никогда не паниковал перед трудностями. Он всегда рассчитывал, что уж на хлеб-то для семьи он всегда заработает. Еще когда жили в селе, до коммуны, слегка подвыпив с мужиками и раззадорившись, он начинал мечтать:
- Вот заберу ребятишек, уеду в город, выучусь на машиниста, и буду ездить на паровозе. Мужики смеялись:
- Микитка! Ты на паровозе? Да ты же его против первой деревни свернешь с рельсов и махнешь куды - нибудь за самогонкой...
И опять хохотали над ним, и он вместе с ними.
На другой день мы еще спали под ласковыми и теплыми лучами солнца, когда сквозь сон услышали тарахтенье колес, мягкое покачивание телеги и окрики возниц. Мы ехали дальше.
К обеду прибыли в город. Проезжая через железную дорогу, впервые увидели огромный, чуфыкающий паровоз с длинной трубой, нещадно коптящей, и чумазыми машинистами, который через много лет оказался маленькой маневровой "овечкой". Начиналась новая жизнь.
Поселились мы в крохотной мазанке, раза в два меньшей, чем наша изба в деревне, но с русской печью. Вокруг - ни двора, ни забора, перед избушкой расстилался пустырь, поросший всякой сорной травой. Справа, вдали, виднелся ряд домишек, а слева, за пустырем, проходила железная дорога, уходившая на юг, через казахские степи, к Ташкенту.
Шел тридцатый год. Не отошел еще НЭП. В городе (или тогда еще станции Рубцовка), как и везде, наверное, была безработица, существовала биржа труда, которая никому ничем не могла помочь. Никакого рабочего снабжения не было, не было никаких продовольственных магазинов, как и промтоварных, кроме Торгсина, в котором можно было что-то купить только за сдаваемые драгоценности. А какие драгоценности могли быть у деревенского мужика? Копченые чугуны, медный самовар, деревянные чашки и ложки - все это было не то. Все необходимое для жизни можно было купить только на базаре, да и то часто не за деньги, а только в обмен на вещи. Мы скоро доели то, что прихватили с собой из деревни. Отец перебивался на временных работах. То плотничал на строительстве деревянного моста через реку Алей, снесенного весенним паводком, то работал грузчиком на железной дороге, получая доход несопоставимо малый с потребностями семьи в эту пору всеобщей разрухи и высоких цен на все.
В ту пору переехал в город и раскулаченный дед Дмитрий и остановился на житье у своей тещи, моей прабабушки Анны, о существовании которой я раньше даже не знал. Возможно, потому что она была матерью нашей бабушки по отцовой линии, которая с нами не очень общалась.
Прабабушке в ту пору было уже больше ста лет и жила она со своим одиноким сыном - дедом Иваном, настолько глухим, что он даже почти разучился говорить - наверное, он не слышал даже себя, когда говорил тихим, глуховатым голосом. Дед Иван был прекрасным сапожником, что давало возможность им выживать даже в ту трудную пору. Домишко их стоял недалеко от нашей мазанки, за пустырем.
Как-то раз мы пришли в дом прабабушки. Дед Иван сидел в правом углу перед окошком на низеньком стульчике и постукивал молотком, тачая сапоги, спиной к двери и не слышал, как мы вошли. Прабабушка лежала на печи.
- Вы кто? Вам чего? - спросила она слабеньким голоском. Мама ответила кто мы.
- Микиткины, что - ли? - переспросила прабабушка.
- Да-а, - протянула мама оробевшим голосом. Видно она не ожидала, что ее встретят, как незнакомую. А возможно они с прабабушкой и виделись в первый раз.
- Иван! - закричала прабабушка. Иван не слышал.
- Иван! Глухой, леший, - повторила она и запустила в него с печи валенком. Дед Иван оглянулся и тогда только увидел нас.
- Сыми меня, - приказала она, подкрепляя слова знаками. Дед Иван подошёл к печи, принял на себя иссохшее и легкое, как у птички, тельце своей матери и опустил ее на пол. Она опустилась на припечек, уставшая от этого минутного переселения, посидела минутку, потом встала, прошла к предпечью, достала откуда-то круглую буханку подового хлеба, отрезала по куску нам с мамой и опять запросилась на печь. Дед Иван подошел к нам, потрогал мою стриженую голову.
- Микитка, ропоты нету? - спросил глухо. Мама отрицательно покрутила головой.
- Плохо, - еще глуше ответил дед и пошел в свой угол.
Мама попрощалась с прабабушкой, низко ей поклонившись, и мы пошли к себе.
Деда Дмитрия в письме приглашала к себе его старшая дочь Анна, приглашала в Нарынский край, куда их выслали из деревни после раскулачивания. Это было где-то в Киргизии, там жизнь в это время была лучше, и люди там не пухли от голода.
Ехать туда было не на чем, так как деда привезли из деревни в город так же, как и нас, и из средств транспорта он привез с собой одну небольшую телегу без лошадей и корову, все прочее хозяйство у него забрали. Вместе с дедом потянулось еще несколько деревенских мужиков со своими семьями в поисках счастья и сытой жизни.
Рубцовка в ту пору была полугородом, полудеревней. Застроена одноэтажными частными деревянными или саманными домишками. Только улиц было не одна, как у нас в деревне.
И вот где-нибудь на завалинке (а наблюдал я эти сцены у домика моей прабабушки), эти скитальцы сидели вечерами и мечтательно говорили о тех далях, где тепло, где нет засухи, где земля родит, где есть хлеб. Говорили в ожидании своих коровенок, которые днем были на пастбище, а вечером, встретивши их и подоивши, они, спарившись по две семьи, запрягали по две коровенки в одно ярмо, и начинали под насмешливые реплики зевак обучать их новой науке - возить возы.
- Ширмачи проклятые! - зло восклицал в полголоса дед, норовя в то же время удерживать непослушных коровенок от метаний в разные стороны. А уже в поздних сумерках, когда окна начинали светиться зажженными лампами, распрягая коров у дома прабабушки, дед плакал от поруганной гордости, а бабушка - от жалости к корове. Знала бы она, что это еще не последнее наше лихо, и что придет еще время войны, когда русская женщина уподобится этим коровенкам: она будет рожать, и на ней будут пахать, она будет сутками стоять у станка и делить свою пайку хлеба детям, и она же будет получать похоронки и оплакивать и погибших на войне детей своих, и мужей, их сотворивших.
На другой день мужики опять собирались где-нибудь у одного дома и опять начинались разговоры и мечты о земле вольной, не занятой, ничьей земле, что родит хлеб.
Позже, уже после войны, читая поэму Твардовского "За далью даль", я был поражен точностью, с какой там изображена эта картина. Как будто вот с этих вот мужиков он списал своего Никиту Моргунка. Видно вся Россия той поры была заселена этими стронутыми с родных мест моргунками...
Недели через две, когда коровенки пообвыкли ходить в упряжках, эти скитальцы уехали, как они говорили, в горы. Дед не поехал. Он остался один, а бабушка Прасковья Григорьевна, уехала со своими младшими сыновьями, моими дядьками Дмитрием и Васей.
Между тем запасы наши иссякли совсем, работы отец не находил и начался голод. В месяц раз или два прабабушка Анна присылала нам по куску хлеба, все остальное время мы питались в основном травой, сдирая с нее соцветия или семена. Целыми днями мы бродили по пустырю, совершенно ослабленные, отыскивая рыжик, на верхушках которого были редкие метелки маслянистых семян, похожих на семена льна. Семена были скользкие, мелкие, безвкусные, но они поддерживали в нас жизнь. Попасшись так какое-то время, мы ложились на траву на солнце и долго отлеживались, собираясь с силами. Вокруг нашей избушки, на задах ее были следы чьих-то давних испражнений, размытых дождями и иссушенных жарким солнцем. Среди них попадались косточки кем-то когда-то проглоченных вишен. Я хотя и был мал, но понимал, что косточки эти рассыпаны не из рук, а из иных мест, понимал, что это не чисто. Однако, собирал их, разбивал камушком, и съедал выпавшие ядрышки - так страшен был голод!
Между тем молва о земле, где люди живут сыто, где каждый день едят хлеб, распространилась, из деревни скоро приехало несколько мужиков и, прихватив с собой нашего отца, они уехали тоже "в горы". Нет, они поехали не покупать, потому что покупать было не на что, да и кто бы им продал? Они поехали зарабатывать на уборке, на молотьбе, чтобы за свою работу получить зерном, поэтому ждать их надо было долго.
Мы остались одни. Кроме мамы, совершенно иссохшей от голода, нас было еще пятеро детей. Надо было как-то выжить. Началась зима. Чтобы натопить печь, нужны были дрова. Дров не было, и взять их было негде - это была степь, степь без конца и без края. Я даже не знаю, где их находил старший мой брат Ваня на растопку (несгоревший уголь мы собирали на станции из отвалов паровозного шлака). То, что нельзя было где-то украсть доску от забора, я знал точно, так как на мне, бывшем в том возрасте, который вызывает наибольшее сострадание, лежала обязанность ходить с сумой по дворам и просить Христа ради, и я хорошо знал, что все дворы давно разгорожены и заборы сожжены, если не самими хозяевами, то ближайшими соседями, поздней ночью выходившими на воровской промысел.
Ничтожно мал был мой доход, когда я обходил окрестные дома. Отчасти потому, что я очень боялся собак, и мне приходилось обходить дворы, где были собаки, а их было много, и все они особенно не любили нищих, отчасти потому, что жили все в ту пору впроголодь.
Робко входил я в какой-нибудь дом (благо, что двери в те времена днем на запоры не закрывали), молча стоял какое-то время у порога, давая продрогшему тельцу хоть немного отогреться от уличной стужи. Потом еле слышно протягивал жалобно:
- Пода-а-а-й-те Христа ради...
Далеко ходить я не мог, поэтому через какое-то время приходилось входить в одни и те же дома. Разговору долгого не бывало. Иногда коротко отвечали:
- Самим есть нечего, - или того хуже:
- О, опять пришел!
Тогда я со стыдом, даже не успев согреться, выскакивал на улицу и долго томился в сомнении - заходить ли в следующий двор. Однако, вспомнив, что дома остались голодные братишки и сестренки, бледная и совсем исхудавшая от голода мама, я понуро направлялся к следующему дому, и процедура прошения повторялась. Иногда сердобольная старушка, жалостливо посмотрев на меня маленького, озябшего, с тощей холщевой сумой через плечо, начинала расспрашивать, а я и рад, хоть согреюсь...
- Мамка - то у тебя есть?
- Е-е-сть, - тянул я жалобно.
- А сколько же вас у нее?
- Пя-а-теро.
- О, господи, - вздыхала старушка. - А тятька - то ваш где же?
- Тятька уехал хлеб зарабатывать.
Вынув руки из-под фартука, она со вздохом шла к шкафчику, вынимала оттуда какую-нибудь корочку, добавляла пару сырых картофелин и подавала их мне. Я бросал это все в сумку, говорил "спасибо" и шел дальше. Так, собрав малую толику, я возвращался домой.
Какова же была моя обида, когда к нам заходил нищий и, сняв шапку, перекрестившись, долго стоял у порога и все ждал, пока мама моя не отделяла часть от моей скудной добычи и не отдавала ему. Отказать она не умела. Так мы жили несколько месяцев.
Но однажды, где-то после Рождества, среди ночи раздался стук в дверь, и послышались мужские голоса. Мама вихрем метнулась к двери - приехал отец с ватагой мужиков - односельчан, с которыми ездил на заработки. Он заработал зерна, заехал на мельницу, перемолол его на муку, потом заехал в деревню к бабушке Ишутиной, она напекла хлеба и всяких ватрушек, и со всем этим богатством отец среди ночи приехал домой.
Мама затопила печь, начала что-то варить, зашумел самовар, привезенный из деревни, побудила всех нас, и мы стали есть хлеб, хлеб настоящий, душистый, хотя еще и полузамерзший, но такой вкусный, такой долгожданный и возвращающий жизнь, жизнь, как воскресение из мертвых...
Да, не всякому дано познать сладость хлеба...
Так мы пережили зиму, впроголодь же переживали следующее лето. Отец стал работать на мелькомбинате, на затаривании мешков с мукой, как он говорил - выбойщиком. Рядом с ним работали такие же полуголодные мужики. На работе они, тайно от начальства, замешивали из муки тесто, без соли, пресное, и пекли лепешки на каких-то горячих трубах. Трубы, наверное, были недостаточно горячими, лепешки не пропекались и получались толстыми, плотными и тяжелыми, как свинцовые плитки. Иногда отец приносил таких лепешек одну - две домой, спрятав под рубаху, чтобы не попасться на проходной. Ели за милую душу. Конечно, это был не мамин хлеб, но все же он насыщал лучше, чем сорванные семенные метелки рыжика.
Дедушка Дмитрий стал работать сторожем на общественных огородах. Жил он там в шалашике, крытом травой, спал на топчанчике из тонких жердочек, покрытых такой же травой. Иногда мама посылала меня к нему отнести постиранное белье и рубашки. Не знаю, удавалось ли ему где-то вымыться. Поля картофеля были обширные, нигде никакого водоема не было видно. Для питья он приносил воду из какой-то ямки, вырытой в ложбинке. Тут же рядом с шалашиком кипятил на костерке, наверное, вечерами или рано утром, когда было еще не жарко. Я приходил к нему обычно в середине дня, когда солнце уже припекало, костерок был погасший и дед угощал меня вареной или печеной картошкой из холодного кострища, либо из закопченного котелка, стоявшего тут же. Ели тоже без соли.
Дед был как всегда, угрюмый, молчаливый, ни о чем не расспрашивал и ничего не рассказывал. Бросит, бывало: "Есть будешь?" - и кивнет в сторону погасшего костерка. И все-таки я чувствовал, что это мой родной дед, с которым мы жили рядом в деревне. Я знал, что у него было с десяток лошадей, несколько коров, большой дом и двор и жил он обеспеченно. А теперь вот...В этом шалашике, бездомным бродягой, и в дождь, и в жару... Но эта встреча с дедом у нас оказалась последней.
В наших краях началась эпидемия тифа. И однажды, когда мама отправила меня к деду с постиранными рубашками, я не нашел его. Я вернулся домой и сообщил, что его нигде нету, хотя я обегал все поле. Наши поиски закончились тем, что в больнице нам сказали, что он умер от тифа и уже похоронен. Тогда всех упавших в беспамятстве подбирали, свозили в тифозные бараки при больнице и умерших уже не давали похоронить родственникам, а ежедневно отвозили санитары в степь и закапывали в общих могилах.
Так сгинул второй мой дед. При всей его суровости, он был правильный человек. До самого раскулачивания работал, как ломовая лошадь, чем и нажил свое хозяйство, никогда не имея сторонних наемных работников, кроме своих детей. И детей своих он вырастил честными и трудолюбивыми. Ни от отца своего, ни от братьев - моих дядек я никогда не слышал ни сквернословия, ни жалоб на тяготы жизни, ни ропота на власть. И уже, будучи обобранными этой властью, они смиренно приняли ее, как будто сознавая, что всем сейчас тяжело, но вот надо пережить это, одолеть все и все наладится. И все их помыслы были направлены не на нытье и жалобы, а на осмысливание того, что надо сделать, чтобы стало лучше.
Погоревали о дедушке, да и забыли. Новые беды уже стучали в нашу дверь. В эту голодную годину, когда люди ели все, что могло удержать в теле жизнь: и траву, и древесную кору, почитая случайно найденный кусочек жмыха за лакомство, мама моя пошла работать на Заготзерно, где с другими женщинами они сушили, перелопачивали, провеивали зерно и готовили его к отправке в вагонах. В ту пору какое-то время жил у нас и мамин брат дядя Кузьма, которого все мы называли крестным, как и старшую сестру моего отца, тетю Нюру. Видно они двое и крестили нас всех подряд. Дядя Кузьма учился в какой-то партийной школе и вечерами, при свете керосиновой лампы, просиживал над толстой книжкой с картинками. Одну я запомнил: крестьянин в лаптях худой и бородатый, стоит на одной ноге, поджав другую, потому что ее поставить некуда - так мал его земельный надел.
Все перемешалось в мире. Отца нашего крестного посадили и расстреляли, а сын его Кузьма учится в партийной школе, где готовили чиновников местного масштаба. К осени крестный наш уехал, его назначили (или избрали по представлению) председателем захудалого колхоза в глухую степную деревушку под названием Углы.
В это лето тридцать первого года я пытался что-то зарабатывать, ведь я уже был большой, мне было почти семь лет. В жаркие летние базарные дни я брал ведро, шел с километр до водоразборной колонки, набирал там побольше полуведра воды, чтобы не очень расплескивалось при ходьбе, и шел еще с полкилометра до базара, куда съезжались крестьяне из окрестных сел продавать свои продукты. И вот, протискиваясь сквозь разомлевшую на жарком солнце толпу людей, я выкрикивал то же, что выкрикивали и другие мальчишки-водоносы:
- Воды, воды. Кому воды? Две копейки кружка. На рупь досыта!
Когда кончалась вода, надо было поскорее сбегать еще к колонке, и так раза два-три. Благо, что в ту пору незнакомые мальчишки - водоносы, некоторым было уже лет по двенадцать, малолеток не обижали и денег не отнимали. В конце торжища я соблазнялся купить за пятачок маленькое мороженое. Тогда такие продавали. В маленький стаканчик, снабженный поршеньком-толкателем, накладывали лопаточкой мороженое, предварительно положив на дно круглую вафельку, такой же вафелькой накрывали мороженое сверху и поршеньком выдавливали из стаканчика.
Вкусно было. Только уж очень маленькое. К вечеру я возвращался домой и отдавал остатки мелочи своей старшей сестренке Нюське. Нюська эта была несчастным ребенком. В детстве она заболела корью, болезнь как-то перекинулась на глаза, и один глаз ее вытек совсем. А когда она была маленькая, мой старший брат Ваня, тоже еще от горшка два вершка, но уже с фантазией - решил сделать ей в подарок колечко. Расплавил в баночке свинец, попросил Нюську держать палец ровно и вылил на него расплавленный свинец. Колечко не получилось, а ожог был сильный. Но палец зажил со временем, а вот глаз новый так и не вырос.
Пролетело лето в борениях с голодом. А осенью случилась беда. Мама моя, голодная, на работе нажевалась зерна, и у нее получился заворот кишок. Ее отвезли в железнодорожную больницу на операцию. На другой день мы с Нюськой сходили на базар, купили там на скопленную мелочь одно большое алма-атинское яблоко, красное и душистое - такие когда-то привозил нам в деревню Вася-китаец, и понесли его маме.
Погода была сырая, прохладная, недавно прошел дождь. Мы долго шли вдоль железной дороги по над заборами, отделившими насыпь дороги от казенных, выкрашенных желтой краской, бараков. Под ногами тихо шуршали опавшие листья с полуобнажившихся тополей. Но вот и больница - такой же длинный одноэтажный желтый барак. Мы вошли в маленькую прихожую. Вошедшая санитарка спросила к кому мы. Нюська ответила.
- Подождите, - сказала санитарка.
А вернувшись через несколько минут, сказала, что маме уже сделали операцию, но что она тяжелая и к ней сейчас нельзя. Взяла яблоко и ушла. А мы постояли, постояли и вышли на улицу. Попытались увидеть что-то через окна, но так ничего и не увидели. Уже вечерело, и мы поспешили домой. А на другой день нам сказали, что наша мама после операции, не приходя в сознание, умерла.
Жили мы в ту пору уже не в той избушке, которая приютила нас после приезда из села. Отец работал на мелькомбинате, и рядом с мелькомбинатом стояли двухэтажные дома барачного типа - с длинными коридорами вдоль всего дома и комнатами по обеим его сторонам. Вот в одной такой комнате поселялась наша семья. Мы сидели дома, когда отец мой заехал во двор дома на одноконной телеге с возчиком. В телеге был некрашеный гроб, в котором была уже мама. Гроб был заколочен крышкой, и мы не могли видеть ее. Отец позвал нас, примостил на телеге вокруг гроба, и мы шагом поехали на кладбище. Было солнечно, природа ликовала, а мы все ехали молча, наверное, по детской беспечности еще не осознавая полностью, какая беда нас постигла. До кладбища было версты две. Оно было огорожено реденьким забором из штакетника, сразу за забором у ворот стояла часовенка, обсаженная невысокими тополями, за нею рядами могилы. Мы подъехали к свежевырытой яме, отец с возчиком опустили в нее гроб. Закопали и установили над ней семиконечный деревянный крест. И только после этого отец, оглядевши нас всех мал мала меньше, воскликнул:
- Ну, детки, остались мы одни... - и коротко заплакал.
Кладбище было новое. На месте старого раскинулись жилые дома мелькомбината и большой сквер с дорожками и танцевальной площадкой. Когда во дворе жители копали себе погреба, то часто там попадались человеческие кости. Их выбрасывали и куда-то увозили. А в сквере по бокам от аллей там и сям были ямки-провалы от осевших могил. Вечерами у танцплощадки играл духовой оркестр, а на площадке, над прахом предков, кружились в фокстроте и вальсах молодые пары. Днем мы с мальчишками играли там в прятки, тогда не понимая еще, что все это: и танцы над могилами, и игрища - все это действа, достойные вандалов.
На следующий год, это был год 1933, стала в нашем крае голодуха спадать, Ввели для работающих и их иждивенцев продовольственные карточки. Дома у нас стояла печь голландка, приспособленная только для обогрева, поэтому дома мы ничего не готовили. Ходили в соседнюю столовую с бидончиком и покупали там суп. Там же кормились и рабочие - супом и хлебом. Итээровцам давали еще гуляш или котлеты на второе и компот. Нам это было совершенно недоступно. Мы рады были, что есть хлеб и суп. Иногда отец приносил муки и моя старшая сестра Нюська, которой было уже десять лет, пыталась спечь лепешки в голландке, но она была не приспособлена для этого. Дверца была очень маленькая, и при открытой дверце жар начинал постепенно затухать, печь остывала, и лепешки не пеклись. Маленький Кузька ходил вокруг и по-детски размышляя, что если бы порезать лепешки помельче, то они спеклись бы скорее, все время подавал советы Нюське:
- Ты б ё на сухарики. Ты б ё на сухарики.
- Да отвяжись ты, - вспылила Нюська.
А Кузьку мы долго потом дразнили: "Ты б ё на сухарики"...
Как-то появился дядя Вася и взял меня с собой. Они с бабушкой, оказывается, вернулись "с гор" и жили в Рубцовке, содержа сельский постоялый двор, где могли заночевать сельчане, приезжавшие по своим делам в город. В тот раз, когда я был у бабушки, а это был единственный раз, она распорядилась, чтобы дядя Вася написал объявление, что курить нельзя. Мужики и, правда, так дымили самосадом, что одуреть можно было, Дядя Вася, стоя на лавке, спросил:
- А как правильно написать, "курить воспрещается или запрещается"?
Стоявшая внизу бабушка, которая никогда не училась в школе, уверенно отрезала:
- Как же воспрещается? Воспрещается - значит, курить велено, а запрещается - нельзя.
На том и порешили. Но вскоре бабушка со своими сыновьями уехала из города. А в зиму 34 года отец привез себе откуда-то жену с двумя детьми: золотушной девочкой и постарше мальчишкой, зараженным глистами, которых он развешивал по стенам. Мачеха была худая, вертлявая, как сорока, и длинноносая. Мы ей тут же дали кличку "кулик" и никаким образом не хотели общаться с ее детьми, кучкуясь подальше от них в углу комнаты. Она же их всячески опекала. Когда садились за стол, сажала рядом с собой слева и справа, а мы у дальнего края стола. Наверное, в ту пору у меня начали отрастать длинные руки, иначе не видать бы мне хлеба, который всегда стоял на том конце стола, где сидела мачеха с ее детьми.
Слава богу, продолжаюсь это недолго. Недели через две или три, когда отец, бывший по целому дню на работе, все-таки разглядел это разделение и взаимную неприязнь, пригнал подводу, погрузил в нее их вещи и саму мачеху с детьми и отвез туда, где их и взял. Мы вздохнули с облегчением, остались все свои, родные, И радовались, что никто из нас не заразился от мальчишки глистами. А когда подошла весна тридцать четвертого года, отец однажды приехал на грузовой машине, погрузил в нее скудный скарб наш, посадил в кузов нас, наказал, чтобы сидели смирно и держались крепко, и мы поехали в совхоз курорта "Лебяжье", расположенный на полпути между городом и нашим селом. Там уже жила наша бабушка Прасковья Григорьевна, мать моего отца со своими сыновьями дядей Митей, его женой тетей Фросей и дядей Васей. Поселились мы в одной комнате всего десять человек.
Снова началась привольная жизнь на природе с никем не опекаемыми рейдами по окружающей степи, с большим количеством заросших камышом озер, изобиловавших пернатой дичью. Мы с мальчишками ходили по степи, купались в озерах, весной грабили чаячьи гнезда, собирая их яйца, летом собирали клубнику по степи и березовым колкам. Ах, какая это была счастливая пора...
Дядя Митя работал в совхозе конюхом. Он так любил лошадей! Давно ли в их дворе был десяток своих лошадей? Это была его родная стихия. Тогда Васе шел уже семнадцатый год, и он тоже работал на лошадях. Не совсем еще окрепший физически, он говорил:
- А мне глянется работать на лошадях! Погрузишь и потом едешь, отдыхаешь.
Брат мой Ваня уехал в Томск учиться в рабфак. Он стая хорошо писать стихи и в каждом письме присылал новые. Начиналась жизнь у него вроде бы нормально, да только не надолго.
Летом дядя Митя взял меня на сенокос работать на волокуше. Дал мне гнедую кобылу с удивительной иноходью. Ей можно было поставить на спину стакан с водой, и на полной рыси вода не расплескалась бы. Для меня это было важно, ведь ездили мы верхом без седел. Подъезжали к копнам, мужики загружали копны на волокуши, и надо было подвозить сено к скирде, где другие мужики укладывали сено в скирды.
Спали в шалашах, крытых сеном, на подстилке из сена же, вдыхая удивительный аромат увядших трав. Питались из общего котла. Вечерами, после ужина - гармошка, частушки, пляски, - и бабы, и девушки, и мужики, и парни все участвовали в этих весельях, так дружны были все. И мы, мальчишки, работавшие на волокушах, крутились тут же, любуясь торжеством коллективного отдыха, после коллективного труда, хотя вставать утром надо было рано, но уйти и лечь спать было невозможно до тех пор, пока бригадир не подавал команду:
- Ну, все, ребята, пошли на отдых, а то завтра вставать рано!
Отец мой работал то пильщиком, то плотником. У него была продольная пила, доставшаяся ему еще от деда. Еще в Лебяжьем, когда мы жили рядом, они во дворе деда на козлах распиливали бревна на доски для своего хозяйства. Уезжая в город, отец не бросил пилу, а так и взял ее с собой. В те времена в селах механизации никакой не было, а потребность в досках была, поэтому отец мой со своей пилой всегда был востребован строительными начальниками и частенько, когда прижимала нужда, безотказно получал небольшой "аванес", не дождавшись получки. Козлы, где отец работал, были недалеко, сразу же за скотными дворами и мы с Кузькой каждый день бегали с мешком насобирать щепок от тесаных бревен, которыми бабушка наша топила печь.
Бабушка наша, помыкавшись в голодные годы, теперь собрала около себя сыновей и нас внуков - сирот и как-то помягчела сердцем. Не ругаясь, не бранясь, а только опираясь на свой авторитет старшей в доме, она управлялась в этом нелегком хозяйстве, населенном почти одними мужиками. Помощницей у нее была только тетя Фрося, жена дяди Мити, но она работала в поле и не всегда бывала дома.
Перед печью у бабушки под столами были устроены две клетки. В одной зимовали крольчихи, оставленные на расплод, во второй петух с курицами. На лето их всех выпускали на улицу и летом они ночевали в сенях на седале, а кролики рыли себе под домом норы и там все лето плодились. Кроликов разводил и мой дружок, бывший старше меня года на три, Ваня Салишев. Его кролики тоже бегали летом на воле и осенью мы, не ссорясь, отлавливали все это расплодившееся стадо, ориентируясь только по цвету меха, хотя за лето и наши и Ванины спаривались вперекрест, не разбирая, кто чей, и цвет потомства мог быть любой. Но мы не ссорились, мы были неразлучные друзья.
Ваня этот был удивительный паренёк. Он отлично играл на гармошке и вечерами на игрищах парней и девчат был единственным и желанным всем музыкантом. А днем мог сойтись с ватагой мальчишек от восьми до двенадцати лет и во всю играть с ними в войну, в Чапаева. Был у него еще брат Вася, ему уже было лет шестнадцать, симпатичный и серьезный парень. Хорошо учился, молодежных гульбищ избегал и тоже играл на гармошке. Мы с ними жили рядом, через стенку, только входы были с улицы отдельно. Мама их была высокая дородная женщина, а отец - бухгалтер и кассир совхоза, так высок, что все время сутулился, чтобы не набивать себе шишек на голове, при входе через двери. Больше у них детей не было. После войны, когда я ездил навестить родное село и заезжал на один день к дяде Мите, я узнал печальную весть. Оба они - и Ваня, и Вася Салищевы. эти прекрасные парни, погибли на войне. Но это было потом. А в ту пору мы были неразлучны. Вместе ходили в кино, в клуб, когда приезжала кинопередвижка. Денег на билеты у нас не было, но нас пускали с условием, что одну часть фильма надо было крутить в определенном ритме динамо - машину.
Был у Вани соперник Генка. Фамилию я его забыл. Одного с ним возраста, с красивым смуглым лицом. Может быть, они ревновали друг друга к девчонкам, а шансы у них были равные: Генка посмазливее, но зато без гармошки. И ребятишки в поселке разделились на две группы, симпатизируя каждый своему кумиру. Генка хотел подавить Ваню и как-то вызвал его на кулачки. Вечером, около клуба, вся орда мальчишек высыпала на улицу и окружила соперников. Договорились драться по-честному, только руками. И без помощников. Мы стояли наготове на случай какой-нибудь нечестной выходки с той стороны, чтобы тут же ввязаться в общую свалку. Но ничего не произошло. Обменявшись несколькими оплеухами и, стойко их выдержав, обе стороны сделали вывод: Генка понял, что Ваню ему не сломить, а слегка побаивавшийся до этого Ваня решил, что это совсем не страшно - постоять за себя.
- Ну-у-у, я теперь его не боюсь! А я то думал... - восклицал возбужденно Ваня. Наверное, и на фронте он был стойким солдатом. Но возраст его был таков, что на Фронт он попал, наверное, в первые, самые страшные дни войны.
Жизнь наша улучшилась только настолько, что мы наелись хлеба, молока, овощей. С мясом было похуже. Но однажды Ваня привел небольшую собачку непонятной породы, которую взял у знакомого охотника на время и стал ходить с ней на охоту без ружья. Озер, поросших камышом, было много, и все они были плотно заселены утками, выводившими здесь потомство. Охота еще не открывалась, но по озерам уж метались стайки хлопунцов, пробовавших летать. Ваня с собакой обходил вокруг озера, а собачка в это время шныряла по камышам, ловя этих хлопунцов, а иногда и зазевавшуюся старую утку, и приносила ему на берег. Ване оставалось только положить ее в мешок. Так, обойдя два-три озера и собрав десятка полтора уток, Ваня приносил их домой бабушке. Вот когда мы попировали!
А однажды мы с бабушкой пошли в степь по березовым колкам собирать землянику. Было жарко, подсохшая трава похрустывала под ногами. Мы дали по степи большой круг, и в одном месте бабушка наткнулась на гнездо под маленьким кустиком можжевельника. В гнезде сидела на яйцах большая кряква.
- Что же это ты, дура старая, надумала под осень детей заводить? Когда же они у тебя успеют вырасти до зимы? А иди-ка вот сюда, - и бабушка взяла ее под крылья. Утка открыла клюв, норовя ущипнуть бабушку за руку, но тут же оказалась в сумке.
Конечно, все это - и Ванина "охота" и эта "находка" бабушки, было браконьерством, но время было не то, когда мы жили в деревне и когда в лес за ягодами выходили все в один день, когда наступал срок. Теперь же, обобранные властью, наголодавшиеся за три года, все мы стали немного подпорченные нравственно. Мне было жалко утку, но что я мог сказать бабушке? Ей приходилось кормить семью из десяти человек, а чем? Наверное, Бог простит ей этот грех, тем более что пернатой дичи в тех краях, изобилующих небольшими озерками, водилось множество, а охотников один - два, не более, да и то бедствующих без пороха и дроби.
Это был мой единственный поход с бабушкой, потому что она вскоре стала работать. Бабушка моя пекла прекрасный хлеб и ее уговорили поработать в пекарне. Но она бала уже слаба, чтобы перемешивать такую массу теста и согласилась работать только с помощником, которым взяла моего отца. Печь в пекарне топили дровами, хлебы получались по-домашнему пышные, как когда-то в деревне. Хлеб сдавали в магазинчик, стоявший рядом. В отдельные дни, когда продавец магазина уезжала в район за товарами, хлеб надо было продавать прямо в пекарне. Отец от этого дела отказался, бабушка - совершенно неграмотная, тоже. С весны ее было, уговорили с другими женщинами походить на ликбез, поучиться читать и писать, но домашние хлопоты с оравой мужиков не способствовали этому, и через месяц моя бабушка бросила учебу, почитая нажитую житейскую мудрость вполне достаточной для жизни. И вот тут-то, когда понадобилось заняться торговлей, они не нашли ничего лучшего, как привлечь для этого меня, десятилетнего пацана. Я, без всякого сомнения и стеснения, взвешивал на весах большущие буханки, клацая костяшками счетов, принимая деньги и сдавая сдачи, а вечером отдавал всю выручку бабушке, а та уже продавщице, когда она возвращалась из поездки.
Но однажды, - о соблазн! - я проворовапся. Утаив у бабки пять рублей из выручки, я на другой день, как только открылся магазин, купил на всю пятерку конфет, наелся сам и накормил всех своих друзей. Время тогда было не такое, чтобы детям давали по пятерке на конфеты, да к тому же продавщица знала, что в ее отсутствие я в какой-то мере замещаю ее - последовал донос, а дома не пришлось долго ждать и допроса.
Под натиском неопровержимых улик, а в их числе и липкие от конфет карманы, я чистосердечно признался, краснея от стыда.
- Ты что же, сукин сын, хочешь, чтобы бабушку в тюрьму посадили, укоряла она. Однако почему-то меня не выпороли, хотя и следовало, но от торговли отстранили раз и навсегда. И хорошо, что не стали больше неокрепшую юную душу подвергать такому соблазну, а то вышел бы из меня со временем торгаш-воришка, а там недалеко и до тюрьмы.
Тут вскоре нашего отца бабки оженили на старой деве, которой было лет 28-30, очень милой, на мой взгляд, тихой и робкой женщине. Жила она в той деревушке Углы, где когда-то председательствовал в колхозе наш крестный дядя Кузя, который к этому времени уже умер, но там осталась его мать, наша бабушка Ишутина, с оставшимися двумя сиротками-мальчиками. Жили они на попечении колхоза, не забывшего своего первого председателя. Не знаю, как уж совершился этот сговор, кто был его инициатором? Скорее всего, наша бабушка Ишутина. Но однажды, эта молодая стройная женщина появилась в нашей комнате с маленьким узелочком и, стыдливо потупившись, сказала, кто она и зачем пришла. Было еще лето, я тут же куда-то убежал и не был свидетелем разговора.
Но на другой день она (я уже не помню, как ее звали) сказала мне, что бабушка соскучилась, ждет, чтобы я пришел к ней повидаться, и рассказала, как найти дорогу. Не долго думая, на следующий день я сказал, что пойду навестить бабушку и, не встретив возражения, пустился в путь. Вокруг была степь, места совершенно открытые, заблудиться было негде, поэтому отпустили меня, не сомневаясь, что я найду эту деревеньку Углы. Идти надо было верст пятнадцать, и шел я всего часа три-четыре. Но как же изменилась за это короткое время местность! Километров через десять закончилось ковыльное высокотравье и началась низкотравная степь с проплешинами солончака. Убогое сельцо Углы состояло всего из полутора десятков мазанок да трех больших овечьих кошар, вокруг которых, как асфальтом была утоптана овечьими экскрементами земля.
Встретил меня старший бабушкин внук Минька, бывший моим одногодком. Постреливая из рогатки по воробьям, он обвел меня вокруг кошар и привел к своему домику. Бабушка была дома. Как же она постарела за эти четыре года бедная! Она слепла от катаракты и видела только силуэты. Лечить в то время эту болезнь не умели, и ее ждала полная слепота. И теперь уже видно было, что она не может, как следует обихаживать дом. В доме постоянно гудел рой мух, налетавших от расположенных недалеко кошар, а моя бедная бабушка не могла уже что-то с ними сделать.
Вокруг не было ни одного озерца. Воду брали только из колодцев. Вокруг - ни травинки, овцы как под бритву подъели всю растительность и, сколько видел глаз, до самого горизонта виднелась только серая земля с проплешинами белых солончаков. И в самих Углах ни одного деревца.
Бабушка принялась поить меня молоком. Коровы у них не было и ничего у них не было, все они получали в колхозе. Видеть всю убогость этого житья было тяжко и, погостивши там два-три дня, я отправился домой. Больше встретиться с бабушкой мне было уже не суждено.
Возвращаясь домой, на полпути я встретил вдруг не состоявшуюся нашу новую мачеху. Я спросил, куда она идет? Она ответила, что домой, потому что наш отец не захотел с ней жить. И опять замолчала робкая и тихая - это передо мной-то, девятилетним. Постояли мы молча, и будто виноватые - она в том,что не сумела стать нам матерью, а я за отца, что он не понял доброты ее тихой и робкой души, пошли, - она со своим узелочком в свою сторону, а я в свою. Мне было очень жалко ее, и по-детски я ничего не мог понять. И я все оглядывался и оглядывался назад, на все уменьшающуюся фигуру, пока она не скрылась в мареве у горизонта.
Осенью я пошел учиться в школу. Школа наша состояла всего из одной классной комнаты с двумя рядами парт вдоль стен, черной школьной доски на стене, рядом с невысоким шкафом, наверху которого стоял глобус. Учились в две смены: утром на одном ряду парт сидел первый класс, на втором - третий, а после обеда - второй и четвертый. Преподавание шло одновременно для двух классов одним и тем же учителем. Кто не ленился, мог сразу усваивать программу и того и другого класса.
Обучение мое начиналось при стесненных обстоятельствах. Походил я в первый класс сентябрь, пока можно было ходить босиком, а как наступили холода, то стало не в чем. Всю зиму я занимался сам, прорешав все задачи от корки до корки, да так преуспел, что на следующий год во втором классе сидел всего два дня. Учитель увидел, что я решаю задачки и за второй и за четвертый класс, поспрашивал кое-что еще, да и говорит:
- Ты, Соболев, приходи завтра с утра, в первую смену, будешь учиться в третьем классе. Во втором, я вижу, тебе делать нечего.
Так я сэкономил один год. В этот год у меня появилась кое-какая одежонка и обувь, и зима для меня стала веселее. После школы катались со снежных горок, которые наметало около скотных дворов, или на самодельных коньках на замерзшем круглом озере, которое почти не заносило снегом, весь его со льда сдувало ветрами. Однажды, накатавшись, мы - вся наша ватага, вышли на берег, мальчишки закурили. Один из них протянул и мне папиросу, большую такую, по моему под названием "Пушка".
- Будешь? - спросил он.
Мне захотелось попробовать, я взял и прикурил. И выкурил ее всю до конца. И тут же минут через пять, меня вытравило на снег. Так я сразу же накурился на всю жизнь. Больше никогда начинать курить я даже не пробовал.
В начале этой зимы женили Дядю Васю. Невеста его Нюся (девичьей фамилии ее я не помню) была девка - бой, пересмешница, которая, как говорят, за словом в карман не лезла. Наверное, не дядя Вася ее сосватал, а скорее она его оженила на себе. О, девки это могут!
Свадьба была негромкая. Отошли те наши сельские времена, когда гуляли по неделе, обходя гульбищами всю родню поочередно. Собрались у нас, за неимением места, только родственники наши и ее родители. Посидели, попили, покричали "горько!", а часов в одиннадцать вечера дядя Вася накинул на себя пальтишко и вышел на улицу. Все думали, может по нужде какой. Но вот уже двадцать минут нет его, полчаса нет... Побежали искать. Обежали все сортиры, соседей, скотные дворы - нигде нет. Ночь кромешная, да еще буран идет. А с рассветом дядя Митя оседлал коня, прихватил шубу и шапку (дядя Вася выскочил даже без шапки) и поехал выслеживать своего брата. За околицей взял, было, след, но дальше его замело, но уже понял дядя Митя, что опьяневший трезвенник Вася пошел в степь, туда, куда гнал его ветер. Так скакал дядя Митя версты три-четыре, до покоса, где стояли скирды сена, заготовленные на зиму. В одной из них и нашел он жениха, зарывшегося в сено. Если бы не скирды, замерз бы дядя Вася. Вытащив брата из скирды, дядя Митя одел на него шубу и шапку, посадил на коня и привез домой. Все были рады, что обошлось благополучно, дядя Вася даже не обморозился. Жить он перешел к молодой жене, а наша коробочка была уже полным-полна.
Пролетела незаметно без каких-либо событий зима, настало лето, опять начались походы в степь, по озерам, а вечерами созерцание гульбищ парней и девчат с гармошкой моего друга Вани Салищева. Но тут я что-то приболел, захирел. Врачи, а их-то и было всего один, да фельдшерица Серафима Ивановна Гущина, бывшая жена директора Рубцовского мелькомбината, во времена оные, когда было гонение на промруководителей, посаженного и исчезнувшего навсегда, определили у меня порок сердца и отправили в мое родное село Лебяжье в больницу. Привезли, переодели в больничное белье - белую рубаху и белые кальсоны, мою одежонку отдали отцу и он увез ее с собой. И вот лежу я там, скучаю один среди взрослых, а меня и лечить-то ничем не лечат и все держат. Я бы рад уже и сбежать оттуда, да одеться не во что, не бежать же в кальсонах...
Но в ту пору в Лебяжье жил некто Зубарев Петр (отчества его я не знаю, потому что звали его просто дядя Петр). Он был какой-то чиновник местного масштаба, партийный. Жена у него умерла, оставив после себя маленького сынишку Юру. И вот этому дяде Пете приглянулась наша тетя Маня, девушка-красавица, которая после раскулачивания деда вышла за него замуж. А куда денешься, если в ту пору всем пришлось мыкаться в нищете? Да и мужик этот дядя Петя был неплохой, трезвый, с положением. Только вот партийность его мешала ему нормально общаться с родственниками своей новой жены, бывшими раскулаченными. Вот и жили они на отшибе от всех, не общаясь ни с кем. Сынишке уже было лет пять-шесть в ту пору, и дядя Петя и тетя Маня в тот день уехали в район по каким-то делам. А Юра сидел - сидел дома, скучая, да и направился ко мне в больницу (видно отец, мой сказал им, что я там). Пришел Юра и спрашивает:
- Ты скоро вылечишься?
А я ему:
- Да я бы и сейчас сбежал отсюда, да одеть нечего. Не бежать же мне по деревне в кальсонах.
- А ты одень мои трусы, - говорит Юра.
- А ты как?
- А я без штанов. Я же маленький.
На том и порешили. Быстренько я сбросил с себя больничное белье, натянул с трудом Юркины трусы, вылезли мы через окно в палисадник, окружавший больницу, благо, что уже начинались сумерки, и с версту по деревне с голозадым Юркой и сам я без рубашки с голым пузом. Но было лето, а мальчишки в эту пору и так часто ходили полураздетыми. Юра, по - хозяйски, нашел что-то нам поесть, и мы улеглись спать. А через полчаса приехали дядя Петя и тетя Маня. Узнав, как я оказался у них, дядя Петя давай со смехом стращать своего сынишку:
- Ну, ты партизан, Юрка! Как это ты из больницы украл своего брата? А если тебя за это завтра в милицию и в тюрьму?
- А нас же никто не видел! А ты же никому не рассказывай, отговаривался Юра. Тетя Маня накрыла на стол и позвала нас:
- Идите, партизаны, поешьте.
Оказывается, Юра спросонья утром не расслышал, что и где ему оставила мама, тетя Маня, и день жил на сухомятке. А на другой день за мной приехал отец и привез мою одежду.
Мой брат Ваня в это время приехал из Томска, где он учился на рабфаке. Этакий весь, не по - деревенски одетый: в белом костюме, в белых брезентовых туфлях, которые он каждый день надраивал разведенным водой зубным порошком. На вечерних гульбищах он так галантно раскланиваясь, уводил то одну девушку в степь, вернувшись, оставлял ее, брал под руку другую и уходил с ней в степь... И как это никто из парней не поколотил этого пижона?
Живя в этом совхозе, все работники его обеспечивались с совхозного продукта, никто из сельчан не имел своего личного подсобного хозяйства. Совхоз же, будучи хозяйством военного курорта "Лебяжье", производил все необходимое для жизни. Совхоз имел свою пашню, выращивая пшеницу, овес, подсолнухи на силос, овощи, бахчевые, имел свое конное стадо для производства кумыса (курорт был специализирован для лечения туберкулеза), имел стадо крупного рогатого скота и свой маслозавод, производивший масло, кефир, сметану, творог и проч. Я помню, по каким ценам мы покупали овощи: капуста - 2 коп. за кг, огурцы - З коп., помидоры 4 коп., арбузы - 2 коп. Молочные продукты не помню, но, судя по тому, что они у нас всегда были при нашем небольшом денежном доходе, то тоже копейки.
Руководители совхоза не отделялись от рабочих стенкой своего положения. В праздники, помню, летом всем коллективом выезжали в березовую рощу, расположенную между совхозом и поселком "Третий километр", и там, на природе с буфетом, патефоном, гармошкой, расслабившись от повседневного трудового напряжения, общались, уважительно относясь друг к другу.
В этих праздниках не участвовали только учителя школ. Наверное, потому что они тогда для всех были образцами трезвости, культуры и образованности. Учитель для всех был авторитетнейшим человеком и учителя, обычно, возглавляли работу с молодежью в драматических, музыкальных, танцевальных кружках. И, наверное, не было села, где бы не ставились пьесы, обычно революционного или послереволюционного содержания, периода коллективизации, становления общественного труда, постепенно формируя нравственность нового человека, думающего прежде об общем, а потом о себе. Наверное, это был идеал, к которому вели народ великие романтики, потому что о себе все-таки каждый думал в первую очередь, однако, когда Родине было тяжко, о себе забывали. Во всяком случае, в отношениях друг к другу не заметны были шкурные побуждения. Люди не шли по костям других. Может быть, потому что все были одинаково небогаты и жили просто, открыто, не считая информацию о своем доходе секретной, тайной. Это ведь богатство развращает души людей. И пройдет много лет жизни этого поколения великих романтиков, прежде чем улучшение жизненных условий, созданных ими, приведет к постепенному расслоению по уровню жизни, выделит из поколения, которое сменит этих романтиков, жадных прагматиков с ненасытными потребностями, извращенными беспредельно, для которых и народ, и страна, и Родина - все это просто мусор, навоз, на котором они будут наращивать свой капитал под лозунгом: "Первоначальные накопления не могут быть честными". Ложь! Ложь, придуманная этими наглыми ворами и их прислужниками.
В то время, во время моего детства, когда мы радовались каждому сообщению о пуске нового завода, новой фабрики, электростанции, новой шахты, в возможность появления таких оборотней никто бы не поверил, сама мысль, поставленная в такой Форме, была бы абсурдной. В той чистой среде мы и вырастали.
Через год для продолжения учебы на зиму я уехал в родное село, потому что в совхозе была только начальная школа. Отец мой привез меня к своему дальнему родственнику, которого называл сватом, Максиму Канаевичу, фамилию которого я или забыл, а возможно и не знал, всегда называя его просто Максимом Канаевичем. Жил он со своей женой Дусей и дочкой Надей, примерно одного со мной возраста. Договорились, что отец мой будет привозить для меня на месяц пуд муки, все остальное в деревне не было дефицитом. Максим Канаевич был великий балагур, никогда не печалился на жизнь, а поевши щей с кашей, заваливался на кровать и начинал свои прибаутки. Похохотавши так с нами, он читал листки от настенного численника, сопровождая все это рассуждениями о погоде и перспективах урожая в году. Хозяйства у него была одна коровенка, зимой это не очень обременительно было для него, а где он еще работал, я так и не знал.
Я как всегда учился на одни пятерки, и зимой меня премировали в школе лыжами, на которых я потом бегал по заиндевевшему на морозе сосновому бору, до которого было рукой подать - всего-то перебежать через огород и озеро. Надя училась средненько, за что тетя Дуся частенько корила ее и ставила меня в пример, отчего я очень смущался и скорее залезал на русскую печь, где мне было отведено место для сна. Я никогда не любил похвал мне в лицо или в моем присутствии.
Как ни приветливо относились ко мне Максим Канаевич и тетя Дуся, все меня тянуло домой. И если зимой ездить попутками в совхоз в открытом кузове было холодно, то в сентябре и октябре, до снега я ездил туда на каждое воскресенье, выходя в субботу после занятий в школе на дорогу, чтобы перехватить грузовик, ходивший ежедневно с курорта в совхоз за молочными продуктами. И всего-то у меня получалось побыть со своей семьей одну ночку, а в воскресенье уже надо было возвращаться в Лебяжье, чтобы в понедельник с утра быть в школе, И все же, послушав вечером родные голоса, поужинав со всеми братиками и сестричками тем, что приготовила бабушка, утром еще немного почувствовать близость родных людей, (хотя и не было никаких особых разговоров со мной, никаких ласк) было для меня благом, наградой за недельную разлуку. Насколько радостным был приезд в родной дом, настолько тоскливым был отъезд в Лебяжье, тем более что происходил он обычно под вечер, когда наступала темень, и в кузове автомашины пронизывал холодный ветер.
А в Лебяжье - учеба в школе, катание на лыжах или возня во дворе с девчонками Надей и Настей из соседнего двора. Мальчишек по соседству не было. Правда, только мы разыгрывались, как выходила мама Насти из своего дома и кричала через забор:
- Настя, хватит бегать, иди домой!
Настя уходила, а без нее играть было уже неинтересно. И чего боялась Настина мать? Тогда я ничего этого не понимал. Однако помню еще и запах соломы, на которой мы барахтались, как мальчишки, и морозное небо над головой, и заиндевелые черные пряди волос, выбивавшиеся из-под платка Насти, и ее раскрасневшиеся щеки, и ее чистое свежее дыхание, как у здорового котенка. Тоненькая и гибкая, как змейка, дразнящая и изворачивающаяся, наверное, она уже превращалась из девочки в девушку, хотя была одного со мной возраста. Кто их знает девчонок? Наверное, мама ее знала лучше и больше. А мне в ту пору только и надо было порезвиться, как подрастающему и тренирующему свое тело щенку.
Ах, Настенька, Настенька! Светлый лучик моего детства!
Спустя десять лет, уже после войны и после демобилизации, возвращения из Германии, когда я приезжая навестить родное село и тетю Нюру, я узнал, что Настенька работает на военном курорте - это километра два от села, через бор на берегу Горького озера. Как я узнал? Я уже не помню. Возможно, тетя Нюра мне сказала, а жила она недалеко от Настиного дома, да и в селе все обо всех все знают. И я пошел на курорт.
Как я узнал, где Настя работает? Не знаю. Как будто вел меня кто. А может быть, возраст у меня был такой, и у меня еще не было никогда женщины. Да я никогда прежде и не смотрел на Настю, как на женщину. Мне было просто необходимо прикоснуться к прошлому, потому что все лучшее бывает только в прошлом, хотя в молодости, особенно в юности, детстве, все мы живем будущим, мечтами, планами и они грезятся нам прекрасными и манящими. Но в реальности вое лучшее только в прошлом.
Я нашел дом, в котором работала Настя. Вошел. Настя была одна, она гладила белье. Поздоровались. Она сказала, то сейчас догладит белье и уже пойдет домой. Я подождал ее. Это была уже не та тоненькая юркая девочка. Передо мной была плотная здоровая женщина с тугой, как резиновые мячи, грудью и крепкими, сильными руками женщины-крестьянки. Я это почувствовал, когда здороваясь, обнял ее и поцеловал в щеку. Та манящая, дразнящая девочка, с которой мы играли на соломе, исчезла. И почему это все лучшее всегда исчезает?
Мы шли домой, перебрасываясь скучными словами. Настя сказала, что она не замужем. Что в следующее воскресенье она поедет в Рубцовск на базар. А я на следующий день ушел в город. Однако в воскресенье пошел на базар, разыскал там Настю. Зачем? Не знаю. Настя не манила меня. Просто мне хотелось еще раз прикоснуться к прошлому, к ушедшему безвозвратно детству. Мы постояли еще рядом, почти не разговаривая, потому что впереди нам маячили разные дороги. Пригласить к себе ее я не мог, потому что сам жил не дома. Попрощавшись, я ушел, унося в себе тоску о чем-то утраченном, Настя смотрела тоскливо и печально, наверное, и я тоже. Это было еще одно прощание с детством. Больше Настю я никогда не видел.
Но это было потом. А. пока я учился в школе. После нового года приехал мой отец и поселился тоже у Максима Канаевича. На курорте что-то строили и отец мой, будучи плотником, из совхоза был командирован временно поработать на курорте. Вечерами приходил к нашему временному жилищу намерзшийся, проголодавшийся. Тетя Дуся кормила нас всех, и мы укладывались спать.
Перезимовали мы там и вместе с весенним ветром, вместе с жаворонками и журавлиными стаями нахлынула на отца тоска по дальним далям, по земле неизведанной и поманила надеждой, что там где-то все образуется и все устроится, что все будет лучше, чем здесь. Да и что могло держать его здесь? Оторванный от своей земли, от своего собственного жилища, от небогатого, но достаточного для жизни хозяйства, превратившись в люмпена, перебивающегося от аванса до получки, когда была работа. А когда не было? Потерявши отца, жену, мой отец уже никакими нитями не был привязан к родному селу. Насобирал он еще несколько своих односельчан, заразившихся той же болезнью перелетных птиц и легких на подъем, и двинулись мы опять ватагой с бедным барахлишком нашим, увязанным в узлы, теперь уже на север, в Игарку. Среди наших попутчиков была и семья моего дружка первых лет жизни - Митьки Ситникова.
Отец мой за год где-то до отъезда на север женился на одинокой женщине, которая вскоре понесла от него. Отцу моему перед этим сделали операцию по удалению паховой грыжи, и это послужило поводом его братьям дяде Мите и дяде Васе подтрунивать над ним,
- Смотри-ка, выложили его, а он опять сострогал...
- Однако, одно яйцо оставили.
А когда мачеха наша родила двойню, но почему-то мертвых, отцовы братья опять начали зубоскалить.
- Вот надо же, с одним яйцом и двух сразу!
- Такого в нашем роду еще не было...
Так что ехали мы, слава богу, без прибавления.
До Рубцовска теперь уже доехали на попутной машине. Оттуда до Красноярска суток за пять добрались поездом, самым медленным, самым дешевым, в общем вагоне. Правда, все сразу оккупировали полки от самой нижней до самой верхней. Поезда тогда останавливались на каждой станции, на всех станциях шла бойкая торговля вареной картошкой, солеными огурцами и прочей соленой снедью - жизнь потихоньку налаживалась. На каждой станции тогда стояли каменные будки, с фасада которых торчали краны, а наверху были вывески с надписью: "Кипяток". Вот на остановках, когда приходило время нашей бедной трапезы, мужики выскакивапи из вагонов и бегали за кипятком. Поезда стояли подолгу, однако, все равно мы волновались, как бы они не отстали. Мы с удовольствием с утра и до вечера выглядывали в окна вагонов на убегающие назад поля и перелески, на раскинувшиеся по сторонам от дороги деревни с тополевыми посадками, со скворечниками над избами, как когда-то в нашей родной деревне, на открывшиеся ото льда речки и еще по - весеннему сырые луговины.
Да, хороша природа нашей родной Сибири, часами смотришь, и наглядеться не можешь. И намного позже, когда я жил уже на Сахалине и через год ездил в отпуск на Кавказ, и тогда я часами стоял в вагоне у окна, обозревая сменяющие друг друга картины природы.
В Красноярске от вокзала до речного порта свои узлы мы везли на подводе, с грохотом прыгающей по булыжной мостовой, а сами шли пешком, с удовольствием разминая занемевшие от вагонной неподвижности ноги. Однако, по прибытии в речной порт, разгрузившись и поразведав по дебаркадеру, чтобы узнать, что и как нам делать дальше, были очень разочарованы. Подвело нас всеобщее незнание географии. Енисей течет с юга на север и ледоход на нем в верховьях начинается на месяц-полтора раньше, чем в низовье. Лед фактически расталкивается по берегам, хотя ледоход на Енисее самый мощный на всей земле. Оказалось, что в Игарке лед на Енисее будет стоять еще с месяц, и все это время пароходы туда ходить не будут. Возникла проблема, где жить целый месяц, а главное - на что жить. Денег у всех мужиков было в обрез.
Слава богу, что по югу судоходство уже началось, и порт уже работал. Наши отцы устроились временно, до отплытия в Игарку, грузчиками в порту. Семьи же наши поселились в стоящих рядом с дебаркадером баржах. Пищу варили на берегу, на костерках... С утра мужчины уходили на работу, а мы - пацаны, предоставленные самим себе, целыми днями слонялись по берегу могучей реки, наблюдая бурную жизнь, кипевшую на ней.
Так прошел месяц, и только в конце мая 1938 года нашим отцам, как работникам порта, без очереди продали билеты на первый пароход, идущий до Игарки. Ехали мы третьим классом на общей средней палубе на пароходе "Мария Ульянова".
Вслед за ранней весной, за уходящими льдами, по холодной еще воде с туманами и моросью, пароход наш шлепал плицами по воде, уныло гудел и частенько приставал к берегу, то чтобы высадить и взять пассажиров у маленького, богом забытого селения на берегу реки, то для того, чтобы из заготовленных на пустынном берегу огромных поленниц запастись дровами. Котлы парохода грелись дровами, и команда парохода часа по четыре на носилках перетаскивала с берега метровой длины получурки, и с криком: "яма!" сбрасывала их в трюм, в машинное отделение. Пассажиры в это время могли беспрепятственно сходить на берег, а мы, ребятня, поднимались на высокий коренной берег и бродили по тайге, надеясь найти что-нибудь съестное - ягоду или кедровые шишки. Но была весна и все, что годилось в пищу, за долгую зиму было уже подъедено людьми, зверушками и птицами. Но и просто ходить по тайге с могучими деревьями, по земле, поросшей мхом, было интересно, особенно нам, родившимся в степи.
В населенных стоянках (станках) покупали у выходивших к пароходу жителей прекрасную свежую рыбу. Это были еще мокрые сиги, чиры, налимы, нельма, таймени - все такие огромные. Нигде больше я не едал такой вкусной рыбы, как на Енисее.
Рыбу тут же резали на куски, чистили, промывали, складывали в кастрюли, а на пароходе, на палубе третьего класса, был кран с кипятком. Рыбу заливали кипятком, через несколько минут сливая и заливали снова, и так, сменив кипяток раза три - четыре, получали уже сварившуюся рыбу. Подсаливали и трапезничали с удовольствием, радуясь, что едем в такой обильный рыбой край.
Ехали, как я уже говорил, третьим классом - это без каких-либо кают, на средней палубе, вповалку расположившись со своими узлами. Народу было много, воздух сперт, и мы большую часть времени днем находились на внешней палубе, по которой можно было ходить вокруг всего парохода и наблюдать берега в любом направлении.
Через наделю на реке стали попадаться льдины, погода испортилась, перемежаясь шел то дождь, то снег. И вот ранним утром из мелкой мороси, в тумане стал вырисовываться серенький деревянный город Игарка. Выгрузившись на дебаркадер, наши мужики - всё бывшие крестьяне-хлебопашцы, быстро сориентировались и не стали задерживаться в городе для поиска работы, а на лодках вместе с семьями переправились на остров, отделенный от города километровой протокой, где располагался совхоз "Полярный". Там предстояло прожить нам несколько лет. Первую ночь переночевали в только что отстроенной из деревянного бруса конторе, вкусно пахнущей свежим, смолистым деревом. А на следующий день нас расселили по свободным комнатам в бараках.
В совхозе в ту пору было молочное стадо коров, и гектаров двести пашни, на которой выращивали капусту, турнепс, немного картофеля и прочих быстрорастущих овощей, дело это в Заполярье было новое, и тут же располагалась небольшая научно - исследовательская станция, производившая опыты по выращиванию овощей и кормовых трав для скота. В поселке, расположенном на высоком коренном берегу Енисея было с десяток бараков, небольшой клуб и школа-семилетка.
Буквально на третий день после нашего прибытия мы уже работали на полях совхоза. В это лето мы с Митькой Ситниковым вместе с нашими отцами работали на полях совхоза. Мачеха наша стала работать дояркой. Отношения с ней у нас сложились не очень теплые, но терпимые, тем более, что дома мы почти не жили. Было начало июня, только что сошел снег, но полярное солнце уже не заходило за горизонт, а светило непрерывно в течение нескольких месяцев. Поэтому мы были или на работе, либо, поужинав, уходили на берег Енисея и там, у костра, а плавника для него было предостаточно - все берега были усеяны им, там, у костра с ватагой совхозной ребятни сидели до позднего часа, закинув рыболовные снасти в реку. Река здесь была широка и величава. Противоположный берег едва виднелся чуть синеющей полоской леса. Ширина реки здесь была шесть километров, глубина - 20-30 метров, а в районе речного порта до 60 метров. При непрерывном освещении солнцем лес по берегам реки за неделю уже оделся листвой, и почти на полметра поднялась трава. Возможно, сказывались и согревающее влияние огромной массы воды, несшей с юга запасы тепла, потому что лес рос только по берегам, а в километре от берега деревья уже чахли и уступали место зыбучим моховым болотам.
Зиму эту с 38 на 39 год мы прожили все вместе в совхозном поселке. Я учился уже в шестом классе. Мачеха наша отличилась на работе, и ее весной отправили в Москву на ВДНХ, оттуда она вернулась уже не одна, а привезла двух сыновей - Толю, одного года со мной и Сашу, года на три старше. Раньше она о них ничего не говорила, а воспитывались они где-то в детском доме. Семейство наше сразу прибавилось. Отношения наши с ними были такие же нейтральные, как и с мачехой, ни вражды, ни особой дружбы. Толя еще учился в школе, а Александр уже школу бросил и готов был уже жениться, если бы ему позволили.
К осени 39 года совхозное стадо перевели с острова километров за 10-12 на материковый берег в устье Черной речки. Отец тоже перешел в животноводческую бригаду, чтобы не отставать от своей жены, и они уехали в то отделение совхоза, забрав с собой Александра и мою сестру Нюську. Ваня с нами в Игарку не приезжал, оставался на родине и в ту пору уже служил в Красной Армии.
В совхозе мы мальчишки остались одни: я, Толя, мой братишка Кузя и еще один мальчик из другой семьи, звали его тоже Сашей, да еще моя младшая сестренка Валя. Всем нам надо было ходить в школу. Так вот мы, дети, и жили коммуной на полном самообеспечении.
Летом я работал на опытной станции сельхозинститута. По выходным, собрав своих ребятишек, ходили в лес заготавливать сухостойные деревья для своей печки. Сносили их в одно место, ставили сухие валежины вертикально большими кострами, чтобы они лучше подсыхали, чтобы их не занесло снегом. А когда выпадал снег, мы сами же на собаках перевозили дрова и так же составляли кострами перед своим окном. Сами потом рубили их, топили печь, и сами готовили пищу из продуктов, которые привозили из дома или покупали в магазине. Привозили в основном только замороженных куропаток. Отец Саши был хорошим охотником, выставлял много петель в береговых зарослях ольхи, где большими стаями мигрировали полярные куропатки, питаясь почками ольхи.
Собаки у нас своей не было, и для перевозки дров мы заимствовали собак и нарту у друзей - старожилов. Собак там все держали по одной, но всех их обучали ходить в нартах. И если кому что-то нужно было перевозить (а дрова все возили только на собаках по бездорожью), то охотно одалживали их друг у друга, чтобы составить упряжку. Две небольшие собачонки могли везти воз такой же, как и одна лошадь.
В выходной день нам всем хотелось побывать дома, в семье. Поэтому каждую субботу, к "вечеру", совершенно условному, потому что стояла полярная ночь, мы, нарубив дров для девятилетней Вали, которая оставалась в нашем "интернате", становились на лыжи и по протоке Енисея, где во впадине обычно стоял мороз минус 60-61 градус, бежали к своим "домой". А на другой день, в воскресенье, прихватив с собой с полмешка мороженых куропаток, опять на лыжах назад, в совхоз. Обмораживались часто, однако усидеть, не пообщавшись с родственниками, не могли.
Однажды отец мой с другими мужиками перед ледоходом, который разделял нас, решили навестить нас и обеспечить продуктами на время ледохода. Шли по протоке пешком. И надо же такому случиться - лед пошел и они на льду. Отец мой не умел плавать, да умение тут ничем не помогло бы, угоди он между льдинами в воду. Однако это сознание, что он не умеет плавать, увеличивало его страх. Пронесло их километра два по протоке, и лед остановился. Это была подвижка, которых бывает по две-три до начала сплошного ледохода. Однако же натерпелись они страху. Пришли к нам в "коммуну", принесли бутылку водки для снятия напряжения. Отец мой после этого какое-то время заикался. К вечеру они все снова ушли к себе на Черную речку. И тут начался полный мощный ледоход. Прямой, длиной километров в 30, пролет реки упирался в наш остров, и река делала поворот влево. Поэтому огромная масса льда, подпираемая набравшим инерцию ледяным полем, на повороте выжималась на берег, делая нагромождения льдин высотой на десятки метров. Стоял глухой шум и грохот, заглушавший голоса. Чтобы услышать друг друга, приходилось кричать.
Все мы в эту пору, кому не надо было быть на работе, от мала до велика почти сутками простаивали на берегу, наблюдая это грандиозное зрелище. Иногда льдом несло смытую где-то с берега избушку, либо стожок сена, либо брошенные сани - где-то ледоход застиг несчастного путника, рискнувшего одолеть по льду эту могучую реку в опасное время.
Однажды, когда основной ледоход уже прошел, и река несла редкие льдины, мы увидели, что по воде несет в полукилометре от берега плот пиломатериалов. Ребята, что постарше, столкнули с берега лодку, налегли на весла и вскоре взяли плотик на буксир, и стали выгребать к берегу. Мешали редкие льдины, и масса сплотки была велика. Лодку сносило все дальше и дальше, а до конца острова от совхоза было всего километра два. Мы, вся орда мальчишек, сочувственно болея за тех, кто был в лодке, бежали вдоль берега. Но вот километра через полтора ребятам удалось-таки добраться до острова, не бросив плот. Тут всем хором навалились, подтянули плот к берегу и закрепили трос за валуны. В сплотке было кубометров тридцать обрезных досок. Не долго думая, сговорились... продать доски совхозу. Совхоз охотно купил эти доски, заплатив ребятам триста рублей.
В ту пору это были большие деньги. Ребята не стали жадничать, а накупили на все деньги консервов, конфет, печенья и, конечно, водки и устроили на берегу Енисея у костра для всей ребятни, бывшей на берегу, пир. И я там был участником. Мне налили стакан водки, а до этого я ее даже не пробовал никогда, и я (не отставать же от других) выпил его до дна. Все вокруг поплыло сразу, как лед на реке, ноги стали ватными, а через полчаса меня не просто вырвало, а вывернуло наизнанку. Целую неделю после этого я ничего не мог есть, меня тошнило. Так "напился" я почти на целую жизнь. До пятидесяти лет я не мог заставить себя проглотить рюмку водки и на званых вечерах норовил сесть за стол рядом с бочкой с Фикусом, чтобы незаметно ото всех, выплескивать водку в бочку, а "опрокинув" в себя пустую рюмку, поморщившись для виду, закусывать. Чтобы другие не приставали. Даже на фронте свои ежедневные сто грамм фронтовых я отдавал старикам.
В эту весну и мы с Кузькой овладели трофеем. Как-то пошли мы с ним на рыбалку, разложили на берегу костер - без костра рыбачить было невозможно, столько было там комаров. А так, разгорится костер, берешь большую головешку, втыкаешь ее одним концом в берег, как свечку, а сам, пристроившись с подветренной стороны - под дымок, наживляешь крючки закидного перемета червями, либо гальянами, если хочешь поймать налима. Вот и на этот раз я занялся наживкой и установкой переметов, а Кузька пошел бродить вдоль берега. Через какое-то время он прибежал и говорит, что нашел прибитый к берегу ялик. Ялик - это такая маленькая лодочка, которая держит на себе одного взрослого мужика, либо двоих подростков.
- Так может, на нем кто-то приплыл? - усомнился я.
- Нет, ялик несло по воде рядом с берегом. Я его поймал, войдя в воду по колено.
Оставив переметы, мы побежали вдоль берега к верхнему концу острова. Ялик был хорош. Совсем новый, просмоленный и без признаков течи.
- Где же мы его хранить будем? Если у совхоза на берегу, то у нас скоро кто-нибудь угонит
- А давай спрячем здесь, в кустах, а когда надо будем приходить сюда. Тут же не далеко, - предложил Кузька.
Так мы и сделали. Подняли за концы и унесли в ольховые заросли. Место это было не много более километра от совхозного поселка, ничего привлекательного для людей здесь не было и можно было не опасаться, что кто-то найдет наш ялик. Этим яликом впоследствии я пользовался три года, оставляя каждый раз в зарослях и ялик, и весла, пряча их в другом месте. Позже я притащил туда и старый тазик, чтобы в нем разводить дымокур во время плавания. Комары там донимали даже в километре от берега. Смотришь, бывало, плывет рыбак вдоль реки километра за полтора от берега, а над лодкой курится дымок, отпугивающий гнуса.
К весне сорокового года я закончил нашу совхозную школу - семилетку и отнес свои документы в расположенное в городе педучилище народов севера. В нем учились мальчишки и девчонки со всего сибирского севера: ненцы, эвенки, якуты, саха, буряты, но примерно треть учащихся были русские. А вскоре, летом отец с мачехой и со всеми детьми уехал, из Игарки, как тогда говорили, "на материк". Я остался один. Мне было уже пятнадцать лет. С этого момента какая-либо опора на семью для меня закончилась. Перед отъездом отец дал мне триста рублей, походил я с ними по базару, но денег на что-то приличное все-таки было маловато. Купил я поношенный костюм себе, в котором проходил два года до самой армии.
Педучилище было интернатского типа. Давали нам талоны на питание (трижды в день) в нашей студенческой столовой закрытого типа. Кормили в ней хорошо. В ней же питались и работники расположенного рядом "с училищем" Горкома партии и Горкома комсомола. Кроме питания выдавали нам ученическую униформу из материи типа фланельки, которую называли почему-то полусукном, хотя сукном там и не пахло. Униформа была серенькая и невзрачная, ее почти никто не носил, кроме меня, отчего я чувствовал себя ущербно, стесняясь девчонок. Впрочем, главное для меня в ту пору была учеба. Учился я отлично, преподаватели меня уважали, за отличную учебу иногда премировали какой-нибудь одежонкой - видели мое бедственное положение юнца без родителей. Платили стипендию что-то вроде рублей 15-20, я уже не помню, но помню, что хватало на зубной порошок и на конфеты, да иногда на билет в кинотеатр.
Преподавательница русского языка и литературы Ксения Васильевна Акулова - жена директора училища, после контрольных работ по литературе, раздавала тетради с сочинениями, брала последней мою тетрадь и говорила:
- А вот это сочинение я вам прочитаю, - и начинала читать. А я готов был залезть под стол от смущения - так я не любил похвалы в свои адрес. И рад был, что хоть сижу в самом заднем ряду.
Мне было приятнее, когда меня отмечали молча, как математик Ощепков Иван Михайлович - бывший грузчик, которого мы называли "Будёт", за то, что он вместо "равняется", говорил "будёт". Он разрешал мне во время занятий читать художественную литературу, потому что не было случая, чтобы он застал меня врасплох, и я не выдал бы на его вопрос положительного ответа. Помню, когда он тренировал нас на преобразования тригонометрических выражений, товарищи мой с бумажками приходили к результату минут через десять. Я же говорил ему сразу результат преобразования. А на его вопрос:
- Как ты пришел к этому ответу? - я просил повторить условие, потому что уже его не помнил. То есть я, как через вычислительную машину, пропускал через слух условие, не задерживаясь на промежуточных, громоздких выражениях, и выдавал конечное, наипростейшее. Мои друзья восхищались мной. Да, светлая голова была у меня. Ах, если бы не война, прервавшая мою учебу!
Летом преподаватель биологии устраивал мне работу за 50 рублей в месяц - я бродил километров за сто вокруг Игарки и собирал гербарии для Красноярского сельхозинститута. Беспечный это был возраст, и выносливость у меня была сверхчеловечья. Без оружия, с одним маленьким топориком, с рюкзаком с продуктами и папкой с газетами для перекладывания найденных новых растений, на своем ялике я уплывал по Енисею или его притокам за сотню верст без спального мешка и палатки, без реппелентов от гнуса, которых тогда не было. Ночевал, где застанет усталость, часто в каком-нибудь шалашике рыбака или охотника, в ненастье, используя заготовленный запас дров. Перед уходом заготавливал дрова, взамен сожженных, складывал их в шалаш, чтобы они не намокали, делился излишком соли, чая, спичек и уходил дальше. Тогда там действовал еще закон тайги, закон уважения и поддержки неизвестного путника, которому могло быть трудно. Заедали комары и мошка. Никаких средств от них, кроме терпения, не было. Каждый раз, возвращаясь из недельного похода, я проклинал такую жизнь и в душе клялся, что это в последний раз, но, сходивши в баньку и отдохнувши дня два-три, я опять начинал томиться в городе и опять собирался в очередной поход.
Первый учебный год мы жили кто где: местные у себя по домам, а приезжие в общежитии. Это был деревянный барак, стоявший в километре от училища на краю оврага, за которым располагалась лесобиржа, место, где штабелями лежали пиломатериалы лесозавода в ожидании навигации и прибытия иностранных пароходов, увозивших лес.
Наша комната занимала половину барака с входом с торца, от самого оврага. Зимой овраг заносило снегом, и склон его был чист и неутоптан. Температура полярной ночью держалась минус 50-60 градусов, а ходил я на занятия первый год в летних ботинках, Надо было закаляться. И я начал вечерами, после подготовки к следующему дню, перед сном купаться в снегу. В комнате нашей нас было человек двадцать всех национальностей. Жили дружно. Однако никто не последовал моему примеру.
Я раздевался догола, набрасывал пальтишко на плечи, выбегал на улицу, отбегал от крыльца метров двадцать, сбрасывал пальто и падал в сыпучий снег. От мороза он не слеживался в плотную массу, а был сухой, как сахар-песок. Покатавшись в снегу, я набрасывал на себя пальто и бегом в барак. Там растирался полотенцем так, что тело начинало гореть огнем и становилось малиновым. Ощущение свежести было такое, будто кожу сняли совсем. Может быть, это и спасало меня от простуды, когда при минус 50-60 градусов я бежал в своих застывших, будто из жести ботиночках утром на занятия.
К следующему учебному году построили для нас недалеко от училища рядом с Горкомом партии двухэтажное общежитие из бруса, пахнувшего свежей живицей. Здание было разгорожено надвое капитальной стенкой, с железной дверью в коридоре, отделявшей девичью половину от мальчишеской.
В общежитии был красный уголок, где мы обучались от своих девчонок танцам: танго и вальсу под патефон. До этого танцы устраивались в актовом зале училища только по каким-нибудь праздникам, а теперь, в общежитии, это стало возможным каждый вечер, после домашней подготовки к занятиям следующего дня. Меня обучала Тамара Шамшурова, самая красивая и изящная девочка нашего класса, в которую я был тайно влюблен и безнадежно. Я и заикнуться не мог ни ей, ни кому-либо еще об этом, так я, бедно одетый, комплексовал.
Меня, как отличника учебы поселили в одноместной маленькой комнате, где стояла кровать, столик с настольной лампой и стул. Пожил я с месяц один и попросил, чтобы меня перевели в общую комнату с моими друзьями-однокурсниками, и стали мы жить вшестером: я, Ваня Волобуев, Саша Ширшиков, Вена Шумков, Петя Жигалов и Витя Зажицкий. Все мы были с одного года рождения и все без вредных привычек. Отзанимавшись, вечером шли или в кинотеатр, где вживую видели часто прилетавших в Игарку первых Героев Советского Союза, летчиков, спасавших затертых во льдах Арктики челюскинцев, или в свой красный уголок на танцы. Вечерами почти каждый день в общежитие приходил завуч - Шилов Леонид Иванович - милейший человек, в которого все мы были просто влюблены. Ходил он по комнатам, интересовался, как мы живем, как приготовились к следующему дню, без тени превосходства, с отеческой улыбкой. И ближе к одиннадцати вечера, он входил в красный уголок и с улыбкой говорил:
- Ну, все, ребятки, пора отдыхать, - еще раз обходил все общежитие, и двери на девичью половину закрывали на ключ.
Вообще весь преподавательский состав был замечательный. Был военрук Першин Александр Васильевич, который, как настоящий офицер, ходил в командирской форме. Историк был туркмен по национальности (имярек я его тоже не помню), лекции вел эмоционально, с акцентом и особенно интересно изображал в лицах монологи исторических персонажей. Эвенкийский язык преподавала маленькая, как девочка эвенкийка, и однажды был скандал. Наш Витя Зажицкий - поляк по национальности, хорошо рисовал. И однажды он маслом написал небольшую копию с картины Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Конечно, он оригинал не видел, копировал с книжки по истории и копию свою повесил в актовом зале училища на стенку. И как-то раз, во время какого-то там сбора, мы собралась около этой картинки и эвенкийка тоже и начала критиковать ее. Витя - на три головы выше ее, высокомерно так, потихоньку похлопал: ее ладошкой по маковке (мол, что ты понимаешь?). Это с его стороны было конечно по - хамски и его чуть было не исключили из училища. Замял Леонид Иванович, заставил Витю публично извиниться, и на этом все закончилось.
Математик Ощепков Иван Михайлович, "Будёт", бывал только на лекциях, в общежитие не приходил. Кто знает? Бывший грузчик, может быть, и теперь где-то работал еще. Меня он любил за знания. Сидя за самым задним столом во время лекции, я читал какую-нибудь художественную книжку, одновременно слушая и его. Он, прохаживаясь между рядами столов, подходил, заглядывал на обложку, смотрел, что я читаю, приговаривал, окая:
- Ну, ну, любитель художественной литературы, смотри...
А я и смотрел. Однажды, уже не помню, какой материал мы проходили по алгебре, задавали на дом помногу задач, решение которых занимало много места и времени. Мне это надоело, я установил закономерность в решении, вывел свою формулу, и решение стало занимать всего две строчки вместо половины страницы. А тут как раз контрольная за четверть, рассчитанная на три часа. Я и спрашиваю:
- Могу ли я решить задачи по выведенной много формуле?
А "Будёт" мне отвечает:
- Можешь. Но если после ты мне не докажешь справедливость этой Формулы, поставлю два, а докажешь - поставлю пять.
Он закончил писать на доске контрольные варианты через пятнадцать минут, и я тут же положил свою работу ему на стол, и вышел из классной комнаты. Я не любил, когда соседи во время контрольных подталкивали меня и просили помочь. Другое дело помочь разобраться после занятий, чтобы человек знал, а не списывал, это я всегда делал с удовольствием. За работу я получил все-таки "пять" и доказывать свою формулу "Будёт" меня не заставил.
Биолог Ляпустин (имя отчество его я тоже забыл) однажды летом, когда я собирал гербарии, увязался идти со мной в тундру, собрали мы наши рюкзаки и пошли. Время было послеобеденное и до вечера (условного - был полярный день) отошли от города километров пять, и остановились на ночлег. Я быстренько нарубил веток и соорудил шалашик, настелил в нем хвои, мы попили чаю, и улеглись, было спать. Но гнус, как озверел, видимо перед дождем. Мой попутчик вытащил из рюкзака байковое одеяло, укрылся им с головой, но мокрец забирался и туда, и жег нещадно. Да к тому же под одеялом было душно, погода стояла тихая, воздух был абсолютно неподвижен. Повертевшись с полчаса, он вдруг выскочил из шалашика, вытряхнул все из своего рюкзака (в том числе и штук пять плиток шоколада) и смущенно улыбнувшись, взмолился:
- Ты как хочешь, но я больше не могу, я пойду домой.
И помчался налегке через тундру к видневшемуся вдали городу. А я вернулся в город только к следующему вечеру. Я уже привык терпеть.
А однажды я соблазнил поплыть на ялике друга своего - однокурсника Сашку Ширшикова. Навьючившись рюкзаками, мы пошли к драматическому театру имени Пашенной, за которым была лодочная переправа на остров. Это потом из книги В.Астафьева "Последний поклон" я узнал, что из библиотеки этого театра он воровал книги. Жили мы с ним в Игарке в одно время, только направленность интересов у нас была разная. Я хотел учиться и учился на полном государственном обеспечении. А Астафьев бродяжничал и воровал. Его отлавливала милиция, устраивала в детдом, где его одевали, обували, начинали учить, а он снова сбегал в воровскую жизнь. А позже, во времена "демократической" (читай воровской) перестройки, проходившей под лозунгом: "Первоначальные накопления не могут быть честными", ругал Советскую власть, и жаловался, лобызаясь с иудой - Ельциным, выкроившим из великого государства Российский Тришкин кафтан, жаловался, что не пришлось ему в молодости учиться. Лжец! Воровать ему было приятнее, чём учиться, поэтому и принял он душой эту воровскую власть. Но это к слову.
Прошли мы к лодочной переправе, за двадцать копеек переплыли на остров, прошли в его верхний по течению конец, где был спрятан мой ялик. Наша цель была обойти вокруг острова Медвежий, обследовать растительность по его берегам, собрать гербарии и вернуться домой.
Ялик под нами осел так, что от верха бортов до поверхности воды оставалось сантиметров десять. Енисей, река серьезная. Были случаи, когда при переправе на другой берег даже на большой лодке, вдруг поднимался ветер, начинался такой шторм, что маленькие пароходики выбрасывало на берег, а чтобы переплыть от берега до берега на лодке, требовалось часа два. Такие переправы иногда заканчивались трагически. Но нам от нашего острова до острова Медвежьего надо было преодолеть расстояние всего километра полтора-два. И мы рискнули. Ялик шел ходко, и вскоре мы были у Медвежьего. Решили вверх плыть по протоке, где течение было медленнее, чем в основном русле. К вечеру мы одолели километров двадцать - примерно половину острова. Остановились на ночлег в покинутом рыбацком шалаше. Саша, конечно, уже не рад был, что поплыл со мной, так донимали комары, но не показывал вида. Вскипятили чай, поужинали и легли спать. Сколько спали? Кто его знает? Был полярный день, часов не было ни у меня, ни у Саши. Видно столько, сколько отмеряли нам комары.
На следующий день к вечеру мы достигли верхней оконечности острова и там устроили отдых прямо на разогретых солнцем огромных валунах, отшлифованных весенними ледоходами. Саша повеселел, оставался однодневный переход вниз по течению по основному руслу Енисея. Вниз мы мчались, будто на моторе, так помогало течение, хотя мы не отходили далеко от острова, изредка приставая к нему, где я обегал метров по триста по кругу и собирал новые растения, пока Саша отдыхал у ялика. В конце острова, в последнем встретившемся шалашике, мы оставили на полочке остатки хлеба, соль, спички, сахар, банки с тресковой печенью и налегке отчалили к своему острову. Мы, студенты, народ небогатый, оставили остаток продуктов, потому что чтили тогда закон тайги. На своем острове спрятали ялик, быстро дошли до лодочной переправы, прошли город до своего общежития, и тут только Саша произнес:
- Как это ты можешь так постоянно мучить себя этими походами?
В эту минуту я и сам не мог сказать как? Видно это была судьба моя. Однажды, летом сорок первого года я возвращался из очередного своего таежного скитания. Измученный от недосыпания (не давали комары), от изнуряющего сидения за веслами и пеших переходов по зыбучим болотам, я еле брел по городу и, привлеченный черной тарелкой радио, висевшей на столбе, призывавшей прослушать важное правительственное сообщение, я присел на край деревянной мостовой (в Игарке все дороги в то время были вымощены брусом). Стали собираться еще проходившие мимо люди. В ту пору приемников ни у кого не было, и даже радиоточки были не у всех. Люди стояли и ждали. Ждали всего, чего угодно, но только не этого. Передавали выступление Молотова. Началась война.
Послышались ахи и охи - это в основном женщины того возраста, сыновья которых служили в армии. Большинство же было оптимистических выкриков, что-то вроде:
- Мы им покажем!
- Ну что же, будет еще и ГССР!
Я тоже не испытывал никакой тревоги, потому что очень уверовал в Ворошиловские слова: "Мы ответим тройным ударом на удар поджигателей войны!". Ответить-то ответили, но сколько потеряли жизней, городов, территорий, вылили реки слез и пережили море горя, пока замахивались для этого удара.
Однако, позабывши об усталости, я побежал в свое общежитие. Прибежал и рассказываю своим друзьям, с которыми жил в одной комнате, о только что услышанном, а они не верят. Включили радио - и тут через небольшое время все повторили снова.
Мой брат Ваня служил тогда в армии на западной границе в Тернопольской области, был разведчиком-артиллеристом. Скоро я получил от него письмо, в котором он писал, какая это страшная пожаро-война. Им пришлось первыми принять на себя этот внезапный удар. Да и из скупых сообщений Совинформбюро, в которых говорили не все, и из них стало видно, как стремительно наступает враг.
Скоро я получил от брата еще письмо, уже из госпиталя. В нем он писал, что во время боя забрался на стену полуразрушенного здания и корректировал огонь своей батареи, сидя верхом на стене. Рядом разорвался вражеский снаряд, и ему осколком перебило одну ногу. В госпитале ему ампутировали ногу на середине бедра, и таким образом он уже отвоевался.
Взяли в армию моего отца, который в ту пору жил в г. Кемерово в Кузбассе, дядю Митю, дядю Васю... Мы все шестеро из нашей комнаты на другой же день пошли в военкомат и просили взять нас в армию. Нас, еще не доросших, не взяли. Однако каждый день мы с утра до вечера сидели на крыльце военкомата (внутрь нас уже не пускали, потому что дежурили мы там каждый день) и упрашивали проходящих офицеров взять нас в армию. Однако от нас отмахивались, как от назойливых мух (видно и без нас было дел невпроворот) и советовали подрасти:
- Не беспокойтесь, придет еще ваше время, - говорили они нам, - а сейчас идите, не мешайте.
В городе стали появляться раненые, на костылях, отпущенные домой на долечивание, или, как говорили, по чистой. Пришла осень, река встала, и наше паломничество в военкомат прекратилось. В ту пору самолетами новобранцев не возили, другой же связи с "материком" долгую зиму не было.
Началась для нас трудная военная зима. Начались занятия в педучилище. Дополнительно к этому к декабрю уже в одном из зданий города организовали классы всевобуча. Туда привлекли шестнадцати - семнадцатилетних ребят, которым уже скоро предстояло служить в армии. Мы все шестеро тут же приступили к занятиям. Предварительно прошли медкомиссию, чтобы определить, кто где будет годен. У нас были курсы мотористов-авиатехников и бортрадистов, мой друг Вена Шумков был отбракован по здоровью в мотористы, большинство же учились на бортрадистов. Даже наши некоторые девчонки занимались в классах бортрадистов. К занятиям в педучилище в течение 6-7 часов прибавились ежедневные четырехчасовые занятия в радиоклассах. Изучали самолетные радиостанции и больше всего работали на передаче и приеме на ключе, на азбуке Морзе. За эту зиму эта морзянка мне так въелась в голову, что прошло уже шестьдесят лет с того времени, а я нет-нет, да и завыстукиваю ее ногой или пальцами, даже иногда ловлю себя на том, что я и думать начинаю на языке морзянки. Хотя всем нам, обучавшимся тогда, на практике не пришлось применить эти знания. Война жила сиюминутными потребностями, и кто-то из нас стал стрелком, кто-то пулеметчиком, кто-то артиллеристом.
Было трудно. Недосыпали. Зимой устроили лыжный кросс на 10 километров. Тоже надо. Армии и лыжники были нужны. Собрались у старта, в вестибюле кинотеатра. На улице мороз минус 60 градусов. Хотели отменить, перенести на другой день, но на какой? Сорок градусов мороза было редко, это считалось оттепелью, когда вся мелюзга выползала на улицу, Мы, те, кто должен был бежать, настояли не откладывать. Правда одели на себя по два лыжных костюма. Но что это? Шерстяных костюмов тогда не было, а были такие серенькие из "полусукна"-байки. Но холодно было бежать только первый километр. А дальше разогрелись, даже жарко стало.
Весной, когда закончились занятия на курсах всевобуча, стали ходить на работу на лесобиржу, сортировали и укладывали на лесовозные подставки пиломатериалы для загрузки их в пароходы на экспорт, И где-то в середине лета 1942 года нас, наконец, взяли в армию. Пятерых из шести. Витю Зажицкого не взяли, потому что он был поляк по национальности, а с Польшей всего два-три года назад была война, и кто знает - может быть, и Витя Зажицкий был из тех мест.
Я тут же пошел на базар, продал всю свою гражданскую одежонку и взамен там же купил себе солдатскую форму - брюки с гимнастеркой, сапоги и широкий офицерский ремень.
На пристани, в день отправки, нас долго пересчитывали, потом погрузили все в тот же пароход "Мария Ульянова", в котором мы когда-то прибыли в Игарку. Перед отправкой Ваня Волобуев попросил меня передать любовную записку Тамаре Шамшуровой, в которую мы все, наверное, были влюблены. Может быть, в последнюю минуту и я бы одолел свою стеснительность и признался ей в любви, но Ваня опередил меня своей просьбой. И вот теперь, когда мы уже на пароходе, но трап еще не убран и наши девчонки тут же, на кольцевой палубе провожают нас, Ваня целует Тамару, а я только облизываюсь. Но что не сделаешь - для своего друга ?
А может быть, это и к лучшему? Ведь едем мы на войну, где жизнь не долговечна. Не лучше ли то, что я уезжаю свободным, не связанным никем и ничем, с тем, что остается? И сердце мое не рвется на части. И мне не для кого будет беречь себя в огне войны... А что бои будут жестокими, мы еще до призыва в армию видели на экране кинотеатра. Вспоминается фильм "Ночь над Белградом", который мы совсем недавно смотрели. Партизаны Югославии захватили радиостанцию всего на каких-то полчаса, чтобы призвать народ к сопротивлению фашистам. Вокруг и в самом здании радиостанции гремят пулеметные и автоматные очереди, а юная партизанка поет в микрофон:
Ночь над Белградом тихая вышла на смену дня,
Вспомни, как ярко вспыхивал, яростный гром огня.
Вспомни годину хмурую, черных машин полет.
Сердце сожмись, прислушайся - песню ночь поет.
Пламя гнева вперед нас веди. Час расплаты готовь!
Смерть за смерть, кровь за кровь,
В бой, славяне! Заря впереди...
Вот и наш час пришел! Скоро и мы получим оружие, и будем мстить фашистам за наш народ, за нашу захваченную землю, за нашу поруганную честь!
Но вот объявили по радио провожающим покинуть пароход, убрали трап, пароход печально прогудел и медленно стал отваливать от дебаркадера. Все столпились у борта и махали руками, и провожающие там, уже отделенные широкой полосой воды - не дотянешься. И рвутся сердечные нити, и обдувает холодный ветер, и остывают губы от прощальных поцелуев... У поэта Василия Богданова есть такие строки:
И зимы, и весны прошли чередой,
Я памятью к осени той возвращаюсь.
По-прежнему чайки парят над водой,
А люди смеются и плачут, прощаясь...
И что-то кричат теплоходу вослед,
Как будто их с палубы могут услышать.
И машут руками, платками, и нет
На скорую встречу надежды превыше...
Я тоже машу под прощальный гудок,
Под слезы чужой и любви, и печали.
Чтоб люди не знали, что я одинок
У этого моря, на этом причале...
Прошло шестьдесят лет, а я помню тот серенький, вытоптанный косогор на спуске к дебаркадеру. Наверху стоит неброская пирамидка с пропеллером памятник погибшим летчикам при освоении севера. Рядом со мной мои друзья-однокурсники на подрагивающей палубе парохода, удаляющийся серенький деревянный город, и милые лица наших девчонок, которых я уже не увижу никогда больше...
И чем дальше уносит река времени Лета их полузабытые лица, тем больше я люблю их, потому что все они были моей юностью
А встреч больше не будет. Кто-то погибнет на фронте, кто-то затеряется как без вести пропавший, кого-то жизнь разбросает по разным концам света, а кто-то уже после войны отдаст богу душу, оставляя нас, последних "могикан", обреченных на печальное одиночество...
В последний год перед призывом мы особенно сблизились с Сашей Ширшиковым. Мы уже входили в тот возраст, когда активно начинаешь познавать жизнь. Мы почитывали какие-то философские книжки. Начинали интересоваться, в меру нашей осведомленности, политикой. Помню, как мы летом по тупиковой нашей уличке, где не ходил никакой транспорт, где мостовая была чиста и не затоптана, как пол в комнате, мы прогуливались с ним, ведя серьезные разговоры о жизни. Маленький, черноглазый, всегда в начищенных туфлях, с озорной улыбкой, сияющей золотой фиксой, отличный танцор - он любил жизнь.
В последнюю нашу игарскую зиму несколько мальчишек и девчонок сговорились встретить Новый год у одной из девчонок на квартире, родители ее были в отпуске на материке. Посидели, потанцевали под патефон, выпили немного вина. У меня не было девушки, поэтому я скоро ушел в общежитие. А все остальные остались там ночевать. Постелили общую постель на полу и легли - нет, не парами, а ребята головами к одной стене, а девчонки - к противоположной и касались друг друга только ногами. Нет, не спешили в то время познать все в один миг, и предвкушение было радостным. Саша потом рассказывал мне, какими обжигающими и волнующими были эти прикосновения ног девчонок... Вот и весь его жизненный опыт,
А в первые дни пребывания на фронте, при бомбежке, Саша не выдержал и побежал в землянку. Ах, Саша, почему ты не припал к земле, разве землянка спасение от бомбы? Но не успел Саша. Только вскочил в ход сообщения, ведущий в землянку, и пригнуться не успел - разорвавшейся рядом бомбой распяло Сашу на бруствере окопа.
И не стало моего друга Саши...
Когда пароход вышел из протоки, завернул за остров и вышел на главный стрежень Енисея, направлять прощальные взгляды стало некуда, и призывники стали устраиваться на средней палубе третьего класса, группируясь кучками по знакомству, старому или новому, заведенному уже здесь на пароходе.
Какая же это была разношерстная братия! Многие, чтобы не увозить приличную одежду из дома (знали, что в армии все это снимут) были одеты в такое рванье, что походили на сущих бродяг. Наша группка выделялась опрятностью - мои однокурсники были одеты в свою повседневную одежду, только я один был одет уже в солдатское одеяние, Я так и думал, что я себя уже обмундировал. Позже меня из всего этого вытряхнут и оденут в то, что "положено". И с того момента эти "положено" и "не положено", будто каменные стенки, оградят нас от внешнего мира, и каждая попытка выйти за эти стенки будет бить больно. Но это будет потом.
А пока эта вольница, разбившись на кучки, гудела, давая выход последним эмоциям. Кто-то, азартно ляская картами, играл в дурака, некоторые прихватили с собой водки и, изрядно приняв горячительного на грудь, о чем-то азартно спорили, иногда пуская в ход кулаки. Их утихомиривали соседи.
Командиров, сопровождающих команду новобранцев, не было, они были где-то в каютах - знали, что с парохода никто никуда не уйдет. Но веселье это было недолгим, запасы быстро иссякли и в следующие дни до прибытия в Красноярск все мы были заняты только тем, что обозревали пробегающие мимо берега.
В военном училище
В Красноярск прибыли ранним утром. На пристани нас долго считали по спискам и повели в город. В городе сразу почувствовалась военная обстановка. Всюду попадались колонны марширующих солдат. Где-то в городе нас остановили у какого-то казенного здания. Там мы почти до вечера что-то ждали, пока наши командиры были в этом здании. Началась та жизнь, когда ты сам не решаешь для себя ничего, все за тебя решат командиры, а тебе и забот-то всего ждать очередную команду и исполнять ее.
К вечеру нам выдали сухой паек, потом построили и долго сверяли по разным спискам, распределяя кого куда. Потом строем повели на вокзал. Дальше поездом мы доехали до станции Асино Томской области. В Асино передали представителям Асинского военно-пехотного училища. Те привели в училище, опять долго считали, сверяя по спискам, распределяя по ротам и, наконец, повели в казармы.
Был сентябрь сорок второго года, враг был у Ленинграда, почти у Москвы, у Сталинграда, а наша воинская жизнь только еще начиналась. Несколько дней мы были в карантине. Потом нас повели в баню. В первом отделении сбрасывали с себя все, в чем приехали, дальше с нас снимали волосы под нулевку, и в моечной мы уже с трудом узнавали друг друга, все стали какие-то лопоухие без волос, мы не могли сдержаться, чтобы не посмеяться друг над другом. На выходе получали обмундирование и, одевшись, опять становились до неузнаваемости другими.
Обмундирование было примерно одного, среднего размера и на одних висело мешком (в зависимости от роста новобранца), а на других было коротко и трещало по швам. Вид у всех у нас был, прямо скажем, не гусарский - какие-то огородные пугала на тоненьких ножках, затянутых обмотками. Но успокаивало то, что все были одинаковые, никто ничем не выделялся, девчонок тут не было, форсить было не перед кем и, главное, что от нас теперь требовалось - это научиться хорошо воевать.
Поначалу подводило незнание воинских уставов и воинской субординации. Как-то я бегу по училищу, навстречу мне лейтенант. Я, не обращая внимания, будто мимо столба бегу мимо, а мне вслед:
- Товарищ курсант, стойте!
Я остановился и жду, что это он хочет мне сказать?
- Почему не приветствуете?
- А я же вас не знаю, - возражаю я (почти как Тарапунька: "А чого цэ я буду вас приветствовать, колы я вас нэ знаю?").
- Вы присягу принимали?
- Нет еще.
- Ну вот, если бы вы приняли присягу, то получили бы взыскание. А пока запомните, приветствовать надо всех и не только знакомых командиров, а всех офицеров и своих товарищей тоже. А сейчас идите!
- Есть, - козырнул я.
Это был мой первый урок в училище. Однако скоро началась напряженная работа. Подъем в шесть часов утра и отбой в одиннадцать вечера. И за все эти семнадцать часов в сутки свободного времени, когда можно было написать письмо, или подшить подворотничок к гимнастерке, было минут двадцать. Остальное время - строевая подготовка, изучение уставов, всех систем полевого оружия, тактические занятия и опять строевая и т.д.
Недели через две мы ушли в колхоз на уборочные работы. Помещения никакого. Уже там начинали привыкать к выживаемости в любых условиях. Командир роты, который вел в колхоз нас, сам ушел, остались мы с командирами взводов. С утра и до вечера копали и собирали картошку. Я, правда, попал в напарники к одному дедку - колхознику и мы с ним в пустом доме делали глинобитную русскую печь. Сначала соорудили деревянный каркас для внутреннего свода и внешней опалубки, а потом подготовленную глину с песком и опилками, слоями укладывали и деревянными колотушками трамбовали. После окончания трамбовки и просушки, и выведения дымохода, печь затопят, и она самообжигом превратится в монолитный кирпич. Видно было, что деревенька глухая, кирпича там не было, а подвозить откуда-то далеко.
Спали в соломенном шалаше. Постели - одна шинель, которую надо было и постелить, и в голова положить, и укрыться. И уже начались заморозки. Последние дни нашего пребывания в колхозе я со всеми собирал картошку. К ноябрю вернулись в училище и приняли присягу, после чего требования к нам еще больше усилились.
Училище наше было на месте конезавода что ли? Казармы наши - это были прежние конюшни с низенькими длинными оконцами под самим потолком, вдоль всей казармы сохранились по обе стороны прохода желоба для стока мочи, остался тот же пол, исковырянный коваными копытами лошадей. Только что вместо стойл по обе стороны от прохода были устроены двухъярусные нары - с каждой стороны по взводу, да посредине казармы были выложены кирпичные печи (по одной на всю казарму-конюшню), которые должны были топиться от 15 до 18 часов - и ни минутой больше.
В шесть часов утра раздавался зычный вопль дежурного:
- Рота подъем!
Горохом солдаты сыпались с нар, причем верхним приходилось целиться, чтобы не запрыгнуть верхом на нижних. Стремительно натягивали на себя брюки и гимнастерку, начинали мотать портянки и длинные обмотки, скрученные вечером в валик, но тут нечаянно ударял под локоть сосед, и она, проклятая, выскальзывала из руки и разматывалась по полу лентой. Уж тут спеши - не спеши, все равно не успеешь. Тогда обмотку в комок и в карман и пулей на улицу, и шасть в строй, и вставши в задний ряд, спешишь намотать обмотку, да чтобы старшина не заметил - иначе вечером, после отбоя, тренировка с одеванием и раздеванием, с контролем времени по часам, когда все уже лягут спать.
Потом зарядка минут двадцать в любой мороз в одних нижних рубашках. Отмерзали руки. Некоторые ухитрялись бежать не в строй, а в длинный сортир, что стоял у самого забора, метрах в пятидесяти от казармы, и там согнувшись в комочек, чтобы не растерять остатки тепла, пережидать до окончания физзарядки. Однако, скоро старшина, обозрев поредевший строй, стал заглядывать и в сортир, и брать на карандаш всех засидевшихся там, а вечером, при вечерней поверке, назначать всем записанным наряды вне очереди на мытье пола в казарме.
А мыть пол конюшни... О! Это нелегкое дело. Его просто обливали из ведра водой (она тут же замерзала), потом, весь занозистый и щепастый, скребли саперными лопатками собравшуюся полузамерзшую грязную жижу, собирали в ведро и выносили в тот же сортир.
После физзарядки - туалет и построение на завтрак. Строем, без шинелей, в одних гимнастерках. И с песней! А если не запоешь, то проведут мимо столовой, и будешь отрабатывать строевую вместо завтрака.
Столовая была одна на все училище, кормили там в две смены. И если первая смена задерживалась, то в сорокаградусный мороз, раздетыми, ожидали на улице, согреваясь собственной дрожью.
После завтрака - занятия до обеда, а после обеда до вечера. Это если занятия были разные. А если тактика, то на десять часов кряду, с утра до вечера, с пустым желудком, в поле, в лес, по пояс в снегу... Наступаем, обороняемся, меняем огневые позиции, отражаем атаки танков, конницы, пехоты, авиации и изо всех сил защищаемся от голода и холода.
После десяти часов "войны" - в казарму, с радостью, хотя в ней потолок и стены тоже промерзли и покрыты инеем, а печка едва курится. Но был бы дым! Не зря говорят: "Солдат шилом бреется, солдат дымом греется"...
Дрова мы готовили в окружающем соснячке, молодом еще, а потому сыром. И от дров этих кроме дыма ничего больше не было. Часто ходили за дровами на лесосклад за десять километров. Всей ротой. Там брали по бревнышку, если бревно большое, то одно на двоих, и несли это все назад, к казарме за десять километров. Складывали - получалась огромная куча бревен, но, проснувшись утром, замечали, что она усохла раза в четыре-пять.
Это ночью дрова развозили по офицерским квартирам. А поэтому режим отопления был строг! В 15 часов истопники из наших же курсантов начинали разжигать сырые дрова. Часа полтора-два продолжалась их борьба за огонь, вместо которого все был только дым и шипение. И только было, разгорались дрова, только печь начинала обретать живое тепло, как кончалось время, отпущенное для топки печей, дежурный по батальону выходил на крыльцо, обозревал крыши казарм, замечал, где из трубы шел дым, и по телефону немедленно шла команда-вопрос:
- Почему печь топится в неурочное время?! Заливай!
Ведро воды в печь - из трубы клубом вырывался пар, и печь замирала опять на сутки.
В самой удаленной казарме, то бишь, конюшне, квартировали ездовые лошади хозвзвода. Однако уход за ними и чистка производились курсантами всего училища. Повзводно, целую неделю, когда подходило наше дежурство, (тогда подъем у нас был на час раньше, в пять часов утра), мы бежали без шинелей за полкилометра в эту конюшню, разбирали по одной лошади и начинали этих саврасок, тоже видно заезженных и полуголодных, всех в пыли и перхоти, железными скребницами, к которым примерзали руки, и щетками отдраивать до блеска, приговаривая:
- По шерсти, против шерсти, об скребницу. По шерсти, против шерсти, об скребницу...
Вечером, после ужина - двадцать минут свободного времени, потом чистка оружия и отбой.
В свободное время намерзшиеся за день курсанты, словно тараканы, облепливали вокруг печку, но тут коршуном налетал старшина, вылавливая тех, кто не успел отскочить. Опять объявлялись наряды на мытье пола. Мыть этот пол было невозможно, он был весь, как ерш, в торчащей щепе и занозах после конских копыт. Мне за все время курсантства пришлось мыть его всего один раз. Может быть потому, что я был закален больше других и избегал подходить к печке, понимая, что после печки будет еще холоднее.
Кто при отбое медленно раздевался, подвергался тренировке.
- Раздевайсь! - раздавалась команда. Горемыка поспешно стаскивал с себя все, а если не укладывался во времени, тут же гремело:
- Одевайсь!
И так разов пять-шесть. Некоторые стали хитрить и минут за пять до подъема потихоньку одевались под одеялом, и после команды: "Подъем!" вскакивали уже одетыми. Однако скоро старшина стал за пять минут до подъема заглядывать под одеяла и тем, кто был уже одет - особое наказание: от казармы до сортира и обратно - по - пластунски...
Надо сказать, что маршрут этот был не из лучших. Ночью, в мороз, в ботинках на босу ногу и шинельке, накинутой на плечи, курсантики выскакивали из казармы, до сортира идти было далеко, однако же, сзади было око дежурного. Поэтому, открывши краник, ночной турист сливал остывший чай на ходу и тут же поворачивал назад. Поэтому наказание это - по-пластунски от казармы до сортира и обратно по сплошь заледенелой дорожке было одним из самых суровых.
Так жила наша военная бурса. Однако же эта серая масса сплачивалась, становилась сверхвыносливой и прорастала лидерами. Сейчас уже позабылись имена, фамилии и только зрительно помнятся некоторые лица. Помню, построились мы для ротных занятий, замкомроты, старший лейтенант подал команду:
- Запевай!
Мы молчим. Опять:
- Запевай!
Мы опять молчим. Ну, невесело же нам и холод собачий. Но ведь это армия и невыполнение любой команды, даже самой пустяковой - это уже бунт. После третьей команды, которую мы дружно проигнорировали, последовала новая:
- Помкомвзвода - в хвост колонны! Рота! За мной, бегом, марш! - и рванул. Тренированный был, бес! Мы за ним. С оружием. Сначала согрелись, потом стало жарко, потом стало сбиваться дыхание: в горле у меня огонь и рычащий хрип вместо дыхания, думал сейчас рухну. Рядом со мной бежал Аркашка Дудко, наш, игарский, он был постарше меня и поздоровее физически.
- Дай, - говорит, - карабин!
Не даю, стыдно же. Он силой вырвал его у меня. Стало легче. Через полкилометра дыхание мое наладилось, взял я свой карабин назад. Прошло уже больше шестидесяти лет, а случай я этот помню. Так бежали мы километров пять, до деревни, где жила милашка нашего старшего лейтенанта. Там он посмеялся над нами беззлобно:
- Ну, как, споем?.. Разогрели, души - соколы? - и к одному из помкомвзводов: - Распустите курсантов по домам, пусть пообсохнут и ведите роту в казарму, я остаюсь здесь.
Назад мы шли без него. Повеселевшие от тепла и от сознания, что мы одолели такой бросок.
В нашем взводе помощником командира был старший сержант Субботин, Он уже был на фронте и в училище попал после госпиталя. Видно он знал, что кое-что в нашем обучении было лишнее. Поэтому, когда он уводил наш взвод в лес на тактические занятия по пояс в снегу, то скоро мы разжигали там огромный костер, сушились вокруг него, грелись, а он в это время рассказывал нам были и небыли - враль был талантливый.
Помню, когда мы уже ехали на фронт по сорок человек в вагоне, спать на нарах было тесно, и спали в две смены, так все стремились попасть с ним в одну смену. Уж так-то он складно врал, что бодрствовать с ним вместе было одно удовольствие.
Помню первого нашего командира взвода - лейтенанта, очень жестокого человека, от него слышались только требования и никогда ободряющего слова. Когда он вел свой взвод с тактических учений, мы каждые пять минут слышали команды: то танки справа, то кавалерия слева, то пехота сзади, то авиация сверху...И на все эти команды надо было развернуться в цепь и изготовиться для отражения атаки. А люди у нас были самые разные, с разным здоровьем война подметала всех, хоть чуточку похожих на мужика. Помню, был один курсантик, лет сорока, маленький, тщедушный, то ли астматик, то ли туберкулезник. На тактических занятиях в наступлении надо было вскакивать пружиной, бежать стремительно и падать камнем. Он же с трудом поднимался, едва бежал, и прежде чем лечь, все примащивался, примерялся, будто лежать ему здесь предстояло всю ночь.
- Застрелю! - орал взводный и опять начинал нас гонять. И зло нас брало, и жалко было этого непутевого вояку.
Потом, кажется после чьих-то жалоб, у нас заменили взводного. Для нас это был праздник. Это был педагог. И если кто-то из курсантов позволял себе какую-то вольность, на него шикали и совали под бока, мол, опять хочешь прежнего?
Наша педучилищная пятерка была распределена по разным ротам. Вена Шумков попал в первую роту, я во вторую роту минометчиков, а Ваня Волобуев, Саша Ширшиков и Петя Жигалов - в третью.
Казармы наши стояли рядом, как и подобало стоять бывшим конюшням. Поэтому в свободное время нам иногда удавалось на улице встретиться. Конечно, у всех у нас на лицах был написан некоторый шок от этого военного лиха, но мы держались, мы уже знали Суворовскую заповедь: "Тяжело в ученье легко в бою"!
Один только Ваня Волобуев, у которого когда-то была сломана нога и была сантиметра на два короче, воспользовался этим и, пройдя комиссию, уволился из училища. Как сложилась его дальнейшая судьба, никто из нас не знал, потому что все мы скоро были разбросаны по разным частям и не переписывались, не зная адресов друг друга. Однако и после войны, когда Тамара Шамшурова разыскала и объединила перепиской нас всех, и тогда он не объявился. Дал слабину Ваня. А ведь он мог и остаться в училище. В Игарке он бегал на лыжах и, когда наш отряд в зимние каникулы ходил на лыжах в культпоход до станка Курейка - места ссылки И.В.Сталина, он был в этой группе, а переход тогда был за 180 километров от Игарки и назад столько же.
Где-то в феврале вышли в трехсуточные тактические учения всем училищем. Ночью, по тревоге. Шли маршем. Потом наступали, оборонялись. Учились ночевать в сорокаградусный мороз под открытым небом. После целого дня маневров по лесу, по пояс в снегу, к вечеру остановились на ночлег и стали строить шалаши для ночлега. Опыта не было. Шалаши получились высокие, и от зажженного в центре шалаша костра тепло в нем не держалось. Полевая кухня варила ужин, а весь этот день мы обходились сухим пайком. Но такой же неопытный повар, маскируясь от авиации, поставил полевую кухню прямо под большой елью. Распарившаяся над кухней хвоя падала прямо в котел, и месиво получилось пополам с хвоей, будто приправленное скипидаром. На обратном пути после учений, не доходя с километр до училища, вечером остановились, и поступил приказ закрепиться в обороне.
Совершенно открытый бугор, над головой чистое звездное небо и лютый мороз с ветерком. А совсем близко такие манящие огоньки училища, и земля, промерзшая, как сталь. Всю ночь до утра долбили бугор, разрезая его траншеей в полный рост. И только утром на четвертой день зашли в казармы. Сходили в столовую, там нам выдали вчерашний ужин и сегодняшний завтрак, который мы умяли за милую душу. Конечно же, для тех физических нагрузок, питание было недостаточное, и хотя нам прививали офицерскую этику, в столовой бывало старшина нет-нет, да и бросит реплику:
- Будущим офицерам неприлично так усердно скрести ложкой по миске, - но что делать, что-то там, хоть самое малое не хотелось оставлять. А некоторые, чтобы получилось психологическое насыщение от вида полной чашки, валили в нее все сразу: и суп, и кашу, и компот. Блюдо получалось поросячье, но зато много. Так же делили хлеб. Разрезав булку по числу едоков, заставляли одного отвернуться, и, показывая на кусок, кричали:
- Кому? Кому? Кому? - а отвернувшийся называл фамилии. Это, чтобы не было кому-то обидно, если кусок покажется маловатым - тут уж все по судьбе. Разрезали, примериваясь на глаз. Не на аптечных же весах было его развешивать. Но наше отделение, сидевшее за одним столом, не опустилось, слава Богу, до этого - "Кому? Кому?". Заканчивалось время, старшина кричал:
- Покушали?
- Да, - отвечали хором.
- Накушались?
- Не-ет, - гремела рота.
- Встать! Выходи строиться!
Но на этот раз вроде бы накушались, по первому впечатлению. Даже Ванштейн запел свою любимую: "Живет моя отрада высоко в терему"... Помню этого Ванштейна - меднолицего и меднорыжего, худого и нескладного, который, как истинный еврей, все доставал где-то портянки и подшивал их под низ шинели, чтобы не продувало. Он обращался к старшине витиевато, длинно и вежливо, как обращается профессор к профессору, но через минуту уже ему в ответ рявкало:
- Короче, Ванштейн!
Смущенный Ванштейн замолкал совсем, только хлопая красноватыми глазами. Это было уж совсем коротко.
Несмотря на все трудности, на холод и недоедание, на физические сверхнагрузки и недосыпание, а может быть именно благодаря этому, из нас сделали лучших бойцов, какими всегда отличалась Сибирь, во всяком случае, позже, на фронте, сибиряки выделялись из общей массы большей стойкостью. К тому же мы должны были защищать наше родное Отечество, социалистический строй, который мы приняли сердцем, вопреки всем прошлым невзгодам.
Положение на фронте было тяжелое. Враг рвался к Волге, к Сталинграду. В феврале 1943 года Верховный главнокомандующий И.В.Сталин издал приказ: все сибирские училища направить на фронт. Нам еще не объявили об отправке, но солдатское радио уже донесло эту весть. И за день до отправки старший сержант Субботин с тремя курсантами, прихватив ротную плитку хозяйственного мыла, в ночь ушли в самоволку по соседним деревням менять его на продовольствие.
Перелезли они через невысокий забор, и в соседнюю деревню. Там постучат в дверь, им откроют. Они вываливают всю плиту, хозяйка думает, что ей отдадут все, и несет все, что у нее, бедной, есть. А ей взамен отрезают кусок, а остальное заворачивают в тряпицу и в другой дом. Так наменяли пшена, сухарей, сала. К рассвету вернулись в казарму незамеченными. Однако самоволку, как и шило в мешке, не утаишь, и каким-то образом о происшествии стало известно командованию.
Вечером, на вечерней поверке, командир роты выставил самовольщиков перед строем и как он кричал! Мне неопытному было страшновато за ребят, не засудили бы, ведь время было военное. Но старший сержант был невозмутим. После этой словесной экзекуции он с улыбкой сказал:
- Все равно ведь дальше фронта не сошлют...
Аты-баты, шли солдаты...
(ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ)
В конце февраля 1943 года нам выдали теплую одежду, валенки, телогрейки и ватные брюки. Все новое. Тогда как на тактические учения выдавали теплую одежду уже бывшую не только в употреблении, но и на фронте: чиненые и сырые валенки, пробитые и окровавленные телогрейки, может быть уже с отлетевших душ. А тут - все новое. И это было очередным сигналом нашего скорого отъезда на фронт.
Занятия прекратились. Команды от рот ходили на станцию оборудовать воинский эшелон: в вагонах из досок устраивались двухэтажные нары, устанавливались печки, заделывались окна.
А в один из дней с утра объявили построение и готовность к погрузке в эшелон. Шел снег. Это хорошо. Есть такая примета: если дорога начинается в дождь, она будет счастливой. Ну, пусть зимой не бывает дождя, тогда значит и снег, осыпающий нас сверху, как благословение божье, предвещает удачу. Все училище поротно выстроилось по трем сторонам плаца, где мы неоднократно отрабатывали строевой шаг, всевозможные перестроения, где учились рукопашной, отрабатывая штыковой бой. С четвертой стороны - начальник училища со свитой. Раздалась команда: "Смирно!". Кто-то из чинов училища доложил генералу, что батальоны построены для отправки на фронт. Начальник училища, выслушав рапорт, отдал команду: "Вольно!" и, глухо откашлявшись, начал напутственную речь.
До него было далеко, плац не был радиофицирован, тогда еще не было такой роскоши, долетали лишь отдельные слова, но и так все было понятно. Надо было не посрамить честь сибиряков, надо было поскорее попасть на фронт и гнать с нашей земли врага. И мы были готовы к этому.
Говорил он недолго. Пожелал счастливого пути и возвращения домой с победой. Перекликаясь по плацу, пронеслись команды: "На пра-во! Шагом марш!". Оркестр грянул марш "Прощание Славянки", колонны дрогнули и по заснеженной дороге потянулись в сторону станции.
Этот марш, посылающий в бой, призывно зовущий, воскрешающий и оплакивающий... Все мы были еще вместе, все еще живы, но и уже, как будто прощались друг с другом.
Позади остались наши казармы-конюшни, какое-то время бывшие нашим пристанищем, ворота КПП с будкой часового, сельские домишки, примыкавшие к училищу, и невысокий сосновый лесок. На душе было грустно и одновременно радостно. Грустно потому, что скоро нас разбросают по разным частям, прервется завязавшаяся за полгода дружба, да и всякий уход от насиженного места всегда раздваивает душу: половина ее уже где-то там, а вторая - все еще цепляется за что-то, что стало родным. А радостно оттого, что закончилась муштра, замерзаловка, что мы едем на фронт, где будем не имитировать бой, а биться по настоящему...
К вечеру погрузились в теплушки по взводу в вагон по 40 человек, получили порцию угля для печек, которые тут же раскочегарили, и уже в сумерках - зимний день короток - протяжно пробасил паровоз, лязгнули буфера и торопливо завыстукивали колеса.
Разделились на две смены для отдыха. Гудела чугунная печурка посреди вагона, а вокруг согревались солдаты, уже не опасаясь старшины, и на почетном месте, на каком-то ящике сидел старший сержант Субботин и начинал излагать очередную свою байку. Было тепло и весело - наши конюшни-казармы были позади.
В дорогу нам выдали сухой паек. Но примерно раз в сутки на больших станциях нас строем водили в воинские столовые, где кормили горячим. До сих пор не могу не восхищаться организаторскими способностями командования и служб тыла тех лет. Эшелон за эшелоном двигались войска к фронту, и обо всех надо было позаботиться, в нужном месте накормить, помыть в бане... А фронт! Он же растянулся на несколько тысяч километров от Баренцева до Черного моря. И весь его надо было вовремя обеспечить продовольствием, горючим, боеприпасами, людскими резервами. И все это было! И как жалок лепет нынешних воров-демократов, оплевывающих то наше великое прошлое, до которого им никогда не дорасти. Пигмеи! Недоумки!
В воздухе уже попахивало скорой весной. Эшелон наш уже перевалил Урал, и стало заметно теплее, чем было в Сибири. На остановках, где немного задерживались, изворотливые бывалые солдаты на пристанционных базарчиках меняли на продукты кое-какие ненужные солдатские вещички.
На станции Рузаевка стояли часа четыре. Я вышел из вагона и пошел поразмяться. Но видимо солдатская меновая торговлишка дошла до очей и ушей эшелонного начальства, эшелонный патруль начал отлавливать всех, кто отходил хоть на полусотню метров от вагона. Меня тут же арестовали, сняли погоны и ремень, и посадили в холодный пульман - эшелонную гауптвахту.
Закрылась дверь, лязгнул засов снаружи, и я стал оглядываться в темноте (железные шторы на окнах были закрыты). В вагоне оказалось еще человека четыре арестованных.
Холодно. Согреваясь, я прошелся раза два вдоль вагона и в потемках запнулся о толстую доску. Толкнул ее в сторону, чтобы не мешала, а под ней оказалась дыра шириной в одну доску. Мясом тогда я еще не оброс, поезд стоял, и я тут же юркнул в дыру, на другую сторону эшелона и к своему вагону. Только было, хотел нырнуть под вагон, слышу, вызывают старшего по вагону Коробочкина и передают ему мой ремень, погоны и красноармейскую книжку, уведомив его, что я под арестом.
Патруль ушел, а через полминуты я уже влезал в свой вагон, встреченный хором бурного восторга. Такая изворотливость всем понравилась. Коробочкин отдал мне все мои регалии, и инцидент был исчерпан.
Это был мой первый и предпоследний арест. Второй был уже после войны в Германии, во Франкфурте-на-Одере, где мне пришлось-таки заночевать на гауптвахте.
Примечательно, что население очень настороженно относилось к расспросам. Везде были плакаты, призывающие: "Не болтай! Враг подслушивает!". Из нас, сибиряков, тогда мало кто бывал в европейской части Союза, географию мы знали не столь досконально, а иногда и просто из желания поговорить с гражданскими людьми мы спрашивали, далеко ли до Москвы? И ни одного ответа за всю дорогу. На нас только подозрительно посматривали.
Однако через недельку мы доехали до Москвы. Нас построили и повели в баню. Вот когда мне довелось побывать в Сандунах! Там осмотрели нас по форме "двадцать" - не обовшивели ли мы? Раздели донага, и опять строем по одному стали пропускать через дверь в моечное отделение. В дверях стоял здоровенный детина с полным ведром какой-то белой мази, похожей на густую сметану, и квачом, который он макал в ведро, совал проходящим в определенные санитаром места.
Помывшись, вспомнили Суворовскую заповедь: "После бани продай подштанники, но выпей". Не знаю, говорил ли так когда-нибудь Суворов, или это придумка наших выпивох, но солдаты, особенно постарше, которые, прикрякивая, вторили друг за другом:
- Эх! Сейчас бы...
Однако исполнить их желание не было никакой возможности, мы были еще не на фронте и нам ежедневных сто грамм было не положено, да и кальсоны продать было негде и некому, потому что нас тут же построили и повели в наш эшелон, где мы, погрузившись в свои вагоны, двинулись дальше на запад.
Вперед, на Запад! Теперь это было наше главное направление.
Где-то уже смеркалось, когда прибыли на станцию Гжатск (теперь это город Гагарин), совершенно разрушенную - здесь уже проходил фронт и получили команду выгружаться.
Оружия у нас еще не было, и разгрузка заняла считанные минуты. Мы тут же построились и пошли в лес на ночлег. Здесь видно проходила когда-то оборона, или шли бои - в лесу было много шалашей из ветвей ельника, в которых нам предстояло переночевать. Обошли, осматривая и выбирая, какие посуше. В некоторых из них штабелями лежали замороженные трупы убитых немцев. Непривычное это было зрелище и неприятное.
Фронт был близко. Пролетали ночные бомбардировщики. Жечь костры запретили, курить тоже. В шалашах было сыро, все они были занесены снегом, от дыхания их кровля подтаивала, и сверху капало. С сожалением вспомнили вагонные нары и жарко горящую чугунную печку, устраиваясь, кто как мог.
Утро встретили промерзшие, промокшие, с ломотой в костях. Пожевали сухариков даже без кипятка, построились и маршем километров по пятьдесят в день пошли догонять наступающий фронт. Шли в основном по железной дороге, что затрудняло движение, потому что шаг был не ровный, приходилось прыгать со шпалы на шпалу. Все стыки рельсов были взорваны отступающими немцами. Шли, а по пути попадались сожженные деревни без единого уцелевшего домика. Пахло пеплом, пожарищем, по обочинам дороги попадались трупы убитых лошадей, а вместо полных жизни поселений, призывая к мщению, торчали уцелевшие на пожарищах трубы русских печей да обожженные тополя. Людей не было. Люди прятались в лесах, иногда небольшие группки местных жителей выходили к дороге. Измученные, закопченные от костров, от неудобств жизни в лесных землянках. На лицах их была и радость оттого, что пришли свои солдаты Красной Армии, и печаль, потому что дома их, села были сожжены немцами при отступлении. Им предстояло еще долго жить в землянках, пока будут построены новые дома.
После одного из переходов нас встретили "покупатели", как их окрестили солдаты - представители фронтовых частей, которые мы должны были пополнить.
Во время этого марша не так трудно было идти, как ночевать под открытым небом. Однажды подул к ночи ледяной северный ветер. Остановились на железнодорожном перегоне рядом с пепелищем какого-то уничтоженного немцами села. Укрыться от ветра негде, кроме как за посадками ельника, тянущегося вдоль насыпи и насаженного для снегозадержания. Походил я походил вокруг нигде ничего нет ни постелить, ни укрыться. Нашел высокую плетеную из ивняка корзину, высотой метра полтора. В таких сельские жители носят сено скоту. Положил ее прямо на снег под елками, залез в нее ногами, под голову свой тощенький вещмешок, сжался в комочек, да так и заснул, согреваясь дрожью.
А когда проходили через Вязьму, совершенно разрушенную, и там надо было заночевать, подул весенний ветер. Развезло все вокруг везде грязь и слякоть, и ни одного уцелевшего домика, хоть ложись в грязь. Насобирал я несколько сухих кирпичей от разрушенных зданий, разложил их по форме согнувшегося на боку человека, да и устроился - кирпич под плечом, пара кирпичей под головой, кирпич под бедром, кирпич под коленом и кирпич под ботинком - вот и вся "перина". Нет лучшей, но и жестокой школы выживания, чем фронт и армия военного времени.
Встретившие нас "покупатели" со списками в руках, поспрашивали нас, стоящих в строю, кто был уже на фронте или не был, у кого какое образование, потом, посовещавшись, зачитали, кто в какую команду и мы пошли дальше, ведомые нашими новыми командирами, уже отдельными отрядами.
Мы с Коробочкиным - нашим старшим по вагону, попали в 76 мм полковую артиллерийскую батарею 681 стрелкового полка,133 стрелковой дивизии.
Фронт был совсем рядом. Впереди по ночам видны были зарева пожаров. Немцы отходили, сжигая все на своем пути, стремясь нанести как можно больше урону нашей стране. С небольшими привалами мы нагоняли фронт. В конце марта остановились перед Днепром и в ожидании переправы на понтонном пароме, стали устраиваться на ночлег. К вечеру подморозило, и ночь обещала быть холодной. Я притащил от линии снегозадержания щит и длинную доску, разложил костерок, посушил портянки, погрелся около него, и меня стало погружать в сон, Я положил один конец доски на костер и рядом, прямо на эту доску прилег спиной к костру. Меня пригрело, и я так славно и тепло заснул.
Еще бы! От искры загорелась спина моей телогрейки, но не пламенем, а просто тлела, всю ночь подогревая мне спину. А вот просоленная потом гимнастерка не хотела гореть. И так я славно спал, подогреваемый со спины до раннего рассвета. Когда проснулся и, почуяв неладное, сбросил с себя телогрейку - это уже были всего лишь две полы с рукавами, соединенные только уцелевшим воротником. Я ее не бросил, потому что в одной гимнастерке я бы совсем околел. Позже старшина батареи, куда мы прибыли, сокрушенно качая головой, все удивлялся, как это я, не снимая с себя телогрейку, умудрился сжечь всю спину, и не обжегся сам... Но на фронте чего только не бывает.
Переправились мы на понтоне через холодный свинцовый Днепр. Впереди ухали одиночные разрывы снарядов, трещали пулеметные очереди. Наше наступление здесь иссякло, фронт стабилизировался. Мы встали в оборону, которую надо было еще построить.
Впереди желтели брустверы немецких траншей. Они были подготовлены заранее и, засев в них-то, они и сумели остановить наше наступление. Но только до поры.
Батарея наша была разделена. Один взвод стоял на закрытой огневой позиции, наш - на прямой наводке. На залесенной высотке стояли замаскированные пушки, метрах в тридцати сзади блиндажик, в котором размещались все. К орудиям вел неглубокий ход сообщения. В каждом расчете нас было, кроме командира орудия, по пять человек. На два орудия командир взвода. Всего тринадцать человек.
Одного блиндажа было мало. Посреди него было углубление, где можно было стоять в рост, а по обе стороны от него оставленные грунтовые уступы с настеленными на них еловыми лапками, представляли собой нары для отдыха. Одной огневой позиции тоже было мало. Обнаружив себя во время боя стрельбой, мы могли превратиться в отличную мишень. Мы начали отрывать запасные огневые позиции - справа по фронту на скатах высотки, на которой размещалась основная позиция. Надо было кроме этого расчистить от леса подходы к ним, чтобы можно было на руках перекатывать орудия скрытно от противника с позиций на позицию.
Оборудовали основную, окопали, зарыли в землю запас снарядов, потом командир взвода решил, что блиндаж наш слаб и может обрушиться от прямого попадания снаряда, а залетали они к нам часто, хотя все передвижения наши были скрыты рощицей.
Командиром взвода у нас был угрюмый лейтенант лет сорока, который почти все время лежал на нарах лицом к стенке. Мы решили, что это он за свою жизнь беспокоится и, когда делали по углам блиндажа подпоры под бревна, на которых лежал нижний накат, то в три угла поставили стойки толщиной 20-25 сантиметров, а в тот угол, где лежал лейтенант, поставили толстенную стойку, диаметром сантиметров сорок. Это как бы молчаливый укор командиру - жалей солдатские силы, они не беспредельны. Укрепили, таким образом, блиндаж, но этого оказалось мало, и начали рыть и перекрывать рядом второй блиндаж для командира взвода и командиров орудий, чтобы солдаты не забывали о субординации. А при всем этом каждую ночь еще человек по пять от взвода ходили помогать пехоте рыть траншеи переднего края и боевого охранения. Началось лето, ночи стали короткими, а работу можно было начинать только после наступления темноты, потому что между нами и немцами было всего метров 400-500 открытого пространства, и оттуда непрерывно взлетали осветительные ракеты и в нашу сторону строчили трассирующими пулеметы.
На каждого отмеряли по десять метров траншеи. До рассвета надо было вырыть в полный рост и шириной, чтобы можно было ходить с носилками. Особенно трудно было копать траншеи для боевого охранения и ходы сообщения к ним. В ночной тиши были слышны голоса немцев, а осветительные ракеты долетали почти до нас, и становилось видно все, как на ладони. Разговаривали в полголоса и копали осторожно, пока зароемся, поминутно припадая к земле, пока горит ракета, Почти каждую ночь кого-нибудь ранило шальной пулей, они трассирующими веерами непрерывно летели в сторону наших позиций.
Утром с рассветом возвращались к себе на огневые позиции, чтобы после завтрака и короткого отдыха, начинать работу там. А кормежка в это время была скудная. Через Днепр еще не было моста, понтонный паром не обеспечивал доставку всего необходимого. Сбрасывали нам с кукурузника несколько мешков сухарей на полк. Их выдавали по два сухаря на сутки, а из одного сухаря варили баланду, приправленную каким-то малосъедобным жиром. Баланду привозил старшина рано утром и поздно вечером, по темному времени. Утром и вечером выдавали еще по полкружочка Рузвельтовской колбасы и по столовой ложке сахарного песку на день.
На нейтральной полосе была сгоревшая деревенька. Ночью ходили туда, набирали в подпольях полусгоревшей печеной картошки и прокислой мокрой ржи из нее варили кашу без всякой приправы и соли. А без этого на двух сухарях в сутки невозможно было выкидать десятки кубометров земли.
Был у нас в расчете дед Солодовников - украинец. Толстый такой и с вечной седой щетиной на щеках. Он особенно страдал от недоедания. Но вот стало уже хорошо пригревать солнышко, и появился щавель. Солодовников набирал больше половины котелка щавеля, крошил его, ему наливали туда баланду, и получался импровизированный борщ, хоть малопитательный, но зато объемный. Лейтенант ругался на него за это, но он парировал коротко и уныло:
- Исты хочу...
Позже, когда восстановили железную дорогу, а немцы при отступлении подрывали все стыки рельсов, и надо было заново перешивать все полотно. Но сделали это уже через месяц, после перехода в оборону, и мы раза два ходили встречать поезд с боеприпасами. Подходил он километров за 15 к фронту ночью. Наряд солдат уже спешил ему навстречу. Наработавшись на батарее, шли уже в полусне, ожидали поезд и сразу же, только он останавливался, начинали выгрузку. За какие-то три-четыре часа надо было выгрузить все вагоны, отправить поезд в тыл и замаскировать штабели снарядов, потому что с утра и до вечера в воздухе мотался немецкий самолет-разведчик "рама" или мессеры.
Для непосвященных война - это постоянный, героический, красивый бой. На самом деле война для нас была постоянным тяжелейшим трудом под постоянным обстрелом противника. Немцы останавливались на заранее подготовленных и укрепленных позициях, мы же перед ними были в чистом поле. Надо было оборону создать и подготовить к возможному наступлению немцев, укрепить ее, накопить запас боеприпасов и в запланированный момент сокрушительным артиллерийским огнем взломать оборону немцев, опрокинуть противника со всеми его поддерживающим средствами и гнать на запад. А бой - это был редкий праздник, кровавый праздник.
А в будни мы несколько раз выкатывали орудия на запасные позиции, били по обнаруженным пулеметным гнездам, по минометным батареям, соблюдая при этом лимит расходования снарядов, и быстренько укатывали орудия на основную позицию.
Вскоре, однако, пехотная разведка усилила поиск, каждую ночь ходили к немцам за "языком", но все неудачно, с потерями нащупывая слабые места в обороне немцев. Нужна была артиллерийская поддержка, и нас сняли с прямой наводки и поставили на закрытую огневую позицию вместе со вторым взводом
Стрелять приходилось ночью. Фонариков у нас не было, подсветки никакой. С вечера накрутишь толстенных самокруток, натолкаешь их за пилотку и спишь. Как только скомандуют: "К орудиям!" - бежишь и на ходу работаешь "Катюшей" (кресалом), чтобы зажечь фитилек и прикурить, а потом час - полтора, пока идет огневая поддержка разведки, сосешь их, присвечивая установку прицела. К концу стрельбы я, некурящий, был уже угоревшим от дыма и никотина.
Случались и нелепые потери. Как-то, помню, без ведома комбата, вызвали нашего командира орудия - бывшего педагога в штаб и без задержки отправили в военно-политическое училище. Комбат, как узнал, примчался на лошади на огневую, вызвал старшину, дал ему свою оседланную лошадь и приказал:
- Немедленно догнать и вернуть!
Старшина, мужичок уже в годах, вскочил в седло и с места в карьер. Я сидел у блиндажика на лавочке из жердей и блаженствовал от теплого ласкового солнышка и фронтового затишья. Проскакал он мимо меня, а у меня вдруг мелькнуло в голове: "Погиб старшина!". И в эту минуту раздался взрыв. За нашими блиндажами начиналось минное поле, и проход в нем был зигзагообразный. На скаку старшина не успел повернуть лошадь, она налетела на противотанковую мину, ее перебило взрывом почти надвое, а старшине оторвало обе ноги до колен. Мы подбежали, сделать что-то с такими ужасными ранами не могли, и через несколько минут он, не приходя в сознание, скончался. Похоронили его тут же, рядом с минным полем.
А вечером солдаты в котелках варили конину, совершая жестокую тризну, а комбат смотрел на них почти с ненавистью.
Таким образом, в нашем расчете появилась новая убыль. Первая была еще, когда мы строили оборону. Тогда у нас в расчете был длинный молоденький солдат, Векшин. Каждое утро он со своей винтовкой уходил в пехотную траншею и изображал из себя снайпера. У немцев траншеи были в полный рост и передвижения на той стороне никогда не наблюдались, но к вечеру Векшин приходил на батарею со свежей зарубкой на прикладе и бумажкой, написанной каким-то солдатом. Убивал Векшин немца или не убивал - этому только бог свидетель. Скорее всего, он жаждал получить награду. Почему его каждый раз отпускал командир взвода, когда остальные шли рыть траншеи - не знаю. Но однажды, рано утром меня разбудили и отправили к орудиям на пост, сменить Векшина. Подхожу, а Векшин спит, греясь на утреннем солнышке. Я взял его винтовку и отнес командиру взвода.
- Возьмите винтовку часового, - говорю.
- А он где? - вскинулся взводный. Наверное, он думал, что немцы его "языком" унесли...
- Спит, - говорю, - на лафете...
Конечно, спать на посту нигде нельзя. А на передовой, где разведчики и наши, и немецкие все время шастают друг к другу за "языком" - это было уж совсем ЧП.
Доложили комбату. Комбат обошелся с ним милостиво. Никак наказывать не стал.
- Видно, парень не туда попал. Снайпером хочет быть? Пусть будет снайпером.
И отправили Векшина в пехотное подразделение. Больше мы его не встречали. Теперь вот забрали командира орудия. Его было жалко. Приятный и хорошо воспитанный был человек. Не солдафон. Педагог. И вот вдобавок ко всему еще погиб старшина. А старшина был хороший, заботливый. Его хозяйство размещалось в полутора километрах от батареи, в овраге. Там же он устроил свободную землянку, где была постель даже с простынями: однодневный "дом отдыха". Однажды и меня отправили на сутки туда. Не знаю за заслуги ли какие, за худобу ли? Но целые сутки отдыхать, ничего не делать, трижды поесть и ночь спать раздевшись, без обуви!. Об этом на фронте нельзя было даже мечтать.
В августе, когда уже пожелтели хлебные поля, загрохотало на нашем правом фланге, где-то километрах в двадцати пяти. Мы на своем участке тоже демонстрировали прорыв, но это была только разведка боем, на нашем участке не было никаких средств усиления. Однако дней через десять нас сняли с позиций и по рокаде мы сместились вправо на острие прорыва.
День простояли в балке на закрытой огневой позиции, поддерживая пехоту огнем. Вся балка, между тем, заполнилась подходившими тыловыми обозами, со всех сторон окружавшими нашу батарею, сколько видел глаз.
Поздно вечером нашу батарею перебросили немного влево по фронту и вперед, на прямую наводку. На опушке леса мы за ночь отрыли огневую позицию, выкопали ровики для себя и снарядов.
А утром начался бой. Немцев поддерживали танки, замаскированные под копнами, на ржаном поле.
Однако они оборонялись, инициатива боя, напор - были у нас. Обнаружив танки, открыли по ним огонь, но до них было далеко, а пушки наши были той системы, что не рассчитаны на поражение танков с такого расстояния. Нас заметили. Началась дуэль. И с утра началась бомбежка, которая продолжалась целый день. Немецкие пикирующие бомбардировщики группами по 15-20 самолетов с небольшими интервалами во времени шли и шли на наши позиции, с оглушающим ревом пикировали и сбрасывали бомбы. На батарею было совершено всего два захода пикировщиков, но они промахнулись - бомбы упали метрах в тридцати впереди нас. А все прочие шли в пике через наши головы на балку, где мы стояли накануне, на тыловые обозы.
Мы били из орудий по танкам, били по самолетам из карабинов. Из танков снаряд угодил в штабель наших снарядов - ящиков пять, которые мы не успели закопать в ровики. Снаряды не сдетонировали, но были разметаны и повреждены. Одного парня из нашего расчета убило осколком. Фамилию я его не помню, прибыл он к нам недавно и был у нас недолго. Сидели они с наводчиком Сергеевым метрах в четырех от моего окопа. Все мы в это время стреляли из карабинов по пикирующим самолетам и в самолетном реве не услышали воя летевшего снаряда. И даже взрыв его утонул в общем гуле рвущихся бомб. Первое, что я обнаружил - это Сергеева, свалившегося в мой окоп. В своем окопе вместе с убитым ему стало тесно.
К вечеру бой стих. За день наша пехота продвинулась вперед всего метров на 400-500 и, неся большие потери, залегла.
Ночью прибыла кухня. Известия были невеселые. Немцы разбомбили наши тылы. Убило несколько наших лошадей из орудийных упряжек. А вместе с лихом, нам привезли по огромному куску вареной конины, поевши которую, мы должны были теперь выполнять и лошадиную работу.
Нам приказали несколько правее и впереди подготовить огневую позицию в одной линии с пехотой, перекатить туда орудия и перенести снаряды. Оставшихся лошадей берегли для больших переходов, и все это нам надо было сделать самим.
Поели конины и половиной расчетов пошли готовить огневую, заодно разведывая маршрут для перекатывания орудий. По дороге получилось километра два. Перешли долину, небольшой ручей, потом картофельное поле и на краю его перед самым леском стали копать огневую позицию. Впереди пехоты не было. С опушки леса, сразу за картофельным полем, из дзота строчил немецкий пулемет. Осветительные ракеты долетали почти до нас,
Вырыли. Пошли за орудиями. Нагрузили по 20 снарядов на лафет и покатили орудия всем расчетом. По пути, в потемках, проехали поворот на огневую и чуть было не заехали к немцам. Во время спохватились. Вернулись на нужный путь. Установили пушки на позиции и, оставив по три человека у орудий, снова пошли за снарядами и сделали по две ходки. Берешь ящик со снарядами (ящик немного более 50 килограммов) на плечо и вперед. Плечи болели, но принесли. Да разве на войне кто-нибудь когда-нибудь обращал внимание на боль? Нет. Никто и никогда! Главное - выдержать все! Главное - победить!
Утром кухни уже не было. Погрызли вчерашнюю конину, и на рассвете снова начался бой. Артподготовка. Какая это музыка! Забываешь обо всем! Душа поднимается в каком-то восторге, куда-то кверху, под горло!
Сбросили маскировку с орудий и били прямой наводкой по дзоту. Нас засекли. Начался минометный обстрел. Потерь не было, правда, нашему заряжающему, башкиру Сайфуллину, пробило левое предплечье посредине навылет. Похоже, кости не задело. Перевязали его, и он ушел в тыл. Но наше личное оружие, лежавшее на брустверах окопов, почти у всех повредило осколками. Пришлось ползти по картошке метров на 300-400 назад, в балочку, где проходила наша передовая вчера, там было много наших убитых, а около них оружие. Подобрал три карабина и десятка два ручных гранат. На случай немецкой контратаки уже было бы, чем отбиваться.
Снаряды у нас почти закончились, остались только бронебойные, и мы прекратили стрельбу из орудий, хотя бой продолжался весь день.
После обеда нарыли картошки тут же, у орудий, начистили ведро и ползком в балочку, к ручью, где помыли - это у нас уже Репин старался, и там же, за обрывчиком, разжег костерок, сварил и на огневую. Здесь потолкли ее топорищем, ничем не заправивши, и усевшись вокруг ведра, вытащили ложки из-под обмоток и умяли все ведро с отменным аппетитом.
Бой требует огромной затраты силы, а значит и пищи. На войне было: разбуди спящего солдата и спроси: "Есть будешь?". Он никогда не скажет "Буду" или "Не буду", но коротко спросит: "А где?"
Весь день шел бой. А ночью, часов в одиннадцать, прибыла наша кухня со старшиной и наступила, вдруг, оглушительная тишина. Пока выясняли, посылали разведку, стало уже часа три ночи. Немцы драпанули.
Вызвали лошадей и рано утром, как только саперы разминировали дорогу, пошли вперед. И так пошло: днем бой, а ночью впереди загораются деревни немцы поджигают их и бегут.
Мы с утра их нагоняем, и опять до ночи бой. Но временами немцы, закрепившись на заранее подготовленных позициях, оказывали яростное сопротивление, а ряды наступающих редели, боезапасы иссякали. Памятны бои в начале сентября.
Соседние дивизии нашей 31-й армии остановились, приводя в порядок свои ряды, подтягивая тылы. Общего приказа о переходе в оборону не было, это была временная вынужденная задержка.
Наша 133-я дивизия, с трудом преодолевая сопротивление немцев, продолжала наступление. Четвертого сентября удалось продвинуться на 5-6 километров, понеся при этом большие потери (около 3000 человек, из них 700 убитыми). Впереди укрепленная высота 207,6 метра. С 5 по 9 сентября на позиции дивизии вражеская авиация колоннами до 40 самолетов сбрасывала бомбы, стремясь остановить наше наступление. Причем с 3 по 12 сентября остальные дивизии армии приводили себя в порядок и наступательных боев не вели.
10 сентября наша дивизия обошла высоту 207,6 м, продвинувшись на 350-700 метров, однако при этом передний край обороны немцев был прорван. Бои были жестокими и упорными, достаточно сказать, что с 5 но 9 сентября было отбито 27 контратак немцев с применением танков. Потери дивизии за время этих боев, когда на острие наступления была 133 с.д. были 730 человек убитыми и 2742 ранеными - более половины от 6290 человек ее состава на то время.
А 15 сентября 43 года перешли в наступление все остальные дивизии 31 армии.
25 сентября освободили город Смоленск. Нашей 133-й стрелковой дивизии, первой "ворвавшейся", как говорилось в сводках Совинформбюро (на самом деле - медленное, тяжелое, с боем, продвижение), приказом Верховного главнокомандующего товарища Сталина И.В. было присвоено наименование Смоленской.
В этот день мне удалось повидать своего игарского однокурсника по педучилищу, своего друга Вену Шумкова. Мы стояли со своими пушками на западной окраине Смоленска, на выезде из города и поджидали подвоза снарядов, чтобы затем двигаться вперед. Мимо проходила негустая колонна пехоты нашего 681-го стрелкового полка. Смотрю - мой друг Венка тянет по грязной дороге свой пулемет "Максим". В захлюстанной шинели, худой, бесконечно усталый - все мы были такими после этих нелегких боев. Постояли рядом, обмениваясь бессмысленными: "Ну, как ты?", "Да жив пока". Отставать Венке было нельзя, с тяжелым пулеметом по грязной разбитой осенней дороге догонять было бы тяжело. Расстались, счастливые, что повидались, что живы пока, что наступаем...
Продвигались так мы успешно где-то до середины октября. Прошли почти всю смоленскую область, а потом что-то опять застопорилось.
После нескольких дней без продвижения, нас сняли с фронта и по рокаде перебросили километров за сорок вправо по фронту. Как позже выяснилось, мы должны были сменить обескровленную нашу часть, хотя и наша дивизия не получала пополнения с начала боев за Смоленск.
К передовой подъезжали днем. Впереди ровная, как стол, и совершенно открытая равнина. Видно километров за 10-15. Видны редкие разрывы снарядов, облачка взрывов шрапнели над дорогой. Жутковато двигаться днем колонной по такой местности. Однако же нашлась впереди балочка, в которой мы пережидали до темноты. Командиры наши ушли получать участки фронта, где мы должны были занять боевые позиции.
Уже ночью, когда стемнело, стали двигаться - дальше. И почти прибыли на место, а где-то часа в четыре ночи попали под артналет - снаряды градом посыпались чуть левее нас, не попадая на дорогу. Никого не задело, но орудия тут же сняли с передков, разгрузили снаряды и лошадей угнали в тыл. Дальше пушки покатили на себе, метров 300-400. Тяжелые это были метры. Все поле было в воронках и не одно, так другое колесо сваливалось в воронку.
Встали в указанном месте, перетаскали снаряды. Нам поставили задачу, предупредили, где будут проходить наши танки, чтобы не ударить по своим. Начали, было копать огневую позицию, но наступил рассвет, а вместе с ним началась наша артподготовка. Пролетели над головами с огненными хвостами снаряды "Катюш", и следом загрохотала вся остальная артиллерия.
Осмотревшись, увидели, что стоим на нейтральной полосе, метрах в ста впереди своей пехоты. Сплошной траншеи не было, и мы в потемках как-то проскочили. А может быть, наши ночные рекогносцировщики ошиблись. Но делать нечего, нам ведь не обороняться, а наступать надо. Скатили орудие в большую воронку от бомбы, чтобы не торчало оно на виду, слегка подправили воронку, чтобы удобно было стрелять, а сами залегли в неглубоких окопчиках, оставшихся от ходивших до нас в неудачные атаки пехотинцев. Окопчики были неглубокие, всего сантиметров сорок.
В ответ на нашу артподготовку немцы ответили массированным огнем своей артиллерии. Рядом разорвался снаряд, и залетевшим осколком мне так садануло по концу левой ступни, что я подумал: ну, все, похоже, отвоевался. Носок ботинка держался только на подошве, и была адская боль. Снял ботинок - нога синяя, но целая (слава Богу! Ботинок найдем у старшины).
Грохот артиллерии нарастал с обеих сторон. Загорелась рожь на корню на расположенном впереди и чуть левее поле. Небо закрылось дымом и пылью от разрывов снарядов и мин. Где-то ревели танки в этом дыму. Чьи? Наши? Немецкие?
В небе пикировали самолеты, рвались вокруг бомбы, а мы, находясь между огней, ничего не видели. Хотелось пить, во рту высохло так, что язык гремел. Воды не было, сходить за ней было невозможно. Принесли завтрак, но доставить его к нам от пехотной траншеи не смогли. Да и не нужен он нам был. Во рту все пересохло от жажды. Бой длился дотемна, но успеха не было. Пехота наша не продвинулась ни на метр.
Ночью мы оттянули орудия к пехотной траншее, чтобы иметь возможность общаться со своим тылом и ходить за водой. Однако огневую позицию вырыть удалось только где-то с четвертого захода. Вся земля была нафарширована убитыми, и было - где ни копнешь, отовсюду шел трупный запах.
Принесли воды, попили, поужинали, окопали орудия и слегка вздремнули. А утром снова бой, на этот раз успешный. Немцев сорвали с их позиций и снова стали продвигаться вперед, остановившись лишь перед Оршей.
Орша - был крупный железнодорожный узел, и взятие ее открывало возможность быстрого продвижения по Белоруссии. Но он был очень укреплен. Траншеи в полный рост, соединенные ходами сообщения со следующими рядами траншей, многорядные проволочные заграждения, противотанковые рвы, дзоты, минные поля, много артиллерии и минометов. Поэтому здесь задержались на несколько дней. Происходило подтягивание тылов, боевой техники, боеприпасов, горючего. Бои шли лишь с целью разведки и выявления огневых точек противника.
Нас поставили на южном склоне высоты на прямую наводку. Впереди метрах в ста лежала наша пехота, справа на таком же расстоянии чьи-то наблюдательные пункты с блиндажами. Высоту перехватывала извилистая линия траншей. Немного справа и сзади за высоткой стоял подтянутый ночью дивизион "Катюш".
Мы получили много снарядов. По сто пятьдесят на ствол мы успели затащить прямо на огневую позицию и по сто, подвезенных уже на рассвете, лежали штабелем у подножия высоты в двухстах метрах сзади.
Еще до рассвета подъехала наша кухня. Нас накормили. Надо сказать, что у меня перед боем всегда был отменный аппетит, и я удовлетворял его, чем только можно. Бой требовал много физических сил, а относительно возможных ранений в живот я думал так: не все ли равно какое дерьмо будет вываливаться оттуда - сегодняшнее или вчерашнее. Раненый в живот в любом случае уже не жилец.
Чего-то ждали. Артподготовка к прорыву обычно начиналась очень рано на рассвете. Это чтобы не дать педантичным немцам, у которых все по часам, позавтракать, а, кроме того, чтобы большая часть дня приходилась на развитие успеха.
На этот раз уже рассвело, начинался серенький осенний денек. Мы сидели около своих орудий и томились в ожидании начала артподготовки. Играли в карты в очко без всякого азарта и интереса, лишь бы убить время. Кто выигрывал у всех деньги, тут же делил их снова всем поровну, и игра начиналась снова. Деньги не имели цены. Что-то стоила одна только жизнь, да и то про нее окопные остряки говорили: "жизнь солдата, как детская рубашка коротка и обосрана", да и она висела на тонюсенькой ниточке и в любой миг могла оборваться, а до победы было еще так далеко!
Наконец, в 10-00 заговорили реактивными снарядами "Катюши" - сигнал к началу артподготовки. Не успели еще пролететь их ракеты с огненными хвостами над нашими головами, как мы уже сорвали с орудий маскировку и открыли огонь. Наша задача заключалась в том, чтобы прямой наводкой уничтожить дзоты (или наглухо подавить их) в нашем секторе, пробить проходы в проволочных заграждениях, чтобы пехота беспрепятственно могла идти в атаку на ближайших подступах к позициям немцев.
Все обнаруженные пулеметные точки немцев были разбиты. Оставалось пробить проходы в проволочных заграждениях. У нас закончились снаряды на огневой. Бегом вниз, в открытую несем ящики со снарядами на позицию - раз, второй раз, третий - всем расчетом... Нас засекли. Начали рваться снаряды немного спереди и справа, между нами и нашей пехотой. И вдруг на высоту обрушился залп немецких шестиствольных минометов. Один, другой - все заволокло черным дымом. До атаки оставались считанные минуты, а у нас часть расчета выбежала из-под огня в блиндажи, что были справа. И что показательно, убежали те, что воевали дольше нас. У орудий остались только сибиряки, мы втроем: Коробочкин, я и Репин.
Только рассеялся дым, мы открыли огонь, пробивая проходы в проволочных заграждениях. Тут подбежали, устыдившись, остальные наши ребята: Сергеев, Зубов и Солодовников.
Артподготовка закончилась, огонь был перенесен вглубь немецкой обороны, и по сигналу зеленой ракеты поднялась и пошла наша пехота. Цепью, слегка извивающейся, как будто не спеша, постреливая. Артиллерия ослабила огонь, накрывая только ожившие цели. Вот впереди послышалось: "Ур-р-а-а-а!" пехота побежала вперед. Первая линия траншеи была наша. Тут вдруг справа из-за высотки пошли наши танки, много танков, а следом автоматчики со стальными щитами, прикрывающими грудь и живот. Видимо это был эксперимент, потому что такого мы больше не видели нигде до конца войны.
Мы покатили пушки следом за пехотой. Временами залетали немецкие снаряды и разрывались чуть правее нас. Припав к родной земле на минутку, пока просвистят осколки, вскакивали и снова вперед. Меня никогда не одолевал страх в таких случаях. Какое-то шестое или десятое чувство подсказывало мне, что меня не заденет. Могло ли причиной быть то, что уходя в армию, я не оставил никого из близких, чья жизнь зависела бы от сохранности моей? Или это мой ангел-хранитель витал надо мной и был всегда рядом, охраняя меня, и я это чувствовал? Не знаю. Но так было всю войну. Я не хочу сказать, что я не остерегался. Нет. Я как чуткий дикий зверь всегда чувствовал кожей опасность и всегда был готов к мгновенному броску к какому-либо укрытию или просто к спасительнице-земле.
Добравшись до передней линии траншей немцев, мы остановились в ожидании лошадей и занялись изучением своей работы: куда били, куда попадали, что поразили. Пехота ушла вперед.
Этот бой с нашей высотки красиво обозревался и развивался, будто по сценарию, как в кино. Второй раз такую панораму удалось видеть только под Корсунь-Шевченковском. Но там на выручку к своим через наши позиции пробивалась армада немецких танков - более двухсот штук в сопровождении мотопехоты и артиллерии.
На этот раз, однако, развить успех не удалось. Наши танки были встречены мощным огнем противотанковой артиллерии и остановлены у третьей линии немецких траншей. Продвижение остановилось,
Дождавшись лошадей, мы подтянулись к пехоте и заняли огневые позиции вдоль противотанкового рва, отбитого у немцев. Пехота была метрах в четырехстах впереди, в очередной линии траншей. Но на следующий день, не выдержав контратаки немцев, поддержанной самоходными орудиями, наша пехота откатилась в противотанковый ров. Наши пушки оказались в одной цепи с пехотой,
С утра отбили контратаку немцев. Во второй раз немцы полезли при поддержке "Фердинандов". Открыли по ним огонь. Однако из-за обратных скатов высоты они выходили на столько, что видны были только их башни. Завязалась дуэль, не выгодная для нас. Наши пушки не могли пробить лобовую броню "Фердинандов". Прямым попаданием во второе орудие нашего взвода, орудие было разбито, весь расчет погиб.
На этой позиции пользы от нашего орудия было мало. Мы рассыпались по противотанковому рву для оказания моральной поддержки нашей пехоте, которая в основном состояла из новобранцев, собранных полевыми военкоматами на освобожденной от немцев территории. Многие из них были еще в гражданской одежде. Они были еще не обстреляны, пугаясь воя снарядов, не отличая свои от чужих, и на долго прятались в ровиках, забывая наблюдать за немцами, до которых было не более 150 метров. Однако у них был отчаянный командир. Во время очередных двух атак немцев мы, артиллеристы, вместе с их командиром поднимали нашу пехоту в контратаку, немцы не выдерживали, бежали назад, мы тоже возвращались в ров, так как несли большие потери от интенсивного артиллерийского огня немцев. Наша артиллерия молчала. Наверное, в артподготовке израсходовала весь боезапас.
К вечеру после одной из контратак немцев, когда они повернули назад, один из них все бежал и бежал к нашей цепи, временами поднимая руки. Я выпустил несколько очередей из своего ППШ по нему, но он от меня был метров на четыреста левее, пули до него не доставали. Позже я выбросил автомат, сменил на карабин и на досуге хорошо пристрелял его, так что за сто метров сбивал спичечный коробок. А этого перебежчика надо было уничтожить. Он сказал, что немцы ночью должны отойти. Они действительно отошли, устраивая нам ловушку. Наша пехота 681 с.п. без связи с соседом справа пошла вперед. Слева от нас был Днепр, и мы наступали вдоль него.
Мы перекатили свои пушки метров на 400 вперед, к траншеям, где были немцы накануне и, "оседлав" дорогу, стали окапываться. Было часа четыре утра, подъехала наша кухня и мы или ужинали так поздно, или завтракали так рано, но что-то ели. Только мы успели опростать свои котелки, как сзади подошла большая группа наших пехотинцев. Это был наш командир полка подполковник Мороз с командующим артиллерии дивизии в сопровождении взвода разведки.
- Чьи пушки? - крикнул Мороз.
Наш командир взвода доложил, ему.
- Пушки за мной! - приказал командир полка. Пехота уже давно ушла вперед.
Тут же он подобрал батарею 45 мм пушек и приказал двигаться следом. Лошади наши еще не подошли. Мы положили по 20 бронебойных снарядов на лафет и покатили пушки вперед.
Километра через полтора начался крутой спуск в овраг, за которым должно было быть село. Вдруг из темноты навстречу выбежал солдат с криком: "Немцы!". Командир полка закричал:
- Молчать! Паникер! - и разведчикам - Выясните кто!
А впереди, на противоположном гребне оврага, на фоне уже начавшего светлеть неба, маячила густая цепь немцев.
- Кто идет? - крикнул один из разведчиков.
В ответ застрочили очереди из автоматов. Немцы пошли в атаку. Командир полка скомандовал своим:
- Разведка, за мной! - и пригнувшись со своей свитой драпанул по шоссе назад, в тыл.
По своей инициативе остались человек пять-семь из его свиты.
Прошло много лет, и я не знаю, может быть, так и надо было - он же был командир полка, и его дело было командовать, а наше - исполнять эти команды. Но и в ту пору у меня мелькнуло в голове и теперь я думаю: "Вот, сука, завел и бросил". Ведь не сорви он нас, мы дождались бы лошадей и двигались бы вперед, имея полный боекомплект и бронебойных, и осколочных снарядов. Да и патронами для личного оружия запаслись бы. А теперь...
Мы развернули свои пушки,45 мм, батарея - свои и прямо с дороги друг через друга начали бить по немцам. Только снаряды были бронебойные, взятые на случай встречи с танками, вреда они немцам не приносили и имели лишь моральный эффект. Снаряды кончились, патронов у нас почти не было, их израсходовали еще накануне, отбивая контратаки немцев, пополниться мы еще не успели, негде было.
Мы начали тащить пушки назад, хотя была команда: "Снять панорамы, затворы и отойти!" Немецкая цепь, поливая нас огнем из автоматов, бегом приближалась. У нас ранило одного, другого, пули, как горох, трещали о щит орудия. Силы наши убывали, объезжая 45 мм пушку, свалились в кювет, и втроем уже не могли свою пушку сдвинуть с места. Меж тем, командир орудия Коробочкин вернулся назад и вторично распорядился оставить орудие.
Как?! Нам всегда внушали, что это позор для артиллеристов. Однако на рассуждения времени не осталось, правый фланг немцев докатился до нас. Началась рукопашная свалка. Отбиваясь, мы начали отходить. Меня ранило в плечо. Спасибо разведчику, что ударом приклада по голове немца, он прервал его автоматную очередь, иначе он прострочил бы меня по диагонали.
Рассвело. Мы отошли с боем на вчерашние позиции и закрепились, но пушек наших уже не было. Пехота же наша, отрезанная от своих тылов, с малым количеством боеприпасов, оставшимся от вчерашнего дневного боя, двое суток отбивалась в окружении, неся большие потери.
Оказалось, что немцы отошли только на участке нашего полка, навели ночью понтонный мост через Днепр и отрезали нашу пехоту, ушедшую вперед, с нами же встретились на окраине села. Зайти в мышеловку, куда нас завел командир полка, не связавшись с соседями, мы не успели.
Из полкового медпункта, куда мы, раненые, пошли на перевязку, нас направили в дивизионный медсанбат.
Как я узнал позже, через два дня положение было стабилизировано, орудия были отбиты назад. Но в то время я уже был в другом полку.
В санбате я познакомился с соседом по лежаку старшим сержантом Уржумцевым. Он был из 400 артполка нашей же дивизии. После ранения он уже долечивался и должен был выписываться. Я рассказал ему о последнем нашем бое и сказал, что хочу пойти с ним, в его полк. В санбате, таким образом, я пробыл всего два дня. Утром мы с Уржумцевым пошли к главврачу. Старшего сержанта Уржумцева он выписал, а меня прогнал. Тогда я без выписки сбежал сам. Не знаю, что на меня повлияло больше: потеря орудий, бегство командира полка в том ночном бою, бегство командира орудия вслед за высоким начальством, или все вместе взятое? А может быть и то, что недели за две-три до этого пришел к нам на батарею лейтенант из СМЕРШа, спросил, есть ли комсомольцы, ему указали на меня. Он отозвал меня в сторону ото всех и сказал, кто он и что я должен буду докладывать ему каждый раз, когда он будет приходить, о чем разговаривают солдаты, набранные полевыми военкоматами, на освобожденной земле. К нам их тоже дали несколько человек в пополнение. Отказаться нельзя. Фискалить я не люблю. Да и ребята были все нормальные. Приходит лейтенант в другой раз.
- Ну, как? О чем говорят, не хвалят ли немцев?
- Да, нет, - говорю, - не хвалят, а проклинают. А говорят, как и все солдаты, про довоенную жизнь, про еду да про баб...
- Ну не может быть. Ведь говорят же что-нибудь?
- Ну, конечно, говорят. Рассказывают женатые про свои семьи, про детей. А парни - про милашек своих, как с ними в копнах играли.
Не таких докладов ждал лейтенант от меня. На таких докладах орден не заработаешь, а ему, наверное, хотелось. Осточертел он мне. Пожалуй, это его желание сделать из меня послушного стукача больше всего повлияло на мое решение не возвращаться в свою батарею,
Мы пришли со старшим сержантом Уржумцевым в дивизион. Из блиндажа как раз вышел его командир капитан Комаров. Уржумцев доложил, что прибыл после окончания лечения.
- И вот еще привел артиллериста, - добавил он, указывая на меня.
- Где воевал? - спросил капитан меня.
- В 681-м полку, в 76-мм артбатарее.
- А чего к нам, а не к своим?
- Да разбили их батарею, - вступился Уржумцев,
- Знаю, слышал. Да ведь ругают за это, за переманивание...Ну, да ладно. Я скажу, чтобы ему выписали красноармейскую книжку, а то ведь, наверное, без документов сбежал? Бери его в свое отделение.
Так я остался во втором дивизионе 400 артполка, своей же родной 133 -й стрелковой дивизии. Бегство из санбата на фронт не осуждалось.
Топографическое отделение наше состояло из одного Уржумцева, а теперь вот еще и из меня.
Недели две еще велись упорные бои за прорыв обороны и взятие Орши. Каждый день на пополнение пехоте мимо нас шли маршевые роты. А назад шли одиночки - раненые, которые могли передвигаться самостоятельно.
В ноябре нашу дивизию отвели с фронта, погрузили в эшелон и с Западного фронта перебросили на второй Украинский. Рана моя заросла только месяцев через пять.
Однако было бы несправедливо не вспомнить добрым словом братьев моих, по орудийному расчету. Командира орудия, старшего сержанта Коробочкина, с которым мы в одном взводе были в училище, вместе прибыли на фронт и делили лихо до этой последней ночи перед Оршей. Он не был трусом. Это с ним мы остались и продолжали бой, накрытые огнем шестиствольных минометов немцев. Но он был пижон, и считал, что раз ему по уставу положен пистолет, то носить автомат или карабин ему зазорно. Хотя на практике даже командиры пехотных рот не ограничивались пистолетами - этими парадными пукалками, а все носили еще и автоматы, более надежные в бою. Поэтому в ту ночь, оказавшись без оружия лицом к лицу с немцами, ему и пришлось бежать с поля боя следом за командиром полка. Но война таких оплошностей не прощает.
Я помню правильного Репина - сибиряка, с которым мы на каждой новой огневой оборудовали один окоп на двоих, в нем двое и спали, согревая друг друга своим теплом. С ним мы говорили о том, что было до войны, и что мы ждем после нее.
Помню наводчика Сергеева, который был хоть и ершистым, но неплохим парнем.
Помню и заряжающего Зубова - калининского мужичка. Помню, когда он ехал в санитарной лодочке, прицепленной к орудию, когда орудие подорвалось на противотанковой мине, он совершил большой полет, подброшенный взрывом, и после этого плохо слышал.
Помню, как на каждой новой позиции один из нас варил ведро картошки, пока остальные окапывали орудие, толок ее топорищем, приправив сырым луком и солью. Как, усевшись в круг, мы доставали из-за обмоток ложки и по - братски съедали все до самого дна.
Помню, как впрягались в лямки вместо лошадей. Все помню...
Заряжающего Сайфуллина - башкира, немногословного и вечно улыбающегося. Его ранило в руку в том бою, когда после бомбежки мы стояли в картофельном поле перед самым немецким дзотом. Он и тогда, раненый все улыбался.
Помню деда Солодовникова, подносчика снарядов. Ему было всего лет под пятьдесят, но нам юнцам он казался дедом. С обширными рыжими с проседью усами и седой щетиной на щеках, толстый, мешковатый, с совершенно колхозной выправкой - он был предметом постоянных наших подтруниваний.
В минуты затишья как-то незаметно все усаживались к нему поближе и Сергеев, сменив свой обычно ершистый и задиристый тон на доброжелательный, начинал издалека:
- Ну, что, Солодовников?..
- Шо, шо? - уже чувствуя подвох, отвечал тот.
- Из дома - то пишут что?
- Та вже давно ничего нэ було, - отвечал дед, успокаиваясь и слегка загрустив. Но Сергеев уже готовил шпильку.
- Конечно. Что она будет писать старому, да еще рядовому? Там, наверное, уже какой-нибудь молодой лейтенант около нее греется... Зачем ей старый? - вроде бы сочувственно тянул Сергеев.
- Шо старый? Та я ше твердийшого выйму, як ты встромишь, - орал уже Солодовников. Солдаты покатывались от хохота, слушая их грубую перепалку.
Но вот проходило несколько дней, все забывалось, тяжкий ратный труд сближал нас, размягчал души, и в очередную тихую минуту опять мы собирались все в кучку и опять все тот же Сергеев мечтательно начинал:
- Ну, что, Солодовников?..
- Шо, шо? - следовало в ответ.
- Как шо! Война ведь скоро кончится!
Дед видимо вспоминал свою деревню, представлял разрушенное войной хозяйство и грустно басил:
- Та и шо, шо кончиться?
- Ну, как шо? - вскакивал Сергеев. - Х..-то у тебя есть?!
- Та шо? Им тики викна вытирать, - сокрушенно ответствовал дед.
- А-а-а! - торжествовал Сергеев. - А говорил, что не старый, издевательски тянул Сергеев. Солдаты ржали. А дед начинал назидательно философствовать.
- И шо вы всэ про то? Шо за балачки? Та колы б вин мав очи, вин бы туды николы нэ полиз. Одна назва яка - пы-ы... - тянул он, изображая на своем небритом лице полнейшее отвращение. Солдаты ржали, как лошади.
Милый дед, боевой наш товарищ, только теперь с высоты своих лет, я по настоящему понимаю все, что томило его. Рыхлый, он всегда хотел "исты". Измученные непрерывными боями, ночными маршами без сна по несколько суток, в кромешной тьме мы шлепали по раскисшей, чавкающей дороге следом за пушкой, на ходу засыпая и просыпаясь только налетев на пушку или под ударом дышла передка заднего орудия. Шли в длиннющей, бесконечной извивающейся в темноте веренице войск. И как только впереди кто-то застревал, и движение останавливалось на несколько минут, дед тут же на обочине садился на мокрую землю, мы все усаживались рядом, будто поросль около старого дуба, укладывали головы друг на друга, вдыхая запах мокрых, распаренных телами шинелей и под шуршание моросящего осеннего дождичка мгновенно засыпали. Но в то же время слышали все, что творилось вокруг. И как только раздавались крики ездовых, в мгновение все вскакивали и уже будто бы бодрее, будто бы выспавшись, шли вперед, чтобы где-то через полкилометра на очередной остановке движения опять присесть и вздремнуть минуты две-три.
Так долго ли, коротко ли, но прошагали мы пол-Европы, подвигая собой войну туда, откуда она пришла к нам.
Где-то вы теперь мои фронтовые братья? И есть ли еще кто живой среди вас? Вы делили со мной солдатский хлеб мой. Лежа на сырой земле, в общей дрожи делились теплом своим. Впрягшись в лямки, вы тянули со мной нашу пушку. Вы укрепляли дух мой своим присутствием и бесконечным ратным трудом своим, вы взращивали во мне веру в нашу неодолимость, Перед вами, живыми и мертвыми, перед всеми, кто в те тяжкие дни был со мною вместе, я склоняюсь в своей благодарной памяти. И ничего не могу представить бескорыстнее фронтового солдатского братства...
На Второй Украинский фронт
Эшелон наш нес на себе весь наш полк. Платформы с гаубицами и пушками, укрытыми чехлами, сменялись теплушками со штабом полка, боевыми расчетами орудий, взводами управления, кухней с лошадьми. В начале и конце эшелона платформы с зенитными орудиями. По всему составу - часовые. Полк на колесах жил боевой жизнью, готовый по первому же сигналу выгрузиться и занять боевые позиции.
В нашем вагоне было командование дивизиона: командир дивизиона капитан Комаров, замполит - капитан Емельянов, вскоре после моего прибытия в дивизион, в одном из боев на Украине он был убит, парторг - лейтенант Козин, начштаба - гвардии капитан Кривенко, командир взвода разведки - лейтенант Гоненко, командир взвода связи - лейтенант Ковалев, фельдшер - мл. лейтенант Чудецкий, топографы - ст.сержант Уржумцев и я, разведчики - Степа Даманский и Сухов, связисты - сержант Тарасов, Абдунаби Халиков, Гажала, Красноштан, еще несколько человек, фамилии которых не помню, писарь Сорокин, а всего сорок человек.
Да, много лет прошло с тех пор, повыветрило из памяти фамилии, а многих, кто был недолго, и в лицо уже не помню...
Офицеры разместились на верхних нарах, солдаты - внизу, поплотнее. В наряд мы не ходили. На платформах дежурили часовые из огневых взводов. Сутками гудела железная печка посреди вагона. Сверху и снизу сыпались анекдоты, взрывы хохота сменялись минутами затишья, в которые под перестук колес всем почему-то становилось грустно, сидели с задумчивыми лицами наверное, мыслями уносились далеко, на родину, к своим семьям. Тишину разрывал вдруг чей-нибудь громкий голос, заставлявший всех встрепенуться, и снова сыпались анекдоты или затягивались песни. Пели обычно или украинские, или сибирские. Затягивали "Ревела буря, дождь шумел"... Мощные мужские басы переливались с тенором Степы Даманенского, переплетались с железным перестуком колec и свистящим ветром за стенками вагона. Казалось, это широкая сибирская река течет, а на ней челны Ермака и раздольная песня над рекой, улетающая до самого горизонта, а в песне и грусть, и людское братство, и несокрушимая воля народа...
Никто не интересовался, куда нас везут. Все знали, что где-то мы нужны и этого было достаточно - остальное знало наше командование, которому мы полностью доверяли. Сколько раз и позже я убеждался в том, как важно человеку сознавать свою нужность.
Из хлеба слепили шахматы и, устроившись на нижних нарах, сражались, пока не начинали ныть бока от жестких досок. Тогда вылезали на середину и в полуоткрытую дверь смотрели на пробегавшую снежную равнину.
На какой-то станции (это была уже Украина) попросились подвезти две молодухи. Их взяли. В пять минут для командира дивизиона и замполита отгородили одеялами от всех прочих угол, и молодух туда, а с ними и командир дивизиона с замполитом.
Что рисовало воспаленное воображение остальным тридцати восьми, в глазах которых загорелся огонек самцов? Это осталось тайной каждого. Но слух их не был оскорблен звуковым сопровождением темных мыслей - теплушка неслась с грохотом и, чтобы услышать друг друга (или иное что) приходилось громко кричать.
А утром молодух высадили на нужной им станции, совершенно довольных поездкой. Жизнь всемогуща. И если ей нужно пустить корни, она раздробит и гранит.
Недели через две мы были уже под Киевом. На станции Дарница нас разгрузили, и мы маршем двинулись километров за пятнадцать в какое-то село, названия которого я уже не помню. Там стояли на отдыхе несколько дней, ожидали подхода других частей дивизии. Там, без особого нагнетания сверху, но по извечной традиций солдат в минуты затишья чинить свою амуницию, потихоньку все занялись отлаживавши своего хозяйства: шофера копались в двигателях машин, артиллеристы чистили и смазывали пушки, связисты перематывали и сортировали телефонный провод. У нас в топовзводе, который в это время и состоял всего из трех человек, никаких дел не было, и мы, помывшись в бане, просто отдыхали, да по ночам еще стояли, на посту.
Поселились мы в одной хате - старший сержант Уржумцев, Бикташев и я. Как-то странно было оказаться в хате со столом, кроватью, лавками, с занавесками на окнах и вышитыми рушниками. На Западном фронте, где мы наступали, нам ни разу не встретилась деревня с уцелевшими домами, с жителями, были одни лишь пепелища. И мы уже год не видели человеческого жилья. От всего этого мы уже отвыкли, как и отвыкли видеть близко женщину.
Хозяйками нашими оказались маленькая кругленькая хохлушка, лет под сорок, и ее дочка лет восемнадцати - стройная, тоненькая большеглазая дивчина. Всех она нас тут же покорила. И началась честная борьба, из которой я тут же выбыл, потому что был настолько молод, что смотрелся сопливым мальчишкой, случайно одевшимся в шинель. Бикташев был татарин лет под тридцать. А Уржумцев - красавец парень, чернобровый, черноглазый, нос с горбинкой, усы, как у заправского казака, и весь он создавал собой облик Гришки Мелехова из Тихого Дона. И тактик по части женских сердец. Он тут же завел разговор об обычаях и стал расспрашивать, как делят хозяйственные обязанности в семье у украинцев. Хозяйка рассказывала, а он то и дело возмущался:
- Как? Это делает жена? Ну, нет, у нас не так. Это все делает муж, а жена только распоряжается!
И выходило по нему, что русской женщине за мужем не жизнь, а сплошной праздник и наслаждение. Уж так он ловко врал, что, я думаю, и мамаше захотелось выйти за него замуж. Да только как же самой, если у ее дочки нет жениха, да и будет ли - война же идет и всех хлопцев забрали в армию. А тут ведь такое счастье может свалиться ее дочке... И посидевши так за чугунком картошки с нами, она натаскала соломы на глиняный пол, постелила на полу нам с Бикташевым солдатскую постель, а потом полезла на печку, за занавеску, гнездить ложе нашему Уржумцеву и своей дочке. Авось-либо...
... "Как хорошо быть генералом! Как хорошо быть генералом...". Однако и старшим сержантом иногда быть совсем неплохо... Но это уже сквозь сон. После окопов, после сырой земли, после грохота теплушки и ее жестких нар, после многих месяцев минутного отдыха одетым и обутым, здесь, на душистой соломе, в теплой хате, да без обуви на ногах - мы с Бикташевым почувствовали себя в раю и тут же провалились в сон...
Но недолго нам пришлось так отдыхать. Через три дня (а на них как раз пришелся новый, 1944 год) мы получили приказ двигаться к фронту. Выехали в ночь.
Дивизион наш уже был переведен на механическую тягу. Пушки и гаубицы были на прицепе у мощных Студебеккеров. Под брезентовыми тентами, прижавшись друг к другу, и согреваясь от толчков на разбитой дороге, мы двигались к фронту. Ночью проехали Киев, к утру прибыли в город Васильков, где и задневали. Однако часов в пять вечера, не дожидаясь темноты, выступили дальше.
В эти дни была окружена Корсунь-Шевченковская группировка немцев (где-то одиннадцать дивизий), внешний обвод окружения не имел сплошного фронта, и надо было срочно создавать его. Поэтому нас торопили.
Ехали всю ночь. Утром нашу машину (на прицепе у нее была 122 мм гаубица) завернули в деревню, где были армейские артмастерские. Что-то стряслось с противооткатным устройством гаубицы, и надо было сделать срочный ремонт. Часа через полтора прибыли. Там постояли буквально часа два, пока приводили в порядок нашу гаубицу, и тут же поехали догонять свой дивизион.
К обеду мы стали стремительно приближаться к фронту или фронт приближался к нам. Впереди виднелись дымы пожарищ, трещали пулеметы, раскатисто грохали разрывы снарядов, навстречу мчались подводы наших тыловиков.
Километра три на подъезде к деревне (если не подводит память Баштечки) мы двигались все время под обстрелом немецких самоходок, бивших с
правого фланга. На наше счастье, наверное, у немцев закончились фугасные снаряды, а может быть наполовину скрытую за высоткой нашу машину немцы приняли за танк, но били они все время болванками, которые, не взрываясь, рикошетили от мерзлой земли и с фырчанием перелетали через нашу машину.
Прибыли мы благополучно в самый разгар боя. А было все так: на выручку своим окруженным шла свежая часть немцев. Навстречу им шла маршем же наша дивизия с целью создать на своем участке внешний обвод окружения и не пропустить на выручку окруженным деблокирующих войск немцев. В этой деревне и встретились две колонны. И началась кровавая бойня. Наши пехотинцы были почти без патронов - все только что из эшелона. Наши пушки с неполным боекомплектом - тоже только что с эшелона. Тактикой нашей пехоты стало прятаться за домами и потом внезапно нападать, бросаясь врукопашную. Немцы это скоро поняли и двигались только посередине улицы. Но тут начинали бить те, у кого еще было немного патронов, начинали бить прямой наводкой в упор наши пушки.
Так к вечеру дивизия потеряла половину своего состава, но немцев остановили. В наших руках осталось всего несколько домиков на окраине села, а дальше, еще через несколько дворов - немцы. Наших тоже многих повыбило, и меня тут же определили в связисты.
Вечером, как только стемнело, подъехала наша кухня. Я сбегал в соседний дом, где размещался командир дивизиона со взводом управления, и передал, команду, чтобы шли за ужином. Только мы собрались около кухни, как метрах в двадцати, где шел наш разведчик Сухов с котелками, ахнул снаряд. Никого не зацепило, а Сухова нам с Уржумцевым пришлось после ужина минут сорок, пока рыли яму, разыскивать и собирать по кусочку в плащ-палатку. Это в завершение наших потерь в этот день. Похоронили узелок, все, что осталось от Сухова, тут же, в конце улицы, рядом с дорогой.
Настроение наше было не из лучших. Редко мы несли такие потери. Угнетало то, что у нас не было боеприпасов, и держались мы только на одном неведении немцев о таком нашем положении. Однако к утру подвезли боеприпасы и даже немного пополнили солдатами, собранными из тыловых частей.
А с раннего утра, нацепивши пару катушек провода, телефонный аппарат и автомат, вместе с командиром дивизиона, несколькими разведчиками и пехотинцами мы пошли выбивать немцев из деревни. После нескольких снарядов, бросок вперед, до следующей хаты, очередь из автомата и снова бросок.
Падая и вскакивая, я совсем забыл о своем раненом плече, которое к вечеру я так раздолбил, что оно стало кровоточить через бинты и гимнастерку. Однако к вечеру мы отбили половину села, и немцы теперь были во второй его половине за незамерзающим болотистым ручьем Гнилой Тикеч.
Бой стих где-то уже в полночь. Старшина, видимо, не нашел нас, ужина не было. Завешав окна рядном, зажгли плошку, обследовали хату и кое-что нашли: бутылку мутной самогонки, пожелтевший кусочек сала, в рюкзаках нашлось и несколько сухариков. Слегка пожевали и стали ждать утра.
Вышел во двор, услышал какие-то голоса, прислушался - в погребе. Оказалось - хозяйка с детьми пряталась там и отсиживалась во время боя. Посоветовал ей запастись пищей, водой, пока ночь и сидеть там, пока не очистим от немцев все село.
Немного передремали до утра, а с утра снова мы пошли теснить немцев. Так за три дня выгнали их в поле и где-то в километре за селом стабилизировали фронт.
А позади и слева гремело и грохотало, рвались снаряды и бомбы - шло уничтожение окруженной группировки. Все приданные части усиления от нас ушли туда. Не видно стало ни танков, ни артиллерии, ни Катюш. Осталась наша дивизия только с собственными средствами - одним артполком.
Мне фельдшер сказал при перевязке, что дела мои плохи и что может быть заражение. Рана, вся разбитая, стала хуже, чем три месяца назад загноилась, и вокруг нее стали образовываться гнойные фумаролы. Об этом же он доложил командиру дивизиона и попросил освободить меня на время от всяких работ, поскольку уходить в санбат я отказался. Меня определили в штаб дивизиона и сделали командиром вычислительного отделения, которое и состояло теперь из меня и Бикташева - Уржумцева в эти дни забрали в штаб полка.
В мои обязанности теперь входило выводить батареи на заданные рубежи, наносить их положение на оперативную карту, принимать координаты обнаруженных целей по телефону или рации, готовить данные для стрельбы и передавать их на батареи. После первых выстрелов, командир дивизиона немного корректировал и переходил на поражение. Такое разделение труда позволяло нам в любое время, даже когда командир дивизиона не знал, где стоят его батареи (а это было почти всегда), открывать огонь, прицельный огонь. Скоро мы так сработались, что такое взаимодействие сохранилось у нас до конца войны.
Между тем на нашем участке фронта было затишье, но разведчики ежедневно писали в своих донесениях, что по ночам впереди у немцев слышен рев танковых моторов. Так проходила неделя, другая, доклады повторялись, однако никаких средств усиления к нам не подходило. Сделали перегруппировку: поставили пушечные батареи за селом на прямую наводку метрах в двухстах позади пехоты. Гаубичная батарея осталась на закрытой огневой позиции за поймой Гнилого Тикеча.
Вечерами томились в безделье. На Украине в отличие от Белоруссии села в основном оставались не разрушенными. Саманные хаты не горели, да и партизан тут было меньше, поэтому разрушения могли быть во время боя за село.
Мы размещались в большой хате, где наловчились соломой топить печь и греть в глиняных горшках чай с мятой. Тут подошел день рождения нашего артиллерийского мастера, лейтенанта Файдыша, которого за мягкость характера лейтенантом звали только рядовые, все же прочие - просто Костей. Решили сделать ему сюрприз. Договорились со старшиной, чтобы он не выдавал нам ежедневные сто грамм в этот день розницей, а передал бы все это оптом. Костю под предлогом проверки состояния орудий начштаба отправил на гаубичную батарею, а я занялся кулинарией. Натопил печь, замесил тесто (конечно пресное), намешал маку с сахаром (мак, конечно, тоже не растертый), который нашел в кладовке, и соорудил огромный пирог с вензелями и надписью: "Косте Файдышу 40 лет".
Вечером, когда все собрались и старшина подвез ужин, выпили по сто грамм за Костино здоровье, поздравили его, а потом, когда дело дошло до чая с мятой, я торжественно поставил перед ним, накрытый рушником, огромный пирог. Костя обомлел, он был растроган чуть не до слез. Это же было не дома, у мамы, а на фронте, на передовой, где старшина и баланду-то не всегда мог привезти.
Когда стали есть, то пирог оказался без соли (я забыл посолить тесто), он безбожно крошился, мак сыпался на пол, но все это было такой мелочью, главное же, как символ уважения, эффект присутствия - уже сыграли свою роль. С тех пор при встрече со мной, Костя как-то заговорщически улыбался, глаза его по-отечески влажнели, а рукой он похлопывал меня по плечу, позабыв о субординации, и старался на мгновение притиснуть к себе.
А на рассвете следующего дня, прямо перед нами по всему косогору впереди нашего переднего края, словно сказочная деревня, выросшая из небытия, выстроились немецкие танки, самоходки, бронетранспортеры - более двухсот штук. Немецкая танковая дивизия "Мертвая голова" со средствами усиления шла на прорыв к окруженной нашими войсками группировке под городом Корсунь-Шевченковский. Без артподготовки они медленно двинулись на наши позиции. Наши пушки, стоявшие на прямой наводке, открыли огонь. Пехота наша, очень малочисленная, буквально где-то человек по 10-15 на километр фронта была сразу же смята. Тем более что в небе все время висели итальянские пикировщики. Легкие, они пикировали почти до земли и сыпали мелкие бомбы, создавая впереди танков сплошной ковер взрывов. Наши пушки подожгли несколько танков. Однако силы были не равные. Обнаружив себя, наши пушечные батареи вызвали на себя шквал ответного огня. Часть пушек была разбита, на большей же части были перебиты все бойцы и орудия умолкли. Однако на поле остались гореть десятка полтора немецких танков.
Удар немцев пришелся в стык нашей и соседней дивизии. На наше село они не пошли, так как его разделяла болотистая пойма Гнилого Тикеча. Подавив огонь наших орудий, стоявших на прямой наводке, и обезопасив свой левый фланг, немцы прорвали наш передний край, и уже более стремительно двинулись вперед, на выручку своим окруженным войскам. Впереди колоннами шли танки, за ними самоходные орудия, бронетранспортеры с орудиями на прицепе, машины с мотопехотой. Впереди все так же вились пикировщики, посыпая бомбами все, что вызывало подозрение.
Наши гаубицы вели огонь по колоннам немцев, однако снарядов было мало, огонь был жиденьким и не мог остановить эту бронированную лавину.
Мы оставались на месте, предполагая, что все у нас здесь теперь станет наподобие слоеного пирога: немцы, наши, снова, немцы и снова наши.
Однако немцам, собравшим такой мощный бронированный кулак, не удалось прорваться и деблокировать окруженную группировку. Они не дошли всего четыре километра. Командование наше успело устроить засады из полков противотанковой артиллерии и зенитчиков. Немецкие танки в большинстве своем были сожжены, так и не выполнив поставленной перед ними задачи.
На нашем участке левый фланг переднего края прогнулся в нашу сторону и наши орудия, расчеты которых погибли, оказались на нейтральной полосе.
Началась оттепель. Снег подтаивал, и все поле боя приняло пятнистую черно-белую камуфляжную окраску. Это нам здорово помогло, т.к. несколько ночей подряд мы из-под носа немцев вытаскивали наши пушки.
Доходили до переднего края, дальше ползком по-пластунски со всеми предосторожностями, минуя белые пятна, чтобы не затрещал подмерзший ночью тонкий ледок, добирались до орудия, прижавшись к земле и затаиваясь при вспышке ракет. Там цепляли лямки, впрягались и так же с частыми остановками катили пушки к себе. При обнаружении, справа отвлекающей группой имитировали неудавшуюся разведку, отвлекая огонь на себя. Операция эта, продолжавшаяся три ночи подряд, обошлась благополучно, и все уцелевшие орудия удалось выкрасть с нейтральной полосы без потерь.
Однако буквально через несколько дней, пополнившись боеприпасами и людьми, мы начали теснить немцев. Бои были упорными, затяжными, мы медленно километра по два-три в день вгрызались в оборону немцев, теснили их, выбивали их из траншей, потом из очередного села, и снова из траншей. Так продолжалось недели две, пока еще держалась зима, хоть и с оттепелью, со слякотью, но с ночными заморозками. Так медленно, но, упорно двигаясь, мы протаранили-таки оборону немцев глубиной километров тридцать-сорок. И тут рухнула весна 1944 года, наступил март, стало тепло круглосуточно, дороги раскисли, поля превратились в черное месиво грязи, а дороги в сплошное кладбище немецкой техники. Вдоль дорог одиночками, группами и целыми колоннами попадались подожженные машины, танки, орудия. Немцы драпали, что было мочи, а мы догоняли их так стремительно, как могли, передвигаясь пешком, т.к. вся наша техника тоже из-за бездорожья отстала и вперед шла только пехота, артиллерия на конной тяге (да еще плюс солдатской) и минометчики. Тыловые части отстали, снабжение прекратилось. Весь март и половину апреля мы продвигались, питаясь только, как говорили, с бабкиного аттестата. Заходили к ночи в село, разбредались группами человек по пять-шесть в одну хату и просили хозяйку накормить нас. Хлеба почти не было, но картошка была всегда. Хозяйки хлопотали до поздней ночи, кормили нас, утром обеспечивали завтраком и на дорогу давали вареной картошки и еще, чего бог послал. Вот так мы и шли.
Наполовину поредевший наш дивизион в пути формировался, пополняясь людьми, мобилизованными полевыми военкоматами, подвигавшимися вместе с войсками и материальной частью. В моем отделении нас стало человек десять, правда, недолго, только до следующих боев. Так, продвигаясь, на ходу проводили занятия, обучали новобранцев, передавая им свои знания и опыт. Хуже было проходить через города. Там мы, как входили, так и выходили голодными, так как малочисленное население этих городов само было полуголодное.
Так с упорными боями от деревни Ставище, что на Гнилом Тикече, мы прошли через Жашков, Бузовку, Монастырище, Христиновку. Перед Уманью резко повернули на запад, на Гайсин, а оттуда, уже почти не встречая сопротивления, на Брацлав, Шпиков, Шаргород, Новую Ушицу.
От Дунаевцев нас повернули на север, на Хотин, где мы остановились, ожидая противника уже с востока. К востоку в мешке оказалась огромная масса немецких войск, как говорили, превосходящая Сталинградский котел, и наше командование пыталось отрезать им путь отступления. Однако к этому времени за месяц с небольшим весеннего наступления мы прошли уже до пятисот километров по раскисшему украинскому чернозему, по сплошному бездорожью. Поэтому боевая техника на механической тяге отстала. Тылы отстали. Прекратилось снабжение войск боеприпасами и продовольствием, войска устали и немцам удалось севернее выйти из мешка, так как выход из него мы уже затянуть не смогли.
Простоявши в Хотине дня два, мы получили приказ двигаться на юг, в пограничное село Лттканы. Запомнилось прохождение через одно из молдавских сел. Дорога входила в конец большого села и тут же выходила из него, оставляя большую часть села в стороне слева. Мы остановились в крайних хатах на ночлег. Прибежали жители из дальнего конца села с обидой, что вот, мол, все солдаты проходят через этот конец села, а к ним никто на постой и не заходит... А нам, уставшим, уже было не до их гостеприимства, пообщались с ними тут же, поблагодарили и пообещали - вот подойдут тыловики и заедут к вам.
В Липканах тоже простояли двое суток в недоумении, почему стоим? Немцев не было. Война, как будто кончилась. Однако в конце вторых суток нас построили, объявили приказ о переходе через государственную границу, объявили порядок поведения на чужой территории. Запретили пить в непроверенных местах, ничего не брать у населения и не есть. С достоинством нести звание воинов великой Советской страны, представителями которой мы становились с этого часа.
По Румынии
И сразу же, после зачтения приказа, после напутственного выступления замполита полка подполковника Коваленко, мы в опустившейся уже ночи строем перешли реку Прут по понтонному мосту и застучали каблуками по вражеской земле. Часов в одиннадцать ночи проходили город Дарабани - приграничный румынский городок, покинутый жителями. Поддавшись геббельсовской пропаганде, страшась возмездия, город, видимо, бросили в спешке: всюду все было разбросано, окна выбиты, двери распахнуты, улицы захламлены всякой хозяйственной утварью, тащить которую оказалось нелегко, разорванными книгами, газетами. Стены домов были исписаны призывами к сопротивлению. И ни одного человека жителей.
Дорога была твердой, сухой. Видимо от реки к западу пошла совсем другая почва. Так шагали мы часов до четырех утра и прошли, наверное, километров тридцать. Животы наши подтянуло - последний раз ели картошку только накануне в обед. Тут в каком-то хуторке объявили четырехчасовой привал и распорядились готовить завтрак. Но хоть и говорят, что солдат может сварить суп из топора, но при этом забывают, что к топору надо еще картошек пяток да сала шматок. На этот же раз у старшины ничего не было. Было немного фасоли, которую даже нечем было посолить. Сварил повар баланду из несоленой, без единой жиринки, фасоли и часа через два нас стали будить на завтрак. Попробовали - вкуса никакого, только язык щиплет. Выплеснули под забор, и есть не стали.
Однако же ели не ели, а воевать надо. Раз противник бежит, то его надо догонять, и с рассветом мы снова пошли вперед. Шли не строем, а так, по-суворовски, кучкой, вольным шагом. Огневики - вокруг своих орудий, кто впереди, кто сзади, кто по бокам. Взводы управления - впереди. Нельзя было только отставать от своих, а вперед идти было можно. А впереди всегда идти легче, потому что сам себе определяешь скорость, ни за кем не тянешься и весь горизонт впереди тебя открыт взору. Так мы с одним мужичком из отделения связи оторвались вперед сначала метров на пятьсот, потом уже и километра на полтора. Идем себе на веселой ноге, хоть и есть хочется. Потому что весна, потому что утро, ласково греет солнышко, земля начинает оживать кое-где уже пробивается травка, распространяя аромат свежести, жаворонки над головой поют, и идем мы уже по чужой земле и врага мы изгнали со своей земли перед собой, и так это нам хорошо! И тут, за поворотом дороги, справа, недалеко от дороги видим, стоит хуторок.
- Зайдем, - говорю, - запреты - запретами, а авось-либо перехватим чего-нибудь на тощий желудок.
- Зайдем, - соглашается мой товарищ.
Зашли. А там как раз румыны завтрак себе готовили. Мамалыгу только что на стол из котла перевернули, и борщ на плите кипит. А я еще в Молдавии, где знали русский язык, составил себе обиходный словарик для общения с населением: спросить ли что, посулить ли чего - мало ли что? Объяснил хозяйке, что нам надо поесть. Нам быстро организовали. Только есть неудобно. Мамалыга - это что-то наподобие густой манной каши, только желтая, из кукурузы. Ухватишь кусочек в рот, не успеешь ложку с борщом ко рту поднести, а мамалыгу уже проглотил и борщ с огня без нашего обычного спутника - хлеба, такой горячий, что весь рот сразу волдырями пошел. А тут еще спешить надо, чтобы от своих не отстать.
А над столом часики карманные висят, и мой дружок (это был связист Коломиец) так на них смотрит, будто кот на сало, что я сразу понял, что он хочет.
- Ты, - говорю, - помнишь, что нам вчера говорили? Что мы теперь полпреды нашего государства? Так вот, ешь на здоровье, полпред, мать твою, да пойдем дальше.
Выскочили мы на дорогу вовремя. Идем, лбы вытираем после первого завтрака на чужой земле. И тут объявляют, что впереди, километрах в пяти, в городе Дорогой будет четырехчасовой привал, и что разрешили снова перейти на бабкин аттестат, т.е. кормиться у населения. Солдаты прибавили шагу.
В городе немцев не было - бежали. Рассыпались мы по городу человек по пять, заказали хозяевам приготовить еду и накормить нас.
С победителями не спорят и денег за постой не берут. А жители и тому рады, что их не грабят и не убивают, а добром просят. Однако же и мы, помня о своем полпредстве, особенно животы не распускаем, а, слегка перекусивши, делаем вид, что-де сыты, и заканчиваем трапезу.
И как потом выясняется, оказываемся в дураках, потому что продумали только первую часть трапезы - как показать, что мы не из голодного края прибыли. А вот главную часть, как насытиться, не додумали. А наши друзья решили все просто: вкусив малую толику в одном доме, переходили в другой, потом в третий - и так все четыре часа. Так что, когда пошли дальше, то они были сыты, да и еще с собой прихватили кое-что. Но солдат с солдатом всегда по-братски поделится. И начали они нас уже на марше докармливать: кто яйцо даст, кто кусок сала, кто чего. Так продвигались мы скорым шагом без привалов весь остаток дня.
Наступила ночь, но движение не остановилось. В общей сложности за сутки мы прошли уже километров восемьдесят. Ноги были, как ватные, глаза закрывались на ходу. Остановись в этой обстановке на привал - все бы уснули кто где присел. На нашу беду мы с Коломийцем опять ушли далеко вперед от своих. Присели было подождать. Из впереди лежащей долины потянуло сырым холодным туманом. Просоленные потом гимнастерки стали влажными и холодными. Животы опять подтянуло от голода.
Вдруг в стороне от дороги совсем недалеко залаяли собаки. Поманило жилищем. Мы решили зайти. Дороги не было. В кромешной темноте пошли напрямик по какой-то старой пахоте, ориентируясь только на собачий лай. Продрались через какие-то заросли кустов по неудобью, падая и чертыхаясь, перевалили через бугор и увидели хуторок из нескольких домиков. Зашли. Была уже полночь. В доме застали небритого румына лет сорока. Больше никого не было видно попрятались. Потом появилась старуха и недоросль. Все подозрительно и неприветливо взглядывали на нас. Да, война никому не приносит радости. Видно хватили своего лиха и они.
Попросили поесть. Старуха принесла штуки три полузасохших пресных лепешки и все. Коломийца, побывавшего в оккупации и насмотревшегося на хозяйское поведение немецких и румынских солдат, это взорвало. Он выматерился и стал требовать что-то еще. Румын вышел, принес пару колокольчиков и, тряся ими, стал торопливо и тоже зло что-то говорить. По его жестам я понял, что отступавшая армия немцев подмела всю его живность, и от нее остались только эти ботала и что дать ему больше нечего.
К этому времени было уже похоже, что мы останемся до утра здесь, передохнем, а с рассветом будем догонять своих. Я. постарался успокоить Коломийца.
- Мы, - говорю, - в хуторе здесь, похоже, одни. Устали. Охранять нас некому, а спать мы будем мертвецким сном. Поэтому, чтобы не было худа, не зли очень румын. Обойдемся и лепешками.
На том и порешили. Пожевали пресных лепешек, запили холодной водицей, выдворили из угловой комнаты румын, закрыли дверь, подперли ее столом, а рядом на полу улеглись сами в обнимку со своими автоматами и мгновенно уснули.
Встали рано. Солнце только поднялось, роса еще не обсохла, и было прохладно. Бока ныли от жесткого пола, хотелось есть. Однако есть было нечего и, ополоснув глаза, мы тут же двинулись в путь. Скоро вышли на дорогу и километров через пять вошли в город Ботошани.
Как выяснилось позже, где-то часа в четыре ночи по графику, наши войска должны были войти в этот город. Но опоздали на два часа и вошли в него на рассвете. Но немецкая разведка, видимо, сработала, и немцы ровно в четыре часа отбомбили город, обрушив бомбовый удар на мирных жителей.
В первой же улице окликнули проходившего солдата и спросили, из какого он полка. Оказался из стрелкового полка нашей дивизии, значит где-то здесь и наш артполк.
В городе было много войск, и во всех дворах толпились солдаты. Голод загнал нас в первый же двор с распахнутыми настежь воротами. В доме оказалось человек десять солдат из разных частей. На плите доваривался суп, клокоча, наполняя дом запахом пищи,
Стали ждать. Между тем по улице уже стали вытягиваться войска. Решили, что догоним, когда позавтракаем. Вскоре подошло варево. Обжигаясь, без хлеба похлебали и пошли дальше. Пройдя центр города, увидели обширный двор с открытыми воротами и толпу солдат перед входом в подвал.
Завернули и мы. Это был полуподвал с бетонными стенами и полом, В нем стояли огромные деревянные бочки диаметром метра, два с половиной, наполненные вином.
Солдаты не утруждали себя поиском естественных отверстий в бочках, а, выстрелив из карабина или автомата, простреливали дырку, и под струю вина подставляли кто какую посуду. Ждать было недосуг, поэтому каждый простреливал свою дырку, и скоро бочки превратились в фантастические фонтаны, плещущие во все стороны вином. Пол был уже покрыт слоем вина, по которому плавали небольшие пустые бочата. Солдаты бродили по вину, как по озеру. Набрали и мы с Коломийцем по фляжке, и пошли дальше. Однако уже на выходе из города, у дома, стоявшего на отшибе от дороги, увидели двух солдат, и Коломиец решил зайти закурить. Зашли. Только подошли к крыльцу, из дома вышла красивая молоденькая румынка и позвала всех нас в дом.
Когда мы вошли, на столе увидели по военному времени необычно обильно уставленный вином и пищей стол. В доме были еще румынка лет тридцати пяти и девушка. Уходить от такого пиршества, да куда? На войну - было просто грешно. И румынки такие румяные, такие черноглазые и приветливые! Кто они? Почему они так приветливы к солдатам вражеской армий?
Вспоминая это, я теперь запоздало думаю: до чего же я был молод, безбожно молод и зелен... Пробыли мы там с Коломийцем с полчаса и, оставив солдат, оказавшихся кавалеристами, пошли догонять своих.
Вышли на дорогу. Хвост колонны войск уже маячил километрах в двух, а колонна, извиваясь змейкой на дороге, взбиралась на высоты. Два километра не расстояние. Хорошо подкрепившись, мы бодро шли вперед по сухой дороге. Пригревало солнце, пахло просыпающейся зеленью, в небе журчали переливы жаворонков. Хвост колонны скрылся за холмом. Мы прибавили шагу. Когда же поднялись на вершину высоты, то оторопели.
Впереди километров на десять открывалась всхолмленная долина, дорога наша километрах в полутора от нас раздваивалась и так же раздваивалась колонна войск. Одни уходили направо, другие налево.
- 0-о-то да! Куды ж нам податься? - воскликнул Коломиец.
Мы озабоченно примолкли и, не сговариваясь, прибавили шагу - благо, что дорога пошла под гору. Подошли к развилке дорог, и перед нами теперь где-то в километре маячили две колонны, уходящие от нас в разные стороны.
- Коломиец, смотри, - говорю, - эту фамилию я сто раз видел на нашем пути.
- Яку хвамилию?
- Да вон же, смотри, Беринский - вправо и стрелка. Я еще на Украине видел такие надписи. Видно это командир разведки нашей дивизии или командир саперов. Пошли за Беринским!
- Раз вин наш, то пишлы за Беринским.
И мы пошли по правой дороге. Где-то уже в полдень проходили мимо поместья, брошенного румынским боярином. Зашли. Все было пусто, разбросано. В маленьком Флигельке нашли боярского работника, не пожелавшего бежать вместе с хозяином. Дал он нам поесть, что бог послал, и мы пошли дальше.
К вечеру, когда солнце уже клонилось к закату, мы пришли в большое село Буружени на реке Серет. Мост через реку был взорван. Река стремительно несла свои бурные желтые весенние воды. Переправы никакой не было. Поэтому в селе скопилось множество войск. Все дома были забиты солдатами до отказа. Бабкин аттестат здесь не действовал, потому что у населения, словно саранчой все было съедено проходившими армиями немцев, а в довершение - нашей. Поискали мы поискали свою дивизию, но о ней здесь никто даже не слышал. Осведомленные солдаты подсказали нам, что километрах в сорока вправо по фронту есть переправа, так может быть, там наша дивизия.
На голодный желудок мы с Коломийцем устроились на ночлег в каком-то курятнике, но спали плохо - кусали блохи.
Надо сказать, что в Румынии в домах, особенно бедных, часто с земляным полом, водилось великое множество блох. К тому же за время начавшегося наступления, когда мы прошли уже более пятисот километров по Украине и Молдавии, а теперь вот идем по Румынии, без единого мытья в бане, мы ужасно обовшивели, и вся эта бесчисленная рать насекомых не давала нам покоя ни днем, ни ночью. Я уже, как фокусник, запустивши руку в любое по заказу место, мог за несколько секунд вытащить огромную откормленную вошь. Я помню моменты, когда мы на марше, где-нибудь вдали от сторонних глаз в лесочке, останавливались, снимали с себя рубашки и, хлопая ими о деревья, стряхивали самую крупную часть этого прожорливого стада.
Однако, на этот раз, вставши рано утром, голодные, неумытые, мы с Коломийцем двинулись вправо по фронту вдоль реки Серет в поисках своей части. Километрах в двух, в первом же попавшемся селе, где почти не было наших войск, мы зашли умыться и поесть, что нам и удалось. И минут через сорок мы вышли на дорогу, чтобы двигаться дальше.
Впереди нас стоял солдат и держал в поводу огромную костлявую лошадь без седла. Он никак не мог влезть на нее, и попросил нас помочь ему влезть на этого одра. Я уже хотел подсадить этого незадачливого кавалериста, но тут вмешался Коломиец.
- Слухай, а шо цэ ты будэшь йхатъ одын? Ось тут я бачив таратайку. Давай реквизуем ее зараз, та и поидэмо у трех. Тэбэ куды трэба?
Разговорились. Оказалось, что это разведчик из 232 дивизии, которая часто была нашим соседом. И он тоже отстал и потерял своих, а теперь ищет. В те стремительные дни нашего наступления, когда приходилось пешком с оружием проходить по 60-80 километров в сутки почти без сна и отдыха, да еще и будучи озабоченными находить себе пропитание, многие отстали от своих частей, но стремились найти их и вернуться в свои боевые семьи, какими они стали для нас.
Вернувшись немного назад, "реквизувалы" легенький одноконный ходочек, но сбруи, как ни искали - найти не могли. Тогда Коломиец снял с себя обмотки, сделал из них лошади ошейник, а концы обмоток завязал за концы оглобель - получилось что-то вроде собачьей упряжки, только хуже. Вывели лошадь на дорогу, поставили ее передом в нужном направлении и поехали, даже без вожжей. Коняга шла, а нам, измученным длинными маршами, этот транспорт показался просто райским. Ехали мы так километра два, как вдруг, нас стали нагонять человек пять верховых - два офицера и три солдата. Один из них оказался знакомым нашему, так счастливо обретенному попутчику. Тот подсказал ему, что его дивизия где-то там, куда мы едем, и, обходя нас, они снова перешли на рысь. Наша коняга солидарно с ними тоже рванула рысью, Впереди показалась полоса грязи с огромной лужей. Я сидел сзади и соскочил, чтобы облегчить воз, потому что упряжь наша была самая ненадежная. Не сбавляя скорости, наш тарантас влетел в вязкое месиво грязи, обмотки соскочили с оглобель, коняга, почувствовав облегчение, с еще большей прытью понеслась вперед, а мои спутники сидели в застрявшей в грязи таратайке и прикидывали в какую сторону им легче выбраться на сухое.
Впереди виднелось село. Там скрылась наша коняга. Оставив телегу в грязи, пешком дошли до села. С трудом разыскали свою конягу, хотя я уже предлагал прекратить поиски и дальше идти пешком. Но мои друзья были настойчивее. Скоро нашли свою утрату, а в одном дворе еще нашли и сбрую для одноконной упряжки. "Реквизувалы" и сбрую. Не было только вожжей, но это было уже проще - вожжи сделали из куска телефонного провода,
Не доезжая до переправы, заночевали, а рано утром поехали дальше. Часам к десяти утра подъехали к мосту через Серет. Мост был взорван посередине, обрушился в реку, но концами пролета задержался на быках. Поэтому мост под углом градусов тридцать пять опускался в воду, а дальше поднимался из воды и так же круто выходил на берег. Через середину его с ревом несся мутный поток. Но через воду саперы навели деревянный настил и войска с трудом, но перебирались через реку.
Движение было медленное. У переправы скопилось много войск. И в это время, когда мы подъехали, у моста стоял какой-то генерал с автоматчиками и, матерясь, осаживал обозы назад, пропуская вперед только артиллерию и повозки с боеприпасами.
И уж не знаю, каким чудом, мы так извернулись, что проскочили мимо генерала за спиной его, вклинились между двумя орудийными упряжками и, тормозя за колеса, сначала нырнули вниз, а потом с гиком вынеслись вверх на правый берег.
- От-то да-а... Яки б мы булы, колы б генерал побачив нас с хомутом из обмоток, - протянул Коломиец, а потом сначала неуверенно хихикнул, словно еще не веря, что минула гроза, и расхохотался от радости,
Едем! Снова едем!
Переправившись, мы подались уже вместе со всеми войсками, которых, правда, было почему-то очень мало, вперед, в надежде встретить своих. Коняга наша брела шагом. Ни кнута, ни палки она не понимала и боялась только выстрелов. Выстрелишь из карабина вверх - пробежит с полкилометра рысью, а потом опять бредет шагом до следующего выстрела. Так мы израсходовали почти все патроны, а продвигаться нам приходилось часто, даже не встречая своих. Вдруг, видим у дороги стоят трое связистов и палят из карабинов вверх, пытаясь перебить провод, чтобы к нему присоединиться и не тянуть свою связь. Подъехали. Смотрим, у них только начатая цинковая коробка с патронами. А у меня карабин был так пристрелян, что бил без промаха.
- Сколько, - говорю, - дадите патронов, если я вам перебью провода?
- Да хоть все забирайте, - отвечают.
Соскочил я с телеги, раз за разом перебил три провода.
- Хватит, хватит, - кричат.
Забрали мы полную "цинку" патронов и поехали дальше. На войне всякое может быть и без патронов там хуже, чем без хлеба.
Прошло уже три дня, как мы отстали от своей части, и это нас очень беспокоило. Переночевали мы на каком-то заброшенном конезаводе, а чуть только рассвело, двинулись в путь. Проехали километра два. Утро только разгоралось. По земле стлался густой белый туман. Тишина стояла как будто после сотворения мира.
Смотрим, слева в тумане румынская семья выехала в поле и прилаживается к пахоте. Рядом - пара лошадей. Лошади - красавцы в сравнении с нашей конягой. Мои спутники разом вскочили - и к ним. Вижу - забрать хотят лошадей. Жалко мне их стало.
- Ребята, - говорю, - чем же они будут кормиться год, если мы у них лошадей заберем? Они же ничего не посеют.
Румыны не поняли, что я сказал, но видимо по интонации поняли, что я говорю в их защиту. Бросились ко мне, пали на колени, целуют мои пыльные сапоги, а сами руки в мольбе тянут. Господи! Стыд-то какой! Это же не наше, это их добро! Отступились мои друзья. Румын выхватил кусок сала и хлеб, что привезли они себе на обед, тянет мне. А мне кажется, что этот кусок сала прожжет мне руки, если я его возьму. А я ведь уже месяца два в наступлении, как только из-за распутицы отстали наши тылы, кормился с бабкиного аттестата. Но там я просил. И мне не отказывали. А тут?
Коломиец подхватил и хлеб, и сало, и мы поехали дальше. Долго ворчали на меня мои спутники и объявили, чтобы я с ними больше никуда не ходил и не мешал им. Не знаю, кто из нас был прав? Я или Коломиец, побывавший в оккупации? Знаю только, что всегда неправым бывает слабый, беззащитный. Такими были мирные люди, когда через них, через их жилища, прокатывалась война. Однако к обеду моим друзьям ворчать надоело. Они развеселились даже и, проезжая через очередное селение и увидевши церковь, решили заехать на обед к попу.
- Бо в попа мы ше нэ обидалы, - со смешком сказал Коломиец.
Заехали. Нас накормили. Но сам поп к нам не вышел, а мы приглашать его не стали. Пообедавши, тут же поехали дальше.
Прошел день. Ночевали в селе. Румыны смотрели на нас как-то странно, враждебно. Потом уж мы узнали, что кто-то изнасиловал в этом селе девушку. Наших солдат в селе не было. В эту ночь один из нас по очереди бодрствовал.
Рано утром сразу же за селом подъехали к реке Сучава. Ширина - метров сто, течение стремительное. По натянутому через речку тросику румын в лодке перевозил желающих. Мост деревянный разобран. Спросили, где есть брод? Он указал нам выше моста. Поехали - правда, мелко, но чем дальше, тем глубже. Наконец, лошадь не выдерживает напора течения, телегу переворачивает, лошадь сбивается сначала по течению, а потом назад. Делаем вторую попытку результат тот же. Что же делать? Бросить свой транспорт, переправляться на лодке и идти пешком? Не хочется. Клянем румына, показавшего нам брод, и спускаемся по берегу ниже моста. Течение самое мощное и видно по течению наибольшая глубина здесь, на нашем берегу.
- Надо, - говорю, - переправляться здесь. Лошадь рывком проскочит первые метры глубины, а там выберется на отмель.
Отдаю своим попутчикам карабин, свои документы - они переправляются на лодке. А я делаю последнюю попытку переправиться на телеге. Если собьет где-то на берег выберусь. До войны я неплохо плавал, когда жил в Игарке. Километровую протоку переплывал туда и обратно без отдыха. Вперед! Все вышло, как и рассчитывали. С берега лошадь смело рванула вперед и хоть и оказалась на плаву, но метров через пять она уже зацепилась передними ногами за песчаный нанос, а дальше было уже неглубоко.
Мы снова повеселели на какое-то время, однако нас стало беспокоить, что мы вот уже сутки не встречаем наших солдат. В конце этих суток, переночевавши в очередном румынском селе и не встретив никого из своих, мы решили повернуть назад.
Отъехавши километра три от села, мы встретили человек пять всадников. Они окружили нас.
- Кто такие? Откуда? Как вы сюда попади? Здесь же наших еще не было! Мы рассказали о своих поисках.
- Во, славяне! Во, дают! Поезжайте назад. Мы разведчики и впереди наших войск еще не было.
- А мы что, не войско? - уже хорохоримся мы, однако следуем их совету и двигаем дальше назад, на восток. Переместившись за эти дни километров на двести по фронту вправо, мы снова стали смещаться по фронту влево.
Подъехали к реке Серет уже в другом месте. Через реку был наведен понтонный мост. У моста наряд автоматчиков - заградительный отряд. Проверили наши документы. Нашему попутчику сказали, что его дивизия стоит в этом селе, и мы с ним распрощались. Лошадь и телегу отобрали.
- Ну, а с вами, голубчики, что делать? В штрафбат вас направлять?
- Да вы что? Мы же не с фронта бежим, а на фронт. Мы своих ищем.
Постращали, однако же, отпустили.
И пошли мы с Коломийцем дальше, уже пехотой, огорченные потерей транспорта, но довольные, что нас отпустили с честью, а не потащили в трибунал и штрафбат.
Надо сказать, что мы всех встречных спрашивали, не знают ли они, где находится наша дивизия. И нам частенько предлагали примкнуть к другой части, но мы хотели найти свою. Это была наша фронтовая семья, и мы хотели найти ее во что бы то ни стало.
Во второй половине дня далеко от селений мы увидели пасшегося у дороги небольшого конька. Ноги гудели. Ну, думаем, хоть по очереди будем ехать. Однако конек оказался некованым, подбил ноги по каменистой дороге и, видимо, его бросили наши солдаты. Коломиец снял с себя ремень с подсумком, одел коню на шею и погнал впереди себя.
- Хай хоть цэ везэ, - мудро изрек он и с облегчением вздохнул.
На ночлег остановились в хуторке. Хозяину наказали накормить нашего конька. Тот пожадничал, накормил его одной соломой, конька раздуло к утру, и он приобрел вид не так уж и приморенного. Даже румыну понравился, и он стал просить нас продать коня ему. Торговались не долго. Проходили пасхальные дни, румыны праздновали, а мы шли уже по местам, густо нафаршированным нашими войсками, и кормились все еще не у своего старшины.
Коломиец запросил с румына несколько куличей, изрядный кусок сала, ударили по рукам и румын, уже любовно оглаживая, увел конька в сарай, а мы сложили провиант в рюкзачки и потопали дальше.
Часа через два мы подошли к какому-то хуторку. Спросили у проходившего солдатика, какая здесь стоит часть и он, "не выдавая нам военной тайны", сказал, что здесь размещается штаб дивизии.
Я по своей молодой наивности сказал Коломийцу, чтобы он подождал меня здесь, а сам пошел к начальнику штаба дивизии спросить - не знает ли он, где находится наша родная. Прошел одного часового, объяснил, куда и зачем - он пропустил меня. Прошел второго - тоже удачно. А у самых дверей кабинета начштаба на посту стоял старшина с автоматом. Этот, не разговаривая, завернул меня кругом.
И пошел я, не солоно хлебавши, к выходу. Но тут отворилась дверь другой комнаты и осталась открытой настежь. Там, видно, было какое-то совещание, а теперь начался перерыв. В комнате было человек двадцать офицеров, все курили, и из дверей вырывалась сплошная дымовая завеса. Я подошел и спросил у стоявшего у двери старшего лейтенанта, не знает ли он, где находится 133-я стрелковая дивизия.
- Не знаю, где она сейчас, - ответил он, - но она стояла на отдыхе в городе Харлэу. Это километрах в двадцати пяти отсюда. Поспешите, может быть, еще застанете ее там.
Я поблагодарил. И мы уже бодро зашагали к городу Харлэу. Шел девятый день нашего блуждания. К вечеру, когда солнце было уже совсем низко, мы вошли в небольшой провинциальный городок Харлэу. В городе были видны следы разрушений. Позже наши друзья рассказывали нам, что немцы неоднократно бомбили город. И у румын уже сложилась присказка: "Авион! Авион! Румун ла траншей, а товарищ ла каса!" (Самолеты, Самолеты! Румыны в траншеи, а товарищи по хатам...)
У первых же попавшихся солдат спросили, из какой они части. Оказались из 521 - го стрелкового полка нашей дивизии.
- Ура! Значит и наши здесь!
Тут увидели толпу солдат у входа в подвал. Офицеры с автоматчиками не пускали никого в подвал, а другие грузили бочки с вином в машину. Но, накатавши бочки в кузов, они все уехали, и началась вольница. Мы пристроились к какому-то солдатику с ведром, зашли в подвал, нацедили полное ведро вина и пошли с ним в дом, где собрались уже человек двенадцать из разных частей - славянское братство. Вино было на вкус слабое, но обманчивое. Я выпил всего одну кружку и через час где-то проснулся и вижу, что я лежу в сарае, в кормушке, на сене. За стеной слышу пьяные голоса. Кого-то грозят пристрелить. Вышел. А штоб тебя! Это же Коломийца грозятся пристрелить!
Оказалось, он стащил у кавалеристов коня с седлом и пьяненький уехал. Но вспомнил, что я где-то остался, и вернулся за мной. Тут они его голубчика и поймали. Кое-как уговорил отпустить его, сославшись на то, что он пьян.
О, Русь! Как много ты прощала пьяным! Не потому ли, что ты сама всегда во хмелю?
Освободив пленника, я увел его, и поскольку стало уже темно, мы зашли на ночлег в первый попавшиеся свободный от постоя солдат, домик, чтобы заночевать, а уж утром разыскивать свой полк. Я, уже засыпая, вполуха слышал, как Коломиец, коверкая слова, предлагал хозяйке какое-то барахло, выторговывая ее благосклонность. Вот паршивец! И где это он успел?
Проснувшись на рассвете, вытащил Коломийца, длинные и худые ноги которого торчали из-за печи, и мы пошли искать своих. Хотелось есть. Брели мы по сонному еще городу и углядели полуразрушенный бомбежкой магазин. Зашли в надежде найти что-нибудь пожевать. Однако - ничего! Только в ящике прилавка небольшую кучку сушеных чернослив. Пожевали, пожевали, голод не утолили, а только измазались черносливом и вышли во двор, к колодцу, чтобы умыться. И вдруг, мимо распахнутых настежь ворот колонной идет наш дивизион! Пулей выскочили - и шасть в строй. Дивизия после десятидневного отдыха, в течение которого мы блуждали, получила участок фронта и выходила из города, чтобы занять его. А мы шли и по пути рассказывали свою одиссею.
На первом же привале было комсомольское собрание, и мне объявили выговор за десятидневное отсутствие в дивизионе. Ни командир дивизиона, ни начальник штаба мне ничего не сказали. Сказалось уважение, которое я заслужил своей безупречной службой до этого, а главное то, что дивизия - то отдыхала, пока мы блуждали, разыскивая ее.
Я помню как-то еще на Украине, до прорыва обороны немцев, мы лежали на наблюдательном пункте дивизиона, зарывшись в скирду соломы - наблюдатель со стороны фронта, а все остальные за скирдой. Было раннее утро, лежал снег, было холодно. Мы умылись все снегом и стали готовиться позавтракать. А наш командир топовзвода, младший лейтенант Комар - такой тоненький, щупленький, с таким длинным носиком - клювиком, неумытый, весь в соломе пристраивался в круг в таком виде. Командир дивизиона посмотрел на него и говорит:
- Слушай, Комар, иди - ка ты в штаб,,, трам, там, тарарам, - не порть мне своим видом наблюдательный пункт.
Тот козырнул и, уходя, позвал меня.
- Соболева оставь, он мне нужен, -крикнул капитан Комаров.
Так с тех пор и повелось, что если где-то что-то нужно было сделать быстро и надежно, из топовзвода вызывали меня. А порой он и состоял-то всего из одного меня
Через сутки, где-то числа 25 апреля 1944 года, мы остановились перед мощной бетонированной полосой укреплений немцев и румын. А в ближайшие два дня без средств усиления с ограниченным обеспечением боеприпасами попытались прорвать ее. Но, понеся потери, получили приказ перейти к обороне. (Это была необдуманная попытка сделать первомайский подарок Родине, кому-то стоившая жизни).
Мы стояли в каком-то румынском селе, в километре от переднего края, километрах в шестидесяти к северо-западу от города Яссы. В недалеком тылу от нас, где размещались все дивизионные пункты питания, был провинциальный городок Пашкани. Все население было эвакуировано за 50 километров от фронта. Недалеко от расположения нашего дивизионного старшины с его хозяйством, разместились мы со своим топовзводом. Старшиной стал один из солдат нашего вычислительного отделения Иван Гончарук, а в топовзводе у нас были кроме меня еще: Ступницкий, бывший педагог, Бикташев. Чернецкий, мобилизованный где-то под Белой Церковью после ее освобождения, Пехота, тоже его земляк, и, пожалуй, все.
Началась сытая и привольная жизнь, тихая и неспешная. Мы занимали дом с целым подворьем живности. До остановки в оборону у нас во взводе был трофейный конек, запряженный в телегу, на которой мы возили свое немудреное солдатское барахлишко да небольшой запас трофейного продовольствия. Конек этот был слепой и ровно никак не мог ходить, его надо было все время подруливать вожжами. Он нам уже надоел, однако еще выручал нас. Немцы частенько, раза два в день, прилетали бомбить село. Мы в это время запрягали своего слепого и ехали подбирать убитую при бомбежке скотину, что составляло наши трофеи. Когда же стали эвакуировать население, хозяину дома, где мы жили, уезжать было не на чем, и мы продали ему своего слепого коня с телегой за двух подсвинков, теленка, мешок муки и штук тридцать кур.
Начали строить оборону. Ходили на наблюдательный пункт, который оборудовали ночью, а метрах в 150-200 вправо, в лесочке, вырыли блиндажи для командира дивизиона и взвода управления. У себя же все свободное время что-нибудь пекли, жарили, варили и нагуливали жир после шестисоткилометрового наступления на бабкином аттестате.
Стоял май, отцвели сады, было тепло. Насытившись, между бомбежками, валялись на траве в саду, блаженно переваривая съеденное.
Высокий, толстый, розовый, как поросенок, весь такой сдобный Пехота, раскинувшись на спине и мечтательно глядя в высокое синее небо с редкими белыми облаками, тянул:
- Ось так бы лэжав, лэжав и лэжав бы...
- Ты бы "лэжав", а кто-то за тебя воевал бы, - вставляя Бикташев.
- Та ни хай бы и уси лэжалы, - кротко отвечал Пехота, уже задремывая одним глазом.
Медлительный, ленивый, всегда чистый, когда нам приходилось работать, укрепляя оборону, он часто останавливался, разглаживал свои пшеничные усы, опирался на лопату и впадал в долгую задумчивость.
- Опять мечтаете, товарищ Пехота! О чем? - взбадривал его командир взвода младший лейтенант Комар.
- Товарищ младший лейтенант, или вы не знаете, о чем мечтает хохол? Сало ив, на сали спав бы, салом укрывався, - посмеиваясь, говорил Чернецкий.
Однако Пехота был неисправим. Когда командование распорядилось, чтобы мы на ночь выставляли пост, хоть и с неохотой, но пришлось распоряжение выполнять. Все мы были молодые, здоровые, наработавшись за день, вечером укладывались на свои шинели и не поднимались до утра. Но вот когда на посту был Пехота, командир взвода ночью выходил во двор, побродивши и не обнаружив часового, он начинал кричать:
- Часовой! Пехота!
- А?! Я слухаю, товарищ лейтенант, - отвечал тот откуда-нибудь с веранды, из темного угла и умышленно пропуская в звании слово "младший".
- Вы спите,товарищ Пехота?!
- Та ни! Я тики трохи схоронывсь. Я же усих бачу, а меня нихто. То шоб нэ пидстрелилы.
- Нет, вы спали, товарищ Пехота!
- Та ни! Я ж бачу, шо цэ вы, товарищ лейтенант. А колы б хто шэ, я б гукнув: стой хто идэ...
- Вот стойте здесь, товарищ Пехота, -указывал младший лейтенант на середину двора перед крыльцом и уходил в дом.
- Эге, шоб меня уси бачилы, а я никого, - ворчал Пехота и, немного подождав, пока утихнут шаги взводного, снова забирался в свою конуру.
Я не помню, куда он от нас делся, но вскоре от нас он исчез. Скорее всего, устроился где-то в тылу.
Однако наша дачная жизнь продолжалась не долго. Почти каждый день прилетали немецкие самолеты и бомбили село. У нас потерь пока не было, так как во время бомбежек мы укрывались в щелях, вырытых рядом с домом. Однако командование распорядилось эвакуироваться из села и строить себе блиндажи рядом с наблюдательным пунктом, на КП дивизиона. Дней десять работали, вырыли и перекрыли еще три блиндажа рядом с блиндажом командира дивизиона. Для начальства с перекрытием в четыре-пять накатов, а для себя - в два.
Однако стояли мы здесь не долго. В конце июня - начале июля нас сняли с этого участка фронта и перебросили километров за пятьдесят вправо по фронту.
Стоя на старом месте, наша дивизия хоть не могла причинить большого вреда немцам, засевшим в огромных, бетонных дотах, однако и не давала немцам спать спокойно. Разведка часто уходила в ночной поиск за языком. Саперы делали подкопы - штольни, пробиваясь под доты, закладывали взрывчатку и подрывали заряды. Только однажды взрыв был удачным, остальные получались в стороне от дотов (слабо было маркшейдерское обеспечение), однако это нагоняло страх на немцев, и они активизировали свою артиллерию.
На участке же, куда нас перебрасывали, как рассказывали солдаты, установилась слишком тихая жизнь. Почти без выстрелов. Говорили, что и наши, и немцы ходили в сады деревеньки, стоявшей на нейтральной полосе, за яблоками и грушами, соблюдая негласное перемирие, и не беспокоили друг друга. Вскоре мы и сами убедились в том,что немцы перед нами какие-то сонные, пока мы не расшевелили их осиное гнездо.
Прибыли мы на новый участок рано утром. Розовели вершины гор, верхушки деревьев, крыши домов опустевшего румынского села. Стояла благостная тишина и от мира она отличалась какой-то бездонностью. Не кричали петухи, не шумело стадо скота, обычное в селе в эту пору суток, не бренчали ведрами хозяйки, нигде ни одна труба над крышей не курилась дымом. Поэтому как-то особенно резко прозвучала чья-то команда: "Воздух!", - когда в небе послышался тонкий, звенящий гул мессера. Солдаты укрылись в тени домов и деревьев. Сделав круг над селом на большой высоте, мессер отвалил на запад...
Последовала команда тыловым подразделениям размещаться в селе. Командир дивизиона со взводом управления, скрываясь, где за складками местности, где по прорытым ходам сообщения, ушли принимать наблюдательный пункт.
Наше отделение несколько на отшибе от старшины и штаба дивизиона заняло еще не разрушенный дом, окруженный фруктовыми деревьями. К вечеру мы получили задание привязать батареи, развить геодезическую сеть вплоть до передовой, организовать пункты сопряженного наблюдения, позволявшие засекать передний край противника, огневые точки и его батареи по вспышкам выстрелов в ночное время. Началась кропотливая работа. Уже к концу второго дня мы с точек, определенных накануне и расположенных на скатах высот, обращенных к противнику, начали засекать его передний край во всех подробностях. Этому способствовало то, что наши предшественники "приручили" немцев на этом участке, и они вели себя совершенно смирно. Мы целый день стояли на открытой сопке, расставив мензулу, и работали, даже прикрывшись зонтом от солнца. Часа в четыре дня, направляясь по ходу сообщения в траншеи переднего края, заскочили в лесок на наш дивизионный наблюдательный пункт. Вышедший из блиндажа командир дивизиона капитан Комаров, наблюдавший в течение дня всю нашу работу метрах в четырехстах правее нашего НП, беззлобно отчитал нас:
- Вы что, мать вашу, ... совсем уже в открытую стали работать? Болтаетесь тут... Не демаскируйте мне наблюдательный пункт!
Мы попили водички, переждали, когда улетит появившаяся "рама" немецкий самолет-разведчик, и пошли к пехотной траншее. Там я тоже вылез из пехотной траншеи наверх, расставил мензулу и начал засекать передний край противника.
Было жарковато, припекало солнце, стояла тишина. Внизу, в траншее, сделав навесик от солнца из плащ-палатки, сидел старый солдат, а рядом совсем еще мальчик - молоденький солдатик, разувшись, нежился на солнце.
- А как вас зовут? А шо це вы робите? - поинтересовался он.
Я ему объяснил коротко, что засекаем немецкую оборону, а потом будем бить по ней из наших пушек. Спросил, как его зовут.
- Кастусь, - коротко ответил он.
- Кастусь, та ще-й Юхтымович, - добавил старый солдат, по-отечески улыбаясь, и уже обращаясь ко мне:
- А не боитесь, что подстрелят?
До немцев было метров четыреста, и снять меня было нетрудно. Но пассивность немцев в предшествующие дни настраивала на расслабленность, утрату осторожности и пробуждение нахальства в нашем поведении.
Закончив работу, я соскочил в траншею и мы с Бикташевым пошли по ходу сообщения в тыл. В небе опять появилась "рама", когда ход сообщения привел нас уже в лесок, на опушке которого был наш НП. Рама кружилась и в первой половине дня, когда мы работали метрах в четырехстах правее нашего НП. Там проходил ход сообщения, было отрыто несколько огневых точек, но там никого не было. Немцы же, наверное, решили, что там, под нами, что-то есть, возможно, командный пункт или еще что-то. К тому же в это время уже начала изредка постреливать наша артиллерия, пристреливая цели. Так, или иначе, но немцев расшевелили. И вот, когда мы были уже в лесочке, где закончился ход сообщения, далеко на западе глухо ухнули выстрелы орудий и через довольно продолжительное время на высоте, где мы работали с утра и прошлый день, взметнулись разрывы тяжелых снарядов. Мы поспешили к нашим разведчикам.
В небе кружилась "рама", метрах в четырехстах от нас рвались 203 мм снаряды, сотрясая землю так, что с перекрытий блиндажей сыпался песок. Рассвирепевший командир дивизиона обрушивал на наши головы крупнокалиберный мат, а мы, виновато понурившись, стояли и помалкивали.
Он был, конечно, прав. Если бы немцы перенесли огонь на опушку леса, то блиндажи на НП были бы разрушены. Но они, к нашему счастью, не сделали это, а, выпустив с полсотни снарядов по пустому месту, прекратили огонь.
На другой день, когда на рассвете мы проходили через это место на наблюдательный пункт четвертой батареи, который был в полутора километрах правее по фронту, увидели огромные воронки, глубиной 2-2,5 метра.
Немецкий двухфюзеляжный корректировщик, или, как мы его называли "рама", появлялся каждый день и, высмотрев что-нибудь, вызывал огонь тяжелой батареи на обнаруженную цель. Несколько раз такому обстрелу подвергалось и село с нашими тылами.
Мы все еще жили в доме, занятом при въезде в село, и однажды, высмотрев в одной из усадеб в сарае пресс для отжима фруктового сока, мы решили надавить свежего подсолнечного масла. Солдат при всей его "обеспеченности", позволявшей ему не думать о своем быте - все решит старшина, всегда был, однако же, хозяйственным и изворотливым.
Сказано - сделано. Тут же нашлись умельцы, которые видели, как это делается. На чердаке нашли мешок семечек, взяли котелки, чистые тряпки и пошли, оставив в доме одного Ступницкого.
Поджарили на плите семечки, завернули их в ветошь и под пресс. И вдруг тренированные солдатские уши уловили далекие глуховатые выстрелы тяжелых орудий. Прислушались, готовые в любое мгновение припасть к спасительной земле шелест пошел дальше - перелет. Метрах в четырехстах ахнуло взрывом. Зазвенели стекла. Подождали. Очередные взрывы взметнулись черным дымом там же. Нам показалось, что снаряды рвутся далеко от нашего дома. Мы спокойно закончили работу, наполнили наши котелки золотистым ароматным маслом и пошли к себе.
Но бог мой! - огромные воронки, глубиной 2,5 метра зияли в нашем дворе, в саду; стены дома были насквозь прошиты крупными осколками, и весь дом светился, как дуршлаг. Мы заторопились, не надеясь застать в живых Ступницкого. Однако же, слава богу, мы предусмотрительно вырыли щель между домом и пристройкой, в которой он благополучно отсиделся во время обстрела. Наши рюкзачки и, к счастью, уцелевшие приборы, были все завалены обвалившейся штукатуркой и пылью. Если бы мы не ушли, то, наверное, кого-нибудь не досчитались бы, потому что солдат на войне не сидит на месте, если он не на мушке, он вечно слоняется и ищет что-то, хотя ему ничего не нужно и самое большее, на что он покушается - это порвет подвернувшуюся простынь на портянки или сменит свое белье, если не поленится, и время, и условия позволяют переодеться.
Собрали мы свое снаряжение, приборы и подались на наблюдательный пункт четвертой батареи. Там у нас была свободная землянка - блиндажик в два наката, там был наш пункт СНД, там не было блох, которые здесь в селе изрядно беспокоили, и там была прохлада под крышей.
А был разгар лета, подошла пора массового созревания фруктов. От жары у меня совсем пропал аппетит. Старшина здесь в обороне, на чужой земле организовал нам неплохое питание. А наш повар - Саша (не помню его фамилию, т.к. все его звали просто Сашей) все сокрушался, что я совсем перестал есть. Приехавши рано утром на НП, он до самого отъезда все приставал, присевши на корточки у входа в блиндаж:
- Ну, ты же помрешь! Ну, съешь хоть котлетку!
А я уже до его приезда сбегал в село, когда еще только засерело, и пока было прохладно, насобирал рюкзак груш, яблок, слив, еще чего, и все это, еще хранящее ночную свежесть, лежит в изголовье земляных нар в блиндаже - только протяни руку и лакомься, лежа в прохладе, пока не подойдет очередь дежурить у стереотрубы.
Так прожили мы с месяц, отъедаясь фруктами, наблюдая противника и экономно пристреливаясь к обнаруженным целям. Боезапас на батареях постепенно рос, и мы чувствовали, что это неспроста, что надвигаются большие события.
Наконец, командир дивизиона приказал за ночь оборудовать наблюдательный пункт почти в цепи пехоты, на совершенно открытом гребешке хребта, круто обрывавшегося в наш тыл. Там трудно было замаскироваться, но обзор с него был превосходный. Вырыли ровики - ниши на обратных скатах хребта, установили стереотрубу, связисты подтянули проводную связь. Для командира дивизиона соорудили крошечный бдиндажик в один накат - землянку. А на рассвете началась артподготовка. Сыграли Катюши, звонко захлопала ствольная артиллерия, заахали минометы - все это сливалось, густело, превращаясь в сплошной громовой гул. Передний край противника взметнулся сначала отдельными разрывами, султаны которых еще можно было отделить друг от друга, потом все это слилось в сплошную стену огня, пыли, дыма.
Поднялось солнце, освещая панораму этой гигантской битвы. Однако вскоре мы поняли, что здесь у нас, хотя артподготовка и длилась около часу - всего лишь отвлекающий удар. Главный удар наносился слева, под Яссами, куда фронт с нашего наблюдательного пункта обозревался километров на 20-25.
На нашем участке, поднявшаяся после артподготовки пехота, успеха не имела. Ожили огневые точки железобетонных дотов, открыла ответный огонь немецкая артиллерия. Наш НП обнаружили, начался обстрел. Однако хребтик наш был очень крут в обе стороны, поэтому при взрывах спереди надо было только успеть пригнуться, а перелеты уходили далеко в тыл.
Часа через два, когда запланированный сценарий на нашем участке был в основном проигран, и выявлены наиболее слабые места в обороне немцев, бой на нашем участке стал затихать. Мы стали наблюдать в стереотрубу тяжелый бой на нашем далеком левом фланге, где, будто игрушечные двигались наши танки, волнами шли штурмовики и бомбардировщики.
В это время чуть сзади нас разорвался немецкий снаряд. Основная масса осколков ушла по инерции дальше, а дно снарядного стакана с фырчанием подлетело к нам. Сзади мы были почти открыты, так крут был склон, И этой килограммовой фырчащей лепехой ляпнуло мне по спине чуть ниже правой лопатки. Дух во мне заклинило, и сначала я думал - конец. Но сбросил телогрейку, накинутую рано утром - целая, даже не пробитая. Отделался синяком размером с тарелку, да быстро наступающей болью в этом месте при неподвижности или физической усталости вот уже шестой десяток лет после окончания войны.
К вечеру бой на нашем участке затих совсем, а слева все глухо отдаленно грохотало, будто разъяренный молох войны уползал в свою нору и все рычал и огрызался. Ночь прошла в перегруппировке. Часть наших батарей перевели на прямую наводку. Старшина с кухней затемно накормили, проявляя особое старание, всех, кто был впереди.
Я заметил, что подавляющее большинство воевавших, после каждого крупного боя чувствовали какую-то неловкость и виноватость перед теми, кто был хоть немного впереди их. Как будто сами они были чуть позади по своей воле, а не по воле солдатской судьбы и выполняли свой долг там, где их поставили. Поэтому после боя наши хозвзводники особенно старались услужить впереди уцелевшим. Как будто брали вину за тех, кто не уцелел, на себя. И весь вид их в это время говорил: ах, если бы мы могли быть здесь! Ах, если бы мы могли заслонить их собой...
На другой день с утра все началось сначала. И к полудню стало известно, что в результате прорыва фронта далеко слева, Румыния капитулировала. Бой стих, стрельба прекратилась. Пошла вперед разведка, за ней пехота, все еще опасаясь, что разбросанные по склонам гор по обеим сторонам дороги железобетонные доты, зияющие черными жерлами амбразур, разразятся вдруг шквалом смертельного металла. Однако все было тихо, доты молчали. Еще вчера бывший страшным зверь сдох.
И вот уже и наша артиллерия, снявшись с огневых позиций, потянулась вперед, вслед за пехотой. Стали попадаться идущие навстречу группы пленных румын, а вскоре разведчики провели пленного генерала, который ехал сдаваться на машине.
Может быть дипломатическим протоколом и предусматривается такой способ сдачи в плен, но наши солдаты рассудили по-своему - генерала вытряхнули из машины и повели пешком, а часть разведчиков на генеральской машине устремилась на запад.
Проходя мимо нашей группы, генерал козырнул нашему начальнику штаба гвардии капитану Кривенко и попытался пожаловаться, что его, генерала, заставили идти пешком. Он был невысокий, грузный, потный, в расстегнутом у воротничка мундире - раскис и, конечно же, не мог понять этих русских солдат, так не почтительных к нему, генералу.
Но наш гвардия, как мы его звали, до войны был слесарем, не очень чинился и, скрививши свою лошадиную челюсть, что должно было означать улыбку, махнул рукой:
- Давай, давай, шагай! - и уже обращаясь к солдатам, добавил, - Вот, твою перемать, ходить разучился!
Солдаты смеялись. Скомандовал: "По машинам!" - и мы двинулись вперед больше уж нигде не останавливаясь в оборону до самого конца войны. Остановки теперь были всего на день-два-три, редко дней на десять, пока мы взламывали оборону немцев где-нибудь в горах, перед узлом дорог.
Немцы, шокированные повсеместной сдачей румын, беспорядочно откатывались, однако, недолго. Уже на второй день нашего наступления мы встретили их сопротивление. Продвигались мы по узкой долине между горными хребтами лесистых Карпат, поднимавшимися слева и справа от дороги и упиравшимися залесенными вершинами в самые облака. Мы подходили к какой-то сыроварне, одиноко стоявшей слева от дороги, когда со скал, на которых повисли клочья тумана, ударили крупнокалиберные пулеметы. Движение застопорилось. Передние группы укрылись за сыроварней, орудия и телеги остановились за отрогами хребта справа.
Пехотинцы, скрываясь за лесом, полезли по правому хребту вверх, в направлении немецких пулеметов. Нашу четвертую батарею оттянули метров на триста назад и развернули по обе стороны дороги на прямую наводку. Часа через полтора завязался бой. Наши пехотинцы вплотную подошли к немцам. Застрочили автоматы, отдаваясь гулким эхом по лесистым склонам гор. Батарея выпустила несколько залпов по скалам, нависавшим над дорогой. Там взвилась зеленая ракета. Немецкий заслон был сбит. Пушки перестали стрелять. Мы простояли еще с полчаса на месте, когда была подана команда двигаться вперед.
К концу дня долина расширилась, и мы вошли в румынское село, полное обычной крестьянской жизнью. Все жители были на месте. Солнце скрылось за горами, и в тени их смутно серели дома и потемневшие деревянные заборы.
Остановились на ночлег. Удивило обилие вина в каждом доме. Коверкая слова, (как будто вывернутые наизнанку, они становились более понятными для иноязычного народа) солдаты пытались установить контакт с населением. Говорили каждый о своем, и делали вид будто что-то понимают, и улыбались. Пожалуй, улыбки больше слов выражали взаимную доброжелательность. Наши солдаты были довольны тем, что Румыния повержена и выбыла из войны. И вот все эти люди, еще вчера только бывшие жителями вражеского государства, уже вроде бы и не враги, и такие же по-деревенски простые, совсем как и наши люди, оставшиеся дома... А румынские крестьяне видимо были довольны тем, что вот пришла вражеская армия, но никто никакого притеснения не причиняет. Солдаты и офицеры небольшими группами останавливаются на ночлег, ничего для себя не требуют, довольствуются тем, что им подвозит их каптенармус, и благожелательно принимают угощение от жителей села - обычно это вино и фрукты, которых во всех домах было в изобилии.
Вот уже несколько дней мы наступаем. И все это время после коротких, длящихся не более одного дня, боев идем вперед. Дороги чаще всего идут вдоль речных долин. По бокам и слева и справа высятся лесистые Карпаты... Населенные пункты вдоль дороги. И каждый из них укрепленный район, узел обороны немцев. Но особенно яростно немцы сопротивляются, обороняя населенные пункты, расположенные у слияния речек, на узлах дорог, сдача которых угрожает немцам ударами в их фланги или даже тылы.
Вот и сегодня. Впереди узел обороны немцев. Наша пехота малочисленна, поэтому ее берегут. И, слава богу, что научились воевать и побеждать не числом, а умением.
По какой-то лесной дорожке пошли вправо, в обход, через горы. Дорога сначала идет по боковой долине, которая поднимается все круче и круче, потом сворачивает на хребет, а выше заканчивается совсем. Впереди саперы, где используя лесные полянки, где прорубаясь через лес, по которому мы идем вместе с нашими пушками. Ноги уже одеревенели от напряжения, гимнастерки почернели от пота, лошади взмокли, с храпом шарахаясь из стороны в сторону, вламываются в хомуты, однако пушки и передки со снарядами - непосильный груз для них на такой круче, и они останавливаются на дрожащих ногах. Подается команда: "На колеса!" Но солдаты и без команды уже облепили орудия, кто крутит за скобы колеса орудий, кто подпирает сзади, кто тянет за постромки вместе с лошадьми - так почти на руках мы вытягиваем орудия до более пологого места и возвращаемся назад. Надо так же, почти на руках, вытягивать наверх груженую снарядами машину. Мотор надсадно ревет, удушая нас выхлопными газами, колеса пробуксовывают по не накатанному влажному грунту, однако короткими рывками под гиканье и вопли подбадривающих друг друга солдат, машина движется вперед, набирает скорость, одолев крутизну, и мы с облегчением наконец-то отстаем от нее. В полукилометре после сравнительно пологого места видится перевал. Однако, поднявшись выше, мы видим, что это не перевал, а просто терраса, после которой начался снова подъем. К вечеру, вспоминая это место, наш маленький мордвин-супонос, когда со своим заплечным термосом отыщет нас уже на противоположном склоне хребта, будет сокрушенно жаловаться:
- Какой плохой эти горы! Идешь-идешь - вще гора, гора, а на горе ишшо гора.
Часам к пяти после полудня перевалили, наконец, через хребет. Орудия взяли на тормоза, ездовые привязали колеса за спицы, чтобы они не вращались, но и этого мало, все это юзом безудержно катилось вниз, и опять солдаты взялись за лямки и уперевшись каблуками в землю, шаг за шагом стали спускаться вниз. На склоне образовалась боковая долинка, по бокам которой стали подниматься все выше и выше отроги хребта. Надвинулась облачность. Туча зацепилась за хребет, и все вокруг заволокло туманом. Обычного дождя, к которому мы привыкли внизу, не было. Просто все вокруг: и земля, и деревья, и трава, и одежда наша - все взмокло, как после дождя. С деревьев падали крупные капли. И предательские ручейки со спин уже перетекли под пояс.
Вскоре поступила команда остановиться, развернуть батареи на огневых позициях. Началась обычная работа, предшествующая бою. Командиры огневых взводов побежали подбирать площадки для огневых позиций с наибольшим сектором обстрела, что в этой теснине было совсем не просто. Для штаба дивизиона развернули палатку. Связисты потянули проводную связь к батареям и наблюдательному пункту. Я обежал все батареи, нанес их на карту и поспешил в штаб дивизиона, который был тут же, чтобы готовить данные для стрельбы.
На другой день рано утром, сопровождаемая огнем наших пушек, пехота ударила по тылам немцев, и узел дорог был взят почти без потерь.
Мы спустились в долину и после небольшого марша по рокаде влево, снова пошли по хорошему шоссе вперед на запад.
Дорога наша поднималась на плоскогорье, в Трансильванские Альпы нагорье, занимающее обширное пространство между Карпатами и Альпами. Населенные пункты стали довольно редки. Однако наступающие части наши благодаря солдатской сноровке, постепенно обретали странный вид, частенько напоминающие кочующий цыганский табор. Солдатам не хотелось идти пешком, и они подбирали "трофеи", где верховую лошадку, где телегу с лошадьми. Обозы росли и кроме обычных грузовых телег прорастали таратайками, каретами всевозможных фасонов, дрожками, пролетками.
А я все еще шагал пешком. И вот на марше, слева от дороги, на обширной пологой поляне я увидел пасущихся лошадей. Дай, думаю, и я перейду в кавалерию, до лошадок около километра я проскочил так быстро, что не успел даже хорошенько помечтать, как это скоро я буду гарцевать по каменистой дороге этаким горцем, слушая цокот копыт. Но когда подошел, то оказалось, что перейти из пехоты в кавалерию не так - то просто. Паслись, пощипывая травку, не стреноженные горные лошадки - маленькие, стройные, что твои балерины. Положил я глаз на одну - шкура аж лоснится и переливается на солнце. Снял ремень и к ней. Но она крутнулась ко мне задом и косит глазом, приноравливаясь врезать мне копытном. А копыта у них маленькие, острые румыны на них огромные вьюки возили, так они по склонам гор, словно козы прыгали. Я сторонкой обхожу ее спереди и снова к ней с головы. А она, проклятая, ощерила зубищи, да за мной, словно крокодил. Отбежал я от нее, пока она не отстала, стою и думаю: ловить или не ловить? А от своих уже приотстал далеко, догонять верхом-то было бы легче. Подхожу потихоньку снова к ней, теперь уже сбоку и что-то ласково приговариваю, а она, зараза, опять ко мне задом да прыжками назад как взбрыкнет, взбрыкнет. Ах ты... Обхожу опять спереди, а она опять будто крокодил с открытой пастью, прижавши уши, ринулась за мной. Оторвался я от нее, да и думаю: зачем она мне? Ведь у меня нет ни седла, ни уздечки. Да и хлопот с ней - кормить надо, поить. Пусть она себе пасется. Да и побежал догонять своих.
Минут через сорок, когда впереди уже маячил перевал, оттуда ударил пулемет. Послышалась трескотня автоматных очередей, разрывы гранат. По поляне стали рваться немецкие снаряды. Собравши силы, я побежал быстрее вперед. Наши батареи тут же, свернув с дороги, разворачивались на боевых позициях. Встречаю своих, и на меня посыпались вопросы:
- Ты где был?
- Так ты живой?
- А сказали, что тебя убило...
А я не знаю, что им сказать. Вот же я, целый. Солдатская судьба хранила меня. Это во второй батарее был мой однофамилец Соболев. Когда развертывали батарею по фронту, вражеский снаряд попал в верхушку дерева, разорвался, и осколком ему вспороло живот. Его унесли, но рана была смертельной, а санбат, где можно было сделать операцию, где-то он?
Бой длился часа два. На перевале засели власовцы и яростно сопротивлялись, пока не были уничтожены. Сдаваться им был не резон - пощады им ждать не приходилось. Предателей мы ненавидели лютой ненавистью. И когда одного из них, оставшегося в живых, вели под конвоем в тыл, то каждый, когда узнавал, что это не немец, а "русский", каждый норовил, прорвавшись через конвой, наградить его оплеухой.
Уничтожив заслон, мы взяли орудия на передки и двинулись снова вперед. Золотая румынская осень. Благодатнейшее время года. Зеленеют елями склоны гор. Доцветают слегка пожухшие травы на полянах. Сады ломятся от обилия фруктов. Еще в обороне мы начинали снимать в заброшенных жителями садах черешню, вишни, сливы, ранние яблоки. Теперь подошло время абрикоса, персиков, поздних груш и яблок, винограда, и нет конца этому изобилию всего, хотя по полям и садам прокатились полчища куда многочисленнее Мамаевых. И может быть потому, что полчища эти стали столь многочисленными - отошли времена мавританок - полковых торговок. Все, что нужно солдату, он берет сам. Ему, правда, не нужны излишества, не нужны запасы, потому что никто не знает на сколько времени нужны эти запасы. И солдат живет от боя до боя, довольствуясь тем, что привезет старшина. Ну, а если не привезет - солдат не постесняется спросить, если есть, у кого спросить. А если нет, то он возьмет сам столько, сколько нужно только в этот час. Не гневись, хозяин, солдат ведь тоже человек, ему тоже жить надо. Для тебя, конечно, война - бедствие. Но и солдату она поперек горла. И как часто она ему стоит жизни...
Короткая остановка в продвижении, опять немцы закрепились на заранее подготовленных, позициях. Опять будем выбивать их. Неспешно, но деловито войска изготавливаются к предстоящему бою. Наши батареи развернулись на огневых позициях. Обежал их, нанес на оперативную карту. Мы к бою готовы. Но пока затишье. С командиром дивизиона еще нет связи, но телефонист уже сидит у аппарата, подвязав трубку бинтиком к голове.
Выхожу во двор. Оглянувшись, иду в сад, срываю грушу и начинаю протирать ее о гимнастерку. И вдруг истошный крик:
- Соболев! Где Соболев? Твою в печенку, селезенку! Морду набью, трам-там-тарарам!
Как на крыльях (ах, годы молодые!) влетаю в дом. У входа сидит испуганный телефонист Гажала. У стола над картой, меча громы и молнии, начштаба дивизиона гвардии капитан Кривенко, или попросту Гвардия. Увидев меня, он прекращает мат - некогда. Тычет в карту пальцем, указывает цели, только что переданные по телефону командиром дивизиона.
- Готовь данные четвертой батарее. Быстро, твою мать! - словно справку печатью скрепляет он команду последним матом.
Привычно и быстро начинаю работать. Через пять минут уже передаю данные на батарею. Командир дивизиона начинает управлять огнем батареи. Начинается бой. Все пошло ровно и гладко. Гвардия уже доволен. Он уже расхаживает от стены к стене, напевая свое "трам там тарам", но уже исчезли крещендо и фортиссимо, все пошло тихо и мелодично. Иногда он взглядывает на меня, его лошадиная челюсть еще изображает суровость, а над нею глаза уже добродушно лучатся: мол, как я тебя?
Гвардия, он из довоенных слесарей, но в том возрасте, который прихватил войну с самого начала. И хоть образование всего семь классов, но уже капитан, да еще и гвардии. И хоть с обязанностями начальника штаба дивизиона он справляется исправно, но эта проклятая карта, на которой надо было работать. Да еще быстро, когда ждут огня батарей...
Гажала, немного спустя, говорит:
- Ох, какой он злой бывает, когда тебя ищет! Ну, думаем, и правда морду набьет. Не только тебе, но и нам.
Но это только слова. За всю войну я ни разу не видел и не слышал даже о рукоприкладстве. Резкий голос команды, скрепленный "печатью" - это совсем другое дело. На то она и команда, чтобы все слышали. А Гвардия - он беззлобный. Он весь открытый. А мат-это у него, как междометия, для связи слов в речи. Отними у него мат - и все мысли рассыпятся. Без него он мог говорить только с вышестоящими командирами, да и то недолго. Его огромная нижняя челюсть при этом еще больше оттягивалась вперед от напряжения и, чтобы снять его, он оглядывался на кого-нибудь из подчиненных, первым подвернувшимся на глаза и восклицал:
- Твою мать! А? - и облегченно улыбался. А потом снова уже серьезно обращался к начальству, конденсируя напряжение в своей челюсти.
По Венгрии
...Километры, километры. Фронтовые километры. Уже позади Восточные Карпаты, где приходилось драться за каждую высотку, за каждый перевал, за каждый перекресток дорог. Теперь позиции, где немцам удается закрепиться, стали реже, наши переходы от боя до боя длиннее. Немцы опять придерживаются уже знакомой тактики: день сопротивляются, а в ночь снимаются со своих позиций и отрываются от наших передовых частей.
Осень. Спала летняя жара. Темными пасмурными ночами уже не жарко в шинелях. Кончается Трансильвания - обширный край с пологими увалами, широкими долинами рек, однообразными дорогами, обсаженными, где тополями, где фруктовыми деревьями.
Изредка моросит небольшой дождь. Перестает, потом снова моросит. Небо затянуто тучами. Кромешная тьма. Нет огней в окнах домов, выключены фары автомашин, наша колонна продвигается на малой скорости, едва подсвечивая подфарниками машин разбитую дорогу. В кузове на штабеле снарядов расчет шестой батареи, гаубица их на прицепе за машиной. Я сижу на штабеле снарядов у самой кабины, перевесив ноги через передний борт Студебеккера. Напряженно всматриваюсь в окружающую темноту, пытаясь рассмотреть хоть какие-то приметные места. Ветер и капли хлещут в лицо. Но я не могу отвернуться, спрятать шею за воротник шинели и дремать, и завидую ребятам из гаубичного расчета, дремлющим под шорох дождя и ровный гул мотора. И так на каждом марше. Поэтому глаза у меня постоянно красные от пыли и ветра. Но надо запоминать дорогу, потому что карта у сидящего в кабине Гвардии - начштаба дивизиона, а он нет-нет, да и задремлет. Вот и опять. Машина останавливается, из машины вываливается Гвардия, разминая свое занемевшее длинное тело. Подходит к подфарнику, долго смотрит, согнувшись, в раскрытый планшет на карту, а потом (как будто это я задремал) кричит:
- Соболев! Где мы? Ну-к сюда, быстро!
- Твою мать, а? - подражаю я мысленно Гвардии и спрыгиваю в чавкающую грязь. Тоже долго рассматриваю карту, мысленно прослеживая весь маршрут от самого начала движения, подсчитываю перекрестки дорог, оставшиеся позади, вспоминаю оставшийся позади железнодорожный переезд, и уже уверенно показываю на карте место, где мы находимся.
- А не врешь, твою мать, а? - беззлобно вопрошает он, однако же захлопывает планшет, а я, не отвечая, взбираюсь снова в кузов.
В душе я его отчитываю, конечно же, такими же словами, что и он меня вслух. Ха! Твою мать, начштаба! Карта перед носом, щиток в кабине освещен, всегда можно посмотреть... На тебе! Заблудился. Полководец, мать твою... А тут впотьмах, как сова, запоминай все!
Так мы с ним и беседуем почти всегда. Он вслух, а я про себя. А как же? Он офицер и мой командир, а я сержант и его подчиненный. И на его несправедливость могу показать только фигу в кармане. Однако же на Гвардию нельзя долго обижаться, если знаешь его. Если знаешь, что все эти "твою мать" и "трам тарарам", все это обращено не к тебе даже, а куда-то вокруг, и предназначено всего лишь для прояснения или утверждения высказанной им мысли или распоряжения. По прошествии многих лет, вспоминая фронтовые годы и его Гвардию, я думаю, что я даже любил его, как старшего брата.
Однако небо стало вскоре сереть, движение наше ускорилось, и где-то через час мы въехали в румынское село. Войск в нем наших мы не встретили, связи с ушедшим вперед командиром дивизиона не было, проехав село, мы двинулись дальше. На выезде из него какой-то солдат крикнул:
- Куда вы едете? Впереди немцы.
Однако Гвардия или не расслышал предупреждение, или не обратил на него внимание, но движение продолжалось. Солдатики расчета, однако же, перестали дремать, повернули носы вперед и изучающе обшаривали глазами впереди лежащее поле. Ничего подозрительного не было видно, но в воздухе уже повисло напряжение, и все напружились, готовые ко всему. И не отъехали мы еще и полсотни метров головной машиной от села, как впереди хлопнули выстрелы орудий и с большим недолетом взметнулись разрывы снарядов. Машины резко затормозили и стали разворачиваться веером все враз, чтобы укрыться за строениями села. Мы горохом сыпанули из кузова и с просматриваемой противником улицы рассыпались по обе стороны от дороги, по огородам. Впереди с кличем "Ступницкий, за мной!" с железными коробками из-под немецких мин, в которых он носил документы, мчался писарь Сорокин. Очередной залп немецкой батареи заставил нас попадать на землю, Я свалился рядом с нашим фельдшером, младшим лейтенантом Чудецким, и расхохотался. Тот подозрительно посмотрел на меня (не над ним ли?) и спросил:
- Ты чего? - ситуация была вроде бы не до смеха.
- Посмотри, - говорю, - танк.
И указал на Сорокина, который, не останавливаясь, мчался вперед, разбивая животом слабенький огородный заборчик надвое.
Тем временем машины развернулись, въехали в село и свернули в первый же переулок налево. Обстрел прекратился. Собрались в кучу, огляделись - все целы, никого не ранило, не убило, все машины и орудия невредимы и даже Сорокин ничего не потерял - все обошлось. Это всех развеселило, стали все подтрунивать друг над другом и сделали заключение, что артиллеристы у немцев дрянь.
Выехало на чистое поле с десяток автомашин с кузовами полными людьми, с орудиями на прицепах и всем им под обстрелом удалось развернуться и скрыться в селе без потерь. Ну, какие же это артиллеристы у немцев?!
- Не скажите! - ввязался в солдатский разговор командир взвода связи лейтенант Ковалев. - Если бы не расторопность Сорокина, немцы бы дали нам прикурить. А то сделали три-четыре залпа и замолчали.
- А при чем тут Сорокин? - спросил кто-то, не понимая, о чем идет речь.
- Как при чем?! А вот у нас был случай в начале войны. Отступали мы, и увязался за нами мессер, строчит из пулемета, делает виражи над головой, ну прямо чуть за головы не цепляет, думаем, ну что он к нам привязался? Куда мы, туда и он. Тут один солдатик костромской кричит нашему писарю:
- Ты не то, мать-твою! Чего чернильницу в руках тащишь? Это же он видит, что ты штаб наш. Спрячь ее, так - растак...
Ну, тот чернильницу в кусты сунул, - и мессер отстал от нас. Вот и Сорокин - видели, сколько он заборов сбил, выбегая из-под обстрела? Вот и немцы - видят, что штаба с нами уже нету, а по нам, что им стрелять? Велика ли добыча?
Все понимают, конечно, что это просто очередная солдатская байка, но все смеются. Смеется и Сорокин. Он, конечно, трусоват, но всегда смягчает это тем, что и сам потом над собой смеется вместе со всеми. Поэтому все это проходит короткой легкой шуткой и никто ни на кого не в обиде.
Простояли мы здесь не долго. Видимо где-то наши соседи угрожали немецким тылам, но только что наши батареи встали на огневые позиции, как поступила команда двигаться дальше. Часа в четыре дня мы приближались к очередному населенному пункту. Километрах в полутора до него нас встретил посыльный командира дивизиона и передал приказ гаубичной батарее встать здесь же на закрытой огневой позиции, а пушечным двигаться дальше и на подходе к селу встать на прямую наводку. Я остался с гаубицами и подождал, пока они выбирали место для огневой позиции, нанес батарею на оперативную карту и на трофейном велосипеде покатил вперед догонять своих. Километра через полтора, слева от дороги, вела огонь прямой наводкой наша четвертая батарея. Чуть сзади нее сгруппировались наши штабники.. Впереди, в долине, раскинулось большое село, за которое шел бой.
Непрерывно трещали пулеметы, автоматы, хлопали разрывы гранат и, заглушая все эти звуки, резко хлестали наши пушки. Несколько домов на ближней окраине села горели, но бой уже передвинулся вглубь села.
Низко светило солнце, и косые лучи его четко высвечивали красивую панораму боя. Только я подъехал и передал начштаба карту, как он распорядился, чтобы я ехал в село и занимал помещение для штаба дивизиона. Я вскочил на велосипед и со всей возможной скоростью помчался по дороге к селу. На полпути попал под артналет, который немцы нацеливали на подходы к селу с нашей стороны. Дважды пришлось на полной скорости пикировать с велосипедом в кювет, а потом вскакивать и опять мчаться вперед.
Бой шел уже за центром села. Я наметил большой дом вправо от центра села, под горкой на окраине и вышел встретить своих связистов. Однако прибывшему вместе с ними Гвардии и прочим работникам штаба дивизиона место показалось слишком удаленным от основной магистрали. Гвардия как всегда матюгнулся и зашагал к центру села. Но село уже было набито нашими войсками. Уже давно славяне перестали окапываться где-то в лесу, в поле - все устремлялись в населенные пункты, и ночью почти в каждом дворе кто-то размещался: артиллеристы, минометчики, связисты, штабы, обозы, кухни. Нашли на перекрестке улиц свободный маленький не то фпигелек, не то сторожку, и сбились все там, расположившись на ночь на полу.
До полуночи подтягивались батареи, прокладывалась телефонная связь от батарей к штабу дивизиона и на наблюдательный пункт, готовили данные для стрельбы, передавали на батареи, поджидали своего старшину с кухней, а после полуночи повалились все спать на полу, намаявшись за долгий день, оставив бдить только дежурного телефониста.
С рассветом начался бой. Немцы закрепились за рекой сразу же за селом, видимо ночью получили подкрепление и упорно сопротивлялись. Снаряды немцев рвались почти непрерывно вокруг. То и дело рвалась связь, и связисты один за одним выбегали на линии исправлять порывы. Штаб из-за частого нарушения связи почти отключился от участия в бою. Гвардия, сутулясь, чтобы не задевать потолок, в бессильной злобе шагал от стены к стене мимо телефониста. Я, чтобы не задеть самолюбие начштаба, начинаю осторожно рассуждать о том, что вот, мол, мы готовили данные для стрельбы наших батарей по селу, занятому немцами, по возможному скоплению их, то куда мы их готовили? По центру, по церкви, по перекрестку дорог. Вот так и они. А стоим мы у самого перекрестка, в центре села и больше всего снарядов залетают сюда. Гвардия, конечно, понял намек и тут же остановил мои рассуждения совсем не по печатному. Но тут на очередном его развороте у двери, когда он разворачивался к телефонисту, за дверью грохнул совсем близко снаряд. Дверь вышибло, Гвардия едва успел отскочить от нее, зазвенели стекла в оконце, и курятник наш наполнился дымом. Гвардия изобразил героическую улыбку, стряхнул с себя штукатурку, еще раз обратился к немцам по-русски и скомандовал связистам переносить связь на окраину, но не туда, где я предлагал вечером, а в район наблюдательного пункта.
В течение всего дня шел упорный бой за переправу через речку, за плацдарм на том берегу, а к вечеру нас предупредили о сдаче позиций другой части и выводе нас на отдых и пополнение.
С наступлением темноты нас сняли с фронта, сменив другими частями, и мы стали вытягиваться из села в тыл. Все управление дивизиона почему-то двигалось не с батареями на автотяге, а со своим обозом. Может быть, чтобы не отрываться далеко от своего старшины и кухни.
Впереди кто верхом, кто на телеге ехали наши командиры, а вслед за ними наши обозные повозки с хозяйственным дивизионным скарбом, а вокруг телег шагали мы, солдаты.
Погода установилась хорошая. Было сухо, светила луна своей половиной и шагали мы бодро. Правда, позади был день боя, напряженной работы, все были уставшие и хоть на ходу, но слегка подремывалось, и очень хотелось хоть немного проехать на телеге. Но телеги были груженые, лошадей мы всегда берегли, а поэтому старшина разрешил по одному (кроме ездового) запрыгивать в телеги и по очереди отдыхать. Приглашенные не стали ждать, когда их будут уговаривать. Но ведь солдат - он любопытный, если ляжет, то обязательно пощупает, а что же у него под боком. И нащупали... бочата с вином.
Надо сказать, что доселе от начала наступления вина во всех селах было в изобилии, и уже к этому попривыкли, и никто запасов себе не делал. Но тут мы вошли на территорию Венгрии, где не так далеко были знаменитые Токайские винодельческие заводы и, видимо, население само не занималось виноделием, а отвозило виноград на эти заводы. Первыми смекнули это дело наши отцы командиры. Командир дивизиона, за ним начштаба, замполит и прочие по рангам, указуя старшине на бочку вина в телегах его обоза, говорили примерно одно и то же:
- Эта бочка моя и из нее никому, кроме меня вина, не наливать.
Но у солдатиков - то, попривыкших к вину за это, уже продолжительное время наступления, души тоже горели от жажды. Вот тут-то они и нашли способ поостудить их. Степа Даманенский, дивизионный разведчик, замечательный певец украинских песен и прекрасный тенор, соскочивши с телеги, попридержал за рукав сержанта Тарасова, маленького, со сморщенным личиком архангельского 'мужичка, командира отделения связи и что-то зашептал ему на ухо. Тот, дослушав, затрусил вперед, догнал повозку, в которой ехал наш дивизионный фельдшер и вскочил в нее, чтобы отдохнуть от ходьбы. Однако отдыхал он не долго, а всего, пока выкурили с фельдшером по самокрутке. И, соскочив с телеги, присоединился к нашей группе. Подождав, пока освободится место на задней телеге, он вскочил на нее и прилег за спиной ездового, старого украинца Тодося, как его звали его друзья ездовые.
Потом его сменил другой, третий, а потом пошло по второму кругу, по третьему...
Когда на рассвете мы подъезжали к лесочку, в котором должны были остановиться на дневку, то многие солдатики уже покачивались. Старшина смекнул, в чем дело и забегал по подводам, выведывая, где это им удалось напиться. Вскоре на задней подводе был обнаружен резиновый трубчатый жгут "позаимствованный" из санитарной сумки фельдшера и вставленный в бочку с вином вместо выбитого из нее деревянного кляпа. Отдыхавшие от ходьбы по очереди солдаты, присасывались к шлангу, насосавшись, уступали место другому и так по кругу.
Бочка - то попалась командира дивизиона. Сержант Тарасов тут же взял все на себя, да и пьяненек он был больше всех.
Ну что же? За провинность надо наказывать. Но как? Дать наряд вне очереди? А на что? На войну? Так мы и так каждый день круглосуточно на войне. Ну, не посылать же в штрафную за кружку вина. Наконец, нашли выход из положения: вырыли ровик до пояса и изобразили из нее импровизированную гауптвахту. Сняли с Тарасова ремень и погоны, посадили в этот ровик и приставили часового.
Сварил повар завтрак - ему несут туда в котелке. К полудню припекло солнце, стало жарко. Часовой стоит лоб вытирает - ему же и присесть-то нельзя по уставу, да к тому же и начальство дивизионное все здесь. А Тарасов прилег в ровике да оттуда и хвалится:
- Чо, ребята, вам там жарко? А мне тут хорошо... - и запел. - И эх, девки спали, не слыхали Воробей на кунку сел...
К вечеру эта импровизированная гауптвахта была закрыта, сержанту Тарасову вернули ремень и погоны, и мы двинулись дальше.
Двигаясь по рокаде влево по фронту, мы направлялись в городок Ньирбатор. В Ньирбатор прибыли где-то часов в одиннадцать вечера. Было темно, город не освещался, население попряталось по подвалам, опасаясь немецких бомбежек. Фронт только прошел здесь и был совсем близко. Втянувшись обозом в город, почти в центре его мы увидели наши батареи. Колонна машин стояла с гаубицами на прицепе, двигатели не работали. Подошедший комбат, старший лейтенант Чистюхин, доложил командиру дивизиона, что закончилось горючее, подвоза решили ждать здесь.
Наш обоз тоже остановился, и все разбрелись по соседним дворам, по подвалам. Кто искал горючее, кто трофеи, а кто скоротечную фронтовую любовь... Проблуждали так в потемках часа три, и нам-таки кое в чем повезло. Уж не помню теперь кто, но кто-то из солдатиков, особенно любивший попромышлять за трофеями, из тех, кто все вокруг обшарит и обнюхает и все поприкинет, куда бы оно сгодилось - только взять нельзя, потому что солдату всегда надо работать и руки его должны быть свободными, и сам он налегке, и весь обоз его - один рюкзачок, да и тот частенько проверяемый командирами не заплесневел ли солдат, не оброс ли ненужным барахлом, мешающим ему воевать. Да и с мародерством в нашей армии было строго.
Так вот, один из таких солдатиков, запыхавшись, прибежал к колонне машин и заявил, что в одном подвале нашел десятка полтора оплетенных бутылей, литров по сто каждая, со спиртом,
О трофейщики! Помню когда-то на Смоленщине, когда мы наступали по выжженной немцами земле, в нашем расчете был дед Солодовников, так тот собирал все куски стали для кресал и камни, которые особенно хорошо искрили при ударах. Постепенно его рюкзак наполнялся, наполнялся, становился почти неподъемным, пока не доходило дело до очередной проверки, или, как говорили солдаты на своем жаргоне - до шмона.
Мы выстраивались, ставили перед собой свои рюкзаки, развязывали их и перетряхивали их содержимое перед командирским оком нашего комбата, нисколько не смущавшимся неэтичностью подобной ситуации. Нас он проходил быстро, потому что вещмешки наши имели совершенно дистрофический вид. Около Солодовникова же он стоял долго. Сначала вроде бы дружелюбно с усмешкой рассматривал все эти железки и булыжники, расспрашивал, зачем это ему нужно.
- Так, товарыш старщий лейтенант, сэрникив же нэма. А без вогню як же? Чи то прикурытъ, чи то костерок, шоб обсушиться...
- Ну, а зачем столько много-то?
- Та в нас же на Украине, крэмушкив нэмае, одни чернозем... - и Солодовников объяснял, демонстрировал эти"Катюши", приговаривая:
- Ось дывитесь, - подкидывал на ладони, оглядывал и снова кидал в рюкзак.
Потом комбат, прибавив стали в голосе, вопрошал:
- Это уж который вещмешок мы будем вытряхивать? Вы, Солодовников, боец или барахольщик?
Солодовников, понурившись и пожимая плечами, переминался с ноги на ногу - благо, что на фронте редко стояли перед начальством навытяжку. Потом комбат со злостью начинал разбрасывать все это в кусты, потом вытряхивал все остатки разом из мешка и, отдавая его Солодовникову, приказывал командиру взвода проследить, чтобы этот барахольщик не пособирал все снова. Но это было тогда. А теперь, в нашем положении, сообщение этого трофейщика обещало движение дальше.
Быстро сходили в подвал, проверили содержимое и количество, прикинули, что этого запаса хватит заправить все автомашины и двигаться дальше. Пока шофера носили спирт и заправляли автомашины, бывшие тут солдаты побежали собирать разбредшихся трофейщиков другого типа - тех, кто в конце войны, не дотерпевши, стали печальными жертвами Венеры.
Спустился я в подвал длинный, темный. В дальней его половине, будто на вокзале, сидели люди - гражданские жертвы войны. Видно попрятались от бомбежек, от артобстрелов. Справа в углу луч фонарика выхватил полураздетую девушку в импровизированной постели, а рядом нашего разведчика, теперь фамилии его не помню, оправляющего свою одежду. За его постоянное мародерство его не любили все солдаты дивизиона. Он уже кончил свое дело.
- Хочешь? - спросил он меня, кивнув на девушку, и начал расхваливать ее прелести. Венгерка по жестам видимо поняла его предложения, ухватившись за его руку и, приникнув к нему, запричитала:
- Нинч! Нинч! Нинч! (нет, нет, нет), - в смысле - уж лучше один, чем кто-то еще, еще и еще...
О, война! До какого падения нравов ты доводишь людей?!
- Ну, ты и циник! - процедил я брезгливо. - Команда - сбор!
И пошел к выходу. Очень скоро я с удовольствием вспоминал свою брезгливость и выдержку, когда несколько солдат, в том числе и этот, были отправлены в медсанбат лечиться от гонореи.
Часа в четыре утра собрались все и, заправив машины, мы, наконец, двинулись дальше. Так долго ли, коротко ли ехали мы часов пять. Все управление дивизиона теперь, отправив обоз вперед двигаться самостоятельно, находилось здесь же, на автомашинах вместе с орудийными расчетами.
Моторы работали ровно, машины по асфальтированному шоссе катились без напряжения, но то ли спирт был неподходящим горючим для двигателей, только почему-то были частые короткие остановки. Шоферы, прогазовав двигатели, останавливались на обочине, выскакивали, открывали капоты машин, что-то там подкручивали, подсасывали, отсасывали и, прогазовав разок - другой, трогали дальше. Однако когда проехали мы изрядно, стала понятной причина столь частых остановок. Стало видно, что машины бегут как-то зигзагами, не сваливаясь в кюветы только потому, что дорога была широкая, и было достаточно места для выравнивания движения сначала к центру, а потом к следующему кювету. Шофера были все, как один под шафе. Остановив машину и сунув голову под капот, они из какого-то там краника делали глоток-другой спирта и ехали дальше.
Часам к одиннадцати въехали в какое-то село, и командир дивизиона остановил колонну. Но не для отдыха. А собрал около себя командиров батарей и командиров взводов, которые все ехали в кабинах, и давай их отчитывать за падение дисциплины, за опьянение шоферов во время движения колонны. И все это тут вот, сбоку колонны, метрах в двадцати от нашей машины, И тут, смотрим, какой-то шустрый солдатик из числа вечных трофейщиков, (и когда он успел выскочить из машины, когда команды на это не было), из соседнего двора катит бочонок с вином. Катить приходится в гору, он ее никак не одолеет, и надо же ему было крикнуть:
- Ну, чего сидите? Помогите же!
Командир дивизиона как обернулся - и сказать ничего не может. Онемел от возмущения. Он был белейший блондин, альбинос настоящий, так у него от возмущения не только лицо, даже голова стала красной. Выхватил пистолет - и к солдатику. Ну, думаю, не пальнул бы в охламона со злости. Но нет. Расстрелял он невинную бочку с вином, скомандовал:
- По машинам! - и мы поехали дальше.
Часам к пяти вечера остановились в каком-то венгерском селе. Недалеко впереди погромыхивал орудийными выстрелами и разрывами снарядов фронт. Высоко в небе прозвенел зудящим гулом мессер и отвалил в сторону фронта. Наши машины с орудиями на прицепах были замаскированы рядом с домами селения. Командира дивизиона, капитана Комарова вызвали в штаб полка. Дивизион отдыхал в ожидании ужина. Было тепло, тихо, с чистого вечернего неба теплым потоком лучилось солнце, окрашивая в красноватый цвет крыши домов, верхушки деревьев, сухие дудки кукурузных стеблей в огородах. Если бы не напоминал разрывами снарядов фронт, можно было бы забыть о войне.
Часа через два, когда солнце уже совсем клонилось к закату, вернулся из штаба полка капитан Комаров. Подъехал старшина с кухней. Готовились ужинать. Повар, как всегда, хотел первыми накормить командиров, но командир дивизиона распорядился подождать с ужином и срочно собрать командиров батарей и офицеров штаба, и вошел в дом. Батареи стояли рядом и минут через десять все собрались.
Капитан Комаров встал и тихо, было видно, что он взволнован, заговорил:
- Товарищи офицеры, я только что из штаба полка. У меня сегодня и радостный, и грустный день, - все насторожились, будто ожидая чего-то недоброго.
- Мне сегодня вручили майорские погоны, - он чуточку помолчал и продолжил, - и орден "Красного Знамени".
Вынув из кармана, он положил все это на стол. Вокруг загудел хор одобрения, поздравлений и доброй товарищеской шутки.
- Обмыть! Обмыть! - зашумели вокруг. - Чтобы не заржавело!
- Это еще не все, - продолжил теперь уже майор Комаров. - Мы с вами расстаемся.
Все молча ждали.
- Меня назначили начальником штаба полка.
Снова посыпались поздравления.
- С вами я прошел по Калининской, Смоленской области до Белоруссии. С вами мы сражались под Корсунь-Шевченковском, прошли по всей Украине, Молдавии, Румынии... Мне жаль расставаться с вами, и меня утешает только одно, что я буду не далеко от вас.
Все снова стали поздравлять его и высказывать удовлетворение тем, что именно из нашего дивизиона взяли офицера на повышение в должности,
- А кто же будет у нас? - спросил замполит. Он не мог быть претендентом, поэтому ему было легко задать этот вопрос.
- Я рекомендовал на должность командира дивизиона командира четвертой батареи капитана Водинского. Мое предложение было принято. Прошу начштаба подготовить документы о передаче командования. Потом мы поужинаем, и я должен отбыть в штаб полка. Ночью мы должны занять выделенный нам участок фронта.
Все встали. Капитан Водинский козырнул и смущенно стал принимать поздравления.
А через полчаса офицеры сидели за столом. Майорский орден бросили в большую алюминиевую кружку, налили ее полную водки и пустили по кругу, сопровождая ее добрыми пожеланиями.
Но разговор за столом как-то не клеился. Майор Комаров грустил. А может быть, уже думал о новой ответственности на новом месте. Это был боевой офицер. Он уже не один год был впереди, на НП, вместе с пехотным командованием, всегда на острие боев, А теперь - в штаб полка. Хоть это и не глубокий тыл - так, где-то километра полтора от передовой, но все-таки это уже тыл.
В сумерках он в сопровождении своего бывшего ординарца, вскочив в седло, рысью уехал в штаб полка. А дивизион в эту ночь бодрствовал. Часа через два штаб дивизиона вместе с батареями на мехтяге уже подошел к передовой. Началась кропотливая работа. Взвод управления вместе с новым командиром дивизиона пошел вперед к пехотным комбатам принимать участки фронта, батареи становились на огневые позиции, связисты потянули проводную связь на батареи, на НП комбатов и командира дивизиона. Началась подготовка данных для стрельбы батарей. Установилась связь со штабом полка, пошли запросы на артснабжение, на горючее, на продовольствие. Дивизион бодрствовал, чтобы утром начать бой.
Отдых, если можно назвать отдыхом ежедневные многокилометровые марши, продолжался всего двое суток. Не знаю, получила ли пехота пополнение, - к нам не пришло ни одного нового человека. Мы не успели даже организовать баню. Но все-таки двое суток мы отдыхали от боя, от выстрелов, разрывов снарядов, от необходимости бежать под огнем и устранять порывы связи, не выслушивать регулярные телефонные нарекания и в наш адрес, и в адрес командира дивизиона, бывшего в одном или почти в одном ряду с пехотой. В самый разгар боя обычно начинали накачивать сверху:
- Первого мне! - кричал из телефонной трубки голос командира полка Зайцева. - Где первый? Это ты, имярек?! Ты где должен быть сейчас? Ты должен быть уже в Н...а ты все сидишь на месте... ты что там курорт устроил? Где твои боги? Вперед! Вперед!
- Товарищ N.N., впереди машинки строчат, коробочки появились, карандаши подняться не могут. А у нас огурцы кончились, выбить нечем.
- Разговоры! Через два часа доложишь мне из N. Все!
На этом конце провода начинали ломать голову, как же выполнить приказ и сохранить жизни людей, победить малой кровью?
Малая кровь... Странное выражение, родившееся, наверное, в высоких штабах, где планировались боевые операции и где по-бухгалтерски хладнокровно подсчитывали число тех, кто должен погибнуть в ходе выполнения операции. Но вот и здесь, где каждого бойца знают в лицо, знают, что он может и чего не может - и здесь ломают голову над тем, как выполнить приказ и уже не хладнокровно, а с болью сердца - как же сохранить людей? Где хорошо знают, что для кого-то малая кровь - кровь вся без остатка... А на другом конце провода уже по другому адресу:
- Ты вчера Водинскому сколько огурцов отправил? Сколько?! Это же половина потребности. Не подвезли с армейского склада? Голову сниму, если через два часа огурцы не будут на месте! Все!
Так всю войну проводилась эта импровизированная, якобы шифровка, передававшаяся открытым текстом: огурцы - снаряды, минометы - самовары, танки - коробочки, карандаши-пехотинцы...
Карандаши... Почему-то вспомнился передний край в обороне, в Румынии, где мы стояли немного спустя, после перехода нашей государственной границы. Где мы так нахально, стоя с мензулой около траншеи своего переднего края, засекали передний край немцев. А внизу, в траншее, греясь на солнышке, сидел тоненький солдатик, совсем мальчик-карандашик по имени Кастусь (та ще и Юхтымович), как дополнил сидящий рядом старый усатый солдат, исполнявший, видимо, при этом мальчике-солдате роль ангела-хранителя до тех пор, пока самого его хранила солдатская судьба.
Я сам закончил войну мальчишкой, но сколько же силы и опыта я ощущал в себе тогда, глядя на этого мальчика, вынужденного воевать. Мальчика, еще не целованного, никого не любившего и никем не любимого, кроме матери. Дошел ли он до победы? Он и его ангел - хранитель усатый и старый солдат? Дошли ли они до победы? Или где-то в Карпатах или на Тисской равнине споткнулись, отдавая всю свою кровь в ту бездонную чашу - чашу "малой крови", которая все наполнялась, наполнялась и все никак не могла наполниться до самой, самой победы?..
Пехотинец-карандашик! Хвативши сполна своего фронтового лиха, побывавши с орудием и позади тебя, и впереди, и в одном с тобою ряду, повидавши всего, я склоняюсь перед твоим подвигом. И будь моя воля - я поставил бы тебе золотой памятник. Нет, не парадному, выгнувшему грудь и задравшему вверх подбородок. А уставшему тащить на себе войну, в разбитых ботинках, в обмотках, в шинели с захлюстанными грязью полами, измятой и пробитой, в мятой пилотке, которая и подушка в минутном отдыхе, и головной убор, и черпак для воды у очередной, отбитой у врага реки... Прими это мое признание, как безмерное уважение к тебе, пехотинец. Но то, что нет тебе золотого памятника, может быть и хорошо, потому что неизбежно нашлась бы какая-нибудь корыстолюбивая сволочь чубайсовской породы, не знающая что такое быть пехотинцем на войне, и посягнула бы на то, чтобы отколупнуть от тебя кусочек и "прихватизировать" для удовлетворения своих сует. Пусть уж твое безвестное имя питает вечный огонь народной памяти. Ведь все о войне знает только народ.
Шли тяжелые бои. Вырвавшись, наконец, из Карпат на оперативный простор в Тисскую долину, наши войска стремились развить скорость наступления. Но и немцы стремились использовать этот оперативный простор. По нескольку раз в день они переходили в контратаки, подкрепляя их танками и самоходными орудиями. Они всеми силами стремились остановить нас на реке Тисса, а еще лучше, не доходя до нее, оставив для себя плацдарм на ее левом берегу. Однако "славяне" с не меньшим упорством пробивались вперед. Это были уже не славяне сорок первого года, а обстрелянные, привыкшие переносить все трудности фронтовой жизни, уверенные в своей силе, в правоте своего дела, в неизбежной победе. Да и техника у нас была уже не сорок первого года. Не с одними трехлинейками да бутылками с зажигательной смесью мы были против немецких танков теперь. Советский народ, руководимый Коммунистической партией и И.В.Сталиным, сумел наладить на эвакуированных заводах массовое производство вооружения и обеспечить им фронт.
После нескольких дней упорных боев мы овладели городом Ньиредьхаза. Не имея больше за что зацепиться, немцы стали откатываться к Тиссе. Все эти дни капитан Водинский не уходил с наблюдательного пункта. Умело управляя огнем батарей своего дивизиона, он подавлял огневые точки противника, создавая возможность пехоте продвигаться вперед, ставил огневые заслоны перец контратакующей немецкой пехотой и танками. Батареи наши продвигались вслед за пехотой, часто меняли позиции, чтобы далеко не отрываться от пехоты и быть всегда готовыми к отражению танковых атак немцев.
Как-то, в первые же дни, мы очень скоро сработались с новым командиром дивизиона в оперативности перемены огневых позиций и ведении прицельного огня по целям, обнаруживаемым на НП. Велика роль была в этом нашей связи, которая работала очень слаженно и непрерывно.
Капитана Водинского я в основном узнал летом сорок четвертого года, когда мы были в обороне в Румынии и когда мы месяца два жили в землянке на наблюдательном пункте четвертой батареи. Он был веселый, общительный человек, корректный в обращении с подчиненными. Он никогда ни на кого не кричал. Но и никогда ни к кому не обращался с въедливым казенным "Вы", за которым часто скрывается ехидство и уверенность в возможности с высоты своего служебного положения подавить своего оппонента не правотой, не необходимостью, а именно своей властью. Когда он отдавал распоряжения, то выходило как-то, что это не он отдает распоряжение, а само дело, необходимость подводит к тому, чтобы он распорядился, а ты выполнил его приказ. И если посылал он кого, хоть в пекло, то выходило, что пройти через это пекло можешь только ты и никто другой. И тот, кто шел, всегда знал, что пославшие его, о нем тот час же не забыли, а помнят и будут делать все возможное, чтобы облегчить его участь до самого его возвращения, Внешне он всегда выглядел офицером в полном смысле этого слова. В любой обстановке был всегда умыт, побрит, подтянут, в начищенных сапогах и бодр. Как ему это удавалось? Не знаю. Был у него ординарцем наш дивизионный связист Халиков Абдунаби. Но он в основном выполнял свои связистские обязанности: дежурил у телефона, бегал на исправление телефонной линии, когда она рвалась от обстрелов, и очень редко отправлялся к командиру дивизиона по вызову. Кроме всего прочего, капитан Водинский был еще и красавец мужчина. Черноволосый, черноглазый, с чистым холеным лицом, которое часто светилось белозубой улыбкой, мастер рассказывать всевозможные смешные истории в лицах своим красивым баритоном - он был душой нашего управления дивизиона.
С командирами батарей у него остались прежние товарищеские отношения этому не мешала ни субординация, которая в общении с капитаном Водинским как-то не проявлялась, ни панибратство, на которое никто из его друзей подчиненных не покушался. Требовательность его была корректной, но, оставаясь корректным, он был достаточно требовательным.
В армии не принято обсуждать своих командиров, поэтому об ушедшем от нас в штаб полка майоре Комарове никто никогда не сказан ничего плохого. Но, наверное, все помнили, что он, будучи нашим командиром дивизиона, всегда оставался только командиром - в бою или на отдыхе, но никогда просто товарищем. Капитан Водинский для всех всегда был и тем и другим.
Дней через пять мы с боями подходили к Тиссе. Батареи наши стояли рядом с венгерским селом, названия которого я уже не помню. Командир дивизиона был на наблюдательном пункте на крыше одного из то ли складов, то ли бараков на левом берегу реки Тисса.
Ночью передовые отряды наших пехотинцев форсировали реку и вели бой за село Бай, расположенное за рекой, на ее правом берегу, расширяя плацдарм. Не имея возможности перекинуть через реку проводную связь, КП дивизиона, как и КП стрелкового полка, который мы поддерживали, оставались на левом берегу. Река была широкая метров 200-300, течение стремительное, поэтому никакой провод не выдержал бы мощного напора воды и порвался. Корректирование огня батарей велось на основе наблюдений только в пределах видимости.
Углубляясь в село, наша пехота натыкалась на пулеметные гнезда немцев, подавить которые было нечем. Связь с ней была только по рации, очень не надежная, очень не оперативная, поэтому артиллерия накрывала своим огнем только площадные участки по запросам пехотинцев по рации или сигнальными ракетами.
Бой был тяжелым, неравным. Немцы в течение всего дня контратаковали, пытаясь сбросить наши передовые отряды в реку. Однако саперы, вслед за пехотой под огнем немецкой артиллерии сумели устроить понтонный паром, ходивший от берега до берега по натянутому тросу и к вечеру на правый берег были переправлены кое-какие средства усиления: минометные батареи стрелковых батальонов и 45 мм пушки.
К вечеру, когда напряжение боя несколько поутихло, и раздавалась лишь спорадическая стрельба пулеметов, да время от времени немцы совершали артналеты по переправе и по подступам к переправе, командир дивизиона вызвал всех офицеров штаба к себе на наблюдательный пункт.
Осенние дни короткие, а ночки темные. Через полчаса, когда мы вышли из дома, где размещался штаб, нас окружила непроглядная чернота. Вышли от света, хоть и небольшого - от снарядных гильз с соляркой, в которых горели трепетным коптящим пламенем фитили, на черную сырую землю, под черное пасмурное небо. Минут пять постояли, чтобы немного попривыкнуть к темноте.
- Ну, Соболев, давай, Сусанин, веди! - изрек начштаба, гвардии капитан Кривенко, и мы пошли.
Надо сказать, за этот год я так привык, глядя на карту, видеть не карту, а представлять изображенную на ней местность, что мог в любое время суток выйти в заданную точку, где я никогда не был, как будто ходил по этому месту много раз.
И на этот раз, по бездорожью, прямо через поле, ориентируясь только по рельефу, да по чернеющему справа лесочку, я уверенно зашагал вперед. Следом Гвардия, замполит, парторг, командир взвода связи, фельдшер. До НП напрямую было километра два, но видимо в темноте мы шли не очень скоро, т.к. все время приходилось поджидать отстававшего замполита. Он был близорук, ходил всегда в очках и, наверное, в этой тьме, без дороги ему шагать, без опаски куда-нибудь свалиться, было трудно. Минут через сорок он, догоняя нас, когда мы его поджидали в очередной раз, спросил:
- А ты нас к немцам не заведешь?
- Метров через триста должны быть на месте, - ответил я.
- А ты тут был?
- Нет.
- А как же ты так уверенно заявляешь - через триста метров?
- Да вот, уже вроде постройки.
Действительно впереди на фоне серого неба зачернела крыша какого-то
длинного строения. Когда мы подходили, из барака вышел наш разведчик, Степа Даманский.
- Пойдемте сюда, - позвал он нас и повел по длинному неосвещенному бараку, кое-где натыкаясь на сидящих на полу солдат. - Командир дивизиона пошел на КП к пехоте, сказал подождать его здесь,
Мы постояли, потом, пооглядевшись, присели на пол, привалившись к стене барака. Было тихо, тепло. Слегка подремывалось. Разговаривали все почему-то вполголоса, это еще больше нагоняло сонливость. Вдруг раз за разом, сотрясая землю и стены, начали рваться тяжелые снаряды немцев. Легли они - было слышно - метрах в ста от нашего барака.
- По переправе бьют, - сказал кто-то.
Потом опять настала тишина, и опять стали смежаться глаза, но тут послышались шаги и голос капитана Водинского. Все встрепенулись и поднялись навстречу командиру дивизиона.
Разговор был недолгим. Неуютность обстановки и безотлагательность предстоящих дел не располагали к пространным разговорам. Командир дивизиона передавал командование здесь, на левом берегу, и организацию переправы дивизиона начальнику штаба дивизиона гвардии капитану Кривенко. Сам он с разведчиками и радистом уходил на тот берег. Ночью готовилась атака по расширению плацдарма. По расчетам командования ночной бой силами одной лишь пехоты без средств артиллерийского усиления мог дать больший успех.
Командир дивизиона и командиры батарей уходили с пехотой, имея связь со штабом дивизиона по рации. В дивизионе было всего две рации, громоздких, тяжелых, с малым радиусом действия, да и то только на НП дивизиона и в штабе. От штаба дивизиона к батареям шла проводная телефонная связь.
Было решено штаб дивизиона расположить здесь же, у переправы, и тотчас была отдана команда на реорганизацию связи и подтягиванию батарей к реке. Командир дивизиона сказал, что к утру саперы должны усилить паром понтонами большей грузоподъемности, на котором мы должны были переправить через Тиссу свои машины и орудия.
- Не утопите машины, - предупредил капитан, - и догоняйте меня,
И он назвал маршрут предстоящего движения. Потом постоял, докуривая папиросу и, обращаясь к командиру взвода разведки, старшему лейтенанту Гоненко, коротко скомандовал:
- Ну, разведка, берите рацию и пошли.
Вслед за ними к выходу пошли человек пять наших дивизионных разведчиков и радист. Было часов одиннадцать ночи, когда батареи подтянулись к реке и развернулись на огневых позициях, метрах в пятистах от штаба. Подготовили данные для стрельбы по районам возможного скопления сил противника, передали на батареи и стали ждать.
Разместившись кто где на полу (эти бараки-склады были совершенно пустые), все, кроме радиста и дежурного телефониста, погрузились в скоротечный солдатский фронтовой сон, который восстанавливал силы, если он продолжался несколько часов, но чаще длился много раз всего по несколько минут - сон на ходу - солдаты не страдали бессонницей.
Несколько раз немцы вели обстрел переправы и дороги из тяжелых орудий. Снаряды ложились близко, с раздирающим звуком рвались, сотрясалась земля и стены барака, все просыпались, прислушивались - не летят ли еще гостинцы от фрицев, и задремывали снова.
- С КП не вызывали еще? - спрашивал Гвардия радиста и, получив отрицательный ответ, задремывал тоже. Жаль было радиста. Его и подменить было некому. Были у него две помощницы, две радистки, две Шуры, но они были где-то "в командировке". Две дивчины лет от восемнадцати до двадцати - одна пониже - хохлушечка, другая повыше - русская. Не очень красивые, но и не дурнушки, они были в том возрасте, когда уже не гремят девчоночьи косточки, но еще и не обросли бабьим салом, когда стан их гибок и бугрится такими завлекающими формами, они были привлекательными и хорошо знали это.
Солдаты завидовали радисту, сержанту Махоткину. Он был комсоргом управления дивизиона. Завидовали его воображаемому интиму с Шурами. Но он был исключительно порядочным человеком. О случае, подтверждающем это, я расскажу намного ниже, если не забуду. На самом же деле ему приходилось таскать на себе рацию и такой же громоздкий ящик с питанием за троих, дежурить у рации за троих, правда, он мог получать и сто граммов фронтовых за троих, но он не пил. А Шуры редко когда жили неделю или две в дивизионе. Обычно звонили из штаба полка, приглашали командира дивизиона или начальника штаба Гвардию:
- Слушай, у тебя там две Шуры есть?! - не то вопрошал, не то утверждал тот конец провода.
- Есть-есть, я же знаю, - звонил вышестоящий начальник, но голосом таким панибратским, ведь с рыльца проглядывался пушок, и суть дела была сомнительно-щекотливой.
- Ты знаешь, у полковника - имярек, завтра день рождения. Ну, все-таки полковник и прочее... Как же без прекрасного пола? Как-то сухо будет, скучно. Ну, вот и хорошо, что понимаешь. Так ты присылай прямо сегодня. Ко мне, а я распоряжусь...
- Хм, твою мать, - ворчал Гвардия, отдавая трубку телефонисту. На лице его словно сполохи полярного сияния начинали играть самые разноречивые чувства, как у Джоконды.
Надо сказать, что никто из офицеров дивизиона с Шурами никакие шашни не заводил. Это было табу.
- Гажала! - кричал Гвардия, посерьезнев. - Ну-ка, позови мне этих... Шур, - заканчивал он уже тише. Те через какое-то время входили и вытягивались у порога, топорща совсем не солдатские груди. У Гвардии в какой-то скабрезной полуулыбке вытягивалась нижняя челюсть, глаза маслились, он и смущался, и в то же время как-то сверху вниз оглядывал их ладные молодые фигуры, перетянутые в талии ремнями. Наверное, он в это время завидовал тем на том конце провода, потому что они могли себе позволить то, что он не мог позволить себе.
- Вы это... Как там у вас рация? В порядке? - вопрошал он, сразу нахмурив брови, как бы пытаясь прихлопнуть ими грешные мысли.
- В порядку, товарищ гвардии капитан, - опережала с ответом более шустрая Шура - хохлушечка.
- Вы сейчас идите в штаб полка, к Ч-ву. Там получите распоряжение. Выполните задание - вернетесь. Сержанту я скажу.
Шуры делали налево кругом, представив взору Гвардии другие, не менее соблазнительные округлости, и удалялись.
В одной из таких "командировок" были они и теперь. И сержант-радист опять дежурил у рации за троих.
Часа в четыре утра все началось. На той стороне передний край и наш, и немцев не был оборудован инженерными сооружениями. Наши батальоны форсировали реку сходу, и на той стороне линия фронта в день по несколько раз меняла свои очертания, то удаляясь от реки, то возвращаясь к ней снова, В эту ночь наша пехота, скрыто подтянувшись к переднему краю немцев, без артподготовки, неожиданно для них пошла в атаку. Немцы, почуяв недоброе, застрочили из пулеметов и автоматов, поминутно палили вверх осветительными ракетами. Начала бить их артиллерия, но было уже поздно. Наши славяне ворвались на позиции немцев, перемешались с ними и погнали, не отставая до следующего села Чобай. что было километрах в трех от Бая. К рассвету немцы были выбиты и из Чобая.
Перед атакой радист принял короткое:
- Мы пошли, будьте на связи.
Для нас началось томительное ожидание. Уже никто не спал. Все ждали распоряжений оттуда. Но рация молчала.
Передний край полыхал осветительными ракетами, взрывами снарядов, трескотней автоматных очередей. Все поглядывали на радиста, тот время от времени подкручивал ручки настройки, но рация молчала - оттуда то усиливаясь, то затихая, наплывал только писк морзянки. Время от времени радист не выдерживал тягостного ожидания и вызывал сам:
- Резеда, резеда, резеда, я ромашка, ответь мне, прием.
Но резеда молчала. И только когда уже рассвело, оттуда далекий, временами пропадающий голос командира дивизиона несколько раз повторил:
- Ромашка, ромашка, я резеда. Ускорьте переправу. Ускорьте переправу... Огурцы... коробочек... прием.
Гвардия распорядился перенести связь к переправе, штабу переместиться туда же, снять одну батарею с позиций и начать переправу. Минут через двадцать мы были уже у парома и поджидали машины с гаубицами.
Паром был сооружен из двух спаренных понтонов, довольно внушительной величины, объединенных одним общим настилом из бруса и толстых досок. По концам понтонов у троса сидели человек двенадцать гражданских мадьяр - они были тягловой силой парома, да человека четыре солдат-саперов. Более мощные понтоны еще не подвозили, а солдаты-саперы, которые были на переправе, ничего не могли сказать о грузоподъемности парома. Видно было, что они новички и их оставили здесь присматривать за мобилизованными в соседнем селе мадьярами да за паромом.
Серая холодная Тисса несла свои стремительные воды. Жутковато было даже представить себя на ее средние в полном снаряжений без плавсредств! Гвардии капитан Кривенко в расстегнутой шинели, засунув руки в карманы, задумчиво смотрел на паром. Наверное, прикидывал - выдержит ли? На той стороне между тем передний край опять разразился грохотом разрывов - била немецкая артиллерия.
- Ну, что же, стой не стой, а нам надо на ту сторону, - сказал Гвардия и скомандовал:
- Отцепить орудие! Машину на паром!
Расчет быстро выполнил команду. Студебеккер стал медленно спускаться по крутому откосу на платформу парома. В кузове его, где ровно с бортами были нагружены ящики со снарядами, осталось человека четыре наших солдат. Машина медленно спустилась с кручи, рыкнула прогазовкой и, не останавливаясь, въехала на паром. Тот резко осел, когда на него еще не въехали задние колеса, понтоны черпанули серую воду, и весь паром вместе с машиной пошел на дно.
Глубина была большая у самого берега, машина скрылась полностью, от нее только чуть поблескивала верхушка кабины на уровне воды, а все солдаты и мадьяры, влекомые течением понеслись вниз по реке.
- Лодку, твою мать, лодку! - закричал Гвардия, но солдаты уже и без команды вскочили в нее и, огребая мимо мадьяр, начали подбирать сначала своих солдат, а уж потом только мадьяр.
К счастью, никто не утонул. Но переправы больше не было, а тревога за тех, кто впереди, возрастала. Там немцы пошли в атаку при поддержке нескольких танков. Наши стали снова откатываться назад от Чобая к Баю. Было слышно, как, то затихая, то усиливаясь, перестрелка приближается к реке.
- Гвардии капитана к рации! - закричал радист, но тот уже был рядом. Я подскочил к нему и развернул оперативную карту.
- Ромашка, ромашка! квадрат двадцать три семьдесят. Луг, луг. По тальвегу, дайте отсечный минут пять - десять! - неслось оттуда.
Гвардия слушал и тыкал в карту пальцем, опасаясь говорить, чтобы не упустить что-либо, но, увидев, что я почти приник к нему и тоже прослушиваю прием, коротко скомандовал:
- Слышал? Давай быстро!
- Товарищ гвардии капитан, цели номер девять, двенадцать, тринадцать уже переданы на батареи.
Гвардия выхватил трубку у телефониста:
- Батареям к бою! Четвертая - цель номер девять. Пятая - цель номер двенадцать, шестая-цель номер тринадцать, осколочным, интервал одна минута пять снарядов, огонь!
И тут рванули немецкие снаряды, перелетев метров сто пятьдесят дальше переправы. Залп! Другой! Телефон молчал. Гвардия дунул раза два в трубку глухо.
- На связь, бегом! - рыкнул он, но телефонист, почуяв, в чем дело, взяв провод в руку, бегом бежал по линии. Бесконечно долго тянулись минуты приняли ли там команду? Но вот тишина ожидания раскололась резкими залпами наших батарей, и им откликнулось далекое эхо разрывов. Все вздохнули свободнее - все-таки поддержка тем нашим, что на том берегу.
Еще не успели отстреляться батареи, как телефонная связь была восстановлена. Гвардия подошел к радисту, тот, глянув на него снизу вверх, сказал:
- Отбой.
Значит, атака немцев захлебнулась, но слышно было, что наши опять откатились на вчерашние позиции. Сзади послышался шум моторов, и к переправе подкатили машины с тяжелыми понтонами и танковый тягач - подъехали саперы. Выскочивший из машины старший лейтенант, увидев затопленный паром, стал было выяснять:
- Какой это головотяп загнал на него машину?
Но подошедший от танкового тягача майор спокойно и властно скомандовал:
- Отставить, старший лейтенант! - с минуту посмотрел на паром, на видневшуюся из-под воды крышу кабины, повернулся к гвардии капитану:
- Ваша машина?
- Наша.
- Всех ваших людей на помощь саперам, - и повернувшись к старшему лейтенанту, распорядился, - настил причала разобрать, сложить в стороне.
И опять к Гвардии:
- Подберите хорошего ныряльщика. Надо зацепить машину.
Наши солдаты с радостью включились в работу и стали растаскивать настил причала. Еще бы! Такая удача! Танковый тягач сейчас мигом вытащит машину!
- Кто умеет плавать? Кто зацепит машину? Добровольцы есть? - спросил Гвардия, оглядывая окружающих солдат.
Вперед выступил маленький курносенький мужичок - сержант Тарасов, архангельский, северянин, наш командир отделения связи.
- А што не зацепить? Это можно... Я, паря, когда-то плотогонил. Всяко бывало. Только бы потом, - хитровато улыбнулся он, глядя на Гвардию.
- Нальем, нальем! - засмеялся Гвардия. - Вот, твою, Тарасов, - покрутил он головой, восхищаясь не то решимостью, не то находчивостью Тарасова.
- Старшина! Давай сюда ИЗ! Тут такое дело - свой водолаз!
Работа спорилась. Уже рычал тягач, подкатывая к берегу, с зацепленным на крюк концом троса. Тарасов, раздевшись донага, ухватившись рукой за трос, а ладошкой другой руки стыдливо прикрывая срам, подходил к свинцово - серой воде. Его белое, без малейшего загара, тело странно выделялось среди солдатских шинелей. Солдаты, окружавшие его, подшучивая, гоготали, давали советы, как ловчее зацепиться.
- Смотри, не отморозь! - крикнул кто-то.
- Поди, поди! А то сам полезешь, - огрызнулся Тарасов и ушел под воду. Но его тут же выбросило левее машины - течение было сильным, а трос тяжелым. Вместе с тросом солдаты выхватили Тарасова на берег. Тело его стало ярко красным. Солдаты перестали гоготать - было не до шуток. Вторая попытка кончилась тем же. Его опять выдернули на берег. Кто-то заботливо стал растирать Тарасова полотенцем. Отдышавшись, Тарасов в третий раз ушел в воду с упреждением - и пропал. Нет его и нет.
- Уж не затянуло ли куда, - усомнился кто-то. Какой - тo солдатик хотел потянуть за трос.
- Не трог! - хором закричали на него.
И тут из воды вынырнул Тарасов и в размашку подплыл к берегу. Трос был зацеплен. Гвардия сам налил ему полную кружку водки и он, не одеваясь, перелил ее в себя, делая гулкие глотки. Потом, не спеша, пошел одеваться, уже не прикрываясь ладошкой.
Тягач медленно, на малой скорости натянул трос, верх кабины Студебеккера дрогнул, и машина плавно вышла, отекая струями воды из кузова.
- Ура! - невольно вырвалось у всех.
- Отставить! - скомандовал майор. - Веселиться будем потом. Все на сборку причала!
Саперы, между тем, зацепили подплывший паром и стали подтягивать его к берегу, чтобы заменить на более мощный. Часа в три новый паром был готов, и где-то примерно в течение часа была переправлена на правый берег четвертая пушечная батарея вместе с машинами.
Гвардии капитан Кривенко приказал командиру огневого взвода двигаться вперед и устанавливать связь с командиром батареи или командиром дивизиона. Штаб дивизиона оставался на переправе. Пятая батарея, снявшись с огневой позиции, подкатывала к переправе, когда на той стороне четверка, вытянувшись колонной, уходила навстречу нарастающему грохоту боя.
В воронке от тяжелого снаряда лежали командир дивизиона капитан Водинский, командир пехотного батальона и командир взвода разведки старший лейтенант Гоненко. Приподняв головы над краем воронки, они наблюдали за передним краем, проходившим метрах в ста впереди. Собственно, переднего края не было. Там залегла выбитая немцами из Чобая жиденькая цепь наших пехотинцев. Уж трижды за эти сутки они продвигались от Бая, выбивали немцев из Чобая и трижды под напором превосходящих сил немцев, стремившихся ликвидировать плацдарм, отходили назад. Сейчас была передышка. Комбат выяснял через связных у ротных потери, наличие сил и боеприпасов для очередной атаки. Справа и слева, в неглубоких ровиках, оставленных немцами, лежали наши разведчики. Сил было мало. Боеприпасов тоже. Двенадцать часов почти непрерывного боя, эти марши под огнем то от Бая к Чобаю, то от Чобая назад не обошлись без потерь.
- Где же твои пушки, Миша? - спросил комбат, обращаясь к командиру дивизиона. Они давно уже идут вместе по фронтовым дорогам, не раз хлебали общее лихо, одного возраста (им было всего по двадцать два года), они уже давно были боевыми друзьями. И хотя дивизион на этот раз был придан батальону, комбат понимал, что все эти артиллеристы, лежащие рядом, взводы управления дивизиона и батарей, пожалуй, уже превосходили по численности его стрелковые роты - и они вместе с пехотинцами ходили в атаку и отбивали контратаки врага. Мог ли он сейчас от командира дивизиона требовать большего?
- Где же твои пушки, Миша? - опять спросил комбат.
Капитан Водинский молчал. Что он мог ответить? Тяжелая техника - это не пехота, на лодке не переправишь. Он уже знал о затопленном пароме вместе с машиной. Немцы усилили обстрел. Начала бить их артиллерия, зашевелились пехотинцы.
- Товарищ капитан, сухарик бросить? А то сейчас опять будем драпать, силы не будет, - крикнул из соседнего ровика разведчик Степа Даманский. Он был в разведке еще с западного фронта и мог позволить себе подтрунивание над собой.
- Кидай!
- Товарищ капитан, второй на связи, - крикнул сидевший на дне воронки радист.
- Давай! - капитан приник к наушникам.
- Резеда, резеда! Четверка пошла к вам. Машину вытащили. Остальные сняли. Остальные на колесах. Как поняли? Я ромашка, прием.
- Ромашка. Все понял. Спасибо, Гвардия!
- Все, - крикнул капитан, повеселев, и отдал наушники радисту, Даманский, возьми свой сухарь, ужинать будем в Чобае. А сейчас живо на дорогу, встретишь четвертую батарею. Поставь ее на прямую наводку вон за той рощицей, - указал он влево на лежащую метрах в трехстах сзади чахленькую рощу.
- И связь ко мне! Быстро!
Даманский, подхватив автомат в руку, короткими перебежками привычно побежал по простреливаемому полю. А немцы тем временем, усилив артобстрел, снова поднялись в контратаку.
- Ну вот, Миша, - съязвил комбат, - и в Чобай ходить не надо. Немцы сами к нам на ужин прут. Но где же твои боги, капитан?
Сзади зачокали наши минометы. Разрывы султанчиками стали ложиться перед цепью немцев. Те ускорили темп. Короткими перебежками стали приближаться к нашей пехоте. Артиллерия немцев перенесла огонь вглубь, и снаряды стали рваться вокруг. Наша пехота, тоже отстреливаясь, короткими перебежками стала откатываться назад. Серия снарядов с воем пронеслась над головой и грохнула совсем рядом сзади. Разведчики короткими очередями строчили из автоматов по приближающимся немцам.
- Ну, что, бог войны? Придется нам опять поразмяться до того лужка. Суеверные люди в таких случаях дают обет. Ты какой дашь, Миша? - прокричал комбат, поднимаясь из воронки, но тут же упал. Рядом грохнул снаряд. Их закидало комьями земли, резко запахло сгоревшим тротилом. Вскочив снова, он закричал:
- Держись, славяне! Бей фашистов! Заманивай гадов! - и, пригибаясь, побежал назад.
- Так я не расслышал, Миша, какой обет даешь? - обратился он к Водинскому, когда они упали рядом.
- Если останусь жив, то в Чобае... - он тяжело передохнул, - первую же мадьярку от шестнадцати до шестидесяти... вылюблю до дна...
- Неплохой обет, - хохотнул подползший сзади командир взвода разведки.
- Ловлю на слове, капитан. Если будет шестьдесят - возьми фотокарточку. Покажешь, - сказал комбат и придержал за рукав Водинского - Твои? - указал он рукой в сторону рощицы, пространство за которой стало просматриваться отсюда. Там веером разворачивались машины, вокруг которых бегали артиллеристы.
- Ну, все, Миша, больше я с тобой окоп не делю. Мы здесь - ни шагу назад. Подпустим их, а ты дай им во фланг, как ты это умеешь...
Коротко пожав руку Водинскому, комбат побежал вправо по фронту останавливать свою пехоту, которая, отстреливаясь, отходила назад.
Водинский тем временем ложком, не останавливаясь, бежал к батарее. Сердце его колотилось не столько от физического напряжения, сколько от нарастающей ярости, от сознания силы, заложенной в стволах его орудий. Серо-зеленая цепь немецкой пехоты, извиваясь по полю, быстрым шагом спускалась к ложку, в котором залегла наша пехота.
Командир взвода уже начал подавать команду орудиям, когда увидел подбегавшего командира дивизиона.
- Товарищ капитан, - начал докладывать он.
- Батарея, слушай мою команду! - крикнул капитан, на ходу пожав руку взводному. - Прямой наводкой, взрыватель осколочный, прицел... Огонь! Беглым, огонь!
Наводчики рванули шнуры с силой, будто они били наотмашь фашистов. Удар во фланг был для немцев таким неожиданным, ошеломляющим и таким результативным, что немногим из их цепи удалось уйти. Наша пехота, подхваченная командой комбата, с криками "Ура!" с новой, откуда-то взявшейся силой, стремительно бежала вперед. Чобай был наш. На этот раз окончательно.
К вечеру весь дивизион был в Чобае. Батареи заняли огневые позиции. Разведчики ушли с пехотой вперед. Капитан Водинский остался в штабе дивизиона, чтобы привести себя в порядок. В окно заглядывало предзакатное солнце, когда офицеры штаба уселись в горнице за круглым столом поужинать. В передней разместились мы, солдаты: дежурный телефонист, линейные связисты и наша малочисленная вычислительная команда. Дверь в горницу была распахнута настежь, через нее то и дело сновала туда и назад принаряженная хозяйка мадьярка лет тридцати пяти, довольно стройная и миловидная.
Из горницы доносились опьяняющие запахи горячего мяса и вина, слышалась веселая беседа офицеров. Настроение после тяжелых боев было приподнятое еще бы, все трудности по форсированию реки и борьбы за плацдарм позади, а в дивизионе нет потерь.
Когда офицеры выпили по чарке вина и утолили первый голод, налили по второй, и кто-то уже собирался сказать тост, но тут командир взвода разведки, старший лейтенант Гоненко повернулся к капитану Водинскому, который был уже чист, побрит и свеж.
- Товарищ капитан, а как же обет?
Все повернули головы и смотрели на своего командира, ничего не понимая. Капитан поставил фужер, улыбнулся, молча встал из-за стола и, проходя мимо хозяйки, дотронулся до ее плеча и все с той же улыбкой кивнул ей головой, как бы приглашая ее за собой. Она пошла за ним, не понимая еще, что от нее хотят.
Когда, хлопнув, закрылась входная дверь, все загалдели, обращаясь к старшему лейтенанту:
- Что за обет?
- Что такое?
- Расскажите нам, - подытожил замполит. Старший лейтенант поднял свой фужер.
- Давайте лучше выпьем за здоровье капитана, а расскажет он вам сам.
Все выпили и сидели с загадочными улыбками, думая каждый о своем. Через какое-то время зашел капитан и сел на свое место, все так же улыбаясь. Глаза его озорно светились. Хозяйка прошла на кухню, на ходу оглядев себя в зеркало и поправляя волосы, чтобы продолжить обслуживать господ офицеров, щеки ее горели, глаза лучились каким-то сиянием.
- Ну, так что, - повернулся к капитану замполит, взглядывая на него через очки.
- Там, на чердаке, - сказал, улыбаясь, капитан, выпив и зажевывая каждое слово, - куча овса...
Замполит, все еще не понимая, сидел с вытянутым лицом и смотрел на капитана:
- Ну...
- Ну, когда она встала, я ее отряхнул...
- А она? - осклабился более догадливый Гвардия.
- А она обняла меня и поцеловала. Вот и все.
- Твою мать! - Гвардия хлопнул себя по колену и довольно засмеялся.
- А при чем тут обет? - не унимался замполит.
- Расскажи им старший лейтенант.
- Когда фрицы четвертый раз за день, - начал улыбаясь, старший лейтенант, - гнали нас от Чобая к Баю, поливая из автоматов и обкладывая снарядами, капитан дал клятву - если выживет, то первая же попавшаяся на глаза женщина от шестнадцати до шестидесяти лет будет его. Вот и все, закончил он и пожал плечами, мол, что тут такого? Ужин продолжался.
Скоро и нам старшина привез ужин. И мы, зажав котелки меж колен, приступили к трапезе. После чего, выставив пост, все легли отдыхать. Ночь прошла спокойно. А на рассвете мы снова пошли вперед.
Наступление наше развивалось успешно. Каждый день мы отодвигали немцев на 15-20 километров. На нашем пути был город Мишкольц - крупный промышленный центр Венгрии и узел дорог. Но на пути к нему было несколько значительных притоков реки Тисса, которые хотя и не были заранее укреплены долговременными оборонительными сооружениями, но и при наличии быстровозводимых укреплений создавали дополнительные препятствия для наших войск. Поэтому продвижение за день с боями на 15 километров считалось достаточно успешным.
Через пару дней после Тиссы мы заняли пристанционное село, название которого я уже забыл. На станции был захвачен эшелон с армейским снаряжением немцев. Все трофеи при подходе тыловых частей брались на учет, но те, кто впереди, кто идет на острие боев, успевают произвести свою ревизию трофеям и снять сливки.
Наш, свободный от дел солдатик, съездил на повозке на станцию и привез кое-чего. Там были немецкие офицерские шинели на меху, французское вино, шоколад, консервы, коньяк... Шинели нам были совсем ни к чему - никому не нужна была фрицевская шкура, а вот вином, шоколадом и прочим съестным мы тоже подзапаслись.
Дело было к вечеру, когда солдаты враждующих армий устают за день боев и начинают постреливать друг в друга все реже и реже, готовясь к ночному отдыху. Как всегда после марша, батареи были расставлены на огневые позиции, штаб дивизиона разместился в одном из домов на магистральной улице на выходе из села, протянута телефонная связь, получены все распоряжения от командира дивизиона по телефону, сам он оставался на ночь на КП стрелкового полка; подготовлены данные для стрельбы и переданы на батареи, все утряслось и расположилось в готовности после ночного отдыха снова начать бой.
Офицеры разместились вокруг стола на ужин. Но нам - то, солдатикам, хотелось отметить захват эшелона трофейным вином и шоколадом. Но открывать бутылки с вином перед офицерами и пить хотя бы в небольшой дозе, но превышающей те, положенные сто грамм, которые ежедневно выдавали солдату на фронте - это было бы уже нарушением воинской дисциплины. Этого наши отцы-командиры нам позволить не могли. Поэтому надо было как-то оторваться с глаз долой. Но как? Даже если нет никаких дел - но ведь война, и дела могут появиться каждую минуту. Поэтому солдат должен все время крутиться перед командиром и своей выправкой, готовностью выполнить любую работу в любое время - радовать его командирское око.
Воспользовавшись тем, что офицерские очи были заняты созерцанием расставленных перед ними вина и пищи, а органы, обычно изрыгающие команды, пережевыванием ужина, писарь Сорокин присмотрел через дорогу свободный домик, прибежал назад и мы, шепнув дежурному телефонисту адрес нашей передислокации, прихватив еще Чернецкого с трофейным вином и продуктами, тенью промелькнули в двери.
В доме была бабка, две молодухи лет от двадцати до тридцати, и девушка, скорее девочка, только что выскочившая из отроческого возраста. Сорокин, коверкая язык (как будто от этого он был более понятным), стал представляться. Назвал себя моряком с Балтики, меня поляком Стефаном, Чернецкого еще как-то. Старуха только кивала головой и с бессмысленной улыбкой тянула:
- А-а-а....
Снабдив старуху консервами и шоколадом, нагрузив ее еще бутылкой вина, выпроводили ее, довольную, на кухню. Быстро организовали стол, поужинали. Ну, конечно же, с дамами! Нашелся патефон с пластинками. Наши хозяюшки хотели, было организовать танцы. Но Сорокин, хорошо поддавший, замахал руками:
- Нет! Нет! Найн! Закрывай этот музыка... Давай спать.
Сбежавши на полчасика, мы уже решили здесь и переночевать. Обстановка была завлекающая. Нас было мало и не надо было прятать на ночь голову под стол или под лавку, чтобы на нее не наступили. Тишина. Полумрак. Колеблющееся пламя трофейных плошек играло бликами на черных очах юных мадьярок, которые приняли нас весьма благосклонно. Мои соратники присоединились к тем, что постарше, а мне, зеленому, зеленое и досталось. Но я был не в обиде и принялся ухаживать, как только умел в ту пору, за этой милой отроковицей. Кого-то уже не устраивал этот интимный полумрак, кто-то задул плошки и уже устраивался на разбросанной на полу постели.
Я-то знал, что Гвардия без меня скоро заскучает. Надо было бежать. Но так хорошо, так уютно было сидеть на диване рядом с этой девочкой, обняв ее и прощупывая тоненькие, податливые ребрышки. Что-то шептать ей на ушко, пьянея от запаха ее волос, от прикосновения к атласной коже...
Но в эту пору офицеры закончили ужин, перекурили, сдобрили ужин дюжиной анекдотов и предавались приятному перевариванию пищи. В уголку с привязанной к голове телефонной трубкой подремывал дежурный телефонист, в то же время прослушивая все, что говорилось по телефону и вокруг. Зазуммерил аппарат, и к телефону пригласили начштаба гвардии капитана Кривенко. Командир дивизиона распорядился подготовить данные для стрельбы батареям и сделать артналет по районам возможного скопления противника. Видимо снарядов было в достатке.
- Соболев, - позвал Гвардия спокойно. Он еще не отошел от благостного состояния после вина и вкусного ужина. Ответа не последовало. Гвардия недоуменно оглянулся. Кроме дежурного телефониста из солдатиков никого не было.
- Твою мать! А где это они?
Телефонист, видя, что за нами послать некого, попросил разрешения сбегать за нами.
- А где они? - возвысил голос Гвардия.
- Да тут... через дорогу, - замялся телефонист.
- Сиди, я сам.
Гвардия направился к выходу. К нему присоединился замполит.
...Рука скользила, лаская, по тонкой ткани, ощущая под ней горячее, трепетное юное тельце, сбежала вниз и, ошалев, заскользила по атласно-гладеньким коленочкам, инстинктивно разыскивая дорогу в опаляющее жаром лоно... Но скрипнула дверь, и ночной мрак разрезал луч фонарика, зашарил по столу, уставленному бутылками, консервными банками и прочей снедью. Мадьярки тем временем, шмыгнули в соседнюю комнату.
- Что здесь происходит? - ехидно спросил замполит Миронов.
Наверное, каждый из нас подумал: "Зануда, будто сам не видит, что тут происходит".
- Соболев, быстро! Работа есть, - хмуро буркнул Гвардия. - Закрывайте тут... эту, твою мать, лавочку.
Я был исполнительным служакой и быстро вышел вон, в душе проклиная свою солдатскую судьбу, которой всегда везде и все "не положено". Гвардия вышел следом.
- Твою мать, гусары! - усмехнулся Гвардия, вытаскивая карту из планшетки.
- Вот сюда, сюда и сюда. Подготовь данные и передай на батареи.
Гвардия подошел к кровати и стал устраиваться на ночлег. Я занялся работой, когда вошли мои соратники следом за замполитом. Все были смущены, унижены и злы. Еще бы, помидоры-то у всех, наверное, были квадратные...
В другой обстановке Гвардия, наверное, спустил бы на нас полкана. Но в данной ситуации он, наверное, не захотел, чтобы замполит раздул это дело, которое могло бросить тень и на него. И он, наверное, так же не любил замполита, как и все в дивизионе.
Был у нас в дивизионе парторг лейтенант Козин. Так он перед каждым трудным боем мотался по батареям, проводил беседы, "поднимал" дух солдат, хотя в, этом никакой нужды и не было, он и так был на должной высоте. Но все равно, все видели, что парторг всегда и везде вместе со всеми, за что и уважали его солдаты. Но никому не было понятно, для чего существует у нас при штабе замполит - этот маленький щупленький старший лейтенант в очках. Он пил, ел из армейского котла, курил, носил армейскую форму и погоны старшего лейтенанта, он жил среди солдат и офицеров, ведущих каждый свою работу, но какую работу выполнял он - никому не было видно. Если бы можно было усомниться в монолитности настроения солдат и офицеров дивизиона, то можно было бы подумать, что он существует, для написания доносов. Но доносить у нас было не на кого, поэтому, наверное, писания его назывались политдонесениями.
Я подготовил данные, взял трубку у телефониста и передал их на батареи. Потихоньку все угомонились кто где. Спали или не спали, но все молчали, никто ни о чем не говорил. Мне тоже долго не спалось. Нервы были возбуждены необычными и непривычными ощущениями, неведомыми раньше. Разбросив шинель в углу комнаты, подложив под голову тощий рюкзак, не разуваясь, я лежал с закрытыми глазами и вспоминал все то ли вольные, то ли невольные обиды, нанесённые "господами" офицерами. Загораживаясь от света лампы, я положил руку на глаза. От нее еще исходил едва уловимый аромат недавних прикосновений. Что это? Запах солнца? Лета? Цветов? Или запах распускающейся, как цветок, юной женщины?
Хлестко ударили наши батареи беглым огнем, накрывая задремывающих немцев. Дребезжали стекла в окнах, вздрагивали стены и пол. Проснулся Гвардия:
- Что там? - спросил он у телефониста.
- Наши батареи стреляют.
Через несколько минут все стихло. Война, казалось, уснула до утра. Но где-то кто-то стоял на посту, дозорные всматривались в темноту ночи, разведчики ползли по нейтралке за языком, кто-то вез снаряды... Война задремала, только задремала.
После полуночи позвонили из штаба полка и, основываясь на разведданных, предупредили о возможной контратаке немцев с массированным применением танков. Предложили усилить противотанковую оборону. Тут же были сняты с огневых позиций пушечные батареи и выдвинуты вперед на прямую наводку. Только все это улеглось, закончилась передислокация, связисты перетянули связь на новые позиции, подъехал старшина с кухней. Еще затемно позавтракали. А на рассвете наши батареи начали вести огонь на подавление обнаруженных огневых точек противника. Начался контробстрел со стороны немцев. Хлестко и часто била наша артиллерия, все наращивая и наращивая интенсивность огня, пока все это не переросло в сплошной гул. Над головами с легким шелестом пролетали наши тяжелые снаряды. А навстречу им с воем или нарастающим свистом прилетали немецкие мины и снаряды, и то там, то здесь вразброс по селу рвались с тяжелым хрястом, словно близкий гром во время грозы.
Пошла вперед пехота, не отрываясь от огненного вала нашей артиллерии, перенесшей огонь в глубину обороны немцев. Бой нарастал. Однако наша сила стала пересиливать силу немцев, они стали отходить от реки, которую уже во многих местах перешла наша пехота вброд. К полудню поступила команда взять орудия на передки и продвигаться вперед. К вечеру мы вошли в город Мишкольц.
Мишкольц - большой город с многоэтажными каменными домами. Как оказалось потом, под городом оказался еще один подземный город из бесконечных подвалов. Этот город можно было оборонять долго, но видимо нашими соседями западнее обрезались пути отхода немцам и они вынуждены были бежать, чтобы не попасть в мешок.
Мы остановились на окраине. Рядом возвышался большой увал, заворачивающийся дальше к югу и востоку вдоль реки Шайо. Вдоль всего подножия увала в гору были пробиты штольни, входы в которые закрывались мощными дубовыми воротами. Одна из штолен была открыта, и у входа в нее стоял мадьяр со стеклянной трубкой через плечо, заканчивающейся наверху большой колбой, в виде булавы, емкостью литра на два-три. Мадьяр, опустив трубку в бочку с вином, подсасывал вино в колбу, а когда она наполнялась, перекидывал колбу через плечо, словно карабин, заткнув нижнее отверстиe пальцем.
- Тэшшек, тэшшек, камрад! - предлагал он нашим солдатам. Солдаты подставляли кружки или котелки, мадьяр убирал палец, и вино с шумом переливалось в подставленную посуду. Мудрый мадьяр. Так у него будет меньше урона. Выпьют у него солдаты маленький бочонок, а все остальное останется ему. Мне вспомнилось, как в Румынии, когда мы вошли в город Ботошани, в винном подвале солдаты "угощались" сами, простреливая чаны с вином со всех сторон для того только, чтобы наполнить котелок.
Мы вошли в штольню, чтобы посмотреть, как там все устроено. Высота ее была метра четыре - пять, потолок арочный. И потолок и стены ничем не армированы, просто обтесан грунт. В глубину горы она уходила метров на двести. И вдоль всей стояли, вернее, лежали, огромные дубовые бочки-цистерны с вином. Кое-где лежали и небольшие бочата. Везде чисто, ничего лишнего, никакого хлама, как это бывает у нас, в наших погребах и сараях, где обычно скапливается всякий ненужный хлам, пришедший в негодность, но хранимый авось-либо пригодится.
Мы вышли, удовлетворив свое любопытство.
- Тэшшек! (Пожалуйста, прошу), - предложил опять мадьяр. Но мы отказались
Было сыровато, прохладно, даже в шинелях, как-то неуютно, зябко. Пришла настоящая осень... Мы стояли около какого-то серого здания, холодного и безлюдного, и ждали команды двигаться вперед. Скорее бы!
Не любил я города на пути нашего наступления. Как-то в них было голодновато. И хотя нам было достаточно того, что привозил старшина, но в селе всегда было что-то, чем можно было полакомиться - там всюду были свежие фрукты, овощи, иногда свежее молоко, и, занявши какой-нибудь двор для ночлега, мы чувствовали в нем себя будто дома.
К вечеру мы выступили вперед догонять свою пехоту. Перед этим я сбегал в штаб полка и получил топографические карты для своего дивизиона на дальнейшее продвижение. Впереди была граница Чехословакии.
Прощайте, мадьярки!
Привет, славяне!
По Чехословакии
Где-то после двухдневных переходов с боями мы пересекли границу Чехословакии и, отвалив от речушки, вдоль которой мы продвигались, повернули на северо - запад, поднимаясь в Словацкие Рудные горы. Населенные пункты встречались не так часто, обычно в долинах, у речушек.
Выпал снег, склоны гор побелели, правда, кусты и деревья на фоне снега рябили серыми пятнами. Нашим солдатам, одетым в серые шинели, можно было маскироваться и без белых халатов. В эту пору с нами вместе против немцев вступила в бой и румынская армия. Видимо, все это время с августовского прорыва и капитуляции Румынии ее армия проходила, переформировку, чистку от профашистской прослойки в командном составе и комплектацию.
Не очень надеясь, как это представлялось нам, солдатам, на боеспособность румын, наше командование не выделяло им обширных участков фронта, а рассредоточивало их промеж наших войск, составлявших, таким образом, всегда надежный каркас.
Помнится первая встреча с румынскими воинами в первом же словацком селе. Подошли их полнокомплектные роты. Солдат много. Демократии в отношениях между солдатами и унтер-офицерами, а тем более офицерами никакой... На все распоряжения старших по чину румынские солдаты вытягивались, козыряли и щелкали каблуками.
В нашей армии на фронте солдаты и сержанты обращались примерно, как колхозник со своим бригадиром. В ответ на команду офицера еще могли козырнуть со словом "Есть!" и, крутнувшись, выполнять распоряжение, команды же сержантов выполнялись без всякого козыряния.
Пока старшие офицеры румын получали участки на передовой, чтобы занять их ночью, мы, раздобыв вина, общались с румынскими солдатами и унтерами, и испытывали некоторую неловкость, наблюдая, как тянутся их солдаты перед сержантами.
- Ты посмотри, - воскликнул наш связист Гажала, обращаясь к своему командиру отделения, сержанту Тарасову, - как они их вымуштровали! Во, буржуи!
- Ничо, паря, я тя тоже заставлю бегом бегать!
Сержант Тарасов расхорохорился. Наверное, он вспомнил, что при существующей у нас на фронте демократии (а я бы сказал уважении к личности бойца), его подчиненные не то, чтобы отказывались выполнять приказание такого никогда не бывало - но, получив его не от офицера, а от сержанта, вместо немедленного и беспрекословного выполнения, убежденные, что ум хорошо, а два лучше, могли ответить:
- Слухай, сержант, а может вот так лучше?
Сержант хмурился, но, чувствуя, что солдат действительно говорит дело, ответствовал:
- Ну, если лучше, то давай так...Только быстро, так твою! присовокуплял он и свою командирскую лепту к принятому решению.
К вечеру румыны ушли. Только за нашим двором развернулась их батарея из четырех короткоствольных пушек какого-то музейного вида. А на рассвете начался бой. Начала бить наша артиллерия и артиллерия румын.
- Уна мина фок! - кричал румынский офицер, взмахивая рукой. Наводчики дергали за шнуры, пушки подпрыгивали, изрыгая снаряды, огонь и сизый дым. Наши солдаты повеселели: все-таки какая ни есть, а все подмога. Не все же нам одним бить фашистов. Союзники-подлюги открывать второй фронт все еще не помышляют, так, слава богу, что хоть румыны присоединились к нам и теперь в одном строю с нами вступили в бой.
Боевое крещение румын прошло неудачно для них. И хотя сорвали и погнали немцев, но к полудню, когда, взяв пушки на передки, мы двинулись вперед, нам открылась печальная картина - весь белый, покрытый снегом склон гор, был усеян трупами румынских солдат. В темно-зеленых шинелях они резко выделялись на снегу.
Наши солдаты за войну сделались если не стратегами, то великими тактиками. И врал Виктор Астафьев, когда писал, что мы своими трупами завалили немцев. Если наших погибло больше, то только в начале войны в силу ее внезапности, за счет большого числа окруженных, а так же гибели мирных людей в немецкой оккупации. Последние годы войны мы воевали малым числом. Да, мы не жалели себя, но цель у нас была великая - победа и полный разгром фашистов. Вот и здесь, пересиливая шум мотора, начали они излагать "Науку побеждать".
- Мать, моя! Сколько их навалили! Это што ж они так кучей перли?
- Та их же ж много! У нашей пехоте в роте двадцать солдат, а у их, мабуть, двести.
- А шинели у их яки тэмни. Их же ж видно, як на ладони.
- Ничо, вот повыбьют их маленько и научатся воевать! Нас в начале войны тоже было много, и голов клали много.
- Всёдно жалко. Воны таки еж, як мы...
Мы отъехали от поля боя. Погибшие солдаты скрылись из виду. Переменилась и тема разговора. Все это были старые солдаты (хотя многим было не больше двадцати), за годы войны повидавшие всякого, поэтому увиденное не могло надолго потрясти их. Война и смерть - родные сестры. И обе они были перед нашими глазами уже много, много дней.
К вечеру мы заняли словацкий городок Рожнява и, не останавливаясь, стали продвигаться в горы. Однако часам к десяти вечера остановились в небольшом хуторке. Жители были рады нашему приходу. Хуторок состоял всего из десятка домиков, приютившихся в узкой лощине, по обе стороны которой вздымались покрытые хвойным лесом горы. Собрался импровизированный оркестр: скрипка, виолончель, контрабас и барабан. Музыканты всю ночь напролет играли, развлекая нас и людей, собравшихся из соседних домов. С ними было легко общаться - это были славяне. Они говорили на своем языке, мы - на своем, но и мы, и они понимали друг друга. Некоторые из них оказались партизанами или связными партизан и рассказывали нам о своих боевых делах.
На рассвете нас повернули назад, на Рожняву, а оттуда мы пошли на юг, вдоль реки в обход Словацких Рудных гор или во всяком случае, по проложенным в них дорогам.
Вот уже вторую неделю мы продвигаемся по Чехословакии, легко взламывая оборону немцев, наспех устраиваемую каждую ночь на нашем пути. Заняли провинциальный словацкий городок Римавска Собота, прошли его маршем и, не останавливаясь, стали углубляться в горы. В зоне нашего продвижения сходились хребты Словацких Рудных гор и Малых Татр, создавая сплошной горный массив. поднимавшийся все выше и выше. Однако колонна наша по улучшенной гравием и щебенкой дороге, на значительных участках асфальтированной, шла непрерывно, только вспоминая заторы у взорванных мостов по полям Смоленщины и украинскому чернозему. Здесь дороги были добротными, благо, что строительный камень был тут же, рядом - все горы были сложены из него.
Остановки наши бывали обычно в конце дня, у какого-нибудь придорожного села, где немцы пытались нас остановить. Завязывался бой, колонны разворачивались в боевые порядки, батареи занимали огневые позиции. На немцев обрушивался шквал огня, их выбивали из села и, занявши его, славяне располагались в нем на ночлег, оставляя немцев впереди себя на высотах, давая им возможность закрепиться до утра.
Все роды войск из всех эшелонов набивались в село. Здесь перемешивались все: взводы управления с орудийными расчетами, разведка с обозами, танкисты и артиллеристы, пехота и снабженцы, дивизионы "Катюш" и полковые санчасти.
Пусть немцы закрепляются до утра. Утром мы их выбьем. Утро вечера мудренее, а пока надо дать отдохнуть и войне. Посчитать живых и мертвых, пополнить продовольствие и боеприпасы, заправить автомашины горючим, приготовить ужин, пообщаться с населением. А оно всегда готово пойти навстречу. Славяне, положив ласковый взгляд на молодух, приглашали их помочь побыстрее приготовить солдатский ужин. В помощи они, конечно, не нуждались и со всем проворно справились бы сами. Но как приятно останавливать свои взгляды на этих ясноглазых славянках, на их статных фигурах, несущих в себе славянскую породу и западную культуру, слушать их распевный говор, а если будет удача, то и уединиться с ними где-нибудь в темном уголку, подальше от глаз армейского начальства и стерегущих глаз родителей. Не зря скоро и солдаты и словачки, посмеиваясь, напевали протяжно такой, якобы подслушанный ими диалог:
- Аничка!
- А но?
- Подь сэм.
- Пречо?
- Крумпли пуцуватъ.
- Ни, я боим. Там страшидло!
Что в переводе на наш означало бы:
- Анечка!
- Что?
- Пойдем со мной.
- Зачем?
- Картошку чистить.
- Нет, я боюсь. Там страшно!
А у самих глаза лучатся и губы растянуты улыбкой, и невозможно скрыть взаимную симпатию. Задержись фронт на день-другой, и рухнула бы такая ненадежная сдержанность Анечек, растаяли бы все эти "ни я боим", и очертя голову, нырнули бы и те и другие в самое, что ни на есть "страшидно", давая ростки обыкновенным человеческим историям без начала и конца, с одной только скоротечной серединой.
Но, слава богу, наутро мы снова пошли вперед, сбив немцев с их позиций, и оставляя Анечек лишь в своей памяти сердца. Так, все углубляясь в горы, мы прошли Панобанью, Лавинобаньго и через несколько дней заняли небольшое село Летва. Под вечер, когда уже начало подмораживать, когда сверху пролетал редкий снежок, когда солнце клонилось к западу, и готово было юркнуть за вершины гор, поднимаясь вверх, мы вошли в село. Дорога, войдя в него, поднималась вверх и метров через триста уже выходила из села, поднимаясь на перевал. На выходе, у дороги, на верхней окраине стояла церковь, а домики рассыпались вправо от дороги по склону горы, сбегая далеко вниз и вправо, в долину. У самой церкви нас остановили наши разведчики. За селом были немцы. Наш командир дивизиона устроил наблюдательный пункт на колокольне церкви. Тут же, у самой церковной ограды, в крайнем доме мы расположили наш штаб дивизиона. Батареи заняли огневые позиции, несколько отойдя назад. После первого же артналета немцев наш хозвзвод тоже был перемещен вниз, в заднюю часть села.
Видно немцы решили здесь оказать сопротивление и остановить нас, а возможно с гор, которые были впереди, они просматривали село, но только через полчаса они повторили свой артналет по дороге и церкви, выпустив более полусотни снарядов. В нашем доме жителей не было. Здесь, видно, жил гончар. Половину дома занимала гончарня со множеством горшков, кувшинов, чашек, корчаг всевозможных размеров и формы.
Наши офицеры, расположившиеся было в жилой половине дома, после третьего или четвёртого артналета немцев переместились в подвал, расположенный под домом. Командир дивизиона был здесь же, с нами. На колокольне оставался только дежурный разведчик и телефонист, все остальные спустились к нам.
Ночь прошла сравнительно спокойно, если не считать два-три артналета по нашему НП, расположенному на церкви, но прямых попаданий не было, снаряды рвались вокруг церкви и во дворах соседних домов.
Рано утром, когда подъехала наша кухня, два шальных снаряда рванули в нашем дворе с перелетом метров на сорок. Никого не зацепило. Но Сорокин, наш писарь, не захотел выходить из подвала даже за завтраком.
- Принесите мне, - просительно обратился он к проходившим солдатам.
Над ним решили подшутить и немного поиздеваться над его непроходимой трусостью. В гончарне выбрали новый глиняный ночной горшок, попросили повара влить в него порции три и подали Сорокину в подвальную дверь, откуда он протягивал руку.
- Держи, сержант, поправляйся, - крикнул, один.
- Ешь! А обстрел начнется - садись на него.
- А потом опять ешь. Ха-ха-ха.
Сорокин не обижался. Он сознавал свою трусость, с которой ничего не мог поделать, и широко улыбался на все солдатские шутки, довольный уже тем, что завтрак ему подали в подвал и не нужно выходить под обстрел.
Бой, начавшийся с утра и продолжавшийся весь день, не принес успеха. Пехота несла потери. По нашему НП немцы все время посылали серии снарядов и мин, надеясь таким образом ликвидировать активность наших батарей. Один снаряд угодил в стену церкви, взрывом выбило небольшую дыру в кирпичной кладке, но здание стояло прочно. Мы у себя потерь не имели, однако постоянный артиллерийско-минометный обстрел раздражал и нагонял мрачное настроение.
Так прошло два дня. Боезапас наш таял, пополнялся, потом снова иссякал, а успеха у нас все еще не было. Впереди был город 3волен - узел дорог, от него отходила на север рокада на левый фланг немцев, где противостоявший им Первый Украинский фронт, отстал от нас. Сдача города доставила бы немцам большие неприятности, поэтому они так упорно сопротивлялись на нашем участке, закрепившись на господствующих высотах.
На третий день наш старшина, Иван Гончарук, решил устроить в нашей гончарне баню для управления дивизиона, пользуясь тем, что все мы на этот раз были в сборе: и разведчики с командиром дивизиона, весь взвод управления и штаб дивизиона. Установили бочки, нагрели воды. В одной из них устроили вошебойку, чтобы слегка поубавить этих паразитов, у кого они завелись. Долго уламывали Сорокина вылезти из подвала и помыться. Он утверждал, что он и так чист, как младенец после купели. Оно, конечно, было неприятно быть раздетым и намыленным, когда нет-нет, да и залетала серия немецких снарядов, с хрястом рвущихся рядом с нашим домом. Но баня-это был такой праздник, причем редкий праздник на фронте. Поэтому хоть и вертелась в голове мыслишка, что как это некрасиво будет лежать голому, намыленному, с открытым срамом, пока тебя закопают, однако же, с удовольствием проходили эту очистительную процедуру. Сорокин выполз из подвала только после того, как Гвардия на него гаркнул и выпустил такую очередь поощрительных напутствий, что пламя стоявшего перед ним светильника из снарядной гильзы заколебалось, грозя погаснуть.
Только дней через десять мы сорвали, наконец, немцев и снова двинулись вперед.
Наш маршрут пролегал, минуя город Зволен. Мне пришлось его вспомнить уже после воины. Возвращаясь из отпуска, я ехал в полуразрушенном поезде Бухарест-Будапешт по Румынии. В классном вагоне нас было несколько солдат. Была зима. В вагоне была буржуйка - чугунная печка, топить которую было нечем. Солдаты взламывали полки, перегородки, чтобы подбросить топлива в печь - военное варварство продолжалось. С нами в вагоне ехал словак. Во время войны немцы его взяли в армию и отправили на восточный фронт, воевать против нас. Там он сбежал к нашим партизанам и до конца войны воевал против немцев, а теперь вот ехал на родину. Познакомились. Его звали Андреем. Спросил его, откуда он.
- Из Зволена.
- Из Зволена? Так мы его освобождали, - сказал я. Андрей загорелся. Не был же дома три года.
- Как он там? Сильно разрушен?
- Не знаю, Андрей. Упорные бои шли дней десять за него. А потом мы прошли, минуя город.
Андрей загрустил. Он знал, что такое десять дней упорных боев за город, Живы ли его родные?
Я как мог успокоил его тем, что бои были в основном за высоты на подступах к городу.
- Не знаю, как встретят меня... Мне надо явиться в наш генеральный штаб. Нас из Советского Союза всех направляют туда. Как еще посмотрят на то, что я был в партизанах и бежал из Словацкой армии. Ведь у нас там всякие. И те, кто был рад немцам. Но мы будем бороться за новую Чехословакию. У нас будет так же, как у вас в СССР.
- У нас тоже всякого дерьма хватает, - ответил, я, - не перенимайте все подряд.
- Нет. У вас все равно хорошо.
Скоро мы расстались. Я пожелал ему встретить всех родных живыми.
Недели две после Зволена мы с боями углублялись все дальше и дальше в Карпаты. Все выше и выше были горы, все глубже и глубже снега. Все реже стали попадаться населенные пункты - мы вошли в зону, где население было разбросано по хуторам. То там, то здесь, вдали от основных дорог виднелись отдельные домики с хозяйственными постройками, полузанесенные снегом, добраться до которых, кроме, как на лыжах, было невозможно. Лесные дорожки, извивающиеся по залесенным склонам гор, были завалены снегом, и в эту пору года по ним никто не ездил. Даже война обходила эти хутора стороной.
Поднявшись на перевал, мы оказались в неширокой снежной траншее, прорытой вдоль дороги в одну и кое-где в две колеи. По сторонам от дороги лежала двух-трехметровая толща снега. Сверху, не прекращаясь, посыпал и посыпал снег, а ветер, хоть и не сильный, сметал его еще и со стороны на дорогу. Машины буксовали в полуметровом снежном месиве под колёсами и, наконец, встали совсем. Как ни наваливались мы, облепивши борта машин, как ни упирались, взбадривая себя громкими криками, но силы наши иссякли, и движение прекратилось. Был уже вечер, когда командир дивизиона со взводом управления ушел вперед вслед за пехотой. Ушел и начштаба гвардии капитан Кривенко. Командовать колонной остался замполит командира дивизиона, старший лейтенант Миронов.
Ночью подморозило. Верховой снег прекратился, но усилился ветер и метель. Взмокшие от пота гимнастерки и шинели постепенно подсыхали, отнимая тепло от тела. Стало зябко и особенно остро захотелось есть. Однако походная кухня не дымила, не было дров, а вокруг был темный ельник, облепленный шапками снега. Передние наши машины и обозы стали разворачиваться и уходить назад. А мы все стояли, наш новый "командующий" никак не мог решиться на какое-либо иное действие, кроме как заставлять солдат работать до изнеможения лопатами, что было равносильно отчерпыванию из реки ложкой. К утру на перевале остались только наши машины с орудиями.
Старшина раздал сухой паек, который мы проглотили в одно мгновение, и снова хотелось есть, хотелось спать - тяжелые веки так и прикрывали глаза, а ватные ноги так и просили присесть хоть на снег.
Метель утихла, но машины были занесены уже по ступицу. Взялись опять за лопаты. Кто-то мечтательно рассказывал, что у американцев есть машины, которые могут одним заходом делать проезд в одну колею со скоростью двадцать километров в час. На фоне этого наши лопаты казались такими жалкими поделками.
Солдаты роптали и, обращаясь к командирам взводов, спрашивали, почему ими так бестолково командуют? Взводные отмалчивались - армия и субординация - что тут скажешь? В армии дураки обнаруживаются только среди подчиненных, а искать их где-то выше - субординация не позволяет.
К полудню, наконец, вернулся Гвардия и дал команду разворачиваться назад. Однако это было уже нелегко - метель сделала свое дело. Вся дорога траншея была засыпана изрядным слоем наносного снега. Только к вечеру нам удалось развернуться и пробиться назад в долину. Мы двинулись в обход. Кухня теперь, слава богу, дымилась на ходу и была надежда, наконец, подкрепиться, что мы и сделали, когда уже стемнело. Расправившись с ужином, мы тут же двинулись дальше, опять поднимаясь в горы. Машины неторопко бежали вперед под натужное завывание моторов, а мы, сидя в кузовах, дремали, прижавшись друг к другу.
Часов в одиннадцать вечера подъехали к переднему краю, который обнаружили с некоторым опозданием. Погода устоялась, ветер стих, снег не шел, светила луна и машины продвигались, не включая даже подфарники - так было светло. Передний край мы проехали, не заметив, и когда уже отъехали метров сто в сторону переднего края немцев, увидели сзади бегущего солдата, подающего рукой сигнал остановиться. Мы забарабанили по кабине, машина остановилась. Подбежавший пехотинец, запыхавшись, спросил:
- Куда вы едете? Там же немцы!
Оказалось, что мы проскочили, не заметив засыпанное снегом ответвление дороги на хутор, где был наш командир дивизиона со взводом управления. Минут через двадцать мы были на месте. Хутор представлял собой большой дом владельца хутора и на некотором удалении от него несколько хозяйственных построек.
Наши пушки поставили на прямую наводку метрах в трехстах вправо по фронту от хутора, машины замаскировали за хозяйственными постройками, а наш штаб дивизиона - на наблюдательный пункт дивизиона, расположенный в доме владельца хутора. Однако там же располагался КП стрелкового полка, которому был придан наш дивизион, и командир полка тут же распорядился убрать с КП всех лишних, чтобы мы там не маячили и не демаскировали. Пришлось нам убираться под открытое небо. Немного справа и сзади несколько холодных сараев. Но не там же располагаться? Прошедшие двое суток были очень трудными для нас, и хотелось хоть немного поспать в тепле. Чуть впереди и справа стоял небольшой домик, впритык к которому на прямой наводке была развернута батарея иптаповцев. Пошли мы туда. Три комнаты дома были заняты солдатами и офицерами этой батареи. Пустой оказалась только кладовка со стеллажами, ярусом поднимающимися вдоль трех ее стен. Нам показалось за благо разместиться на этих полках, чтобы тут же заснуть. К утру иптаповцы должны были оставить свои позиции и уехать.
Только, было, мы задремали, как раздались выстрелы орудий - наши соседи решили перед отъездом отстреляться по немцам. Ночной беспредметный огонь, скорее всего, был вызван излишком снарядов.
Я, было, расположился на верхней полке, где потеплее, но после первых же выстрелов перебрался на нижнюю. То ли мое чутье, то ли фронтовой опыт подсказали мне, что сейчас немцы ответят такими же гостинцами, а сверху падать высоковато. И только, было, я умостился внизу, расправил под собой складки шинели, чтобы не давили, только пригрел своим теплом настывшие доски, как раздался страшный грохот взрыва, дверь в нашу кладовку выбило и комнату заполнило тротиловой гарью, а из соседних комнат послышались крики и стоны. Наши славяне, вспоминая твою матушку, горохом сыпанули с полок на пол.
Снаряд немцев угодил в стенку комнаты, где располагался комбат иптаповцев, ушел под пол и взорвался в соседней комнате, где размещались орудийные расчеты. Сразу двенадцать человек убитых и раненых. Наши все были целые. Хорошо, что наши соседи не пустили нас к себе, заявив, что к утру они освободят весь дом. Оставаться в этом доме, в этой братской могиле стало как-то тоскливо, и мы выбрались опять под открытое небо. Наши офицеры пошли опять на КП, а солдаты стали устраиваться кто где и кто как. Я взял с собой Ступницкого и Сорокина и сказал, что поработаем часа два и соорудим себе землянку за домом, где был КП полка.
Часа два мы долбили мерзлую землю, углубившись всего чуть больше метра. Однако этого было уже достаточно, чтобы сидеть. Затем притащили парниковые рамы, накрыли яму сверху, завалили соломой, а уже поверх соломы слоем земли, оставив в одном углу лаз, который затыкали связанным пучком соломы. К утру гнездо с соломой под боком уже было готово и мы за двое суток первый раз уснули. А утром, когда подъехал старшина с кухней, еще и раздобыли у него жестяную банку из-под Рузвельтовской колбасы диаметром сантиметров десять, сделали из нее печку, трубу с пистолетный ствол и очаг был готов. Достаточно было сжечь горстку щепок, как в нашей конуре становилось тепло.
Прямого попадания снаряда в наше логовище не могло быть, размещалось оно за домом, при ударе в который снаряд взорвался бы, даже если бы он был фугасным, а осколки от него не могли пробить земляную насыпь.
Так мы обеспечивали себе защиту во время отдыха. Прошел день. Наше продвижение застопорилось. Впереди у немцев была какая-то старинная крепость или замок со стенами полутораметровой толщины. Выкурить фрицев лобовой атакой не удалось даже с помощью батарей, стоявших на прямой наводке.
А вечером, как только стемнело, старшина решил организовать в доме, куда угодил немецкий снаряд прошлой ночью, баню для управления дивизиона, воспользовавшись и остановкой, и тем, что мы опять оказались все вместе.
Часов в десять вечера уже начали мыться и прожаривать в бочке над костром свое обмундирование. Пошли и мы. И вот тут-то мне страшно не повезло. Я сдал свое обмундирование на прожарку, его опустили в бочку вместе с другими, я получил свою порцию горячей воды и пошел намыливаться. Но не успел я ощутить всю сладость этой процедуры, как в бочке выстрелил патрон, оставленный каким-то охламоном в кармане своих брюк, наше обмундирование, уже раскалившееся от жара, мгновенно вспыхнуло, и как ни проворно выхватили его из бочки, но одевать на себя было уже нечего. Мои друзья-погорельцы были запасливее меня, а у меня ничего больше не осталось, кроме белья и шинели. В таком виде я и ушел в свою землянку. Не было ничего в запасе и у старшины, и он пообещал мне съездить в дивизионные склады за обмундированием. Весь день я пролежал в своей землянке, не вылезая на поверхность, чтобы не быть осмеянным. А у самого мыслишки - хорошо, что немцы уже только обороняются, а что если бы нажали на нас, да пришлось бы отступать? Как бы я тогда, в одних-то подштанниках? Срам один!
К вечеру приехал старшина, однако, ни с чем. На дивизионном складе тоже ничего не было. Да и не могло быть. Нас обмундировывали дважды в год: весной и осенью, а теперь стояла середина зимы.
- Я же им говорю - у меня солдат у одних кальсонах... А они нет и нет, - сокрушался мой друг Иван Гончарук.
Пришлось мне еще сутки просидеть в своей землянке, и только к следующему вечеру Иван привез мне новое обмундирование, за которым он мотался куда-то аж до армейского склада. И ко времени. Потому что утром мы снова двинулись вперед, а у меня мурашки бегали по спине от одной только мысли, что я мог бы и в наступление идти в одних подштанниках...
К обеду мы заняли крепость. Остановились ненадолго в мрачном здании со стенами толщиной полтора метра, в которых окна смотрелись узкими глубокими бойницами. Часа через два, уяснив направление и задачу, мы двинулись вперед.
На следующий день наше продвижение до полудня было беспрепятственным. Наша колонна двигалась вперемешку с румынами, с их стрелковыми ротами. Только в одном месте после команды: "Воздух!" колонна остановилась, и все живое затаилось под кронами деревьев лесопосадки. С запада нарастал грозный тяжелый рокот моторов. Мы поначалу недоумевали - откуда у немцев появилось столько самолетов? Мы привыкли уже за время войны к налетам немецких бомбардировщиков группами до полусотни штук за раз. А тут рев нарастал, хотя самолетов еще и не было видно, и рев моторов был такой мощный, что исходить он мог не от одной сотни моторов. Наконец в разрывах облаков, на высоте до 10 километров, не меньше, появились колонны четырехмоторных бомбардировщиков, которые уходили к нам в тыл. Это были американские летающие крепости. Мы их видели впервые. Совсем недавно они стали совершать челночные операции. Они загружались бомбами на территории Западной Европы (в Англии), летели бомбить немецкие города, и шли на посадку на советские аэродромы. Там заправлялись горючим, бомбами и летели в Германию опять бомбить, после чего возвращались на свои аэродромы в Англии.
На душе посветлело. Впервые своими глазами мы видели союзников в деле. К полудню перед селом наткнулись на немцев. Обстрелянная колонна стала разворачиваться в боевые порядки. Румынские солдаты, развернувшись в "цепи", уклоняясь влево и вправо от дороги и поднимаясь в горы, постреливая, пошли вверх, вперед. Мы развернули наши батареи, и пошли вперед по дороге в село, вытянувшееся по узкой приречной долине, зажатой слева и справа крутыми склонами гор, на небольшом удалении от села покрытых лесом. Следом за нами связисты разматывали телефонную связь.
Пройдя около километра, мы завернули в пустой двор и расположились штабом в доме, окна которого с одной стороны выходили на улицу, а с другой вправо по фронту смотрели на крутой склон горы, открытый взору до самого леса.
Началась обычная работа. Каждый занимался своим делом. Я подготовил данные для стрельбы наших батарей по возможным целям и передал на батареи. Вдруг справа, по фронту, затрещала, приближаясь, ружейно-пулеметная стрельба. Выглянув в окно, мы увидели, как стремительно скатывается к нам вниз румынская пехота под натиском немцев. Гвардия скомандовал занять оборону с личным оружием. А румыны уже скатились к нам в огород, и совсем близко перебежками приближалась цепь немцев.
- Товарищ гвардии капитан, подготовить огонь на себя? - спросил я Гвардию.
- Твою мать, сами себя же побьем!
- Не побьем! Посмотрите, какой огромный в два этажа сеновал стоит между нами и нашей батареей. Наш дом под его укрытием.
Со звоном вылетело выбитое шальной пулей оконное стекло.
- Ну, давай! Быстро. Но смотри...
Но тут уж дело одной минуты. Взял чуть правее нашего дома - опасался только бы не перебить свою же связь с батареями. Да не побить бы румын, укрывшихся уже за домами.
- Выстрел! - крикнул телефонист уже одновременно со взрывом.
Хорошо! А теперь беглым! Ах, хорошо! Хорошо, когда наши ваших бьют это еще в деревне так говорили!
Немцы попятились. Мы довернули огонь вслед за ними, и румыны пошли вперед, теперь уже вверх по склону. До леса мы провожали их огнем наших батарей, а дальше они пошли сами хорошо.
Перед вечером связались с командиром дивизиона, который ушел уже далеко вперед с пехотой, и получили команду снять батареи и продвигаться вперед. А через час с пушками на прицепах, свернув с магистральной дороги, мы поднимались по узенькой дорожке в горы, и уже в сумерках подъехали к хутору.
В крайнем доме мы развернули свой штаб. Тут же между домами серыми тенями слонялись румынские солдаты. Из прихожей, где стоял большой стол с широкой лавкой у стены, уходили две двери - в горницу, где разместились офицеры штаба, и еще в одну комнату, где разместились хозяева. Им предложили эвакуироваться в тыл. Мне почему-то стало жалко их. Может быть потому, что тут же были румыны. Им разрешали высылать посылки домой, и они крали все, что попадалось на глаза. Воспользовавшись отсутствием офицеров, я подошел к раскрытой двери, откуда заинтересованно наблюдали за нами хозяева: старик со старухой, взрослый их сын лет двадцати пяти, и дочь лет семнадцати.
- Не уходите! Скоро мы пойдем вперед. А если уйдете - у вас шистко раскрадут румыны.
- А-но, а-но... - благодарно они закивали головами, посветлев лицами.
Меня окликнули к Гвардии. Офицеры стояли у стены, рассматривали фотографию пышногрудой дочери хозяина, и вслух выражали свои вожделения.
Гвардия распорядился привязать батареи и, как всегда, подготовить данные для стрельбы батарей. И я побежал исполнять. Навстречу, постукивая колесами, подъезжала наша кухня.
- Ты куда? Ужинать! - крикнул повар.
- Успею, Саша, я сейчас!
Обежал батареи, разместившиеся тут же, вокруг хутора. Нанес их положение на карту. Вернувшись в штаб, я подготовил данные для стрельбы по намеченным целям, передал на батареи, расправился с ужином, оставленным мне в котелке, и вышел во двор.
Было по-весеннему тепло и тихо. Снега уже не было, и было особенно темно. Под навесом пофыркивали лошади, там кто-то копошился около них, наш управленческий ездовой Тодось.
Из дома вышла Анечка - так звали дочь хозяина. Я подошел к ней. Она не убежала. Не помню уж, наверное, я что-то говорил ей по-своему, а она отвечала мне по - своему. Наверное, мы понимали что-то, или догадывались по интонации. Из дома вышел Гвардия. Анечка продолжала стоять на крылечке. Когда Гвардия скрылся под навесом, я поцеловал ее, но, наверное, слишком по-братски, ведь я сделал впервые это в своей жизни.
- Хдапчиска, - Анечка засмеялась.
Перевода не требовалось. Я знал, что я еще зеленый-зеленый "хлапчиска", хотя уже два года на войне.
Анечка вошла в дом. Постоявши еще на крыльце, вошел и я. В горнице офицеры разместились на ночлег. У двери, присев на пол и привалившись к стене с подвязанной к голове телефонной трубкой, то ли бодрствовал, то ли полудремал дежурный телефонист. На полу в прихожке разлеглись наши солдаты. Анечка раскинула свою постель на широкой лавке за столом. Я присел около нее, а потом, подумавши, что лучшего места мне не осталось, я полуприлег около нее. Анечка не прогнала меня. Правда, я, обутый, опустив ноги на пол, полусидел, полулежал около нее, ощущая плечом тепло ее тела. Сердце мое колотилось, как на гонках, постепенно успокаиваясь.
Вошел с улицы Гвардия, оглянулся и, входя в горницу, оповестил:
- Вот, твою мать, Соболев, счастливый человек!
Ему что-то негромко ответили, я не расслышал. Спал я или не спал в ту ночь? Наверное, нам было хорошо обмениваться биотоками. Однако же и этого было достаточно, чтобы мы почувствовали неодолимое влечение друг к другу. Наутро мы обменялись фотографиями и адресами, и словно тени все кружились и кружились друг подле друга. А после завтрака была подана команда взять орудия на передки и подготовиться к движению.
Все вдруг быстро-быстро замельтешило, завертелось, время стремительно летело и в то же время тянулось томительно долго. Как будто кто-то брал по одной протянувшиеся между нами ниточки и разрывал, разрывал, причиняя боль. Через час посреди хутора уже стояли походной колонной наши Студебеккеры с пушками на прицепе, в кузовах по машинам сидели солдаты и я с ними, наш старшина с обозом уже выехал вперед, и в утренней тишине далеко было слышно постукивание тележных колес.
Вокруг машины стояли собравшиеся проводить нас жители хутора да офицеры, собравшись в кружок, курили. Анечка была здесь же и плакала в голос, будто провожала жениха на войну - так-то горько плакала. А у меня тоже какой-то комок в горле, и хоть бодрюсь я изо всех сил, но лицо-то у меня растерянное и печальное. Солдаты и офицеры посматривают с недоуменными улыбками то на меня, то на Анечку, пытаясь уразуметь, что же происходит, но, слава богу, никто не схамил, не оскорбил этого полудетского чувства,
А я торопил время. Господи, хоть бы скорее все это кончилось, если не дано ему продолжиться... Но вот подали команду по машинам. Взревели моторы, заглушая девчоночий плач, и мы покатили вперед и вниз, под гору. А позади, все удаляясь и уменьшаясь, на косогоре стояли домики и у дороги группкой мужчины и женщины хутора, прощаясь, махали руками и среди них Анечка, то взмахивала рукой, то вытирала глаза. И так все дальше и выше, все меньше дома и люди, пока совсем не скрылись за придорожными деревьями... Прощай, Анечка, случайный светлый лучик, посветивший мне, лишь на мгновение на моей фронтовой дороге.
Мы наступали стремительно, вырвавшись, наконец, из гор на более пологое Чешское нагорье. Раза два еще по свежему чувству, я написал Анечке, но не получив ответа, успокоился. Была война и военная цензура, проверявшая всю солдатскую почту, не могла допустить эту переписку. И только больше десяти лет спустя, когда я уже демобилизовался и обзавелся семьей, жил и работал на Сахалине, Анечка через газету "Красная Звезда" и Генеральный штаб нашла меня. Какое-то время мы переписывались, уже обремененные семьями, переписывались, как старые случайные знакомые, передавая приветы семьям. И только в тайных уголочках душ наших все тлел и тлел негасимый огонек той нашей первой полудетской любви, которой не суждено было состояться. Но встретиться нам так и не удалось. А теперь уже разве где-то на небесах...
Во время одного из переходов встретили новый 1945 год. С марша мы остановились в каком-то местечке, я уже не помню. Запомнилось только, что штаб дивизиона разместился в большом доме. Собрались все офицеры дивизиона. В доме начались торжества, которые только могли быть на войне. Офицеры с местными дамами организовали пиршество. Наши солдатики скучились в прихожей, чтобы быть тут же. А мне в эти часы довелось стоять около этого дома на посту. Мне до сих пор непонятно, почему меня поставили на пост. Раньше этого никогда не делали. Провинности за мной никакой не было. Может быть, в эту ночь пиршества, когда все офицеры расслабились, мне больше доверяли? Не знаю.
Стояла лунная ночь, снега не было, но подморозило изрядно - голая земля гулко гудела под каблуками. Порывы ветра поднимали замерзшую пыль и больно били в лицо. За окном внутри дома гремела музыка, а я выстукивал сапогами по замерзшей земле и размышлял о несправедливостях, сопровождающих человеческую жизнь. Наверное, так и запомнилась эта ночь.
Вскоре мы заняли город Злин в Чехии. Здесь размещалась обувная фабрика обувного короля Бати, одна из многих, разбросанных по всему земному шару. Огромный многоэтажный производственный корпус, а вокруг городок для рабочих фабрики - одноэтажные коттеджи из красного кирпича. Все везде заасфальтировано, чисто, все среди деревьев, которые в эту пору были голые. Было пасмурно, изредка накрапывал холодный зимний дождь.
Солдаты отоваривались трофеями - рулонами хрома, реквизированными на фабрике. Офицеры, ссылаясь на устав и недопустимость мародерства в Красной армии, на то, что солдатам "не положено" обрастать каким-то не штатным имуществом, тут же реквизировали хром у солдат и укладывали в свои чемоданы, которые возили в обозе старшины управления дивизиона.
Где-то к вечеру дивизион собрался в походную колонну, и мы выступили впереди. После одного из маршей узнали, что союзники, наконец-то, открыли второй фронт. Побоялись, что мы и без них закончим войну. Выждали, пока мы выложим как можно больше жертв, пока армия немцев не будет ослаблена до предела. Однако второй фронт хоть и на последней стадии войны, но все равно приближал ее конец, и это не могло нас не радовать.
Позади город Простев, и наше наступление развивается стремительно.
На одном из рубежей, где-то в районе Могельнице, я не помню названия села, стоявшего в нашем тылу, немцы стали упорно сопротивляться. Целый день шел упорный бой, который не дал успеха. А вечером нам сообщили, что ночью нас должна сменить Чехословацкая воинская часть, а нас перебрасывали на левый фланг.
Часов в одиннадцать ночи, как только стемнело, пехотные части чехов сменили наши стрелковые полки на передовой, мы сдали свои артиллерийские позиции артиллеристам чешской части и, взяв орудия на передки, отошли километра на полтора в небольшое сельцо, где на его окраине остановились в ожидании, пока подтянутся все наши батареи. Было пасмурно, но тепло, стояла уже весна. Было уже за полночь, когда подъехали наши, остававшиеся на передовой, батареи. И вдруг весь фронт загрохотал выстрелами, пулеметными и автоматными очередями, осветился ракетами. Небо полыхало от трассирующих пуль и ракет. Что там случилось? Уж не прознали ли немцы о смене частей на передовой да не ударили ли, пользуясь моментом неорганизованности? Так мы стояли и созерцали это неистовство с полчаса, пока кто-то из подъехавших не сообщил не достоверную информацию, а просто солдатский слух, что Германия капитулировала.
Нам указали маршрут движения, и колонна наша, взревев моторами, устремилась на запад, к Праге. На другой день нам уже официально сообщили о том,что Германия капитулировала. Но противостоявшая нам миллионная группировка немцев не подчинилась приказу о капитуляции и отходила, стремясь укрыться в горах Южной Германии и Австрии. Однако мы не давали им спокойно уходить, нагоняли, завязывали бои и стремились пленить. Так продолжалось до 18 мая 1945 года. Почти на каждом километре нашего пути встречались колонны сожженных машин, брошенной артиллерии, другой военной техники. Налегке фашистам драпать было легче. Наши остановки на отдых сократились до четырех часов в сутки. Но отступающая армия немцев была уже неоднородной в своей сплоченности, она держалась только на страхе перед расправой со стороны старших офицеров. Кроме того, до солдат дошел приказ о капитуляции.
Наши бои, наконец, закончились. Немцы прекратили сопротивление. И одни из них стремились бежать на запад, к американцам, другие же, повернув на восток, колоннами, без оружия, шли сдаваться нам.
Я помню, как-то наша машина почему-то задержалась и отстала от своей колонны. Мы ехали, догоняя своих. Нас в кузове было всего несколько человек, вооруженных автоматами. Навстречу строем шли тысячные колонны немцев, обтекая нашу машину, которая в таких местах замедляла движение. Жутковато было смотреть на эту массу поверженных врагов.
- Сколько же их! Если б они захотели, они бы в момент смяли нас! У нас бы и патронов на них не хватило, - сокрушенно произнес Ступницкий,
- Не сомнут! Время их прошло, - подхватил кто-то из наших. И будто желая взбодрить себя, привстал, ухватившись за борт Студебеккера, и крикнул в толпу:
- Эй, фриц! Гитлер капут?
- Я, я! Капут, капут, - хором ответили из колонны немцев. Завоеватели Европы шли сдаваться в плен. Да здравствует Весна! Да здравствует Победа!
Конец войне
(Снова в Венгрии)
Через несколько дней наше движение остановили километрах в семидесяти восточнее Праги в чистеньком городке Градец Кралевски. Пробыли мы в нем не более полусуток, и нас вывели из города и поставили в соснячке в летний лагерь. В один ряд стояли наши брезентовые палатки, а перед ними подметенная песчаная аллейка. Однако в лагере мы простояли не более месяца, когда пришел приказ о выводе наших войск из союзной нам Чехословакии.
Марш наш пролегал через Австрию. Миновав Брно и Австрийскую границу, наша колонна остановилась на одном из проспектов Австрийской столицы Вены. Был теплый солнечный день. Метрах в двухстах от нас возвышался красивейший собор с обгорелыми закопченными стреловидными готическими колокольнями. Фашисты! Такую красоту не пощадили. Рядом с дорогой был обширный пустырь.
Простояли мы здесь часа два, и колонна наша повернула на юго-восток, вдоль Дуная, в Венгрию. К концу дня мы остановились в селе Энеше, около города Дьер. Здесь нам предстояло пробыть до осени.
Началась полудремотная мирная жизнь. Всем казалось, что закончилась последняя война и больше войны никогда не будет. Солдаты испытывали чувство строителя, поднявшего от земли свое жилище и забившего, наконец, последний гвоздь. Не нужен больше молоток, не нужны гвозди. Не нужно ничему учиться. Осталось только ждать, когда нас отправят по домам.
Но отправлять по домам не спешили. Были демобилизованы только пятидесятилетние. А остальных, вопреки общей расслабленности, заставили учиться воевать. Учились солдаты, учились офицеры. Офицеры разместились по частным квартирам. Наш штаб дивизиона разместился в обширном доме, где поселился на жительство начштаба гвардии капитан Кривенко. В доме была пристройка, которая и была освобождена полностью под штаб. С одним старым солдатом, умевшим столярничать, мы соорудили классный артполигон. Он соорудил каркас и подвижную на блоках каретку, а я модель местности, оборону противника с целями, электрическую схему, которая при попадании снаряда в цель, сигнализировала загорающейся лампочкой.
Если на фронте подготовкой данных для стрельбы и управлением огнем батарей занимались командиры батарей и командир дивизиона, да еще я по его заданию - всем прочим это было противопоказано из-за постоянной экономии снарядов, то здесь на занятиях на классном полигоне этим делом заставили заниматься всех офицеров, и они плавали, как школьники.
Жители все еще чувствовали подчиненное положение перед армией победителей. Хотя солдаты и офицеры вели себя с населением очень корректно, допуская, однако одну "мелочь" - жены хозяев, где квартировали наши офицеры, как правило, были любовницами своих постояльцев, и это терпеливо сносили их мужья.
В свободное время, а у меня его было много, я бродил по окрестностям, по полям, по виноградникам, иногда с кем-нибудь из товарищей, иногда один. Тогда мне вспоминались просторы наших Алтайских степей, где прошло мое раннее детство.
Так прошло лето. А осенью мы отправились на артиллерийский полигон за озеро Балатон на боевые стрельбы. Стояла знойная пора, пора уборки урожая. Было сухо, дорога пылила, но все равно движение было приятно. Оно чем-то напоминало наше стремительное наступление в конце войны. Набегали и оставались позади утопающие в садах села, разноцветные полоски полей с работающими на них венгерскими семьями, груженые собранным урожаем повозки, запряженные либо волами, либо хорошими лошадьми с живописными возницами в национальных одеждах.
После полудня проехали провинциальный городок Секешфехервар, за которым потянулись слабозаселенные засушливые просторы. К вечеру прибыли на полигон. Привычно расставили батареи дивизиона - одну на прямую наводку, две - на закрытые позиции. Привычно, как на фронте, привязал их и нанес на планшет. Карт на этот раз у нас нет, и на чистом планшете работать труднее. Заночевали тут же, под звездным небом.
А наутро, после завтрака, начались стрельбы. Наш НП находился метрах в ста пятидесяти левее батареи 76 мм пушек, стоявших на прямой наводке. Батарея готовилась к выполнению задачи, поставленной вводной, а здесь, на НП, где был всего один окопчик, предназначенный для одного стреляющего комбата, сгрудилась свита офицеров во главе с командующим артиллерий дивизии. В окопчик влез командир гаубичной батареи и согласно вводной, полученной от командующего артиллерии, дал команду на батарею. Телефонист прокричал: "Выстрел"! и снаряд грохнулся не там, где его ожидали, а в пятидесяти метрах впереди батареи, стоявшей на прямой наводке. К счастью никого не зацепило. Дали команду: "Отбой!" и началось расследование. Что случилось? То ли мешочек пороха не доложили в заряд или еще что - так и не установили, однако стрельбы задержали часа на два.
Наконец, решили продолжить. Командующий артиллерии спустился в окоп к комбату. Мы со старшим лейтенантом Гоненко - командиром взвода разведки лежали на земле метрах в семи сзади группы офицеров. Я тогда очень здорово имитировал свист пролетающего снаряда мимо ли, или стремительно падающего вот тут вот, рядом. Старший лейтенант был хороший хохмач и все подначивал меня подсвистеть, когда объявят "Выстрел". Что я и сделал. Только телефонист передал сигнал с батареи "Выстрел!" как я повел сначала низко и слабо, но все выше и, наращивая, пока не закончил стремительным и резким - после чего должен был раздаться взрыв вот здесь, рядом. Офицеры, стоявшие вокруг окопчика, а их было человек десять - двенадцать, кучей ринулись в узенький окопчик, который мог вместить-то не более двух человек, на комбата и командующего артиллерией. Комбат-то был молодой, а командующий -старичок лет за шестьдесят. Как не задавили старика грохнувшиеся сверху добры - молодцы умирать-то после войны никому неохота.
Но взрыва не последовало, снаряд после некоторого времени взорвался далеко впереди - там, где ему и положено было взорваться. Офицеры вскочили и смущенно друг другу вторили:
- Как низко прошел!
- Надо же, как низко!
Старший лейтенант, уронив голову на руки, лежа ниц, трясся от хохота, а мне было не до этого. Ну, думаю, если сейчас обнаружится, что это я им подсвистел и ввел их всех в конфуз - быть мне на губе. Однако все обошлось.
К обеду на НП собрались и командиры других дивизионов. Командующий дал им вводную:
- От леса наступают танки с пехотой противника. Дать отсечный огонь. В тех дивизионах не было топослужбы, и командиры дивизионов дали команды батареям из расчета глазомерной подготовки данных, рассчитывая на чутье. В результате снаряды разорвались далеко друг от друга, вразброс, и нужно было еще много затратить их, чтобы пристреляться.
Настал наш черед - и тут, как на фронте отлично сработал наш тандем с капитаном Водинским. Он ткнул пальцем в точку на планшете, куда надо было готовить данные. Я их готовил и крупно писал на полях планшета. Капитан считывал их и громко передавал команды через телефониста на батареи. И как только оттуда поступило сообщение о готовности, капитан крикнул: "Огонь"! Наконец, пришел с батарей сигнал: "Выстрел!" и разрывы снарядов легли ровной цепочкой перед опушкой леса. Отлично! На следующий день постреляли еще прямой наводкой и к вечеру выехали к месту дислокации, в Энеше под Дьер. Где-то через месяц после стрельб, уже глубокой осенью, мне представилась возможность побывать на родине. Дали отпуск гвардии капитану Кривенко, и он, Гвардия, не забыл меня, не зря в войну разносил меня в пух и прах, когда надо было быстро подготовить данные для стрельбы, а меня вдруг в эту минуту рядом не было. Выпросил Гвардия отпуск и мне.
И вот мы, обеспечившись продуктами, документами, получивши сухой паек на дорогу, были подброшены на дивизионной машине до Дьера, откуда поездом должны были пробираться дальше. На станции было много народу и гражданских, и наших солдат. Было солнечно, тепло. Среди толпы подросток, продавец газет, необыкновенным для его возраста басом выкрикивал заголовки, рекламируя коммунистическую газету "Неп сабад шаг". После каждого его рекламного распева солдаты хохотали, так потешно он басил. Провожавший нас наш дивизионный фельдшер младший лейтенант Чудецкий подошел к мальчишке и попросил его пробасить еще, взбадривая его монетами - газеты ему были не нужны, все равно он ничего не понимал по-венгерски. Наконец подошел поезд, набитый людьми до отказа. Никто не выходил, и войти в него было некуда. Минут через пять машинист просигналил отход, вагоны лязгнули и покатились. Но не тут-то было - на станции было много наших солдат, желающих ехать, и при оружии. Побежали вдоль поезда вперед, открыли огонь из автоматов - поезд остановился, попятился назад. Автоматчики влезли в вагон, высадили пассажиров, на их место вскочили наши солдаты, а вместе с ними и мы, и поехали. Однако поезд шел только до Будапешта.
В Будапеште, а вернее на его товарной станции, на окраине, мы порыскали-порыскали, ничего дальше нет. Но вот сформировался товарный состав, в конце которого были прицеплены две или три платформы с тюками прессованного сена. Поезд шел на восток. Уже темнело, когда мы, взгромоздившись на вагон с сеном, стали отъезжать от станции. Но желающих уехать было много - и военных, и гважданских. Солдаты, чтобы укрыться от ветра, стали распутывать укрутку и выбрасывать тюки сена, устраивая себе ниши. И вот поезд только выехал со станции, как вагон наш стал разваливаться на ходу. Хорошо, что кондуктор был тут же и заметил это, просигналил остановку, и поезд опять вернулся на станцию. Кое-как увязали вагон и поехали дальше. Мой Гвардия присоседился к какой-то мадьярке, лежавшей рядом, огладил ее, почувствовал добро, и чтобы прикрыть свой грех - кругом же сидели люди - попросил меня вытащить из его чемодана одеяло. Я ему подал, а сам подумал: ох, Гвардия, добром ты свою жизнь не кончишь, если не бросишь свои кобелиные похождения. Но солдат офицеру не указ и Гвардия по собственному разумению начал подталкивать поезд.
К утру мы добрались до Мишкольца. Здесь протолкались весь день в ожидании какой-нибудь оказии. К вечеру на станцию прибыл наш санитарный поезд, который шел в Советский Союз. Однако сколько мы ни уговаривали взять нас в поезд - все было безуспешно. Да и много же нас набралось опять солдатиков, желающих ехать: кто в отпуск, кто в командировку, кто куда. Но солдат есть солдат, и если ему нельзя в поезд, то он верхом на него залезет. Так мы и сделали - взгромоздились на крыши вагонов, и уже когда стемнело, выехали дальше. Было прохладно, а вернее холодновато. Встречный ветер пронизывал сквозь шинель, из паровоза снопами летели искры, железная крыша вагона была холодная, холодный ветер задувал за ворот шинели, а сажа из паровозной топки попадала в глаза и больно колола там, пока не вымывалась слезами. Мы с Гвардией поставили на ребро его чемодан и прилегли прямо на крышу вагона, спрятав головы за чемодан от ветра. Некоторые солдаты с удобством расселись на своих чемоданах, повернувшись спиной вперед и подняв воротники шинелей. Мы ехали уже часа два и, наверное, задремали, как вдруг услышали крики и выстрелы из автоматов. Поезд остановился перед какой-то станцией. Оказывается, на подходе к станции, железную дорогу по виадуку пересекала шоссейная дорога, просвет от крыши вагонов до низа виадука был небольшой и нас, лежавших, не зацепило, а тех, кто сидел, разбило о бетонный мост и сбросило на рельсы... Вот она судьба человека, она хранит каждого по - своему и до определенного времени. Нужно было пережить войну и погибнуть таким образом... Сидели бы мы с Гвардией - и был бы нам бессрочный отпуск тут же, в Венгрии.
Солдат подобрали, погрузили в вагон-морг санитарного поезда, и мы поехали дальше. К утру прибыли на пограничную станцию Чоп. Мы были уже у себя, в Союзе, но никакого пассажирского движения здесь еще не было. Патрули железнодорожной комендатуры рыскали по станции и не разрешали садиться в товарные поезда, однако нам удалось-таки перехитрить их, и мы доехали в товарняке до Киева. От Киева до Москвы тоже пробирались сначала в вагоне с углем, а перед Москвой в тендере паровоза товарного поезда.
Когда поезд остановился на товарной станции в Москве, на нас было страшно смотреть. Такие мы были грязные, Гвардия оброс щетиной, пуговицы на его шинели пооборвались. Гвардия хохотнул не очень весело и изрек:
- Ну, Соболев, как-то нам надо не очень заметно пробраться на вокзал, чтобы нас таких в комендатуру не загребли.
Эту операцию мы проделали успешно, а на вокзале сразу в туалет воинского зала. Отмылись, отбрились, попришивали пуговицы, подворотнички, начистили сапоги, выколотили пыль из шинелей, словом привели себя в порядок. А к вечеру Гвардия выбил билеты, и мы уже с совершенно забытым комфортом ехали в плацкартном вагоне пассажирского поезда.
В Новосибирске, где жила его семья, мы с Гвардией расстались. Через сутки я был уже в Рубцовске, где жил мой старший брат Ваня - инвалид войны. Перед войной он служил, как говорили, действительную, на западе Украины, где-то в Тернопольской области, и войну встретил в первые же ее дни. В самые первые и самые трудные. Он был артиллеристом, как и я. При отступлении где-то осенью сорок первого года в одном из боев он влез на стену полуразрушенного дома и оттуда корректировал огонь своей батареи. Осколком разорвавшегося рядом вражеского снаряда ему перебило бедро, и ногу ему ампутировали почти под корешок. А ему в ту пору было всего 22 года. В госпитале его подучили, соответственно его теперь уже малоподвижному образу жизни, бухгалтерской специальности.
Когда я приехал к нему, он работал главным бухгалтером ОРСа на железной дороге, был хорошо обеспечен по тем временам, но духовно был надломлен и, как многие солдаты, вернувшиеся с фронта покалеченными, считал свою жизнь пропащей и изрядно пил.
Меня он встретил хорошо, он был старшим у нас в семье, всячески заботился обо мне, гордился мной, когда знакомил меня со своими сослуживцами, но все-таки что-то между нами не склеивалось. Было кровное родство, но не было духовного родства. У него не было ко мне по этой части претензий, а у меня они были, но я, как младший брат и к тому же вообще еще зеленый, не мог ему ничего сказать, и от этого мучился еще больше, вынашивая в себе постепенную утрату этого дорогого мне человека. А причина была одна водка.
Однако отпуск мой пролетел быстро. Всего-то десять дней. Была зима, до окраины города было недалеко, и я с удовольствием побегал несколько раз по заснеженной степи на лыжах. А потом отметился у военного коменданта, взял билет на поезд и с каким-то душевным облегчением покатил к себе в часть. Даже временной милашки себе не завел, и может быть, чувствовал себя так легко и свободно именно поэтому. Ничто не связывало меня, никто не ждал меня нигде и был я обязан одной только присяге да фронтовым друзьям своим, с которыми больше двух лет делил все возможные опасности. Может быть, поэтому так легко я ехал из отпуска. С таким чувством, наверное, возвращаются в свою стаю отбившиеся птицы.
В Киеве почти на сутки задержался, находясь все это время на вокзале. Ожидал поезд до пограничной станции Чоп. На вокзале было много военных, наверное, больше, чем гражданских. Серые офицерские шинели создавали общий фон, на котором вырисовывались более яркие одежды всевозможных мешочников. Послевоенный люд мигрировал в поисках лучшей жизни. Работал ресторан, через открытые двери доносилась музыка. Чей-то приятный баритон исполнял новый тогда офицерский вальс.
Ночь коротка, спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука...
Я записал слова, а потом, расчертив листок нотным станом, записал и музыку. До призыва в армию, в педучилище нам преподавали музыку и пение. Петь я никогда не пел, не было у меня голоса, а ноты я усвоил достаточно хорошо. По музыке у меня было пять, по пению - два, а в среднем мне ставили тройку.
Записал и думал: вот приеду в родную часть и наиграю своим офицерам то, что им так знакомо по их фронтовой жизни с мимолетными встречами, скоротечной любовью и с легкими ли, трудными ли, но всегда расставаниями.
В конце следующего дня был поезд и на нем я благополучно добрался до Румынской границы. От станции Чоп поезд шел на Бухарест, куда я прибыл без особых приключений пассажирским поездом. В Бухаресте обменял свой последний советский червонец на румынские леи и купил на них кусок французского ароматного туалетного мыла, после мытья которым не нужны были никакие духи такой чарующий аромат оставался на теле. Но я обнаружил у него и другое свойство - стоило помыть им руки, как все царапины и ссадины - вечные спутники тяжелой солдатской работы, тут же зарастали новой кожей. После этого, прибыв в часть, я давал помыть руки этим мылом нашим шоферам, руки которых были вечно сбиты их железками. Однако до этого предстоял еще долгий путь через Трансильванские Альпы в Венгрию.
Поезд был небольшой, всего шесть небольших вагонов. В вагонах стояли буржуйки, которые топились дровами, но дров не было. Солдаты, а только они и были пассажирами, ломали перегородки между купе и обломками топили буржуйку. Туалеты в вагонах не работали. Однако на подъемах поезд двигался так медленно, что, выскочив из вагона на волю, можно было справить нужду и успеть заскочить в задние вагоны, что все и делали.
В голове поезда обычно стояли два паровоза, иногда в помощь им прибывал со станции еще и третий - так круты были подъемы. А на спусках, на подступах к очередной станции паровозики неистово свистели, изо всех сил тормозили, однако частенько проскакивали мимо станции, разогнавшись с горы, а потом уж возвращались назад, к вокзалу. Так долго ли, скоро ли, но доехал я до Будапешта, а там и до Дьера. Дальше километров пятнадцать мне надо было добираться пешком до села Баболна-Пуста, где я оставил свой полк, отправляясь в отпуск.
Был февраль. В Венгрии это уже настоящая весна. Снега не было, в небе сияло солнце, пели жаворонки, дорога вилась меж пожухлых еще полей и перелесков, идти было тепло и приятно, и довольно легко на легких молодых ногах и с совершенно пустым рюкзаком. Часа через три я дошел до Баболна Пусты. Однако полка нашего в селе не было. Зашел в комендатуру, там сказали, что часть ушла из села давно уж, а куда - не знают. Возможно в Будапешт для отправки в Советский Союз. Через сутки я был уже в Будапеште.
Огромный, серый, холодный послевоенный Будапешт неприятен своей какой-то затаенной враждебностью. Я был голоден, продукты мои кончились. Не было и достаточно денег, так какая-то мелочишка завалялась в кармане, На вокзале из разговора с бывшим здесь уже не первый день, солдатом, узнал, что знакомиться с молоденькими мадьярками и ходить к ним домой опасно. Были случаи уже, когда таким образом через юных мадьярок заманивали на квартиры одиноких солдат или офицеров да там и убивали их.
Я направился, было в ближайшую комендатуру, чтобы узнать о дислокации нашей дивизии. Но там, не долго думая, меня задержали. Через короткое время привели еще какого-то солдата - и тоже ко мне. Дверь в небольшую прихожку и на улицу была настежь открыта. Бывший при нас старший сержант вышел в соседнюю комнату, дверь за собой прикрыл неплотно, и было слышно, как там обсуждают, куда нас направить. Я понял, что нас собираются отправить в какую-то часть. Перспектива оказаться в чужой части, не в той, в которой я был на фронте два года, меня не радовала, вины за собой я никакой не чувствовал, я возвращался из отпуска, поэтому я перемигнулся со своим нечаянным соседом, и мы мигом выскочили в открытую дверь на улицу, тут же за угол, да только нас и видели.
Такой оборот событий мне начинал не нравиться. Вскоре, расспрашивая на вокзале военных, узнал, что некоторые части отправляют в Советский Союз и мне посоветовали пройти на товарную станцию, где эти части грузятся в эшелоны. Я так и сделал. Переночевавши на вокзале, я рано утром, прямо по железнодорожным путям прошел до товарной станции, забитой товарными составами. На одном из путей стоял эшелон, в который продолжалась загрузка. Я подошел к одному старшине, распоряжавшемуся у походной кухни, и изложил ему свою проблему. Он ответил мне, что о моей дивизии ничего не знает, что в этот эшелон грузится штаб дивизий (он назвал ее номер) для отправки в Союз и, указывая в конец состава, сказал:
- Вон, кстати, идет начальник штаба со свитой, спроси у него, может быть, он знает.
Я направился навстречу группе офицеров. Не доходя, как положено, отчеканил строевым и, козырнув, обратился к генералу. В двух словах объяснил ему, что вернулся из отпуска, а части своей на месте не застал и ищу ее. Генерал в расстегнутой шинели, довольно демократично остановился, подумал и ответил, что не знает, где стоит сейчас 133 дивизия, но что ее в Союз не отправляли - это он знает точно. Посоветовал мне обратиться в комендатуру. Я, конечно, умолчал, что там я уже был, поблагодарил, и, козырнувши, попросил разрешения идти. Я снова подался на вокзал. И снова стал искать, пользуясь солдатским радио - не слыхал ли кто, не встречал ли кто... И тут один старший лейтенант сказал мне, что через пару часов отходит поезд на юг, на котором мне следует ехать до станции Кишкувфельдхаза, где стоит, или стояла наша дивизия. Это уже было что-то.
Через пару часов я уже сидел в поезде и дремал под стук колес, а часа через четыре уже был на месте, и к счастью своему, нашел своих. На подходе к дивизиону я подумал: вот Гвардия, наверное, спустит на меня полкана - ведь я в отпуске пробыл на 10 дней дольше (там брат мой через военного коменданта продлил мой отпуск на 10 дней), да вот уже несколько дней я мотаюсь по Венгрии, разыскивая своих. Как же я был удивлен, когда первое, о чем меня спросили в дивизионе:
- А где Гвардия?
- А он что, разве не приехал еще?
- Нет.
Ну, думаю, все в порядке, я еще рано прибыл. А через пару дней прибыл и Гвардия, да не один, а в сопровождении двух или трех мадьярок из Баболны-Пусты, бывших там милашками наших офицеров, когда наш полк стоял в этом селе, а наши офицеры квартировали у этих мадьярок, потеснив их мужей.
Выпал снежок, в полуказарменном помещении, где размещалось управление дивизиона, было неуютно, холодно, сыро. Но к счастью после нашего возвращения из отпуска, мы простояли в каком-то бездействии, в ожидании, всего несколько дней и нас перебросили в город Сегед. Там мы разместились в старых трехэтажных казармах бывшей Венгерской армии. Прямо перед нашими окнами на небольшой площади почти каждый день собирались малочисленные митинги венгров. Наверное, это были их коммунисты или социалисты, бывшие в оппозиций к бывшей власти, а теперь примерявшиеся вступить во власть под покровительством наших войск. Их собиралось совсем мало, человек по 15-20 и собирались они около наших казарм, видимо, из опасения, что в другом месте их могут поколотить приверженцы прежней власти. Они приносили стул, один из них взбирался на стул - импровизированную трибуну, и произносил речь. Смешно было видеть ораторов, стоящих на стуле, перед маленькой кучкой слушателей. Это вполне можно было делать и стоя на земле. Поговорив так с полчаса, они расходились, унося с собой и "трибуну".
В дивизионе нашем организовали учебную батарею, командиром которой назначили командира пятой батареи старшего лейтенанта Василия Чистюхина, молодого, молчаливого и на вид очень сурового человека. Рассказывали, что то ли он сам, то ли его жена была в партизанах, какое-то время, навидались там лиха, и мол, оттого в нем эта скрытность и суровость. На самом деле он был довольно демократичным и исключительно порядочным в общении.
Меня из управления дивизиона перевели в учебную батарею командиром отделения, но никакого отделения у меня не было. Просто я в одном лице осуществлял как бы штаб батареи. Я должен был преподавать топографию курсантам этой батареи, выписывал увольнительные, частенько и подписывал их за В.Чистюхина и именно его фамилией и так точно подделывал его подпись, причем не скрывая это от него самого, что он сам потом не мог отличить где его подпись, а где моя.
При этом он чуть смущенно улыбался, хмурился и предупреждал строго:
- Ты смотри у меня.
А я ему в ответ:
- Товарищ старший лейтенант, я же не сам, старшина попросил подписать, а вас не было.
- Ну ладно, ладно. Не злоупотребляй только.
А и в самом деле, прошла такая большая война, офицеры накомандовались на всю оставшуюся жизнь, поэтому в часть наведывались только с утра, а потом исчезали на квартирах или еще где-то, а в казармах оставались старшина с сержантами да разве что дежурный офицер в карауле.
Занятия им тоже не хотелось проводить, и перекладывали они это тоже на сержантов. Ну а мы-то что? Разве не видели, что перед нами такие же, прошедшие войну, многоопытные солдаты, как манны небесной ожидавшие демобилизации, и нужны ли были им эти занятия, а тем более моя топография? Когда мы стояли в Баболна-Пуста, там тоже "проводились" занятия по топографии с солдатами взвода управления. Я же понимал, что видеть ничего не делающего солдата для любого командира - нож острый. Там я уводил их за село (с глаз долой к виноградникам), мы усаживались в тени деревьев, срезав по изрядной грозди винограда, лежа на травке, лакомились, а потом рассказывали солдатские байки да были и небыли еще из той, далекой, уже довоенной жизни. И выждав так положенное для занятий время, возвращались в расположение части. Здесь же бегло проведя занятия по теме, мы тоже углублялись в воспоминания о гражданской жизни. Иногда, правда, уходили на занятия в парк. Парк в Сегеде был прекрасный, полудикий. В нем не было расчерченных, распланированных дорожек. Это был лиственный лес с редкими вековыми раскидистыми деревьями, меж которыми по зеленой травке извивались узенькие тропинки. Парк был обширен, конца и края его не было видно и всем нам нравилось бывать в нем, бродить меж деревьев или лежать на траве.
Вскоре, однако, я заболел. Вылезала из меня фронтовая простуда. Шея, затылок, лицо, спина стали покрываться фурункулами, число которых меньше двух-трех одновременно не было. Мучительные боли, озноб продолжались до тех пор, пока мне не сделали несколько переливаний крови. Фурункулы отступили, но пришла ужасная слабость. Пропал аппетит, силы иссякли, и я без отдыха на ступенях лестницы не мог подняться на второй этаж. Уколы и таблетки, которыми меня снабжал полковой врач старший лейтенант Водочкория, не помогали.
В дивизионе у нас был таджик Халиков Абдунаби, он же был ординарцем командира дивизиона капитана Водинского. Однажды он подарил мне золотые женские часы "Доха", строфейничал видно где-то. Эти женские часы мне передаривать было некому, не было у меня еще любимой девушки, а играть на скрипке мне очень хотелось научиться. И вот однажды я за эти часы выменял у одного мадьяра скрипку. Однако тренировать руку надо было с детства, а я слух имел отменный, ноты брал хорошо, а вот левая рука моя была малоподвижна, и игры не получалось, И вот как-то раз я и говорю моему другу:
- Абдунаби, скрипка мне ни к чему, давай ее променяем кому-нибудь, хоть на вино что ли?
И пошли мы с ним в тот дом, где квартировал командир дивизиона. Променяли скрипку хозяину на вино, сели, пообедали, немного выпили вина, пил я всегда мало. Но тут, будучи больным и ослабленным, я вдруг опьянел сильно и собрался уходить в казарму. И только я в калитку со двора на улицу, а навстречу мне капитан Водинский и старший лейтенант Водочкория. Я даже не посторонился, пру вперед, это им пришлось пропустить меня в калитке. Капитан только недоуменно посмотрел на меня молча. А на другой день, когда я пришел в санчасть за очередными уколами, старший лейтенант Водочкория и говорит мне:
- Тебе давно надо было напиться, теперь ты пойдешь на поправку. Не ругал тебя капитан?
- Так я же почти не пью. И этот раз выпил один фужер, а капитан не ругал еще, нет.
- И не будет. Я ему сказал, что это тебе на пользу. Уколы сегодня больше делать не будем. Иди.
И правда, болезнь моя отступила.
Бросок в Германию
А месяца через два наш 400-й артполк переименовали в 400-й гаубичный артдивизион, маскируя, таким образом, численный состав, через Чехословакию перебросили в Германию. С нашими западными союзниками уже тогда начинались трения, да, наверное, они не прекращались никогда, просто, пока шла война, пока наши фронты сначала сдерживали немцев, а потом гнали на запад, все это не выходило на поверхность, протекало подспудно, во всяком случае, вожделенным желанием американского президента после смерти Рузвельта было, чтобы русские как можно больше убили немцев, а немцы как можно больше убили русских. Англосаксы во все времена были если не явными, то тайными врагами России и те, кто клюет на их "дружбу" просто плохо знают историю.
Но вот в начале сорок шестого года в нашей печати появилось опровержение сообщений западной печати о том, что Советы наращивают свои войска в Германии, перебрасывая свои воинские части со своего Южного фланга. А мы читали эти опровержения и посмеивались. Мы тоже на огромной скорости, какую только могли развить Студебеккеры, по отличной асфальтированной автостраде мчались по коридору, открытому нам союзной Чехословакией, из Венгрии в Германию.
Во всех населенных пунктах, которые нам приходилось проезжать, вдоль дорог стояли люди и забрасывали наши машины цветами. Радостно было видеть проявление этой любви простых людей к нашей армии - освободительнице и нас переполняла гордость за нашу Советскую родину.
На одном из перегонов, когда спидометр нашего Студебеккера показывал 65 миль в час (примерно 100 километров в час) под машиной загрохотало железо, вылетел карданный вал. Я по фронтовой привычке приготовился было уже выпрыгнуть на ходу - мы еще не знали, что там загремело. Но видим, что машина управляема, переворачиваться не собирается, дорога шла под гору и шофер, постепенно притормаживая, сначала сбавил скорость, а километра через полтора совсем остановил машину. Мы тут же свернули с дороги в хуторок, сообщили по рации о поломке и стали ждать автомастерскую. Прибыла она к вечеру, где-то к полуночи машину отремонтировали. Заночевали здесь же, а утром двинулись дальше, уже не колонной, а одной машиной. Каково же было наше удивление, когда проезжая через населенные пункты, мы видели, что жители их стоят шпалерами вдоль дороги и забрасывают машину цветами, сопровождая это приветственными возгласами:
- Советская армада наздар!
Эта слава Советской армии и любовь к ней народа были завоеваны кровью наших солдат и позже замарана политиками во время вторжения в Чехословакию в 68-м году армий Варшавского договора. Как и слава Кантемировской танковой дивизии, добытая в Отечественной войне, была перекрыта позором, когда танки ее и танкисты ее за деньги, взятые Гайдаром на фабрике Гознака, расстреливали Верховный Совет, расстреливали Советскую власть, которой они присягали.
Однако. Чехословакия это не Советский Союз и уже к вечеру мы пересекли ее северную границу и вступили в Германию. Ситуация сразу переменилась. Населенные пункты стали будто безлюдными. Очень редкие прохожие будто не замечали нас и шли, сосредоточенно вглядываясь в дорогу перед собой.
Солнце опустилось, мы свернули на проселочную дорогу и, остановившись у лесочка, заночевали здесь. А утром прибыли во Франкфурт на Одере, а оттуда в расположенный в девяти километрах к востоку дачный поселок правительства Гитлеровской Германии Бад-Заров.
Здесь нам предстояло встать на постоянную дислокацию в бывших немецких казармах охраны дач. Бад-Заров был даже не поселком, а цепочкой правительственных дач Германии вдоль цепочки озер, соединенных каналами. Сначала мы встали у озера в палатках, но через несколько дней нас разместили в казармах - бараках из легких щитов, внутри которых была синтетическая теплоизоляция. Казармы эти были расположены в полукилометре от озера. Метрах в пятистах от нас располагалась бывшая дача Геббельса - министра пропаганды Германии. Населения в этих дачах никого не было. Мы ходили смотреть. Дачи были отделаны черным деревом и уже изрядно покурочены.
Продолжался дембель старших возрастов, люди у нас убывали, поэтому меня вскоре перевели в штаб полка, где начальником штаба был наш бывший командир дивизиона теперь уже майор Комаров. Меня определили в оперативный отдел, и командовал мной замначштаба по оперативной части капитан Клочков. В этой же комнате сидел замначштаба по строевой части капитан Оськин со своим писарем, моим однокашником по дивизиону на фронте - Чернецким. Рядом был кабинет НШ майора Комарова, а через коридор - замкомполка по строевой части майора Турукина, прибывшего в наш полк уже в Бад-Зарове.
Командиром полка стал полковник Заглодин, сменивший нашего командира полка периода войны, подполковника Зайцева. Полковник Заглодин был в некоторой степени демократ, занимался общими вопросами, в штабе бывал редко и вроде бы тоже подумывал об отставке. Мой друг Толя Закураев, смоленский паренек демобилизовался чуть раньше меня, и где-то в кафе, перед отъездом домой, сел за столик, и вдруг к нему подсаживается полковник Заглодин:
- Я, - говорит Толя, - было вскочил, а он - "Сиди, сиди". Пообедали вместе, пожелал он мне счастливого пути, пожал руку и ушел.
Сортир у нас стоял на опушке леса, окружавшего казармы, и был обычным армейским сортиром российского типа, где в рядок могли присесть сразу человек пятнадцать. Ну и в нем, как в любом российском сортире... Пришел как-то командир полка, приказал выстроить личный состав, вышел на середину, поздоровался, выслушал, в ответ "Здра... лам... рищ... ковникта!", потом и спрашивает:
- Вы артиллеристы?
- Да-а-а!
- Какие же вы артиллеристы, если в очко попасть не можете? - и указал на сортир. Устыдил. Наверное, после таких слов даже хозвзводники стали чувствовать себя "наводчиками". Но после этого там как-то чище стало.
Стали мы привыкать к казарменной жизни после фронтовой вольницы, да и после той вольницы, которая была при нашем постое в Венгерских селах. У каждого была своя кровать с тумбочкой. Постель заправляли, особым способом обертывая конец матраца простынею, да так, чтобы на всех кроватях было все, как по линейке, и эти простыни, и подушки.
Однако распорядка еще никакого. Дежурный по батарее кричит: "Подъем!" а никто и не шевелится до самой команды - строиться на завтрак.
Но вот появился майор Турукин, сорокалетний холостяк, у которого, наверное, до той поры не было никогда ни жены, ни любовницы. Утром ему задерживаться было негде и не с кем, вот он и повадился ходить в казармы к подъему. Скомандует дежурный подъем, а все лежат. Но вот появляется майор Турукин, дежурный подает команду "Смирно!" и докладывает, что батарея находится на физзарядке, а все еще лежат. Но тут уж все вскакивают проворно, да пока дежурный докладывает, все - шасть в окна (а казармы были одноэтажные и лето же) и там где-то одеваются. Майор заметил и стал бегать ловить, чтобы наказать, но где там? Вокруг было нарыто еще немцами полно траншей, кусты, деревья кругом, а солдаты остались молодые, проворные, старичков уже домой отправили, вот и бегал майор понапрасну.
Обозлился майор, что столько бегал и никого не поймал. После туалета и заправки кроватей зашел в казарму, посмотрел - не по линейке концы матрацев, обернутые простынею. Стал майор все выворачивать, а сам кричит:
- Что вы тут залуп понаделали?!
Ах, майор, майор! Чужак был, на фронте у нас его не было. Выпустил неосторожное слово и тут же схлопотал себе некрасивую кличку: "майор-Залупа". Только так теперь солдаты его и звали. Дошло до наших кадровых офицеров-фронтовиков, но те только потихоньку посмеивались.
Работы в штабе в связи с демобилизацией старших возрастов было много, а тут еще и штабные тактические учения частенько - все мы выезжали, имитируя наступление на Штеттин, либо на ликвидацию прорыва союзников со стороны Штеттина. И каждый раз надо было разрабатывать оперативные документы: приказы, схемы, циркуляры, маршруты... А тут дает как-то мне майор-Залупа блокнот и гундосит (говорил он в нос):
- Разлинуй мне, Соболев, блокнот.
Вот, думаю, без линейки писать не может. Сунул я блокнот в стол да за делами и забыл про него. А в ту пору жить мы, штабники, ушли из казармы на второй этаж соседнего капитального здания. Там мы жили вольно, никакого тебе подъема по утрам, ни зарядки. Утром идем в столовую, а майор уже там стоит.
- Стой! - кричит. - Почему не строем?
А нас всего-то трое. Я, Чернецкий, да еще старший сержант Мамонтов завспецчастью. Поворачиваемся, отходим метров на тридцать. Двое становимся гуськом - один в затылок другому, а третий идет, командует. На подходе подает команду:
- Смирно! Равнение на майора! - и докладывает, что работники штаба идут принимать пищу. А мы таким строевым рубим, как на параде, как только подметки сапог выдерживают. Майор доволен, мы тоже, потому что для нас это все забавная игра. И вот однажды мы заигрались.
Пришли в столовую, читаем меню: написано лапша с подливкой, а подают с маслом. Мы - в пузырь. Почему с маслом, а не с подливкой? Написано же и утверждено начальством! Хотя какая бы разница? Но мы же не голодные, жрать-то нам неохота, вот и изображаем забастовку. Не стали есть, повернулись и ушли к себе пить чай с печеньем. А это по-армейски уже ЧП ведь был же бунт на броненосце "Потемкин" из-за червей в супе... Пошли доклады по службе, что штабники отказались есть.
А был у нас завскладом ПФС земляк Чернецкого, хохол Паша, забыл его фамилию, он все время снабжал нас офицерскими доппайками - печеньем, конфетами. Еще бы! Два хохла, оба были в оккупации. Вот Чернецкий, когда начальства в штабе нет, вызывает к себе Пашу и начинает наводить справки. Вот, мол, приходил особист со СМЕРШа и спрашивал о тебе, Паша. Паша бледнел и твердил:
- А шо? А шо?
- Ну, понимаешь? Почему остался в оккупации? Почему в партизаны не ушел? А как ты сейчас?
- Та я же ж! Та в яки, ж партизаны? Ну а ты шо? А? - а потом, - Ты у вечери приходи...
Ну, Чернецкий идет вечером, нагружается у Паши офицерскими доппайками и к нам, в нашу комнату. Вот мы и были закормленные.
Надо с нас стружку снимать, а как? Юридически, если по уставу, то мы правы. Меню утверждено - извольте исполнять.
Утром приходим в штаб, только уселись за работу, заходит майор Турукин и ко мне;
- Дай-ка мой блокнот,
Я ему подаю, но говорю, что не успел разлиновать. Ну, тут майор и понес на меня,
- Ах, ешь вашу мать! Не успел! Лапшу с маслом жрать не хочете? С подливкой вам подавай! А блокнот разлиновать некогда! Ешь вашу мать...
А напротив за столом друг против друга сидят капитан Оськин и Чернецкий. Чернецкий притих, а Оськин хохочет в кулак.
Ну, кончился шум. Но после этого наши штабные офицеры Оськин и Клочков, которые с нами обращались совершенно запанибратски, частенько подтрунивали над нами. Как чуть что, они:
- Ах, ешь вашу мать! Лапшу с маслом жрать не хочете! С подливкой вам подавай! - и хохочут.
Чернецкий, между прочим, тоже был феномен. У него так потели ноги, что если он лежал босиком, то на его пятках выступала роса. Ну, соответственно и запах был у него в сапогах. Сидят они с Оськиным друг против друга, столы их составлены впритык. Работают, работают и вдруг Оськин задергает носом, как кролик, и бац кулаком по столу и кричит:
- Чернецкий, опять пальцами шевелишь?!
Это значит, что из широких кирзовых сапог Чернецкого дохнуло из-под стола прямо Оськину под нос.
Скоро, однако, наше дополнительное снабжение неожиданно оборвалось, причем самым прозаическим образом - подхватил Паша гонорею, и сняли его с продовольственного склада. Чернецкий сокрушался:
- Паша, ну как же это ты так?
- Та як, як. Прыйшов у вечеру на танци, дывлюсъ, стоить немка, мулъгается. Така справна - е шо... Бачу шо дило будэ. Ну, я до нэи. Ну и ...
По-моему, Чернецкий сокрушался больше, чем Паша. Ведь он с полгода доил его. Как только Паша начнет зажиматься, мол, нет ничего, так Чернецкий опять его в штаб и опять:
- Паша, опять приходил особист, опять спрашивал про тебя.
- А шо? А шо?
- Да шо? Про родителей твоих, про жену. Где они сейчас? - сочинял Чернецкий,
И снова Паша смягчался и заговорщически говорил:
- Приходь у вечеру...
Однако всему приходит конец, Прошло и лето сорок шестого, за которое мы несколько раз выезжали через Берлин на тактические учения, каждый раз то наступая, то отражая прорыв "союзников" со стороны Штеттина.
Наступила осень. Прекратились купания в озере. Я был молод. Был у меня велосипед, и я все катался на нем вокруг, накручивая физические нагрузки. А однажды мой друг Халиков, который тоже на велосипеде отвозил донесения в штаб дивизии, располагавшийся в 9 километрах от Бад-Зарова во Франкфурте-на-Одере, соблазнил меня прокатиться с ним. Я, не долго думая, сел и поехал. Доехали до Франкфурта - шоссе-асфальт, как зеркало, сдал он бумаги, и только мы наладились назад, как навстречу патруль - старший сержант и три автоматчика. У Халикова-то документ соответствующий, а у меня и увольнительной нет. Хотел я по-хорошему, но парни были не воевавшие, салаги 28-го года рождениями, ни в какую, ведут в комендатуру. Я было хотел просто оторваться, вскочил на велосипед и даванул на педали. Да видно передавил. Сцепление нарушилось, и педали закрутились вхолостую. Тут они меня и сцапали. Забрали велосипед, привели в комендатуру и на гауптвахту. Я говорю Халикову:
- Доложи в штабе, пусть выручают,
Но на мое несчастье, это был выходной день, в штабе ни одного офицера. И пришлось мне на этот раз заночевать на губе. И только утром, часам к одиннадцати за мной приехали на машине и привезли мне увольнительную.
Сидеть больше мне не пришлось. Пока.
Служба продолжалась, И жизнь продолжалась, как это всегда бывает, с расставаниями, с утратами фронтовых друзей. Уже нельзя было отыскать и навестить своих бывших друзей из полковой батареи 76 мм пушек 681-го стрелкового полка, потому что стрелковые полки 681-й и 521-й нашей родной 133-й Смоленской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии остались в Венгрии и были либо в Венгрии, либо расформированы, либо отправлены на Дальний Восток для войны с Японией этого я не знаю.
В нашем родном 400-м Трансильванском Краснознаменном ордена Богдана Хмельницкого артиллерийском полку, переименованном в гаубичный артдивизион, каждый месяц составляли списки на демобилизацию старших возрастов. Не так их много и осталось. Выстраивались перед штабом дивизиона 15-20 новоиспеченных дембелей в окружении тех, кто еще оставался. Лица счастливые и одновременно грустные. Жесты, движения, голоса, наигранно - бравые, а глаза подернуты влагой - расстаются друзья, игравшие в одну игру со смертью и выигравшие ее. Здесь было все уже родное, надежное, прочное. А что там ждало каждого из них? Там дома? Все ли найдут, что оставили? И всех ли найдут, кого оставили?
Замполит, подполковник Коваленко говорил прощальную напутственную речь, которую обычно заканчивал фразой:
- Ребята, война для вас не закончена! Пока вы здесь воевали, там в тылу развелось достаточно всякой сволочи, с которой вам еще придется бороться! Держитесь, ребята!
Подавалась команда: "Разойдись!" - строй рассыпался. В ожидании машины бойцы, уходившие и остающиеся, разбивались на группки. Кто-то что-то говорил. Кто-то обменивался адресами. Кто-то просто вглядывался в до боли родные лица.
...Бойцы вспоминали минувшие дни
И битвы, где вместе сражались они...
Подавалась команда: "По машинам!" - и осиротевшие солдаты уезжали... И осиротевшие солдаты оставались... Ах, если бы мы знали тогда, что таких друзей у нас никогда больше не будет... Но все отъезжавшие верили, что они едут туда, где были когда-то счастливы и что будут счастливы снова, позабыв о горькой мудрой народной заповеди: "Не возвращайся туда, где ты был счастлив - счастье не повторяется"...
Но об этом мы вспомним потом, через много лет, когда поймем, что лучшее в жизни бывает только в прошлом. И мы будем прилагать неимоверные усилия, чтобы найти друг друга. Для чего? Для того только, чтобы спросить: "Hv, как ты там, друг? Здоров ли? Как сложилась твоя послевоенная жизнь?" и вместе вспомнить что-то из фронтовой жизни. Вместе - это только по переписке. А помнишь? А помнишь? И поодиночке вытереть скупую слезу...
Дембель
Заканчивался сорок шестой год. Служба шла без особых событий. Обычные тактические, чаще всего штабные учения. Разборы, перерывы, затишья. Обычные армейские будни. И тоска по Родине. Однажды я получил весточку от отца, от которого ничего не было, и о нем мне никто ничего не мог написать вот уже четыре года, со времени Сталинградской битвы, участником которой по божьей воле был и он.
Оказывается там, будучи контуженным и полузасыпанным землей при бомбежке, он оказался на захваченной немцами территории и попал в плен. Он не писал мне всех перипетий жизни после пленения. И после он никогда не вспоминал об этом, а я не расспрашивал его, боясь нанести ему душевную рану. Мне уже потом, в письмах, кратко пересказывал мой старший брат - инвалид войны Ваня. Как-то при встрече с отцом они изрядно выпили и отец со слезами, с болью, отрывочно, бессвязно по хронологии поведал своему сыну все беды, постигшие его в плену.
Какое-то время он работал у Бауэра - немецкого крестьянина, но потом чем-то разозлил его. То ли посмотрел на фрица слишком многозначительно, то ли сделал какой-то угрожающий жест, когда фриц подгонял его палкой... Но оказался он в концлагере, я забыл его название, вроде Маутхаузен, не помню, но где-то в западной Германии. Там хватил сполна лагерного лиха, изнуряющей работы, побоев и голода. Отвезти его в крематорий немцы просто не успели, но физически он был уже готов к этому - работать не мог и уже не ходил. Спасло его освобождение лагеря американцами. Вытаскивали его из барака уже на руках. Весил он в это время всего 48 килограммов.
После освобождения, как многие бывшие пленные был определен под надзор и место работы на восстановление шахт в Донбассе. А и куда ему было податься? Бывшая его последняя предвоенная жена - наша мачеха, не ждала его, вышла замуж, и он был таким же бездомным люмпеном, как и я. Мы, штабники, сочинили просительное письмо директору шахты, сославшись на то, что я, его сын, еще служу в армии, а дома дела плохи и просили отпустить его с шахты. Письмо помогло (я не знаю, знал ли он сам об этом письме) и вскоре я получил от него письмо уже из Грузии, из Кутаиси. Наверное, он там снова на ком-то женился...
Встретились мы с ним только в пятьдесят четвертом году в селе Николаевка под Хабаровском, когда я уже работая на Сахалине, и во время отпуска заехал к нему.
Подходила к концу зима сорок шестого - сорок седьмого годов и пришел, наконец, и наш черед на демобилизацию. В дивизионе уже старыми фронтовиками-однополчанами оставались почти одни офицеры. А те, немногие рядовые и сержанты - это были мы последние, немногие, теперь уже уходящие, бойцы двадцать третьего и двадцать четвертого годов рождения, уцелевшие в горниле войны в количестве трое из ста, да и те наполовину подранки...
Нас, немногих, после прощального построения и речи замполита подполковника Коваленко, перевезли во Франкфурт на Одере и вместе со многими. такими же, как мы дембелями, собираемыми со всей оккупационной зоны Германии, поместили в пятиэтажной казарме человек по двадцать в каждой комнате, где мы пробыли дня два-три, пока укомплектовывался полный состав эшелона.
Мы были свободны в передвижениях и решали каждый свою проблему - как избавиться от оставшихся неизрасходованных немецких марок, которыми нам выдавали солдатское жалование. У меня их скопилось более тысячи, а в военторге уже почти ничего не было. Набрал детского белья разных возрастов, хотя мне везти его было некому, но оставались еще деньги. Тут кто-то подсказал, что поблизости от нашей казармы в немецком магазине продают недорогой анисовый ликер, Я не пил, но не пропадать же деньгам, и я затарил два больших чемодана (уж не помню, где я их взял такие, сколоченные из фанеры) и успокоился.
Между тем в казарме дембели во всю пили и выбрасывали пустые бутылки через форточки во двор. Была зима, лежал неглубокий снег, и бутылки не бились. А во дворе немец на санях, запряженных лошадью, объезжал казарму вокруг и грузил пустые бутылки в плетеный короб, стоящий на санях. Заполнял короб доверху, куда-то увозил, возвращался, а тут уж было опять только грузи. И так с утра до вечера.
Вмешалось начальство, стали, было отбирать спиртное, но мы в своей комнате объявили до погрузки в эшелон карантин и не пили, поэтому нас гроза миновала. Наконец, пополудни второго или третьего дня мы погрузились, как когда-то по пути на фронт, в теплушки и совершенно буднично поехали на Родину. Где-то за ночь пересекли Польшу. Нары были жесткие, бока побаливали, поэтому на рассвете уже не спалось и, наверное, не только мне. Поезд остановился на какой-то станции. За стенами вагона слышались редкие шаги да постукивание молоточков по колесам вагонов, какое обычно бывает на станциях, И вдруг, за стенами вагона так протяжно и жалостно протянул детский голосок:
- Дя-а-а-а-де-нька, да-а-й-те суха-а-ари-ка...
Все дембели, как по команде, разом, с грохотом сапог вскочили с нар, раскрыли дверь, а за ней серенькое мартовское утро, пасмурно, кругом снег, как-то сумрачно, закопчено, полуразрушено, редкие небольшие составы товарных вагонов и худенькая, бледная девочка лет семи в каком-то взрослом, висящем на ней пиджачишке, таком же сереньком, поношенном, как это утро...
Вот она, Родина!
Так сын-скиталец, оставивший когда-то молодую, здоровую, красивую мать, после долгих лет скитаний возвращается домой, в мечтах своих, надеясь увидеть ее такой же, торопливо сбивая шаг, подбегает к крыльцу, открывает дверь - и видит перед собой маленькую, с узенькими усохшими плечиками, поседевшую, с поблекшими глазами, в которых давно поселилась тоска, такую жалкую и бесконечно родную, кажется, одну только душу, И сердце его, только что парившее в высоких мечтах, вдруг, проваливается в бездну жалости и страдания...
Спустя полчаса мы поехали дальше. Война давно уже закончилась, это был сорок седьмой год. Никто нас не встречал, мы ехали буднично, будто просто перемещалась какая-то воинская часть. Радость победы уже отошла и заменилась новыми заботами о хлебе, о жилье, об одежде...
Так эшелоном в теплушках мы двигались с неделю до Новосибирска. Дальше мне надо было заворачивать на юг, на Ташкентское направление. Я пересел на такой же товарный поезд, который почему-то назывался "Пятьсот веселый". Пассажирами его была самая разношерстная публика, мешочники, безбилетники. Поезд подолгу стоял перед семафорами и последние пятьсот километров пути я ехал два дня.
Наконец, добравшись до Рубцовска, я вышел из вагона и, с трудом преодолевая неимоверную тяжесть своих чемоданов, нагруженных ликером, короткими перебежками метров по десять - дальше не держали руки - с остановками на отдых, направился через железнодорожные пути к бараку, где жил мой старший брат Ваня с женой и маленьким сыном. Дорога была знакомая, я уже бывал у них в сорок пятом году во время отпуска.
Застал я их только что вставшими с постели, чему был очень рад. Сели завтракать, вопреки правилу, что с утра даже лошади не пьют, мы все-таки за встречу выпили немного ликеру. Брат мой причмокнул, пошевелил своей единственной ногой, да и говорит:
- Э-э-э, за что же мы их били? Такой они вкусный ликер делают.
Все засмеялись. А ликер был действительно хорош. Через несколько дней мы с Ваней поехали на охоту на поезде. Где-то на маленьком безлюдном разъезде вышли из вагона и пошли прямиком в оживающую степь. Такой Ваня был азартный охотник, что и без ноги, на костылях, не мог удержаться, чтобы не выбраться на природу, в степь, к озерам, где уже хорошо пригревает солнце, так пьяняще пахнет оживающими травами, в вышине заливаются жаворонки, а выложенный на солнышке хлеб, впитывает в себя ароматы солнца, согретых трав, ветра и степи. Да с луковицей, да с немецким анисовым ликером...
- Э-э-э, за что же мы их били?
Начиналась гражданская жизнь. Дома нет. Семьи нет. Родителей нет. Имущество - солдатская форма на мне да шинель и несколько сотен демобилизационных рублей. И ни работы, ни специальности, ни законченного образования...
Но была наша родная Советская власть!
Эпилог
Кончилась война, настала мирная жизнь, и все мы ринулись в разные стороны в надежде на счастье, на обретение новых друзей и любимых. Но только через много лет мы поняли, что по-настоящему счастливыми мы были только там, на фронте, когда мы были молоды, когда били из наших орудий, когда ходили в атаку, когда чувствовали себя причастными к великим делам. И лучшими друзьями были те, с кем рядом ходил в атаку, с кем спал в одном окопе, делясь своим теплом, с кем ел из одного котелка, с кем читал редкие письма с Родины. Мы прозрели и стали искать друг друга, объединяя эти усилия в поисках своих однополчан.
И находили, и радовались счастливой судьбе одних, и печалясь жестокой судьбе других. А кого-то и совсем не нашли.
Первым, кого не стало после войны, был Степа Даманский, наш разведчик. Он так хорошо пел своим душевным тенором! Такой мягкий, лиричный, стеснительный Степа, во время отпуска на Родину, наверное, в одно время со мной, с моим отпуском, или чуть позже, в Каменец-Подольске на станции, меж товарных составов, где он шел, его зарезали бендеровцы. Ну, разве мог он ожидать предательского удара в спину после такой войны, после победы от своих земляков?
Уехали по замене в Союз, да так и не переписываясь ни с кем, исчезли из поля зрения всех замполит старший лейтенант Миронов, мл. лейтенант Комар, капитан Клочков и многие другие.
Майор Комаров, боевой офицер впоследствии на бытовой почве застрелился.
Гвардии капитан Кривенко демобилизовался в 1946 году, уехал на родину и прекратил связь с кем-либо.
Мой друг Халиков демобилизовался через год после меня в 1948 году, уехал на родину в Таджикистан, и связь с ним прервалась.
Старый холостяк майор Турукин по замене уехал в Бийск, там женился, родил сына и был безмерно счастлив.
Командир полка, полковник Заглодин, ушел в отставку, уехал в Краснодар, и связь с ним прекратилась.
Костю Файдыша - лейтенанта Файдыша через много лет встретил бывший наш артмастер Карамышев в Сердобске. Где-то в городе его позвали: "Петро!" оглянулся - никого знакомых и снова: "Петро!" - и подходит:
- Не узнаешь, Петро? Я - Файдыш.
- Я, - говорит Карамышев, - присмотрелся, что-то мелькнуло от Файдыша
- Нет больше Файдыша, - сказал Файдыш и заплакал.
Перед Карамышевым стоял грязный, обросший оборванный бомж... Не сложилась судьба у Файдыша. Сколько их, таких, как Файдыш, не нашли себе место в гражданской жизни, спились, опустились, погибли...
Рядовой Бикташев после демобилизации уехал в Саратов, какое-то время переписывался с капитаном Водинским, потом связь прервалась.
Со временем я разыскал адрес командира дивизиона капитана Водинского, и он сообщил мне некоторые адреса и кое о ком информацию, к сожалению, печальную. Уже несколько лет прошло, как умерли: лейтенант Шматок, командир взвода боепитания, Махоткин - бывший командир отделения радиосвязи, парторг полка капитан Гримберг, помначштаба капитан Оськин. Бесследно исчез, демобилизовавшись, Уржумцев.
Счастливо сложилась судьба фельдшера младшего лейтенанта Чудецкого. Демобилизовавшись, он закончил мединститут, работал главврачом поликлиники, с 89 года на пенсии, в Ярославле.
Иногда однополчане встречались. Так, в 88-м году, в сорок пятую годовщину освобождения Смоленска, мы, освобождавшие его бойцы 133-й Смоленской стрелковой дивизии, приехали в город. Нас поселили в самой захудалой гостинице. В день праздника нас не пригласили даже на митинг. Там, на площади, люди праздновали, торжествовали, а нас будто не существовало. А зачем мы? Ведь речи написаны, чиновниками прочитаны. Нам и теперь каждый год присылают ханжеские поздравления якобы от президента, на которых частенько дата отправления значится после даты получения... Сходили мы тогда на экскурсию по городу, вечером, сбросившись, посидели в столовой, съездили к братской могиле, где захоронены более 700 человек, павших при прорыве обороны немцев нашей дивизией, а на другой день разъехались по домам. Там я встретил своего еще довоенного друга Вену Шумкова, с которым переписываемся по сей день. Там же я узнал и адрес Водинского. Но как мало нас осталось и почти никого знакомых.
С Водинским мы переписывались несколько лет. Он после Германии служил в Бресте. Какое-то время учился в высшей офицерской школе. Стал майором. Участвовал в учении с применением атомной бомбы. Демобилизовался в 1956 году, окончил институт и работал в НИИ стройматериалов. В 1988-м году, когда я был на Украине у своих друзей Сафроновых, я ездил к нему в Киев. Но обстановка там была уже неспокойная. Поднимали головы бывшие бендеровцы-националисты, которые присылали угрожающие письма и предлагали убираться. А он был еврей по национальности, но совершенно русский по духу. Однако, после распада Союза, через несколько лет он уехал в Израиль, и переписка наша прервалась. Только после его отъезда в Израиль, я по-настоящему почувствовал, что Советский Союз распался.
Какое-то время я переписывался с Коломийцем. Он жил в Винницкой области. После смерти жены жил один. А через какое-то время в ответ на мое письмо, написала его внучка, что дед Демьян повесился. Что его заставило? Наверное, одиночество, а также то, что рушилось то, что мы защищали, теряя своих друзей.
Из моих довоенных друзей остался в живых еще Петя Жигалов. Но мы с ним не переписывались. Об этом мне писала Тамара Шамшурова, в замужестве Занченко, наша общая любимица. Но она, где-то в начале восьмидесятых годов умерла от инсульта, не намного переживя своего мужа.
Уходим. Уходим. Уходим.
Сколько нас осталось последних могикан той Великой Отечественной войны, того великого времени, когда мы защищали и строили Великое государство Советский Союз? Очень мало.
Люди сменившего нас поколения позабыли, за что клали головы их отцы и деды. Они бездарно промотали то, что получили в наследство. Через много лет они поймут, что потеряли, что не смогли сохранить из уже завоеванного и построенного нами.
Но будет поздно.
"Нам дороги эти позабыть нельзя..."
В июне прошлого годы в "Регионе" был опубликован отрывок из автобиографической повести, которую автор Семен Никитович Соболев назвал "Исповедь". "Это стремление не только осмыслить и переосмыслить прожитое и пережитое, это рассказ о судьбе людей его поколения, на долю которых выпало все - голод, война, разруха, но которые, преодолев все трудности, смогли выстроить Великое государство - Советский Союз. И стали свидетелями краха всего, чему были отданы лучшие годы, - писали мы тогда, предположив, что книгой, большинство страниц которой посвящено Великой Отечественной войне, вполне возможно, заинтересуются и настоящие издательства, ведь не за горами 60-летие победы над фашистской Германией, а живых свидетелей и участников той Победы, как это ни печально, с каждым днем становится все меньше и меньше". И она действительно увидела свет. В День родного города, который по традиции в Охе отмечается вместе с профессиональным праздником нефтяников, в выставочном зале Охинского краеведческого музея состоялась презентция книги "Фронтовыми дорогами" и открытие персональной выставки художника.
- Знаменательно, что в рамках празднования 60-летия Победы мы открываем вторую выставку ветерана Великой Отечественной войны, - сказала на торжественном вечере начальник управления по культере, спорту и делам молодежи Елена Александровна Корева, - в феврале мы открывали выставку Петра Карповича Шищенко, а сегодня художника Семена Никитовича Соболева.
Выразив признательность за ту радость, которую автор дарит своим творчеством, она вручила Почетную грамоту, которой администрация г.Охи наградила С.Н.Соболева за многолетнюю творческую деятельность, а в качестве подарка юбиляру, отмечающему свое 80-летие, город профинансировал выпуск его книги, которая была выпущена издательством "Приамурские ведомости".
Представляя автора, директор музея А.В.Сиськова отметила, что Семен Никитович Соболев - человек с очень интересной судьбой:
- Больше всего он мечтал путешествовать. И жизнь предоставила ему такую возможность, правда, сначала нелегкую - он прошел трудными дорогами Великой Отечественной в составе одного из полков второго Украинского фронта, освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию,Чехословакию. Награжен орденами и медалями Великой Отвечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За победу над Германией", юбилейными медалями, он ветеран труда, имеет одиннадцать благодарностей генералиссимуса и награжден медалью к 120-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. С.Н.Соболев внес значительный вклад в освоение природных богатств Северного Сахалина, за мирный труд в 1967 году был удостоен знака Отличник геодезии и картографии Министерства геологии СССР, а в 1982 году становится действительным членом географического общества СССР. В одном из приказов сказано - видение глазами художника помогало ему создавать топографические карты на грани искусства. Видимо, это сочетание работы с картами, с местностью, путешествия привели его к созданию художественных произведений. Приехав в Оху в 1950 г., Семен Никитович сразу становится человеком влюбленным в Сахалин, и хотя не раз уезжал отсюда, но всегда возвращался. В 1970 он году окончил факультет живописи и рисунка заочного народного университета искусств имени Крупской. Им исхожены километры и километры таежных северных троп, написаны сотни этюдов и картин, он постоянно принимает участие в наших традиционных выставках, в 1999 году прошла его персональная выставка, где было представлено 46 работ. Семен Никитович Соболев один из немногих, кто пишет портреты. Подлинным открытием для нас всех явилась его графика. Всего на этой выставке представлено 89 живописных работ, более 20 графических и три декоративно-прикладных - выжигание по дереву и чеканка, кстати, вот этот вид творчества для нас тоже был когда-то открытием, - отметила Алла Викторовна.
Не меньшим открытием для многих был и выход книги воспоминаний ветерана.
Директор Сахалинского отделения издательского дома "Приамурские ведомости" А.В.Тарасов заметил, что это событие не только в культурной жизни северной столицы, но и всей области:
- Мы всегда будем помнить подвиги наших отцов. Книга получилась замечательная, она написана живым языком, содержит много фронтовых эпизодов, это правдивый рассказ о войне, о тяжелом солдатском труде. К сожалению, многое из рукописи осталось "за бортом", но ясно, что потенциал автора очень большой и приятно, что Оха, в которой всегда жили замечательные талантливые люди, не сдает свои позиции.
Примечательно, что все таланты С.Н.Соболева начали раскрываться после выхода на пенсию. Точнее сказать, он готовился к ней заранее.
- У меня была замечательная прабабушка, которая прожила 104 года, рассказывает Семен Никитович. - Я не профессиональный художник, всю жизнь проработал топографом, и уже тогда думал - вот выйду на пенсию, чем буду заниматься? Родился-то в деревне, и хотя жил там недолго, но успел подсмотреть, что люди там работают всегда, у них нет ни выходных, ни праздников, трудятся все, посильным трудом занимаются и дети, и старички, а самые древние старцы говорили - помирать собираешься, а рожь сей. Таким образом стал готовиться - поступил в заочный университет, а когда вышел на пенсию, стал заниматься живописью, учился у своих товарищей. Этот год очень упорно работал, готовясь к персональной выставке. Для художника важно не то, что о нем говорят, даже в связи с юбилеем, для него важна востребованность: если вам захочется посмотреть его работы - это хорошо, для него это самая главная награда.
Что же касается книги, то сам автор считает, что никакой он не писатель:
- У этого несчастного дитяти много было "акушеров" и "акушерок", поведал С.Н.Соболев. - Начинал писать еще лет 20 назад, когда работал в объединении "Оханефтегаздобыча". Была у нас тогда председатель месткома Наталья Георгиевна Тронова, которая и предложила написать что-нибудь ко Дню победы для нашей местной газеты. На работе у меня было иногда свободное время, потому что я работал всегда хорошо - всю жизнь не курил, поэтому без перекуров работал, никогда не страдал ни запоями, ни похмельями, поэтому у меня тоже перерывов не было. Еще тогда я задумался - почему у нас, у русских, так коротка память: своих предков мы помним ну, максимум до бабушки-дедушки. А вот мусульмане - те до семи колен знают своих предков, кто из них чем занимался. Я писал эту книгу не для издания, хотел написать для своих детей. Чтобы помнили.Но вот прошло 20 лет и как-то в разговоре директор школы искусств О.В.Носырев говорит мне - пиши. Я ему - а что писать-то? Про войну столько написано замечательных художественных книг. А он мне - так то вымысел, а ты очевидец, участник. Ну, я и продолжил. Он же и передал "самиздатовский" вариант книги нашему "министру культуры" Елене Александровне Коревой, а та уже мэру А.В.Хорошавину. Вот таким образом и родилась эта книга.Спасибо нашей администрации, что нашли деньги. Книга получилась красивая, и я хочу передать благодарность оформителю А.Посохову, а за хорошие репродукции В.Токарскому. Конечно, рукопись сократили пришлось по одежке протягивать ножки. В своей книге мне хотелось как в поминальной молитве назвать всех товарищей, командиров, с кем пришлось воевать. При правке убрали кое-какой "перец", "уксус", всякие "приправы" нашей окопной жизни - а мы ведь там жили, это обыкновенная жизнь была, только в условиях войны. Жили, и работали, и умирали, и люди там были самые разные, и поведение было самое разное - от самого низменного до самого возвышенного, до самопожертвования.
"...Уходим. Уходим. Уходим. Сколько нас осталось последних могикан той Великой Отечественной войны, того великого времени, когда мы защищали и строили Великое государство Советский Союз? Очень мало. Люди сменившего нас поколения позабыли, за что клали головы их отцы и деды. Они бездарно промотали то, что получили в наследство. Через много лет они поймут, что потеряли, что не смогли сохранить из уже завоеванного и построенного нами. Но будет поздно". На такой горькой ноте заканчивается рукопись. И события последних лет и, особенно последних дней, показывают, насколько прав ветеран Великой Отечественной в своем горестном провидении.
Электронную книгу "Исповедь" в авторском варианте без каких-либо купюр можно прочитать на сайте -online.ru/. *
Елена Олейникова,
г.Оха, Сахалин.
"Регион" №36(357) 8.09.2004 г.





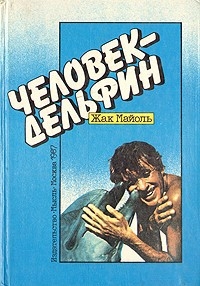
Комментарии к книге «Исповедь», Семен Соболев
Всего 0 комментариев