Олег Валерианович Басилашвили Палата № 26. Больничная история
© ООО «Издательство К. Тублина», 2018
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2018
© А. Веселов, оформление, 2018
* * *
Тимофею с любовью
Они вошли в мою палату, сразу несколько человек, молодые, румяные с морозу, в белых халатах, – группа врачей-стажеров.
– Ну, что тут у вас?
– Да вот… задыхаюсь, сердце, температура, легкие…
– Да нет, с вами ясно все. Что с телевизором?!
Телевизор в палате шикарный, совсем плоский, как в фантастических романах моего детства. Можно на стенку вешать, словно картину. Так что телевизор хороший, японский. Только не работает. Почти не работает. Включишь его – безумные линии скачут, и шипение какое-то громкое… Иногда вдруг вспыхнет экран, щелкнет на секунду-другую, мелькнет девичья попка, загремят какие-то звуки вроде музыки, и опять треск, шипение, и линии полосуют экран, и никакого изображения.
И вот врачи пришли, много, несколько человек, чинить телевизор.
– Вы одним пультом, Олег Борисович, пользуетесь?
– Валерианович, простите.
– ?
– Отчество мое Валерианович.
– А-а-а… Так одним?
– Одним.
Иронические улыбки:
– Это ведь спутниковый телевизор. Видите: четыре пульта.
Вижу. Еще какие-то ящички с кнопочками, черт их разберет. Ну да сейчас наладят.
– Так вот надо оперировать всеми пультами! Сейчас у вас идет кабель, да? А вот сейчас… – Говорящий берет два пульта и жмет чего-то, результат нулевой. Другой пульт жмет: раз, два, три – ноль.
– А, вот они сзади, папа-мама провода. Их же надо, да.
Включает, жмет. Результат – ноль.
– А попробуй впереди, вперекрест, вот так. – Это включаются остальные.
Поворачивают телевизор. Хоть и двадцать первый век, туго скрипит он при повороте. Втыкают, жмут. Результат – все вообще исчезло, даже шипение.
– Так, братцы, вынимайте, верните к исходу, пусть будет так, как было, хотя бы.
– Ладно, потом. У нас сейчас обход, надо больных проверить, новые назначения, мысли, надо проверить. А мы вызовем мастера, он сделает.
Уходят.
– До свидания, Олег Васильевич.
– До свидания.
Пусто и тихо стало в палате.
Палата у меня отдельная, спасибо друзьям, помогли со страховкой. Лежу. И мобильник не работает, испортился. Поговорить не с кем. Вдруг щелк и…
– Всех, всех! Всех вас! Мы пересажаем! Всех до единого!!! Однозначно!!! Вас – в первую очередь. – И исчезает, милый.
И кого он будет сажать? Меня? Вместе со всеми? Ну, это не страшно, если со всеми, в одиночке, говорят, плохо. Хотя какая тут одиночка, если всех, всех, всех…
Опять щелчок, одно слово вырывается: «уконтрапупить» – и опять шипение. Ну да, если не сажать, то уконтрапупить. Нет, нет, нет, хорошо, что телевизор не работает.
Закрываю глаза. Всплывает воспоминание.
Сорвались мы с места и помчались к президиуму, туда, где надо всеми нависает гранитный Ленин, туда, где место председателя съезда народных депутатов занимает временно исполняющий обязанности председателя некто Казаков.
Бежим через весь гигантский зал, бывший когда-то залом заседаний Верховного Совета СССР. «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Где в едином порыве, как один, вскакивали депутаты со светящимися от счастья глазами и нескончаемо аплодировали любимому вождю. А теперь здесь зал заседаний Первого съезда народных депутатов РСФСР, то есть России. (Слово «Россия» пока до поры до времени не произносилось, нет такой страны – Россия, есть РСФСР. Есть Украина, Грузия, Узбекистан, они есть, а вот России нет. РСФСР.)
Два дня съезд не может выбрать председателя Верховного совета. Оба кандидата: Ельцин от нас, демократов, а от коммунистов, не помню, кажется, Воротников, неважно, – оба не добирают нужного количества голосов. И вот Казаков предлагает снять с голосования обе фамилии – и Ельцина, и Воротникова – и предложить новых кандидатов. В стане коммунистов ликование: Ельцин будет убран! У нас, демократов, шок: именно с Ельциным мы, да и абсолютное большинство народа, связывали наши надежды на возрождение России! Нет у нас равнозначного Ельцину другого лидера! Не будет Ельцина – будет стоять во главе коммунист, покатимся назад, в советское прошлое: к репрессиям, дефициту повсеместному, запретам, к демагогии!..
Мы требуем продолжения голосования с прежними кандидатами, требуем поставить это предложение на голосование. Казаков не внемлет:
– Ставлю на голосование предложение: кто за то, чтобы снять старые кандидатуры и заменить их на новые?
Голосование пошло!
Остановить! Остановить голосование во что бы то ни стало! Тридцать секунд! Тридцать секунд всего у нас! Потом – стоп машина – и выдается результат. Конец.
Нас, демократов, чуть более ста человек, а на съезде коммунистов более тысячи. Ясно, каков будет результат голосования.
Вот тут-то и сорвались мы с мест, и помчались к президиуму.
Кучеренко! Молоствов! Куркова с кипой каких-то телеграмм! Еще кто-то! Я бегу.
– Остановите голосование! Требуем!
Казаков в микрофон – к ОМОНу, сидящему на первом этаже:
– Захват!
Кучеренко закрывает микрофон рукой:
– Остановите!
Казаков рвет микрофон на себя:
– Захват!
Секунды неумолимо скачут, еще чуть-чуть – и все. Кучеренко:
– Почему не поставили на голосование наше предложение – оставить прежние кандидатуры и голосовать в третий раз?
– Захват!
Мы – меньшинство, нас, демократов России, на съезде всего около ста человек, но благодаря телевизионной трансляции все, что происходит на съезде, видит народ. А народ яростно поддерживает нас, кучку демократов и Ельцина, поэтому в самых напряженных моментах, когда надо голосовать по ключевым вопросам, на весь гигантский зал Кремлевского дворца раздается голосище нашего депутата Дмитриева:
– Поименно!!!
И коммунисты, и иже с ними вынуждены голосовать вместе с нами за или в лучшем случае «вздр», что означает «воздержался», и только в редчайших случаях против… Понимают они, понимают, что народ страны увидит, – а ведь фамилии всех голосующих тут же возникают на телеэкранах – боятся обнаружить свои подлинные намерения. Так и сейчас, ведь вся эта заваруха транслируется на всю страну, и сразу видно, кто за что: кто за надежду на нормальную жизнь, а кто пытается остановить ход истории, пытается сохранить ту власть, которая довела страну до краха. Промышленность рухнула, сельское хозяйство умерло, магазины пусты, повсюду гигантские очереди, вновь карточки, да и то по ним ничего не получишь… Поезда не ходят… Городской транспорт стоит… Улицы городов погружены во мрак… И опять Кучеренко по микрофону. Срываются с мест коммунисты и иже с ними.
– Остановите!
Испугался Казаков.
Голосование остановлено. Временная победа: завтра будем голосовать за прежние кандидатуры. Перерыв… Отложили на завтра.
А завтра что?! Опять то же! И тут вспомнил я фильм Говорухина «Так жить нельзя».
Первая, мне кажется, картина, где чрезвычайно правдиво, талантливо, на документальном материале показана наша советская жизнь, наша деградация: пьянство, убожество, ложь, воровство, вырождение… Так нельзя жить, надо что-то предпринимать, менять экономическую нашу систему, дать народу возможность поверить в себя, в свои силы, наделив каждого гражданина правами, которые дадут ему возможность почувствовать себя хозяином своей судьбы, хозяином своего отечества, хотя бы воскресить в нем надежду на лучшее будущее.
Иначе – гибель, конец…
Мчусь на «Мосфильм». Договариваюсь о показе депутатам фильма «Так жить нельзя». Сегодня вечером. В громадном первом павильоне. Организуем автобусы.
С трибуны съезда приглашаю всех депутатов на «Мосфильм» сегодня вечером – депутаты довольны: интересно побывать на «Мосфильме»!
И посмотрели депутаты фильм, и оглоушил он их своей страшной правдой. И там, в первом павильоне, неожиданно вспыхнула дискуссия, чуть не до драки: а как жить?!
Наступает новый день. Поднимаюсь по главной лестнице в зал заседаний.
Рядом – Ельцин.
Высокий, стройный. Головы на две выше меня.
– Ну, Борис Николаевич, держитесь, мы с вами.
– Да уж скорей бы.
Поднимаемся до верха парадной лестницы, до гигантской картины Иогансона «Ленин на съезде комсомола». Ленин этак правой рукой, ладошкой, объясняет: учиться, дескать, надо, учиться и учиться. Толково объясняет.
Мимо, в зал заседаний.
Зал гудит. Ставим на голосование. Опять вопль Дмитриева: «Поименно!» Ну и голосище у него! Проголосовали.
Компьютер выдаст сейчас окончательный результат. Тишина в зале. Напряженная тишина, аж в ушах звенит.
И вот на экранах появляются цифры.
Побеждает Ельцин. Борис Николаевич. Несколькими голосами.
Невольно Ленина вспомнишь: «Из всех искусств самым важным для нас сейчас является кино».
Теперь наша Россия попробует начать жить по-человечески.
В перерыве в кремлевском саду Куркова ломает громадную ветвь сирени, объясняет милиционеру:
– Это для Ельцина.
– А, ну ладно.
На Головинском, номер шесть! Прицепили тебе жесть! Жесть! Жесть!..Так пели тифлисские «оппозиционеры». Пели тихо, собравшись в тесный кружок, чтобы никто не услышал…
«Прицепили тебе жесть!»
Дело в том, что к карете губернатора Грузии революционно настроенные грузинские юноши прицепили на длинной веревке пустую консервную банку.
Губернатор сел в карету, карета двинулась, и консервная банка запрыгала, затарахтела по булыжникам Головинского проспекта Тифлиса (ныне проспект Руставели).
Скандал!!!
Эта акция была наиболее яркой страницей в истории предреволюционного движения в Грузии. Это потом уже появились Коба, Камо, другие и пошли грабить, убивать, взрывать.
Историю эту рассказал мне папа, с усмешкой вспоминая революционные настроения грузин начала двадцатого века.
Глядя из сегодняшнего две тысячи восемнадцатого года на себя, вьюношу шестидесятых – восьмидесятых годов, я вижу, что мало чем отличался я от тех тбилисских парней…
«Прицепили тебе жесть!»
Да, видел, ощущал нелепость и лживость власти, да, возмущался… Но – не более… На кухне, за водочкой, можно было, например, продекламировать одну из многочисленных:
Дедушка в поле гранату нашел, Сунул в карман и к райкому пошел. Дернул колечко и бросил в окно. Дедушка пожил, ему все равно!Остроумно, да и не опасно, теперь не сажают. Телефон выключен, да и говорим полушепотом, не опасно. Да, слышал я о каких-то «психушках», о диссидентах, о тюрьмах – но уходил в сторону: прочь все это – все, что будоражит совесть, что мешает жить.
Страна жила сама по себе – да, правила жизни враждебны, сковывают инициативу, ну что ж, надо приспособиться, пытаться выполнять, а вообще-то гори все оно синим пламенем… Идет война в Афгане – гибнут ребята, ну а что я, собственно, могу поделать?! Ничего…
Суют Сахарову шершавую кишку в глотку, уничтожают Солженицына, губят в лагерях, судят за тунеядство гения Бродского, убивают Пастернака – да, мерзко, а я что могу? Ничего… И не высовывайся. Принимай жизнь такою, какова она есть, – занимайся своим делом… А за поллитровкой на кухне поноси советскую власть…
Водяра, плавленый сырок «Дружба», все свои, телефон отключен, не страшно.
Правда, и на кухне бывали иногда срывы, заводился на политику не с тем, с кем можно… Мама в таких случаях говорила:
– Олег, перестань болтать! Безответственная болтовня! Ты ничего не изменишь, а можешь только изуродовать жизнь себе и своим близким. Этакая актерская распущенность, хлестаковщина!
– Мама, но меня действительно…
– Ты актер, твоя работа – передавать зрителю лучшее, что в душах авторов, делать людей чище, светлее, этим надо заниматься. Вспомни Успенского «Выпрямила».
Действительно, почему так рвался зритель на наши спектакли в Большой драматический театр? Потому что Товстоногов находил в них правду человеческих взаимоотношений. Никакой политики. Никаких намеков. Безусловная правда жизни, льющаяся со сцены в зрительный зал, сама по себе, своим присутствием бунтовала против повседневной и повсеместной лжи, звала вздохнуть чистым свежим воздухом правды, не отравленным идеологической химией.
Я в театре честно пытался делать свое дело. Подчас казалось: вот сыграю, положим, «Дядю Ваню» или «Выпьем за Колумба» – и люди поймут, изменятся, начнут жить по-новому…
Признаюсь, иногда мне даже во время спектакля казалось – вот! вот настал этот миг единения и там, в зале, – они поняли, они теперь другие!!!
Глупо и наивно до безумия, конечно!
«Ну, легкомысленны… Ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…»
Да, люди, их природа – наверное, это вечное. Но вот с «квартирным вопросом» как-то решать надо. Наверное, кто-нибудь да решит. Но кто? Когда?
Но вот откуда ни возьмись – Горбачев. Перестройка. Гласность. Горбачев – молодец. Мы за него! Пытается как-то наладить жизнь по-иному. Ну что ж! Ему и карты в руки! Он – главный, он – генсек. Пусть трудится. Ура!
Коробило иногда, правда, как он, властитель всей страны, вместо «Азербайджан» говорит «Азебржан» или ударение: начать, предложить.
Правда, слово «коммунизм» уже выговаривает четко, не по-хрущевски: «коммунизьм», а «коммунизм»: «Стоит нам начать перестройку, и увидим горизонты коммунизма». Это радовало.
Но съезд! Съезд народных депутатов СССР!!!
Сахаров. Афанасьев. Шаталин. Попов. Ельцин… Впервые отсюда, с кремлевской трибуны Дворца съездов, с трибуны, осененной гигантским портретом Ленина, несутся слова о необходимости перемен, о необходимости изменений в экономической и политической системе страны.
То, о чем говорилось шепотком, с оглядкой, сейчас звучит громко, бесстрашно.
Четко, ясно, недвусмысленно звучат слова, которые я и на кухне-то произнести боялся, а здесь – в Кремле, в присутствии загорелых партийных бонз, агентов всесильного КГБ, послушно-агрессивной массы серого партийного большинства – свободно и ясно звучит речь человека, чувствующего и думающего так же, как я, но в отличие от меня – свободного от страха перед системой, страха, впитанного мною (да и всеми нами) с молоком матери, – человека, верящего, что слова эти могут изменить мир, покончить с попустительством злу.
– Кто это?!
– Это? Собчак Анатолий Александрович.
– Кто он? Откуда?!
– Из Ленинграда, профессор университета.
По-звериному вопит партийный зал, истерически кричат с трибун оппоненты. Страна прильнула к телевизорам. Утром – на работе, в очередях, в трамвае:
– Слышали? Слышали вчера Станкевича?!
– Да! Афанасьев-то, а? Агрессивно-послушное большинство!!! А?!
– Да! Да!
Вокруг редакции «Московских новостей» на Пушкинской толпы народа. Споры. Обсуждение статей… Выступлений на съезде…
– Сахаров сказал правду! Правду об Афгане!!! Так было!
Кричит однорукий, бывший афганец с медалями на груди:
– Так и было! А эта мразь, что унижала Сахарова, все врет!
Чуть до драк не доходит.
Популярность Ельцина растет с каждым днем.
– Видал? Видал вчера-то?! Ельцин-то, а?!
– Что?
– Бросил им партийный билет. Подавитесь, суки!
А Сахаров?! Сахаров – сутулый, картавый – пытается донести до тупой партийной массы главные тезисы написанной новой Конституции СССР под хохот и топот этих мерзавцев в хороших костюмах, под возгласы Горбачева:
– Ну усе, усе, усе! Уремя истекло!
Как с непослушным ребенком: «Ну усе, усе! Хватит».
– Я не сойду с трибуны! У меня мандат потяжелее вашего, мне этот мандат выдал народ!!!
Свист, хохот, аплодисменты не дают говорить Сахарову… Он, сутулясь, уходит с трибуны.
Горбачев:
– Шо и следовало доказать.
На улицах демонстрации… «Требуем отмены пятой статьи!»
«Огонек» разоблачает.
Митинги… Ельцин, Попов, Афанасьев.
Я, как и большинство, – у телевизора. Все мои симпатии – демократам. Чувствую: ими руководит нравственное чувство, желание изменить к лучшему жизнь. И им верит народ. Впервые благодаря горбачевской гласности люди поверили и почувствовали возможность высказаться, поверили, что они могут заставить слушать себя, поверили в свои силы.
И я почувствовал, впервые почувствовал возможность самому повлиять на ход событий вместе со всеми.
И когда Лавров, наш худрук, блестя зеркальным взглядом, предложил мне баллотироваться в депутаты съезда народных депутатов РСФСР, я, не колеблясь, согласился.
Ослепительное осеннее небо. Слепит глаза золото кремлевских куполов… Иван Великий… Успенский собор… Пьянящие гигантские гроздья сирени… Май.
Стоим мы, ленинградцы, демократические депутаты российского съезда, прошедшие горнило выборов, победившие соперников-коммунистов, победившие в отчаянной борьбе: пикеты возле метро с матюгальниками, дебаты в клубах – почти драки, когда соперник со своей командой, с хоругвями и иконами, вооруженный наглой, почти геббельсовской демагогией, ложью, забыв о совести и порядочности, вопит, пытается сорвать твое выступление, сучит ножками!
Спасибо моей команде во главе с нашим актером Валерой Матвеевым. Главное, что давало мне и всем нам сил, – сознание того, что большинство моих избирателей, да и почти весь народ, все думающие люди знают: так, как мы сейчас живем, – так жить больше невозможно.
Невозможно терпеть чугунную плиту КГБ, сеющую страх, ложь и притворство, невозможно ютиться в тесных коммуналках, невозможно больше стоять в бесконечных очередях за всем – от билета на поезд до кефира в грязных стеклянных бутылках… Невозможно больше рыться в гнилой картошке, моркови, пытаясь соорудить что-нибудь на обед…
Невозможно!
Невозможно терпеть всевластие КПСС, доведшее страну, самую богатую в мире – от алмазов до соболей, от золота до урана, от верблюдов до белых медведей – все есть в нашей стране, – доведшее страну до повального дефицита, когда приходится вводить карточки, а зерно – чем славилась царская Россия – пришлось более пятидесяти лет ввозить из Канады и Америки!
А можно ли забыть шестьдесят миллионов погибших в сталинских лагерях (коммунисты яростно отрицают эту цифру, всего-то, говорят, около миллиона – делов-то, действительно), забыть о рабах, дистрофическими руками которых строились заводы, электростанции, каналы, высотные дома?
Забыть о том, что мы превращены в моральных уродов, которые, пользуясь всеми плодами труда своих соотечественников-рабов, радостно ликуя, голосуют за «нерушимый блок коммунистов и беспартийных», за великого Сталина?!
Можно?!
Народ на выборах заявил: мы хотим жить иначе, по-человечески. Народ ждет от нас, депутатов, перемен, которые поставят страну на рельсы нормального цивилизованного развития.
…Стоим мы, депутаты, на солнцепеке на Кремлевском холме, дышим полной грудью, счастливые, что победили, призванные народом изменить нашу жизнь… Победители! Прорвались в Кремль! Победа. Свобода. Как распорядиться ею, каким путем идти, в какую сторону? Бороться против советской системы? Да ведь вся наша жизнь с нею связана!
Меня как ошпарило. Капитализм? Какой капитализм?! Мы мечтали: вот устраним коммунистов – ведь это они, это КПСС довели страну до истощения, заводы стоят, продукты по карточкам, да и то не всегда, и это в конце двадцатого-то века! Вот уйдут они, и все наладится, к власти придут честные люди, тормоза – идеологические догмы – отброшены, и начнут свободные хозяева работать, закрутится экономика, и появятся наконец товары в магазинах…
Капитализм? А его «родимые пятна»? Вернуть «ленинские нормы»? Помилуйте, какие нормы, один кровавый террор чего стоит! «Интеллигенция – говно… Вешать, вешать и вешать…» – это все Ленин.
О, дребезжание в коридоре. А! Вот и капельницу везут, бутылочки вверх дном… Медсестра Катя.
– Ну вот, здравствуйте! Давайте руку! Так, поработайте кулачком. Хорошо. А теперь отпустите. Все.
А я и боли не почувствовал. Молодец Катя. Хорошо под капельницей. Подступает дремота… Сон… Только не дернуть рукой, а то… только не дернуть… Что?.. Что это…
…На просторах родины чудесной…
…Громадный гранитный Ленин над президиумом, дубовые панели на стенах, места для депутатов… какие-то кнопки. Вот она, атмосфера сталинских съездов… Нескончаемые овации… Светятся глаза депутатов! Сияют лица!
Почти весь состав Семнадцатого съезда ВКП(б), проголосовавший за Кирова, пошел под нож!
«Жить стало лучше, товарищи! Жить стало веселее!» – с улыбкой и мягким акцентом.
Ликование! Да здравствует! Ура! Сияют лица! Счастье!!!
«И вот я, простая крестьянская баба, стою на этой трибуне перед вами, товарищи!» – это актриса Марецкая, довольно скверно изображающая простую крестьянку, радостно захлебывается от счастья…
«Банду Бухарина, Каменева, Зиновьева – к ответу!!! Смерть! Смерть шпионам!!!» Неистовствует зал! Сердца переполнены любовью к вождю.
И он смущенно прячет улыбку в усах, вынимает часы на цепочке, показывает на них: хватит, мол, к работе. Выполним и перевыполним.
На просторах родины чудесной, Закаляясь в битвах и труде… Сталин – наша слава боевая, Сталин – наша слава и полет…А космополитов безродных – к ногтю их! К ногтю! Как фамилия-то? А? Настоящая-то? А? Фишман? У-у-у…
И генетиков с их буржуазной наукой – в лагеря! И кибернетиков! У-у-у, вейсманисты и морганисты поганые! Что?! Что это – что – что – что это? Круглый… Лысый… Хрущ… Как культ личности? Позвольте… Разоблачить культ? Двадцатый съезд… Что, миллионы невинных жертв?! Мрак… Так не знали мы… Ну, если б знали, то, конечно…
Но – опять! – взрыв ликования!
Пастернака – вон из страны! Лишить всего! К ответу! Евреев – тоже… Что? Нельзя пока? Подождем!
и – опять ревет зал, ликуют, аплодируют бурно, волны счастья, машут, толкаются, единогласно, рев, буря… А-а-а… Единогла-а-а… А? Что? А-а-а… А, это я спал…
– Спасибо, сестра.
– Нет, это я проверяю, капает хорошо. Ну еще, еще долго. Руку не сгибайте.
Лежу, не сгибаю.
Лезут ненужные мысли. Не думать. Имею право! Мне уже восемьдесят четыре. Большие кранты! Кстати, деревня может так называться – Большие Кранты. Есть же Большая Грязь или Черная Грязь. Интересно, а почему у нас бывают такие названия? Дно, например… «Вы где живете?» – «На Дне»… или «В Дно». А вот Гниломедово или Дешевки, Гробово, Пыталово. А вот и Овнищи. От безысходности нашей… Голодранино… Правда, и красивые есть: Ясная Поляна, например… Вешенское… Мелихово…
Эту ручку подарил мне Даниил Александрович Гранин. Я был у него в Комарово. Хорошо там, просторно, не как в этих новых поселках, где элегантный Версаль пытаются сотворить новоявленные хозяева, – невзначай разбогатев, построили себе дворцы, чтобы не спросили: «А откуда такое богатство?» – отгородили это богатство ото всех высоченными заборами сплошными, из толстых досок или металла… Идешь по улице, слово по коридору из заборов.
На участке Гранина все нестрижено, небрито… Трава, кусты, папоротники… Тропинки среди одуванчиков… Березы… Дом довоенный, деревянный… Маленькие комнаты, полно книг, на террасе запах дерева и травы. Гранин. Ясный ум, прекрасный русский язык. Привез ему арбуз, черешню, персики, конфеты Галя дала. От Комарово в целом и от участка и дома Гранина ощущение высокого прозрачного леса, запах травы, листьев. Довоенные редкие дачи, светлые мысли, чувство добра, словно у нас когда-то в Хотьково.
Мама моя, папа, бабуля… Где вы?
Что такое были мои родители? То есть как на них смотрели, как к ним относились окружающие?
Отец – из грузинских крестьян, из села Карби Горийского уезда. Правда, они там все называют себя дворянами. «Мы все дворяне. Ираклий! Ты дворянин? – говорит простой крестьянин другому. – Ты работал когда-нибудь?» А тот отвечает: «Нет, никогда не работал! Я дворянин!» – и показывает на руки: черные, скрюченные, все в мозолях от работы.
Отец окончил два факультета, стал директором Политехникума связи. Студенты за глаза называли его Сфинкс. Почему? Он мне сам это рассказывал. Сфинкс. Никогда голоса не повышал. Из имущества личного не было ничего буквально, только одежда: ботинки, шляпа, штаны, один костюм. Сидел на старом венском стуле, перетянутом телефонным шнуром для прочности, за старым столом для игры в карты – до революции на нем играли в карты, он назывался «ломберный стол».
Мама – дочь церковного архитектора. Доктор наук. Из благоприобретенного… Что было?.. Пол-избы в Хотьково… Стол обеденный… Кресло… Диван… Все. Остальное, стоявшее в трех оставленных нам комнатах нашей коммуналки, – шкафы, буфет, столы, стулья, кровати, кастрюли, тарелки и прочая утварь – все дореволюционное. Мама даже хотела сделать в коридоре выставку «Старые вещи». Но не успела. Утюг с угольями, выдолбленное из куска бревна корыто для крошения капусты, сечка – полукруглый нож, похожий на маятник, – им крошили капусту в корыте, стиральные доски, рубель – ребристая изогнутая деревяшка для стирки, утюг спиртовой, керосинки, керогаз, медные кастрюли – их надо было лудить, покрывать изнутри оловом, и ходили по дворам лудильщики: «Лудить, паять!» Сито для просеивания, кофемолка – из пустого ящичка, куда когда-то ссыпался уже промолотый кофе, возбуждающе горько-сладко пахло. Счеты конторские. Не успела…
Соседи по квартире деда, ставшей коммунальной: Ася, Костя, Агафья, Марьисаковна… Со всеми были дружны. Постепенно население уменьшалось, постепенно соседи переезжали на кладбище…
Остались лишь Ася, мама и папа. Ася вечно побаливала, денег на жизнь с нищей пенсии не хватало, ее всегда «приглашали к столу»: «Ася, попробуйте-ка, мы суп сварили, как, на ваш вкус?.. Не пересолили?»
Ася демонстративно нехотя присаживалась, хвалила и суп, и второе…
На даче, в Хотьково, не хотела с нами жить: сыро…
Почти ежедневно на даче седлал я велосипед и ехал в Хотьково на почту звонить Асе, узнать о здоровье, не надо ли чего…
Мама вечно беспокоилась о ее здоровье. А сама кашляла. Температурила…
Но вот! О, долгожданное неосуществимое счастье!!
Папе – как директору Политехникума связи, фронтовику, члену райкома КПСС – дают квартиру. И где?! На только что отстроенном проспекте Калинина – в новом доме в пятнадцать этажей, на проспекте, куда приезжали москвичи просто пройтись: сталь, стекло, бетон!!! Шикарные универмаги занимают первые этажи, Дом книги, кинотеатр. Москвичи шли по этому московскому, как им казалось, Бродвею, напрочь позабыв о снесенной Собачьей Площадке, об уютных арбатских особнячках с колоннами. Они сгинули в одночасье в угоду новой Москве, и она, новая, растоптала вязь путаную арбатских переулочков, садиков, бабушек с колясками, дворов, где буханье домино по фанерному листу под патефонное танго из распахнутых окон с геранью на подоконниках…
На проспект Калинина ездили смотреть со всей Москвы, заходили в кафе, пили кофе с мороженым… Совсем как за границей! Верхние этажи домов исчезали где-то в бездонной синеве… А магазины, магазины! Здесь можно было даже иногда купить сервелат! Или колбасу любительскую. Ну и что ж, что очередь! Мы привычные. Зато результат!
Мама с папой, осмотрев квартиру – две большие комнаты, мусоропровод, окна – фантастика! – виден Кремль со звездами, Москва-река… Лифт! Большой балкон! Большая кухня! – пришли в полный восторг.
Вернулись к себе, в коммунальную квартиру на Покровке… Буфет старый… Венские стулья, перевязанные телефонным шнуром… И – главное, главное – Ася! Настасья Васильевна Маркова. Костя, муж ее, умер три года назад… Совсем одна. На обед – «жареная вода», как говорил папа… А ведь когда-то… Когда-то совсем давно была она гувернанткой у какого-то барина: шляпка с шелковой лентой, сумочка, туфельки…
Революция, подселили к нам. Помогала маме и бабушке – гуляла со мной по Чистым прудам… Занимала очереди… Война… Кот Барсик… Работа телефонисткой в моспо, отсюда всякие коврики-салфеточки, плетеные из старых телефонных шнуров, разноцветные… Фикус. Стеклянные прозрачные пасхальные яйца, поношенные боты, старое пальто… Оловянные ложки – уошки, – Ася звук «л» произносила как «у»… и почти вся жизнь, с 1917 года, – вместе с нами. Худющая, кожа да кости, больная, скулы подчеркнуты. Жила вместе с нами в одной коммунальной квартире, с нами и с другими: с Ильинскими-Басилашвили, Ольга Николаевна, Сергей Михайлович, Ира, впоследствии моя мама, Валериан Николаевич, мой папа, Жора – мой сводный брат, Сержик, умерший в младенчестве, потом я, и еще соседи: Мария Исааковна, Агафья, Фекла… И вот сейчас только два человека – Ира и Валериан Николаевич, – два человека рядом. А позади – длинная-длинная жизнь, полная событий, приносящих одно горе. Олег в Ленинграде.
Ира и Валериан.
Исчезни они – и что?.. Пустота, конец.
Сели мама с папой за стол, на венские свои стулья… Погладили старую полысевшую клеенку.
– Настя, идите-ка попробуйте, вроде я соли не доложила.
– Я сыта, спасибо…
– Ну только попробовать, пожалуйста. Подскажите, соли мало?
– Ладно. – Садится: – Да нет, вроде нормально.
– Вот и хорошо. Ну вот, а теперь картошечки!
– Ирочка, а как новая квартира-то? Взяли?
– Да ну ее, Настя, нам и здесь хорошо. Куда нам с Покровки! Ну, еще картошечки, а?
– Спасибо, Ирочка.
Так и остались они в коммуналке.
Через несколько лет скончался папа. Потом – мама ушла от меня в ленинградской больнице. Я позвонил Асе, сказал о смерти мамы.
– Я знала, знала… (знауа, знауа…)
И осталась Ася, всех пережив, одна-одинешенька, в нашей покровской квартире. Редко приезжал я. Помогал, чем мог. Совсем больную устроил в больницу. Не брали: «Чего с ней валандаться-то? Старая совсем, помрет скоро!» Настоял. Ездил к ней, бедной, в больницу.
– Миуый, прошу тебя, забери меня отсюда!!!
– Ась, ну куда я тебя заберу? Я ведь уезжаю, как же ты одна-то?
– Забери…
Вскоре она скончалась.
Ее пасхальные разноцветные яички у меня, светятся кто красным, кто зеленым…
А иконку маленькую «Константин и Елена», которую она мне завещала, ее родственники мне не отдали: «Нет, нет! Это наше». Такие дела.
А, вот и Катя.
– Ну, все. Пуста бутылочка. Нигде не болит?
– Нет, нет, Катя, спасибо, спасибо…
Вынимает иголку… Задребезжала стойка на колесиках. Уехала Катя, торопится. Больных-то – с ума сойти…
Что там дома? Как Галя? Ну, мобильник! Нет… не дышит… И телефон на посту дежурной сестры все время занят…
…А что Галины родители? Отец – Зайцев Евгений Борисович… один из самых уважаемых адвокатов Ленинграда… Честный, порядочный человек. Под его юридическую защиту стремились многие. Его речи помещены в сборник «Лучшие речи советских адвокатов». И – ни копейки! Ни копейки не брал никогда у своих подзащитных. Никогда! Получал зарплату в своей адвокатуре на Невском, 16… Однажды кто-то из благодарных его клиентов принес ему домой коробку конфет. И что? Выставил его за порог Евгений Борисович, вместе с конфетами…
Мама – Мшанская Ольга Феликсовна, ведущая солистка Кировского театра, меццо-сопрано, исполнительница многих главных партий в репертуаре театра… Казалось бы… да?.. Куда там… Кухонька в четыре метра без всякого кафеля… никакого антиквариата… ну, рояль… а как без рояля певице? Всё… На лето снимали комнату где-нибудь в Зеленогорске…
Что-то иное, бесконечно далекое от алчности, руководило их жизнями… Что? Определить трудно…
Надо покурить. Пойду. В сущности, идти некуда, курение в больнице напрочь запрещено, но как-то все ухищряются.
В основном кучкуются на задней служебной лестнице, на сквозняке. Окно распахнуто, туда, в снег, в мороз. В синеву! Кто в ватнике – это в основном медсестры, а кто попросту: пижама, костыль. И как врачи ухитряются? Был у главврача в кабинете – никакого табачного, прогорклого, кислого аромата. Может, потому, что больница совсем новая, не въелось? А здесь, на морозе, свои люди. Улыбаются некоторые… Здороваются.
А-а-а… Вот и они, врачи-телевизионщики!
– Здравствуйте, Олег Борисович!
– Здравствуйте, только я…
– Как телевизор?
– Не работает по-прежнему, шипит.
– Ждите. Придет сегодня мастер.
– Хорошо.
– Да! А как здоровье-то?
– Спасибо, отлично. Температура только.
– Ну, это ерунда. Пока.
А! Вот он, мой Баррикад Ильич… Мой учитель, ментор и, как он считает, неоспоримый авторитет. Честно говоря, зовут его попросту Петр Сергеевич. Но я удостоил его именем Баррикад, ибо он из той категории людей, в голове у которых полная путаница: тут и убийца Ельцин, вор Гайдар вместе с бандитом в законе Сердюковым, вором Абрамовичем, святым Зюгановым и боевым генералом Руцким, Ачаловым, Варенниковым…
Даздраперма – Да здравствует Первое мая! – имя такое было в советских святцах, но уж больно нереально как-то, не поверят. Баррикад Ильич. Почему Ильич – без комментариев.
– Что-о-о? Шестьдесят миллионов? Это в лагерях-то? Я, Олег Валентиныч, старше вас (хотя мне восемьдесят три, а ему всего семьдесят девять), поэтому и говорю: что ж, половину населения, что ли, расстреляли?! Потом – вокруг же одни враги, одни враги. Их же надобно было… как-то… И потом – хорошо стало. Хорошо!!! Вот у меня деда и отца раскулачили, сослали в Воркуту, там они и… Но я не в обиде! Не в обиде! Наоборот! А что?! Мне дали хорошую квартиру в Риге, зарплата хорошая… Потом холодильник, потом машину купил… Там, в Риге, врагов было – у-у-у! Что же, их так оставить? Не-е-ет, мы их… И если бы Ельцин не продал Латвию Америке, мы бы с ними… Так-то, Валентиныч. Если бы не этот твой Гайдар, то… Ведь пришлось в Узбекистан бежать, а оттуда эти черножопые погнали… Я избу купил в России, грузовик, «лендровер», свиньи у меня, хозяйство, и все это своими, вот этими руками… Торгую мясом там, ведь приходится все время думать! Думать приходится все время, Валерьич! Что завтра да как завтра.
– Скажите, Петр Сергеевич, вот у вас своя ферма, автомобиль, торгуете. Ну что, а могли бы вы при советской власти купить такое, иметь ферму, торговать?
– Да на хрен мне было торговать-то? У меня в армии зарплата, знаете, какая была? Ого-го! На хрен мне было тогда канавы-то копать! Моя работа – полком командовать да врагов этих ловить. На хрен мне эти свиньи! Не-е-ет, Валерьич, ты чего-то не то… со своим Гайдаром. К стенке бы! Развалили державу.
И до бесконечности… Спорить, доказывать что-либо абсолютно бессмысленно.
Все! Перекур окончен, становись на голову. Иду в палату. За окнами – тоскливая серая муть…
Так, что тут у меня? «Гексоген» Проханова. Да-а-а… не везет сегодня…
Ведь с чего мы начинали, с чего я начинал? Просто хотели сделать так, чтобы все у нас стали жить по-человечески, убрать эту власть, которая довела, и так далее… Лозунг шестидесятников: ленинские нормы вернуть! А что говорил Ильич? Вешать, вешать, вешать, и чем больше повесим, тем лучше, убедительнее. – Ленин!
Что может быть страшнее?
Говорят, во имя счастья человечества можно уничтожить его половину. А что, Ленину дано было кем-то право определять, кто достоин этого счастья, а кто нет? И в чем оно, это счастье?
А что, если попробовать дать всем возможность жить по-человечески, не тратить все силы на преодоление искусственно созданных проблем и невзгод, а просто попытаться дать человеку возможность самостоятельно определить свою жизнь, не сковывать его инициативу цепями искусственно созданных идеологических догм, не мешать ему жить?
Но как?.. Какие механизмы приведут к этому, какие опасности подстерегают на этом пути? Если бы знать…
Ко мне поначалу, как к популярному артисту, а затем как к народному депутату, стали обращаться сотни людей за помощью: жилище, пенсии, работа, медицина…
Всем помочь невозможно, хоть я и старался это сделать. Кое-что получалось, по большей части – нет. Постепенно стало ясно, что необходимо изменить политическую и экономическую системы, создающие эти проблемы, заставляющие молить о помощи депутата, надеясь на «доброго дядю», который поможет…
В идеале как должно быть? Гражданин, считающий, что нарушены его права, сможет обратиться в независимый суд, и тот, если действительно попраны конституционные права истца, восстановит справедливость. Так в идеале. Это нужно для достижения идеала. Нужно разделение властей, сильный многопартийный парламент. Нужна новая, основанная на Декларации прав человека российская конституция. Нужны новые законы… Новые неподкупные суды… Много чего нужно… Абсолютное равенство всех перед законом… Правоохранительные органы, охраняющие права гражданина… Прежде всего необходимо понимание того, во имя чего, для кого это все делается – для рядового, одного из миллионов. Нам твердят: «Государство выше человека». Что это за фантом такой – «государство»? Да кто создавал-то, кто строил-то его, государство-то это? Люди. Все! Один прямо, другой вправо, третий влево, кто-то назад…
Память у людей короткая.
Голодные девяностые годы. Продовольствие в стране – почти на нуле. Валютный запас, золотой – истощены почти до дна предыдущим правлением КПСС…
Мэр Петербурга Собчак обратился к гражданам города-побратима Гамбурга с просьбой о помощи.
Будучи в это время в Гамбурге, я видел: на центральной площади разбит гигантский шатер. У входа в шатер – плакат с призывом к горожанам собирать гуманитарную помощь. Тут же чертеж, какого размера должен быть ящик и что в каком порядке туда складывать. «Продовольственная помощь голодающему Ленинграду».
Черт-те что… Была блокада, горы обледеневших трупов… Обстрелы… Выстояли… Победили немцев. Германия в руинах. А теперь – побежденные розовые немцы несут аккуратненькие ящички с едой, кормят нас. Большая очередь. Картина: серые, прокопченные веками каменные фасады, темно-красная черепица, зелено-голубые от вековой патины медные шпили и аккуратные, чистенько одетые немцы с ящичками гуманитарной помощи в аккуратной очереди в шатер… Нам еду несут. А в Питере депутаты распределяют эту помощь по районам, в каждую семью. Сейчас об этом забыли, помнят только войну, виселицы, блокаду…
Так и про американскую тушенку в здоровенных блестящих, как снарядные гильзы, банках. Про яичный порошок. Про сыр, шоколад, про всю эту американскую помощь, которой спасались от голода во время войны, про американские автомобили «студебеккер», «додж», «виллис», про самолеты «Дуглас» и прочее забыли и считаем американцев заклятыми врагами.
Завелся я. Отвлекся. Да, так вот. Гуманитарную помощь распределяли депутаты, и я в том числе.
Обычно, так уж повелось, депутат от округа располагал свою приемную в исполкоме района или, как теперь, в муниципалитете. Мой округ, 108-й, – это самый север города, прямоугольник, образованный Суздальской аллеей, проспектами Культуры и Художников. Оттуда до исполкома около полутора часов надо потратить на трамвае, ибо те, кто идет за помощью к депутатам, на такси не ездят. Исполком располагался очень далеко от моего округа, на Выборгской стороне, проспект Энгельса.
Я потребовал помещение в своем округе, прямо в его центре, в тамошнем отделении милиции.
Несколько, всего несколько минут у любого займет путешествие из дома в приемную депутата – это хорошо. Тем более что помощи ищут в основном пожилые люди.
И пошел народ.
Мне повезло. Район относительно новый, и коммуналок почти нет. Были и квартирные дела, но мало. В основном другие беды. Да, так вот. Магазины почти пусты. Что значит «пусты»? Вообще ничего, ни-че-го. В Москве, например, в мясном отделе магазина «Центросоюз». (Это название красовалось где-то с сорок восьмого года на угловом доме – Чистые пруды и Покровские Ворота, потом было изменено где-то в начале шестидесятых, но москвичи, жители Покровки, твердо знали: «Центросоюз» и все! Где курицу выбросили? В «Центросоюзе». Так-то.) И в «Стеклянном». Почему магазин на углу Старосадского и Покровки назывался так, одному богу известно. Может быть, из-за больших стеклянных витрин? «Стеклянный». В «Стеклянном» рыбу дают – все мчатся туда. Сейчас там «Глобус Гурмэ», черт знает как элегантно! Входишь – птички поют, в зеленой травке – апельсины, киви, хумусы какие-то, рыбы плавают и прочее… Шик, блеск! Есть все. И если бы посетителя «Стеклянного» из многочасовой очереди за минтаем на минуту перенести в оный «Глобус» – остолбенение и инфаркт от невиданного изобилия. Недаром этот «Глобус» и сейчас почти пуст, а то и закрылся, по-моему. Почти никого! Только элита. Дамы в костюмах от «Версаче», мужички, выскакивавшие на секунду из «мерседесов» за элегантной пачкой презервативов, или «Кэмел», или «Мальборо». Только птички чирикают посреди невиданных грейпфрутов и карамболей.
Опять отвлекся. Это старость. Болтливая старость. О чем это я? А-а-а? Что-то руку пощипывает и тянет, это я неловко как-то, вот так вот, вот так… Полегче.
Да, так о чем? Почему я о Москве, «Центросоюзе» или «Стеклянном»? Наверное, потому, что, лежа здесь, в одиночестве ленинградской больничной палаты, хочется ощутить побольше тепла, а оно прежде всего из детства, ранней юности… «Стеклянный»… «Центросоюз». Пустые ныне, в девяностые. Это Москва, Покровка… (Олег, сбегай-ка в «Центросоюз»…) А чем Питер-то хуже? Здесь тоже на мясном прилавке маленькие кучки тщательно ободранных, обрезанных костей – «суповой набор». Рядом, тут же, книга Фенимора Купера «Зверобой»… и «Спица вязальная длинная»… Прямо инсталляция ужасов каких-то, прямо этот… ну, с усами который! Ну! Ну, худой испанец с усами! А-а-а!!! Сильвестр Сталлоне. Тьфу! Сальвадор Дали!!!
Вот как.
И вот сижу я в своей приемной депутата, рядом Виктор, милиционер местный, решил помочь мне в работе. Тогда, в девяностые, были еще такие ребята, помогали безвозмездно. Хороший парень, да еще и народ ему известен. Местный участковый. И помощница моя, милая женщина. И поперло ко мне горе. О пенсии… Больные… Прописка… О детях, одежде… Вот и столкнулся «актюр» не с выдуманным – «О, как я несчастна!», – а с подлинным горем, с гноем, с кровью.
Герой Халхин-Гола, бывший офицер, живет в коммуналке с женой старой, дочерью. Та замужем, ребенок тринадцати лет, муж, родители мужа – шесть человек на двадцати метрах.
…Въехала коляска: «Помогите!!!» Слезы. Смуглый, полный, с орденами…
А народ идет, у каждого свое.
Одна из последних сегодня, а уже поздно, темно, а нам с помощницей на трамвае домой пилить о-го-го, часа два (я, как и многие депутаты-демократы, отказался от личных автомобилей, чтобы люди видели, что мы не «начальники», а просто выбраны на время для помощи, что сейчас другая власть, народная действительно, демократическая, а не на словах, с синей мигалкой наверху).
А вот эту, вошедшую, я узнаю сразу по глазам. Большим глазам. По выпирающим скулам, по упрямым четким складкам у рта. Строгое каре, старый берет с хвостиком, то ли пальто, то ли шинель старая, подпоясанная мужским ремнем.
– Знаю, знаю, незаконно. Я обеспечена, как и все, но – очень! – очень прошу. У меня кошка. Ей без меня – конец! И мне! Очень прошу, прошу еще хотя бы двести грамм сухого молока!
Блокадница. Глаза сухие, словно Сахара, жгут. Или реабилитированная. Жизнь проклятая. Молчим. Ну, конечно, пишу ей разрешение на добавку. «Спасибо». Уходит. Но в дверях вдруг останавливается, поворачивается ко мне и, вытянув руку, грозя мне указательным пальцем, громко, требовательно, сверкнув сухими белками глаз, угрожающе:
– Но вы – держитесь! Держитесь там! – И уходит.
Это было в один из самых трудных кризисных моментов съезда. Коммунисты «вышли из окопов».
А мы, как могли, держались.
А они, ликуя, вылезали из окопов, продовольственное положение катастрофическое, рейтинг демократов падает… Народ начинает голодать…
Ба! Скоро ведь бывший праздник – 7 Ноября. Когда-то, в другой жизни, шли на демонстрацию с пирожками бабушкиными. Хорошо было! Хорошо! Хо-ро-шо. Несут знамена, школа № 324 имени ЦОМВС «Красная звезда»! Мы под знаменами. Оркестры бухают. А-а-а, ура-а-а! А на подходе к Красной площади – там Он? Там??? Там!!! Стоит. Вся Москва в кумаче! И над Лобным местом тоже какой-то фонтан из кумача и воды! Да-э здравствует молодежь Советского Союза! Ур-р-ра! Площадь – центр ликования. Это от нее лучи по всему свету! Радио громко выкликает лозунги с эхом! Дэ-э-эвствует студенчество! Ур-р-ра! И мы кричим: «Ура!»
Дождик моросит, а нам тепло! Мы молодые! Впереди – жизнь. Девочки какие-то рядом! Глазами постреливают! Зубки словно жемчуг. Кубаночки! Эх!
А потом, дома или в гостях, вскладчину, рюмки кагора или портвейна, винегрет девочки сами делали… Гости, тосты! За великий Октябрь! За великого Сталина! И – голова мутная, кружится, духи девчоночьи бьют в нос, губки, бусы какие-то… Арбат…
А посередь Москвы… А посередь Москвы, на высоком на холме – т-у-у-р-м-а!.. Самое высокое здание над Москвой! МГБ. Министерство! Государственной! Безопасности! Там бессонные следователи, там тяжкий труд, насупленные очи… Враги – евреи! убийцы в белых халатах! Прохожу мимо кованых ворот МГБ по Кузнецкому мосту – они вдруг распахиваются для грузовика продовольственного с надписью: «Мясо», и я – о ужас! – вижу во дворе бесконечное число этажей, окна, окна все дальше и все ниже, все ниже, все меньше и меньше, вниз, вниз, еще меньше, до центра Земли окна, окна, окошечки…
Бам! Бам! В дверь ломятся. А! Это Додик! Лежит тут в палате неподалеку. И сходу:
– Нельзя! Здесь – ничего не будет! Нельзя! Все, все, все воруют! Все! Вот тебе твоя демократия. Все! Нужна труба для самовара. Мне! Для спектакля. (Он директор государственного театра.) Заказываю в мастерских. Они выставляют цену двадцать пять тысяч рублей. Я говорю: «Вы что! С дуба свалились?! Какие двадцать пять тысяч? В магазине ей красная цена пять тысяч, да и то…» А они: «Дурак! Деньги-то государственные. Ну? Ставим двадцать пять тысяч. Десять тысяч берешь себе, так?! И трубу! А нам десять тысяч тоже! А пять тысяч платим в кассу! Идет?» Я им: «Пошли вы!..» Чтоб я… никогда! И зачем? Все! Все воруют! А почему? Нет частного владельца! Сам у себя не будешь воровать. Демократия хренова!
Я молчу. Вспоминаю, как Ельцин, мы бились именно за частную собственность… понятие «частная собственность» вбито в конституцию Ельциным и нами… долгая история разгосударствления… А сколько было ужаса и страха перед понятием «частная собственность»! На диспутах, краснея, мямлили: общественная, личная и так далее, но не частная, ибо Ильич сказал, что частная собственность порождает капитализм. И Б. Н. на съезде пошел на хитрость.
Шла работа съезда, попытка приспособить старую конституцию к новым условиям. Несколько дней подряд Починок читает нам постатейные поправки, мы их принимаем: за, за. Ну, там запятые, какие-то слова исправлены, что-то вычеркивается, что-то дописывается. Работа нудная, устали все… И тут Ельцин:
– Весь народ работает допоздна, что же мы только до шести? Предлагаю продлить работу съезда над поправками к конституции до двадцати двух часов, чтобы закончить эту статью. Кто за? Ну, вот и хорошо.
И опять Починок занудно, от запятой до запятой, перечисляет пункты, запятые, кои подлежат исправлению… Мухи дохнут, постепенно зал редеет, большинство в курилке, один-два человека на ряд оставлены с карточками голосующих ушедших. Да и кнопки-то жмут автоматически: что там голову ломать над запятыми, за – значит за! И побыстрее. А мы, демократы, ждем, затаив дыхание.
И вот Починок где-то в десять часов вечера привычно-нудно перечисляет виды собственности:
– «Государственная, арендная, частная…» Голосуем, коллеги.
Мы жмем на кнопки: за. И большинство из дежурных оставшихся, уставшие, по привычке: за, за, за… И выскакивает на табло: «Многообразие форм собственности: государственная, арендная, общественная, частная»! Это значит, что теперь гражданин может иметь частную собственность: квартиру, дом, недвижимость, которую никто не имеет права отобрать! Может начинать создавать собственное частное производство, строить завод, цеха, заводить стада! Кормить людей! Может владеть землей, создавать и расширять сельскохозяйственное производство, руководствуясь лишь собственным опытом, не кланяясь в пояс разным обкомам и райкомам!
Мне казалось, это голосование – один из самых главных поворотных моментов новой нашей истории!
Какой вопль раздался из курилки, как рванулись коммунисты и прочие: «Переголосовать!» Они поняли: частная собственность развязывает руки трудящемуся, делает его хозяином, не зависимым от окрика барина из обкома КПСС.
– Переголосовать! Требуем!
И голос Б. Н.:
– Уважаемые депутаты, решение принято. Принято вами же. Сегодняшнее историческое заседание объявляю закрытым. До завтра.
И сколько сил, душевных и физических, потрачено было стоявшими ранее у кормушки, чтобы растоптать, исказить, изменить эту строчку… Пока не настал их черед торжествовать победу: появилось добавление к строкам о собственности, дескать, да, конечно, священна, неприкосновенна, но – если это необходимо в интересах государства – можно изъять ее, эту собственность, отобрать…
Уничтожена на многие годы вперед надежда на возникновение мелких и крупных хозяйств, на нового хозяина… На саморазвитие экономики, на рынок…
И все молчат.
Покурить, что ли?!
Что же это я? Я ведь бросил! Нельзя мне, у меня ХОБЛ. Курение усугубляет.
Да… Девчонки… Были у нас с Юркой девчонки. Что значит – были? Один раз в остолбенении погуляли по Арбату и один раз были в гостях у них дома. Девочки были активны в нашем самодеятельном театре, так вот мы «обсуждали». «Обсуждение» это в основном служило поводом сгоряча, вроде случайно коснуться девичьей руки, блеснуть оригинальностью… Потом, где-то в одиннадцать вечера, пошли домой. Вышли на Гоголевский бульвар и направились к метро «Дворец Советов» (так называлась тогда нынешняя «Кропоткинская»). Какой это был год? Где-то сорок восьмой, сорок седьмой, сорок девятый… Вестибюль станции находился напротив гигантской ямы, заготовленной для возведения фундамента Дворца Советов.
Дворец должен был вознестись на месте взорванного храма Христа Спасителя. Дворец гигантской высоты, увенчанный фигурой Ленина, а в голове Ленина, как говорили, должен был располагаться кабинет Сталина… Вот такие намерения.
Пока, правда, кроме намерений, была лишь эта яма гигантская да высоченные стальные «быки» в заклепках. Они должны были держать всю гигантскую конструкцию, но где-то году в сорок втором – сорок третьем «быки» исчезли – были, говорят, отправлены на переплавку: не хватало металла для войны.
Итак, арка станции метро «Дворец Советов». Напротив огромная, кривым бесконечным забором огороженная яма и покосившийся пивной ларек. Да-да, тот самый, где Александр Александрович Реформатский напоил вусмерть делегацию американских филологов во главе с Романом Якобсоном, показывая им Москву социалистическую.
Ладно. Идем с Юркой, входим в вестибюль метро, покупаем в кассе билетики. Станция неглубокая, без эскалатора, длинный извилистый коридор весь в кафеле, в конце его контроль билетов и впуск на перрон. Народу – никого, поздно. Тогда, в сороковых годах, вообще народу в Москве было мало, я уж не говорю о метро.
На контроле – грубые мужские голоса, женские возгласы. Видим, две девчонки в красных беретиках, контролерши, пытаются не пропустить двоих здоровенных мужиков-безбилетников. Мужики чуть не матом кроют, а девчонки, лет им по семнадцать-восемнадцать, грудью встали, беретики горят! Вот такие были комсомолки принципиальные.
Мы наблюдаем эту картину, и на весь этот кафельный кривой туннель эхом: бу-бу-бу, а-а-а. Собираются редкие пассажиры. И тут я, гордо и независимо:
– Прекратите немедленно! Отстаньте от девочек! Купите билеты.
Что ни говори, я мужчина, встал на защиту слабых! А они мне:
– А ты кто такой? Чего лезешь?!
Водкой от них несет прилично. И вот я, признаюсь – дурак, ляпнул недозволительное, покусился на святая святых, идиот, ну, чтобы напугать их. Отвечаю:
– Почему? Кто я такой? Я из МГБ!
И вот тут картина изменилась.
Лица этих двоих бдительно окаменели. Один из них лезет в карман и вытягивает длинную цепь с какой-то металлической блямбой. А там, на блямбе, нечто вроде эмблемы, или мне показалось, – меч и щит.
– Пройдемте, гражданин!
– Куда? Зачем? Это вы пройдемте! – говорю я.
Второй лезет в свой карман.
И достает… револьвер. Чик! – на боевой взвод. Чирик!
– Вы арестованы! Три шага вперед! Па-а-ашел! Пошел, пошел, гад! Там разберу-у-утся!
– Паспорта! Паспорта у них отбери. – Это тому, кто с блямбой.
У Юрки не было с собой паспорта, у меня был. Я смело:
– Идемте! Я все расскажу вашему начальству! Вот вам мой паспорт, я ни в чем не виноват.
Взял мордатый мой паспорт.
Свернул аккуратно в трубочку. И аптечной резинкой его – щелк! – окольцевал. И в наружный карман.
Вот тут что-то замутило меня. Что-то жуткое, непроходимое нависло.
– Шпионов поймали!.. – Это в собравшейся толпе пассажиров восторженно, но шепотком, шепотком прошелестело, чтобы самих, не дай бог… – Шпионов повели!..
Я – якобы смело, впереди шагая, – что-то бормочу про справедливость… Вышли наверх. Улица пустая.
А Юрка мне тихо-тихо:
– Я когти буду рвать.
По блатному это значит: убегать буду. Я ему:
– Ты что? Пристрелят на месте.
Ведут нас вверх по Кропоткинской, и чувствую я – хана. Может кончиться моя жизнь.
И вот – навстречу нам спускается по Кропоткинской невысокий человек, чуть прихрамывает на левую ногу, в сереньком таком костюме. Галстучек.
Лица вот не могу никак вспомнить, ну никак. Почему-то как у Вадима Синявского, любимца всего СССР, футбольного комментатора… Может быть, потому, что голоса похожи?.. Не знаю…
Видит нас, останавливается:
– В чем дело, товарищи?
Тот, у кого паспорт мой:
– Да вот взяли, выдавали себя за работников Министерства госбезопасности… а на деле…
Да, что-то бормочет. Я уже ничего не соображаю.
– У дома Василия Сталина пытались…
Вот тут меня и ошпарило: теракт! Десять лет без права переписки! У дома сына Сталина!
Я что-то страстно начинаю лепетать, что да, сказал глупость: «Я из МГБ», потому что велик авторитет, а эти двое ваших сотрудников пьяные приставали к девчонкам.
– Они не пьяные. Они выпимши.
– Ну, выпимши приставали. Хотел помочь. И какой такой дом Василия Сталина?
А там, рядом с метро, действительно стоит особняк, где жил Сталин Василий.
– Какой такой дом?.. В метро! В метро на контроле!!! Девчонок этих, контролерш, спросите. Мы и вмешались! Они пьяные…
– Выпимши!..
– …выпимши, конечно, извините, выпимши. Мы… а как с ними?.. Ваш авторитет только и мог помочь… Вот я и сказал, думал, испугались! А они пья… то есть, извините, выпимши, говорят: «Сталин». Какой дом? Мы из метро!
– Паспорт!
Мордатый отдает ему мой окольцованный резинкой паспорт.
Тот снимает резинку.
А паспорт уже закрутился в тугую трубочку. Пытается выпрямить паспорт, раскрутить. Не поддается. Плюнул, грубо листает, внимательно вчитываясь, почему-то внимательно очень просматривая нитки, которыми сшиты странички.
– Ваш паспорт? – Это уже Юрке.
– А у меня нету, – с хрипотцой, будто сожалея, что вот, дескать, не может помочь, отвечает Юрка.
Что дальше было – не помню как следует. Помню только, что вот сейчас решается наша жизнь. Лепечу что-то невразумительное. Мокрый от пота. Юрка тоже что-то говорит… Маленький – видимо, он старший по званию – нам:
– Ну что ж, товарищи… Благодарю за службу. Свободны. – Это он этим, которые «выпимши».
Они неохотно, оглядываясь, пятятся, начинают уходить… У поворота за угол останавливаются… Один даже что-то хочет сказать и даже шаг делает к нам.
– Свободны, товарищи!
Уходят за угол, еще раз оглянувшись. Маленький молчит. Долго молчит. Медленно идет к углу, за которым скрылись эти двое. Заглядывает, долго смотрит. Ушли. Быстро подходит ко мне, протягивает мой свернутый в трубочку паспорт. Тихо, еле слышно, свистящим шепотом:
– Ну, вот что. Бегите отсюда к***! Да побыстрее, пока… Бегите! И чтоб вашего духу никогда здесь больше не было!!! Поняли, мать вашу???
Почему мы не спустились в метро и не поехали до «Кировской» – понятно. Помню только, как мчались мы по Гоголевскому бульвару, со свистом взметая желтые кленовые листья, домчались до Гоголя, до трагически грустного Гоголя… Перевели дыхание и помчались бульварами на Покровку, ко мне.
Юрка эту ночь ночевал у нас, на Покровке. Больше в районе Дворца Советов мы не появлялись.
Вот так с девчонками дело обстояло…
Дверь в палату открывается, входит Роза. Уборщица. В синем халате, со щеткой, с ведром и тряпкой. Будет убирать, протирать пол и т. д. Одна на весь этаж. За ней и коридор, и туалеты, и палаты. Коридор длиннющий, метров двести…
Она приехала с Алтая. Широкоскулая, раскосая.
– До перестройки, – говорит, – жили хорошо: свой домик, шесть соток – картошечка, морковь, ну, все… Свинья, коровы, куры и так далее. В магазин никогда не ходили, все свое, и хлеб пекли. Ну, разве только что за сахаром… Феодализм, натуральное хозяйство.
– А теперь что же?
– А теперь – невозможно. Кормить живность чем? Корма очень дорого стоят, пенсия пять тысяч, а у нас еще ее и сократили, теперь четыре. Ни кур, ни коровы, ни свиньи… Все разъехались. Я – сюда, здесь платят пять тысяч в месяц да еще пенсия… Отсылаю.
Что же это происходит, братцы? Ломали советскую систему, были счастливы освободиться от «стран народной демократии» – «у нас больше денег останется», – ломали обкомовский диктат, бились за самостоятельность хозяина… Но вот пришел вместо обкома некто ловкий – возможно, и бывший первый секретарь, – скупил все, что смог, стал хозяином, задрал цены беспредельно – и сотни тысяч живших натуральным хозяйством пошли по миру…
Говорят, да, вот в Швеции, Норвегии – там помогают нуждающимся, социальная помощь крестьянину, низкие налоги и так далее. И говорят мне: «Это все проклятые девяностые, вот вы капитализм такой построили». А я задаю простой вопрос: «А что же мешает нам так же помогать небогатым? Вы кричите об ошибках. Братцы, вы уже двадцать с лишним лет у власти. Так поправить можно было? Или принцип собственного обогащения стал вашей плотью и кровью?.. А вся критика – ради рекламы?»
Пойду-ка я курну! Э, да ведь нельзя тебе! Зарекся же. Нет. Пойду в столовую, там общий телевизор, взгляну.
Перед уходом включил свой телевизор. Полосатый с проблесками экран, жуткое шипение. Выключил. Тоска.
Иду по длинному коридору… Столовая. Телевизор. Работает. Человек десять сидят, смотрят, видимо, «Смехопанораму». И Баррикад мой сидит. Смеются. Действительно, смешно. Длинный долговязый артист говорит о себе: «Я очень стеснительный. Руки у меня какие-то короткие, да и ноги не того, маленькие. Стесняюсь. И вот когда захожу в общественный туалет, хотя многие писсуары свободны, я стараюсь войти в закрытую кабинку, понимаете?» И все, все, включая Баррикада, хохочут до слез, сгибаются на стульях, вытирают слезы от смеха.
Ну их, ушел.
А вчера смотрел «Поединок». Боже, боже, опять этот «писатель земли русской» против демократа Бозмана. Секунданты. Ясин позади Бозмана. Нельзя ему здесь, они его убьют. Ненавистью.
Я помню, помню эти девяностые! «Лихие», как их назвал кто-то из ненавидящих, кого народ оторвал от партийной кормушки, кто сделал все возможное, чтобы умер Сахаров, кто убивал Старовойтову, Юшенкова… Кто травил Байдара, Чубайса, Ельцина. Я помню широкую пасть Павлова, проклинающего сквозь бороду с трибуны реформы, хитрую усмешку Бабурина, помню Хасбулатова, нагло издевающегося над Ельциным и «ребятками в розовых штанишках» – это он о команде Байдара… Помню налитые кровью, жирные затылки генералов в погонах и без погон…
Это они, опять они теперь уже торжествующе орут: «Байдар – вор! Развалил все! Судить!»
Это они сделали все, чтобы не дать Байдару довести реформы до конца – и они добились своего: реформы только начались, а они – влет – эту синюю птицу реформ, и она падает неудержимо, вот-вот разобьется…
А им-то что? Частная собственность есть, рынок есть, суды и следователи им подвластны – нет, правда, партбилетов, ну и слава богу – зато есть чековые книжки.
о, я никогда не забуду, как они на съезде делали все, чтобы помешать работать правительству Гайдара. Это агрессивно-послушное большинство, из-под которого народ с нашей поддержкой, вспомним первые выборы на съезд России, выбил их бархатные кресла.
Ненависть. Ослепляющая, лишающая человеческого облика.
Помню страшный день. У Ельцина в этот день умерла мать. Она была для него всем, он очень любил ее, и, конечно, смерть ее была для него большой трагедией, страшным ударом. К этому времени коммунисты и иже с ними, «вылезши из окопов», таков был тогда их лозунг, повели оголтелое наступление на правительство Гайдара, делали все возможное, чтобы не состоялись реформы. И вот сегодня – один из таких дней. Десять утра, начинается новый день, заседание съезда.
Ельцина нет. Естественно. Место президента пусто.
На трибуне – Тулеев, Исаков, Павлов, Чесноков, Бабурин и т. д. – весь джентльменский набор.
Причем в основном эмоции, не мысли, нет, – не предложения свои – нет! А беззастенчивое и наглое издевательство над Гайдаром, над Ельциным в первую очередь.
Тулеев передразнивает Гайдара: «Он все только губами чмокает – чмок! чмок! Я ему по делу, а он: чмок! чмок!» Аплодисменты, смех.
Хасбулатов дает выступать только им, только тем, кто против реформ, против перехода России на новые экономические рельсы.
Чмок… Чмок…
И вдруг появляется Ельцин.
Аккуратно причесан, гладко выбрит. Садится на свое президентское место, кисти рук, крепко сжав, – на стол.
Ну, думаю, сейчас-то они утихомирятся, все-таки хоть он тебе и политический противник, а сострадание к горю должно же быть. У любого по отношению к кому угодно, даже к противнику. Какие-то общечеловеческие нормы совести ведь существуют?
Нет, оказывается! Если враг не сдается, его уничтожают! Поняв, почувствовав, что сегодня Ельцин слаб, угнетен, подавлен, словно свора голодных псов, радостно набрасываются они уже непосредственно на Ельцина. С издевками. С подковырками. Запомнился мне некто Челноков – тот особенно старался. Даже вызвал смех и аплодисменты в рядах своих сторонников.
Ельцин не реагирует. Только закусил губу…
Мне необходимо было выйти в секретариат съезда, узнать о судьбе одного моего запроса. Секретариат – непосредственно за президиумом. Вышел из зала, повернул налево и вошел в секретариат.
Столы. Сидят, пишут что-то. Слышу – объявляется перерыв. Из дверей, ведущих из комнаты секретариата в президиум, появляется Хасбулатов… Филатов… Еще кто-то… Ельцин.
Вышел. Постоял. Увидел меня. Подошел, пожал руку.
– Борис Николаевич, – говорю, – не обращайте внимания, не слушайте!
– Да, да…
Постоял молча.
И вдруг неожиданно, судорожно, неловко как-то обнял меня. И тут же отпустил. И отвернулся.
Слез не было, мне только показалось.
Ладно, хватит воспоминаний.
Пошел я в палату. А там врач Николай Арнольдович.
– Ну, как самочувствие?
– Нормально. (Думаю, вот-вот спросит о телевизоре.)
– Давайте-ка давление у вас померяю… Батюшки, что это? Что-то давление у вас высоковато…
Слушает сердце.
– …да и сердечко что-то прыгает… Тахикардия… Аритмия… Я сейчас.
Уходит… Потом прибегает с лекарством.
– Вот, примите… Сейчас вызову кардиологов – пусть разберутся, было ведь все нормально! Полежите. Я еще зайду. Да, телевизор-то у вас починили?
– Нет, только шипит.
– Ну и слава богу! Сейчас к вам приедут.
Глотаю таблетку. Ложусь. Давай о чем-нибудь другом вспомним. О веселом.
О Пари!.. (В смысле «О Париж!») Итак, о Париж! «Тра-ля-ля, тра-та-та, тра-ля-ля! Как я люблю в вечерний час кольцо Больших бульваров обойти хотя бы раз» – первое, что вспыхнуло в сознании моем, едва самолет, на котором труппа БДТ летела на гастроли во Францию, в Париж (а затем автобусом в Авиньон, в столицу театрального мира на этот месяц), стукнувшись о бетон взлетно-посадочной полосы и несколько раз нехорошо подпрыгнув, наконец покатился по парижской земле…
О Пари!!! Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля!
Вылетали мы из промозглого, холодного Ленинграда, хоть и весна, но было холодно, к одежде прилипал липкий и мокрый снег… Мы – в пальто, в шерсти, в мохеровых шарфах, но полны бодрости и счастья: впереди теплая Франция, Париж, Прованс, чемоданы наши наполнены блатными консервами, блатной колбасой вперемешку с летними вещами на случай весенней жары в Авиньоне. Прилетев, грузим чемоданы наши в автобусы. С нами – директор, Товстоногов, пятеро «из Управления культуры», то бишь из КГБ: двое следят за актерами, чтобы не сбежали, трое, делающих вид, что они рабочие, – за рабочими, костюмерами, бутафорами и так далее, за пролетариатом то есть, а он у нас передовой, пролетариат-то, черт-те что может выкинуть, поэтому трое.
Два автобуса везут нас в Париж. Голова гудит от бессонной ночи, самолет-то в семь утра, почти не спали, таможня, ненавидящие лица пограничников за стеклами, уплывающие куда-то в дыру чемоданы, вой двигателей, треск и боль в ушах. И сейчас голова отказывается воспринимать предметы, дорогу, город, пейзажи, людей…
– Ой, Сена!
– Где?
– Вот же! Ой, и собачка маленькая с бантиком, парижаночка!
Миша устало:
– Собака на Сене.
Кто-то добавляет:
– На Сене Розенцвейге…
Сеня Розенцвейг – это наш заведующий музыкальной частью.
Вот и Париж. Приехали. Нотр-Дам. Автобусы выпускают нас из своего чрева и уезжают вместе с нашими чемоданами.
– Товарищи! – Это главный наш из КГБ, смотритель.
Мы стоим спина к спине, готовые дать отпор любой провокации. Главный возвышается над нами, суров и бдителен.
– Товарищи, учтите, мы в центре Парижа, учтите. Вот собор Парижской Богородицы. Автобусы, которые уехали, ну, которые с вашими чемоданами, придут на это же вот самое место, на котором мы стоим, ровно в шесть. Да, в шесть вечера. Сбор – здесь. Погуляйте, ознакомьтесь. Ходьба только впятером. Свободны. Да! Суточные получите только в Авиньоне. Свободны.
Да, свободны, товарищ полковник или кто он там. В принципе можно остаться и здесь, попросить политического убежища – и свободен. Только зачем? И кому тут…
А в Париже-то – тепло, оказывается… Да нет, просто жарко. А нам в наших драповых пальто на вате, мохере и шапках – немножко уже и невмоготу. Да еще и не мылись, чешемся, зубы не чищены, где там в самолете мытье… Ну ладно, забыть про это! Все-таки первое свидание с Парижем.
И есть хочется. Спасибо «Аэрофлоту» – на завтрак в самолете дали чай, булочку, повидло… Хоть что-то.
А Париж вокруг чарует! Вот он, собор! Здесь Квазимодо бросался вниз головой… Козочка… Или это не оттуда… Феб… А, вот они, букинисты…
Туристы… Говор…
– Войдем, Бас, в собор Нашей Дамы, – это Миша Данилов, поблескивая объективом фотоаппарата, говорит мне. – Войдем.
Входим в торжественную каменную глыбу собора.
Пламя тысяч свечей. Народу – тьма. Жарища. Еще жарче, чем на улице, пот струится по позвоночнику. Да и немытость дает себя знать. Отблески свечей на надгробии Мюрата. Мрамор. Блестит, словно вспотел.
– Идем отсюда, Бас! – Это Миша. – Натопили парижане.
– Подожди, ведь где-то здесь Жанна д'Арк…
– Бог с ней, с Анной! Ей и без нас неплохо. Идем, идем отсюда.
Ладно. Ловя на себе дикие взгляды парижан, одетых по-летнему – футболки, курточки… – продираемся к выходу.
Мама родная! Как?! Перед корытом с сотнями жарко пылающих свечей стоит… Он! Голубые глаза. Седые баки. Мужественные борозды на прославленном лице. Он! Он!
Свежайшая рубашка. Бабочка. Элегантный легкий светло-серый костюм.
Сцепив пальцы, что-то шепчет. Пламя свечей бросает снизу оранжевые блики на его неповторимый лик. А вокруг своды, своды…
– Миша, гляди – Жан Маре!!!
– Вижу. Маре. Жан. И что? Закономерно! Париж все-таки… Не Усть-Кокшайск. Оставь его, Бас. Пусть живет… Пойдем. И, вообще, мне сейчас плохо станет, истерика начнется.
Ладно, продрались к выходу! Уф!
– Бас! Помоги! – Это Штурм, актер наш. – Ты ведь знаешь английский?
– Да ты что, Петя, несколько слов…
– Неважно! Мне срочно надо в туалет, срочно! А спросить где, не могу. Помоги!
– Идем, Петька! Собор – туристический объект, так?
– Так.
– Значит, где-то рядом и туалеты. Как узнать?
– По запаху!
– Петя, это же Париж! Шанель и прочее! Ренуар!
– Верно!.. А вон – японцы! Вниз куда-то. Туда, наверное… С флагом!
– В туалет они, Петя, в ту-а-лет! Смело вперед! За ними! Я с тобой! Ништяк!
Японися вниза – и мы вниза. Они друга за другама – и мы друга за другама. Они в очередь – и мы в очередь.
А впереди – звяк! дзинь! блям!
Батюшки! Деньги! Франки! А у нас – ни хрена, одна красненькая десятка, которую везем в надежде на обмен. НЗ на туалет потратить – преступление! А там – дзинь, дзинь! – девушка за кассой.
– Бас! У меня юбилейный рубль с Лениным. Подарю ей, пропустит. Как сказать – «подарок»?
– Презент.
– Во, презент!
Достает толстый «серебряный» рубль, Ильич с шеей гладиатора, мудрый прищур. Уверенность во взоре.
Дзинь! Дзинь!
Ничего, держимся.
Вот и она – «парижанка», в синем халатике, и блюдечко перед ней.
Чулки шерстяные… Отчего не шелка? Почему не шлют вам пармских фиалок благородные мусью от полного кошелька?.. Это Маяковский у меня в тупой от всего башке.
Дзинь! Дзень! – монеты по блюдечку алюминиевому бьют.
Подошли.
Петька тянет ладонь. На ладони юбилейный Ильич.
– Вот! Это вам, мадам! Презерватив!… Ой, нет! нет! Бас! Как?!
– Презент.
– Презент, вот.
Мадемуазель смотрит на Ильича и вдруг неожиданно громко, возмущенно:
– Муссолини? О, но, но, но! – И машет нам ручкой: вон отсюда, дескать, вон!
– Да какой, на хрен, Муссолини! Ильич это, Ильич! Ну, помните? – Петька вытянул руку, как Ленин: – Товагищи! – даже картавит. – Узнаете?
Девушка тупо смотрит на нас и опять:
– О, но! – И ручкой нам: на выход, на выход, дескать.
– Дура она, Бас! Ильича не знает. – Это Петька мне, идя на выход. – Дура!
Идем на выход. Быстро. Стыдоба. Японцы смотрят. Монголы. Кафры.
Уф! На поверхности.
– Бас! Что делать, а? Что делать?!
– Подожди. Вон, видишь, два наших стукача, кагэбэшника, и директор с ними? Они же здесь не впервые, они подскажут.
Подбегаем: ищем, дескать, пятерку, теперь все в порядке, с вами. Увидели вас, слава богу. Спрашиваем про туалет: где? Не знают. Ладно. Идем впятером. На другой стороне улицы дом какой-то красивый, с башенками. Что-то брезжит… Воспоминание… A-а! Консьержери! Управление полиции! Мегрэ здесь работал!
И правда – у дома группки полицейских.
– Товарищи, – говорю, показывая на дом, – это Консьержери, дом, где Мегрэ, ну, управление полиции…
Стоим. Смотрим.
И вдруг – Петька срывается с места и, словно молния, летит через улицу на ту сторону.
К полицейскому. Хватает его за руку, что-то говорит ему, прижимает руку к сердцу.
Стукачи остолбенели в ужасе.
А полицейский, полуобняв Петьку, ведет его к зданию, и оба скрываются за красивой массивной дверью. Все.
– Ну вот, – говорю я стукачам, – теперь вам крандец! Попросил политического убежища! Упустили!
– Как же это… е-мое… Я за ним…
– Стоять! Засветишься!
Оба белые как снег. Замерли. Директор тоже. Словно немая сцена в «Ревизоре». Так проходит несколько минут, стоим остолбеневшие, и, кажется нам, все вокруг застыло. Флаг Франции над зданием, авто полированные, полицейские… прохожие… Словно стоп-кадр в кино.
Но открывается дверь, и опять все ожило: затрепетал флаг, поехали авто… Петька Штурм собственной персоной, раскрасневшийся, веселый, жмет руку полицейскому и осторожненько переходит улицу, к нам.
– Ну все! Слава богу!
– А… Что вы… Где? – Это стукачи.
– В туалете был. Фу-у-у!
– А что ты им сказал?
– А я им по-французски: месье, говорю, их бин русиш, то есть советиш. Франк нихт, нет, дескать. Где у вас тут пи-пи? Он сразу понял. Повел в их туалет. Хорошие ребята! Да, слава богу! Ну все! Пойдем дальше Париж смотреть! Да, а запах у них в туалете, между прочим, – охренеть! Ренуар!
Дверь распахивается.
– Та-а-ак… И кто же это вам делал?!
Это уже не воспоминание, это тот самый мастер, о котором так много говорили, – вот он пришел. Валенки… Серо-синий халат.
– И кто же, значит, вам все это делал? (Показывая на спутавшиеся шнуры телевизионные.)
– Не знаю я… Я ж недавно…
– Да-а-а… Беда, коль сапоги начнет тачать… Стремянка есть?
– Не знаю…
– Не знаете… Ну что ж, придется на стол лезть…
– Может быть, сначала телевизор включить, увидеть, что там?
– Не надо. Все и так ясно. Видите, там, наверху, фазы перепутаны. Стремянки нету, значит… А пассатижи у вас есть?
– Что?!
– Пассатижи! Ну, плоскогубцы. Есть?
– Откуда…
– А, я вас узнал. Олег Борисыч! Артист. Ну, как же, как же, «Вокзал на двоих»! Автограф дадите? Ручка есть?
– Нет у меня ручки…
– Ну, ладно… Тогда в следующий раз… – И ушел.
Чем ближе конец жизни, тем больше и ярче возникают картинки самого раннего детства… Ни с чем не связанные… Почему? Зачем? Ничего не понимаю…
Вот идем мы с мамой по дороге вдоль какого-то поля… Пушкино подмосковное… Поле с капустой… С нами Семен Григорьевич – отец маминой подруги… Желая меня развлечь или вызвать к себе симпатию, он ладонями хлопает себя по животу – а живот огромный, мне кажется… Хлопает и приговаривает:
– Старый барабанщик, старый барабанщик долго спал!..
И звук хлопка такой звонкий! Я стараюсь, а у меня не получается…
Солнце садится… В пыльные лопухи…
Или еще раньше. Кто-то (видимо, мама) хочет, чтобы я посидел у кого-то на руках. Я сопротивляюсь. Кто-то, видимо, дедушка, поднимает меня, что-то говорит, щекочет усами… Все это на лесной дорожке в Пушкино, возле молоденькой елочки и пенька. Вот елочку и пенек помню абсолютно точно… И потом, как хорошо было сидеть там, в лесу, на коврике с мамой – и желтый-прежелтый целлулоидный утенок с голубыми глазами и красным клювом так приятно пахнул чем-то новым, сладким… И на ощупь такой гладенький у меня в руках.
Семен Григорьевич поздно вечером – за окнами темно – изображает «великана, читающего газету»: на фоне белой печки его гигантская тень с газетой…
Он известный переводчик: «Маугли» с его дарственной, «Маугли» в его переводе до сих пор у меня. Поздней осенью 1941 года он вышел на улицу в шляпе и с тростью, был тут же схвачен толпой и отправлен в милицию: решили – шпион! Ну как же, шляпа, трость!
А поход в Мураново, в подмосковную усадьбу Тютчева и Баратынского… Мама в милом голубом платье – и поле, поле необъятное под синим-синим небом, и поле тоже синее-синее, ярко-синее от васильков, сплошных васильков…
А утенка мы потом потеряли… Оставили в лесу… Он такой желтенький-желтенький… На следующий день долго-долго искали его с мамой там в траве, в листьях – нет, нигде нет… Я плакал… Значительно позже, когда я был уже почти взрослым, лет двенадцати-тринадцати, мама принесла мне целлулоидного утенка в подарок на самодеятельный спектакль, на память, но он уже иной, не такой желтый, и клюв не красный, и глазки не голубые… И запаха нет того, сладкого, нового. Ну, да ничего – он у меня стоит в книгах, на книжной полке – память моя, далекое счастье мое.
Где он, этот мальчик с желтым утенком в руках, прижавшийся к светло-голубой маме, сладко вдыхающий родной запах, впитывающий ее тепло?..
Ель-цин! Ель-цин! Ель-цин!!!
Улица Горького, ныне Тверская. Мы, демократы, идем посреди свободной от транспорта улицы Горького, заняв всю ее ширину, идем, крепко сцепившись руками. На тротуарах толпы народа скандируют: «Ель-цин! Ель-цин!» За нами – пяти десятитысячная толпа. Уводим народ с Манежной площади. Двадцать восьмое, кажется, марта.
Рано утром шел я по Покровке к Кремлю, вижу – в переулках стоят бэтээры, солдаты с автоматами, в меховых шапках. Холодно, а поверх шапок напялены стальные каски – вид довольно нелепый, но угрожающий. Почему? Что происходит? Время было тревожное, холодное. Коммунисты «вылезли из окопов», на улицах повсюду пестрят листовки Стерлигова с угрожающим «Слышите?! Русские идут!», монархисты со своими желто-черными флагами, пустые магазины… Полуголые кришнаиты, пританцовывающие по улицам. Как им не холодно?
«Новое явление Богородицы. – Метро заклеено листовками. – Мария Деви Христос! Подлинная Богородица. Звонить по телефону…» – и номер телефона. Это все в подземных переходах, в метро. И народ ломится и на Деву Марию Христос, и на Кашпировского, моментально избавляющего от всех болезней. Сотни страждущих… Лекарства редки… Турки-месхетинцы: «Отдайте нам нашу землю!» И все это на фоне гулкого эха в пустых магазинах. За водкой – убивают друг друга в многокилометровых очередях.
Необходимы реформы! Реформы, в результате которых наполнились бы полки магазинов, появились бы новые предприятия, предлагающие рабочие места, – одним словом, развитие и рост экономики, малого и большого предпринимательства.
Горбачев тянет, о реформах ни слова. Конечно – развитие на основе нерушимой частной собственности несет конец, уничтожение командно-распределительной системы, возникновение свободного хозяина, хозяина, подчиняющегося только экономическим и государственным законам, а не командам из центра…
А Горбачев говорит и говорит. На съезде народных депутатов СССР – только темпераментные разговоры, не более, о начале реформ в СССР – ни слова… Забалтываются…
И действительно, Горбачев – генсек ЦК КПСС. Начать реформы в экономике – значит своими руками уничтожить плановую экономику, которая, правда, и довела СССР до полного истощения. Ее обслуживают тысячи, десятки тысяч людей, если не миллионов: первые секретари обкомов, горкомов, райкомов, и вторые и третьи лица, весь Госплан, гигантский штат обслуги – секретари, шоферы, повара, армия, охрана… А КГБ? КГБ, деятельность которого в основном сводилась к надзору за гражданами, контролю всего и вся, пресечению деятельности особо рьяных борцов за экономические и политические преобразования, то есть за подрыв основы основ советской власти? Тут и аресты, и психушки, и смерти… Мы на съезде Российской Федерации требуем скорейшего начала реформ, иначе коллапс, голодные бунты… Просто гибель России.
Горбачев видит в нас, депутатах российского съезда, демократах, врагов его власти. Это выражается во всем, даже в мелочах. Например, нельзя пользоваться междугородным телефоном в Кремле для связи с избирателями в своих округах. У нас в кулуарах съезда Российской Федерации всего пять или шесть телефонов, о мобильных тогда и речи не было. И в основном эти телефоны всегда заняты, а там, в Кремлевском дворце съездов, на съезде СССР, – сотни аппаратов, звони – не хочу.
Однажды мне необходимо было связаться с моим помощником в Ленинграде. Наши телефоны все заняты. Решил пойти во Дворец съездов, благо Большой Кремлевский дворец связан с Дворцом съездов, где заседает съезд СССР, крытыми переходами. Иду… В огромных окнах золото куполов, Царь-пушка… И вот мне преграждает путь кагэбэшник.
– Куда?
– В аппаратную. Надо позвонить в Ленинград.
– Нельзя.
– Как нельзя?! Я народный депутат съезда Российской Федерации, мне необходимо…
– Нельзя! Горбачев запретил вам, российским…
– Что?! Я народный депутат! Пустите!
Делаю шаг вперед – и моментально скручен в три погибели, чекист применяет спецприем. Стыдно и больно. Мимо равнодушно идут депутаты СССР. На мое счастье, к тем же телефонам шел мой товарищ по российскому съезду Кучеренко Игорь. Спасибо ему, освободил. Сам бывший милиционер, нашел общий язык. Идем обратно к себе…
Или обеды в столовых. В столовой российского съезда выбор невелик. Можно купить бульон из двух кубиков, куриный медальон размером с юбилейную монету «рубль», две сосиски, хлеб, чай, кофе. За деньги все, разумеется. Как-то случайно попав в столовую съезда СССР, Куркова, Кучеренко и я обалдели! Тут и щи, и бульоны, и красная и белая рыба, и котлеты, и бефстроганов, и – о! не может быть! – черная и красная икра… Взяли бифштекс, борщ, икры задешево! Наелись!
Пошли на следующий день, взяв с собой Толстого и Молоствова, – а навстречу чекист:
– Нельзя! Горбачев запретил!
…От питания кубиками и куриными медальонами с тех пор у меня колит, энтероколит, сигматит и прочая дрянь… А в аптеках, кроме магнезии в бумажных кулечках, ничего не было. А потом – больницы, больницы… Ну, да это так, к слову…
Итак, необходимы реформы, иначе – гибель. Ельцин и правительство РСФСР требуют от Горбачева начала реформ.
Нет ответа.
Нами решено провести митинг на Манежной площади – «За начало реформ» или «Горбачева – в отставку!». Ибо реформы должны начаться на всей территории Советского Союза. К утру двадцать восьмого марта на Манежной площади, она тогда была ровной, как блин, по призыву демократов собрались десятки тысяч. Вся Манежная и дальше, к библиотеке Ленина, Троицкой башне, – людское море, тысяч шестьдесят. Российские триколоры, плакаты… Лозунги…
Кто – то из горбачевского окружения сказал ему, что этот митинг по плану демократов должен перерасти в штурм Кремля. Якобы полезут демократы через стены Кремля смещать Горбачева. Что уже готовы и веревки, и крюки…
Кто?! Какой мерзавец? Думаю, кто-то из тех, кто боялся потерять место у кормушки в результате реформ.
И Горбачев поверил, митинг запретил. Приказал – разогнать! Поэтому на центральных улицах – бэтээры и солдаты в касках поверх ушанок.
Мы ходили к Горбачеву несколько раз, просили отменить приказ о разгоне – ни в какую.
Разогнать многотысячную толпу?! Это же смертоубийство, кровь! Уже разгоняли в Тбилиси – десятки убитых, Фергана, Баку… В результате все-таки разрешает Горбачев провести митинг, но – подальше от Кремля, на площади Маяковского, ныне Триумфальной. Хорошо, решаем увести народ на площадь Маяковского. И человек двадцать нас, демократов, выходит через Спасские ворота на Красную площадь, чтоб пройти на Манежную, где гудит многотысячная толпа.
Пустынна и холодна была Красная площадь. Ни одного человека, только там, далеко, в конце площади, где теперь восстановлена Иверская часовня, в проезде между Историческим музеем, Кремлевской стеной и бывшим музеем Ленина, – бэтээры, плюющиеся синим дымом выхлопов, повернутые к нам боком, перегораживают дорогу, и крошечные фигурки солдатиков, согнувшись, перебежками туда-сюда… Холодно, смертельно холодно. И через морозный пар нам, депутатам, по матюгальникам издалека:
– Разойдитесь! Будем применять силовые меры! Повторяю: остановитесь, примем силовые меры.
И по пустой площади эхо: меры… меры… меры…
Сцепились крепко руками демократы. Помню: Кучеренко, Куркова, Молоствов, Немцов, Дмитриев, еще человек пятнадцать… Степашин…
Идем навстречу бэтээрам по безлюдной пустыне площади. Брусчатка блестит. Та самая, по которой я, мальчишка одиннадцати лет, шел охваченный солнечным счастьем в июне 1945 года вместе с мамой мимо мавзолея… Флаги, жарища!.. Солнце шпарит вовсю… Небо синее-синее, а на Лобном месте – грандиозный фонтан… Сталин! Сталин в белом кителе, золото погон, машет ласково мне рукой и улыбается… Ура! Ста-лин! Ста-лин!
Смотрю на брусчатку – вижу, шнурок у меня на ботинке развязался. Могу упасть. Останавливаюсь. Товарищи мои идут, меня обгоняя. Присаживаюсь и завязываю шнурки, а товарищи уже шагают от меня метрах в десяти впереди. И бэтээры с сизым дымом: тр-р-р… тр-р-р… Силовые меры, силовые меры… меры…
Еще чуть-чуть подождать на корточках да и дернуть в сторонку, за ГУМ! Домой! В безопасность! А? Соблазнительно! Ну, да ладно. Догоняю товарищей. Достаем удостоверения депутатов, держим их перед собой на вытянутых руках. Нехотя пропускают нас на Манежную.
И вот – мы идем по Горького, ныне Тверской, крепко сцепившись руками. За нами – больше шестидесяти тысяч с флагами, лозунгами…
Толпы на тротуарах: «Ель-цин! Ель-цин!» Идем на Маяковского.
Площадь. Маяковский в мятых штанах. Грузовик для выступлений. Площадь полна до краев, гудит напряженно. А над площадью – громадная реклама красным светом: «Госстрах… Госстрах… страх… страх…»
Некто с оторванным рукавом куртки подходит ко мне, говорит:
– Посмотрите, я весь в синяках. Солдаты и милиция били тех, кто отставал… А мне трудно, сердце. Вот, смотрите, синяки…
С грузовика несется:
– Горбачева – долой! В отставку!
А над площадью: «Госстрах сохранит и сбережет ваше имущество».
А площадь:
– В отставку!
Лезу на грузовик. Подходит Афанасьев.
– Олег Валерианович, давайте! Ждем вас!
– Нет… Не буду…
– Как? Почему? Горбачева в отставку! Ну!
– Не буду. Бог с ним! Не могу почему-то…
Из журнала «Театрал» позвонили на днях. В свое время редакция этого журнала присудила мне премию «Звезда “Театрала”», с тех пор у меня с журналом теплые отношения.
– Олег Валерианович, как вы относитесь к последней информации?
– Какой информации?
– О том, что ваш портрет помещен на полу в туалете на Киевском вокзале.
– Впервые слышу. Ну, что ж поделаешь. А кто там вместе со мной?
Мне называют фамилии многих уважаемых людей.
– Ну что ж, мне это даже приятно, раз в такой компании.
Горько, конечно. Ведь все наши, демократов, действия направлены были к тому, чтобы люди жили лучше. Чтоб снижались цены, открывались новые предприятия, уходила бы безработица. Чтобы суд был неподкупен, выборы честными… А в ответ – брань и грязные оскорбления.
«– Перед несчастьем так же было… И сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
– Перед каким несчастьем?
– Перед волей…»
Эти слова Фирса («Вишневый сад» Чехова) могли бы стать эпиграфом для книги о наших революциях. И каковы же итоги?
Гражданская война. Голод. Уничтожение крестьянства. Тысячи умелых и рачительных хозяев, земледельцев погибли при раскулачивании. Колхозы – изощреннейшее крепостное право, лишившее колхозников почти всех прав, вплоть до запрета временного отъезда из родной деревни, лишение паспортов. Уничтожение почти полностью элиты народной – ученых, философов… Вспомним академические пароходы, на которых был выброшен за рубеж цвет интеллигенции… Репрессии тридцатых, сороковых, пятидесятых годов. Миллионы, миллионы пошли под нож…
Правда, сколочена вновь империя в почти прежних ее границах, ценою гигантских жертв проведена индустриализация. Выстояли в великой войне, снова миллионы убитых…
Удачна работа по переделке души народа. «Инженеры человеческих душ»… Писатели, щедро поощряемые за удачную пропаганду коммунистической идеологии… Непослушных – вон! В лагеря, за границу, к стенке! Любая воля, ниспосланная сверху, приводила в результате к еще большему закабалению. Да и большинство – не желает свобод. Тогда ведь в результате конкуренции становится очевидным, кто есть кто. Равенство! Братство.
А Россия гибнет. И все меньше и меньше людей энергичных, смекалистых, людей – двигателей экономики, культуры и так далее.
И опять любой выделяющийся из общей массы – в лучшем случае чудак, но в основном враг народа, «пятая колонна»… И летят головы, возвышавшиеся над серой безынициативной толпой, и страна, родина моя, восторженно ликуя, все глубже и глубже погружается в нравственное средневековье вместе с ракетами, танками и Олимпиадами.
– Нет, Валентиныч! Нет! Вы бы… С вами мы Берлин не взяли бы! Нет! Не-е-ет…
Это Баррикад Ильич – ни «здравствуй», ни «привет» – ворвался в палату.
– Берлин бы мы не взяли! Не-е-ет! Вы бы питюкали бы все о ваших сраных правах человека, дескать, фашисты, нельзя трогать фашистов, они тоже люди, нельзя их убивать, да?! Вообще мы с вами да-а-авно бы под Гитлером ходили. Вы предатели! Союз, такую страну продали!
– Вы о Крыме, что ли? Но ведь есть законы международные…
– Есть интересы страны, они главнее всего! Сейчас восстанавливаем мы Союз ССР, поддерживаем эту политику! Очень поддерживаем. Главное – страна! Вот главное. А эта сволочь! Этот мерзавец… У-у-у, гад! Барабанил на барабанах, продал Россию Америке! Разорвал Союз на части, за доллары, падла! За доллары продал СССР. А сейчас восстанавливается великая империя! Правильно! Вы хотели капитализма? Вот вам капитализм! Каждый ищет свою выгоду. Россия – свою! И вообще, пора все эти маленькие страны к ногтю, не то Америка… Америка – враг. Американские доллары пустые! Наводнили весь мир долларами, а они пустые! Ведь Америка ничего своего не производит! Ничего! Япония, Китай, Корея, азиаты… Америка – ничего! Весь мир скупают за доллары, а они пустые, золотого-то запаса у них нет. Нет, Маркс прав был: борьба за прибыль. Как только Россия встала на ноги при Путине, гляди, Валентиныч, хорошо мы живем, а? Хорошо. Строятся фабрики, колосятся поля, жизнь безбедная. А-а-а, Америке это опасно, опасно, блин! Им же нужна нефть наша, хотят захватить ее, у них ведь этот газ как добывают? Взрывают в пещерах сланец, газ выходит, а вместо него – пещера, все провалится к чертовой матери. А доллары пустые. Россия предложила альтернативу доллару – наш рубль, крепкая постоянная валюта. Вот тут-то Америка и пошла в Украину. А в Прибалтике она уже давно. В Прибалтике, там же НАТО!
– В тридцать девятом году Молотов и Риббентроп… договор…
– Ну ты даешь! Вот вы, агенты хреновы, до чего договорились! Мы на помощь пришли ихнему народу! А вас, а вас всех я бы, всех…
Ну вот, слава богу, распахивается дверь, катят тележку с кардиографом две милые женщины.
– Олег Валерианович, приказано срочно сделать кардиограмму.
Баррикад уходит, что-то бормоча вроде: «Тебе бы не кардиограмму, а знаешь что…»
Присосали что-то липучее. Окутали проводами. Зашипело что-то. Щелкнуло. Дышите. Не дышите. Дышите. Опять шипит. Щелкает.
– Ну, все…
– Так быстро?! (Боюсь, как бы Баррикад не вернулся.)
– Да. Выздоравливайте.
– А что там у меня? Почему вдруг кардиограмма?
Тут они отвечают, дескать, у врача спросите, мы что, мы просто исполнители. Систолы у вас, вот мы и смотрим… Сейчас с капельницей к вам придут. Ждите.
Систолы. Эпистолы. Черт знает что. Поступил сюда – не было никаких систол. Хотя ведь у меня ХОБЛ, ХОБЛ у меня, хроническая обструктивная болезнь легких. ХОБЛ. Курю всю жизнь. Вот и ХОБЛ. При чем тут систолы? И зачем вдруг капельница? Второй раз? Ну да ладно. Покорись судьбе. Лечат тебя? Лечат! Ну и спасибо, ну и хорошо. Жду капельницу…
Абуладзе. «Покаяние»… Народ рванулся на эту картину… Находил в ней подтверждение своих мыслей, чувств – о неправедности власти, о ее преступлениях… Смотрели не один раз эту притчу замечательную, на грузинских артистов, блистательно игравших свои роли. Картина эта во многом объединила людей. Человек почувствовал себя не одинокой недовольной единицей, а частью громадного целого, требующего перемен.
То же – Данелия, Рязанов, Чухрай, Шахназаров.
– …Человек – мера всех вещей?! Вот!!! Вот главный ваш грех. Человек? Пойми – все, весь мир, космос, если хочешь, – это провидение Божье, понимаешь?
Это Иван из соседней палаты номер двадцать три ворвался.
– Весь мир – провидение Божье, все, все, что происходит. Меняются страны, исчезают народы, развивается или гибнет культура, наука – все, все это по воле Божьей! Истина – одна! Она сокрыта от нас, словно туманом, злыми испарениями, но она существует, и никто – понимаешь, никто! – не может повлиять ни на что, – истина едина, и все происходит по воле Божьей! А когда кто-то это произнес первым из философов-либералов – еще в Древней Греции – Сократ? Поликтет? – «Человек – мера всех вещей», – и вы, демократы, слепо вторите им – вот, вот она, главная беда человечества. Человек ставится во главу всего, человек чувствует себя венцом Вселенной и пытается по-своему наладить жизнь, мир – он действует вопреки, вопреки, понимаешь? Пойми, мир гибнет, от воли человека гибнет, и это преступление совершаете вы – демократы, вы с вашими лозунгами! Почему русский народ так сопротивляется реформам? А потому, что они исходят от воли группы людей, возомнивших себя мерой всех вещей, а народ – о-о-о! – народ издревле пропитан Божьей волей, не может он и не хочет жить, как проповедуют эти бесы, народ во всем полагается на провидение и ждет, ждет, понимаешь, – ждет не от вас, демократов, а свыше, оттуда проявления слова Божия, и потому бездействует, ожидая своего часа!..
Глаза у Ивана горят, взор страдальчески обращен на меня, будто я вместе с каким-то древним греком родил эту псевдоистину о человеке… Голос его дрожит, глаза наполнены влагой… худой… коричневый какой-то.
Вчера мы с ним в столовой беседовали о демократии, о том, как алчность человеческая губит, словно яд, все вокруг…
Вот он – не здороваясь, сходу – ворвался ко мне и:
– Человек – мера всех вещей? Ха-ха! Вот, вот главная ваша ошибка, преступление. Какие такие «права человека»? Какие независимые суды? Суд один – Божий! Все воздастся там! Понимаешь? Там! Истина Божья, словно древняя фреска, спрятана за вековыми наслоениями, за гнилой штукатуркой. Она одна – истина!
– …Но постараться найти правильный путь к этой истине кто-то может? Попробовать отколупнуть эту гнилую штукатурку, а? Разве это грех? Попробовать приблизиться к истине – грех?
– Вот! Вот! Это грех, грех, Олег! Никому не дано право вмешиваться или влиять на волю Божью! «Мне отмщение, и Аз воздам», Аз! Понимаешь? Я, я воздам. Не грех даже, а преступление. Посмотри, куда катится мир, посмотри хотя бы на эти самодовольные хохочущие рожи у телевизора! Это они – мера всех вещей?! Одумайтесь!
– Так надо, наверное, пытаться…
– Ничего не надо. Все от Бога. Все в Его воле, любая попытка – грех. Великий грех. Ну, прости, что…
Уходит.
– Нет… Не могу больше… – простонал в тропической мгле тон-студии на «Мосфильме» тогдашний народный депутат России, член комиссии по культуре, а ныне руководитель Федерального агентства по печати и средствам массовой информации Михаил Вадимович Сеславинский.
– Не могу. Я, пожалуй, пойду!
– Нет уж, Михаил Вадимович, нет… Смена у нас сегодня до двенадцати, так что сидите.
Сегодня в нашей комиссии по культуре Верховного Совета России мы обсуждали проект указа, который после его утверждения должны были направить на подпись Ельцину, указа, в котором шла речь о детских дошкольных учреждениях для детей членов творческих союзов, о том, что, несмотря на инфляцию, ежемесячный рост цен, на все и вся, плата за одного ребенка не должна расти, напротив, она должна оставаться на определенно низком уровне.
Работники культуры, а если по-человечески – артисты, писатели, музыканты, художники, при постоянной их нищенской зарплате в условиях инфляции просто попадали бы в безвыходное положение: цены растут безумно, зарплата – мизерная, и говорить об устройстве ребенка в ясли или в детсад – бессмысленно. Нет денег. Ловушка. Допустим, одинокая мать-актриса должна сидеть с малышом дома, ибо оплатить детсад не может, и теряет работу, теряет профессию, теряет свое место. Казалось бы, все ясно, надо хоть как-то помочь.
Но тут возник Сеславинский:
– Извините, я против этого указа.
– Почему?
– Хорошо, мы заморозим, допустим, плату в детсады для творческих работников и в ясли, но почему только для них? А как быть с шахтерами? Как я им в глаза посмотрю? А ведь шахтерских труд – тяжелейший труд! Скорее уж надо замораживать плату для детей шахтеров! Или там машинистов! А крестьянский труд? До кровавых мозолей? Куда там музыкантам, артистам.
– Но мы с вами члены комиссии по культуре, значит, должны в первую очередь думать о своих. Вы что же, считаете актерский, допустим, труд значительно легче труда шахтеров?
– Да, несомненно.
– Хорошо. У меня сегодня озвучание на «Мосфильме», – говорю я. – С четырех до двенадцати, восемь часов. Хотите посмотреть на наш труд? хотите? Поедем вместе на озвучание.
– О да! С радостью, если позволите, я поеду с вами. Никогда не бывал на киностудии.
Ровно в половине четвертого сели мы в машину, приехавшую за мной с «Мосфильма», своей машины у комиссии по культуре не было, как, впрочем, и многого другого, и тронулись в путь. Недолгий путь, от Белого дома по набережной на Потылиху, минут пятнадцать езды.
О! Я предчувствовал победу. Я знал, что Сеславинский попросит пардону, не выдержит. И дело не только в детских учреждениях творческих союзов, тут я во многом понимаю его: любая работа трудна. А дело в том, что очень хотелось, чтобы образованный, начитанный, интеллигентный человек, несмотря на вышеперечисленные качества, считающий актерскую работу почти развлечением, этакой полькой-бабочкой с притопом на солнечной лужайке, кожей бы почувствовал весь ужас и губительность этого занятия – актерства. Пусть, думал я, постоит восемь часов у микрофона, пытаясь бесконечное количество дублей попасть в синхрон, то есть чтобы артикуляция твоя на экране совпала бы с твоей нынешней, которая возникает у тебя во время твоих попыток тридцать, шестьдесят секунд сыграть то, что уже сыграно во время съемки, и не ухудшить, а может быть, и улучшить то, что делает на экране артист Басилашвили… Бесконечное количество дублей, тьма в павильоне, миллионы раз скачущая перед глазами сцена, яркая подсветка снизу на бумагу с текстом… Вот как это постоянно происходит.
– Стоп! Несинхронно! Посмотрите на экране – так звучит: «ябы – х – отел бы – чтобы – вы – э-э-э – меня бы – поняли – бы». А у вас: «я бы хотел бы», ну, явное несмыкание, – это звукооператор говорит. – Да-а-а. И, Олег, смотри, смотри, как огорчен и одновременно счастлив твой персонаж, а у тебя сейчас только огорчение, ты себя обкрадываешь.
И опять во тьме блеск экрана. «Я бы хотел бы, чтобы…»
– Стоп. Не попал. Еще раз.
И опять: «Я бы хотел э-э-э…»
– Стоп!
А впереди еще часов семь.
Голова наполняется гулом, а над этим гулом тоненько так в мозгу: зззи-и-и… ззззззи-и-и-и…
– Я бы… Стоп, я сбился.
– Еще.
– Я бы хо-о-о…
– Стоп, стоп.
Еще, еще… И так много, много раз. Ззззззи-и-и-и… зззззи-и-и-и…
Жарко! Хотя и пиджак, и рубашку снял. И ботинки, так полегче.
Вот так приблизительно все и происходит. И это самое легкое, что есть в работе актера. Вся тяжесть, весь труд – съемочный день… Одеваемся, кладут грим, клеят, когда надо, усы, бороду. Все это до боли стягивает кожу, зудящую от царапания ее волосами усов и бороды… Но это все ерунда… Ерунда по сравнению со съемкой! Тут надо забыть все: и многочасовое ожидание, и подготовку к съемке, и зудящее лицо, и жмущий, сшитый не по размеру пиджак, и тесные ботинки, и жару – и включить организм в подлинное состояние роли на минуту, на две, пока не прозвучит команда «Стоп!».
И еще дубль. И еще. И еще. И в каждом новом дубле пытаться сделать то, что не удалось в предыдущем, ведь иногда и говорят: «Стоп! Снято! Спасибо, очень хорошо!» – не верю я ему, это он так… Осточертел я ему – вот и прекратил съемку. И просишь униженно: «Еще дубль! Актерский дубль, пожалуйста!» И опять… «Внимание! Мотор! Начали!» И опять пошло-поехало.
А смена-то теперь не восемь часов плюс час на обед, а пока не сняли. И, бывает, начинаем в девять утра, и кончаем в девять утра, двадцать четыре часа работы, и спим, кто где притулится: на стуле, на полу…
А дома не спится никак. Все проигрываешь про себя сегодняшний дубль и чувствуешь – не то… Не так!
А ну-ка еще раз, еще раз! Нет, не то… Не так сыграл!
Вот и теперь озвучание. Знакомлю. Режиссер. Звукооператор. Оператор озвучания. Стенка, стеклянная двойная перегородка-окно между тон-студией и комнатой с людьми и аппаратурой. Легкое гудение приборов… Светятся кнопочки… Рычажки какие-то… Сеславинский радостно-удивленно:
– О, да у вас тут как в самолете у пилотов.
– А что? Даже посложнее! Там хоть пассажиры молчат! А тут – сами увидите! Ну, в студию, в студию.
Идем.
Захлопываем герметичную входную дверь, уши закладывает. Сурдокамера.
Советую Сеславинскому снять пиджак, рубашку.
– Зачем?
– Сами увидите…
– Да я посижу тут.
– Э, нет! Встаньте рядом со мной и про себя, понимаете, про себя делайте то, что я делаю вслух! Короче, старайтесь попасть синхронно в мою артикуляцию, а мой текст беззвучно – про себя.
– А вы? – спрашивает Сеславинский.
– А я буду вслух. Сидеть нельзя. Видите, там, на экране, я стою, сидеть нам нельзя: изменится звук! Уши заложило?
Сеславинский отвечает:
– Да, что-то…
– Скоро пройдет. Ну, давайте.
И вспыхивает экран во тьме тон-студии. Пошла фонограмма со всеми записавшимися во время съемки звуками, с моим голосом, со стуками какими-то, свистками, шумом моторов машин… Смотрим. Привыкаем. Примериваемся. Репетирую. Режиссер подсказывает, где ошибка. Еще, еще, еще. Начинается: ззззи-и-и-и-ууу, ззззи-и-и-и-ууу… Ага, вот-вот-вот, началось! Еще! Ну, давайте писать. Давайте. Начали.
– Стоп, стоп. Оденьте наушники, так быстрее ритм уляжется!
– Начали!
– Я бы хотел бы…
– Стоп! Еще раз! Олежек, кроме горя, там и радость, не забывай. И «я бы – х – отел бы…», понимаешь? «Я бы – х – отел бы»! Понял? После «бы» пауза, маленькая пауза, а потом «х» и уже потом «отел бы»… Понял?
– Да, давайте!
– Начали!
– Я бы – х – отел…
– Стоп, искусственно! Еще раз!
И понеслось, понеслось. Ззззи-и-и-и-ууу, ззззи-и-и-и-ууу… Смотрю на Сеславинского. Стоит, бедный, в майке, губы шевелятся. Глаза испуганные. Прошел час, два… Я бы – х – отел бы… Стоп! Пот градом.
И вот наконец получилось. Получилось! И синхронно, и по состоянию, и естественно! Слава тебе господи! В фильме этот эпизод займет секунд десять-пятнадцать, не более. Смотрю на часы: половина седьмого, начали в половине пятого, два часа писали. Сеславинский, бедный, сидит у стенки. Подышали, посидели.
– Ну, перерыв окончен. Пишем!
– Я, пожалуй, пойду. (Это Сеславинский робко.)
– Нет, Михаил Вадимович! Нет, у нас смена до двенадцати! Пишем!
– Но ведь вы знаете, Олег Валерианович, с десяти у нас заседание.
– Да, у нас завтра с десяти. И я, как председатель подкомиссии по театру и кино, не отпускаю вас! Пишем!
И поехали дальше. Опять блестит экран, прыгают кадры, пот градом, ззззи-и-и-и-ууу, ззззи-и-и-и-ууу… Сеславинский стоит рядом, уже не шевелит губами, мокрый… Шепчет:
– Не могу больше, нет…
Через два часа сжалился я:
– Ладно, идите, Михаил Вадимович! Идите. Завтра в десять!
– Спасибо. До завтра.
Завтра подписал Сеславинский проект указа о детских учреждениях для членов творческих союзов. Правда, окончательно подписанный Ельциным указ продержался недолго. Месяц или два… А то и меньше… Инфляция!
Мне восемьдесят четвертый год… Да… Как-то совсем неожиданно подкрался этот срок и дал о себе знать кашлем, одышкой, одутловатостью и болью в суставах… Но главное, главное! Пониманием отчетливым очень малого срока, отпущенного мне до ухода туда… куда-то… до расставания со всем любимым, спрятанным где-то глубоко-глубоко. Неужели больше никогда я вместе с мамой не буду возвращаться в поздних сумерках из глухого леса в свою хотьковскую избу?.. Неужели с папой больше никогда!!! Никогда не буду я сидеть на западной трибуне московского стадиона «Динамо» на матче ЦДК – «Динамо», и папа говорит: «Впечатление такое, что цэдэковцев больше на поле, чем динамовцев…» И не раздастся радостный, заливистый звонок моего взрослого велосипеда, а бабушка из нашего кухонного окна на четвертом этаже не крикнет: «Эй, номер двадцать два шестьдесят четыре (это был номер моего велосипеда), идите обедать!» Неужели никогда не замрет мое сердце, и не двинется мягко в разные стороны оливково-серый с белоснежной чайкой среди тусклых золотых завитков мхатовский занавес, и не зальет светом и счастьем гостиную с колоннами, с теплым майским садом за дверьми и тремя сестрами на авансцене?.. Да нет, не зальет. Неужели я до конца дней обречен смотреть одну концептуалистическую дребедень с ее мнимой сложностью, которой пытаются заменить подлинность пьесы «на смыслы». Да, все так, только так.
Ну, хорошо. А Тарховка, наши ночи счастливые с жарко натопленной печью среди белоснежных снегов… Господи?
Ну что ты несешь, дурень? Ну, конечно, нет… Но ведь было, было… счастье прошлых лет…
А ты нерадиво отнесся к той бриллиантовой россыпи тысяч (восемьдесят четыре на триста шестьдесят пять), около сорока тысяч дней, которые тебе были даны, нерадиво.
Вот он, девятый десяток!
Вот они – восемьдесят четыре года. Совершенно неожиданно. Все было как-то нормально… и, казалось бы… Ан нет! «Снаряды ложатся все ближе и ближе! Еще один – и здравствуйте, Константин Сергеевич!» – как говаривал артист Московского Художественного театра Борис Николаевич Айванов…
– Ну что ж! И там неплохая команда собирается – не так скучно будет, как на этом свете! – утешал себя один знакомый артист.
Так-то оно так…
«А вы, молодой человек, что хотите играть?» – спросят Константин Сергеевич, Евгений Багратионович, Олег Николаевич, Георгий Александрович, Юрий Петрович – да их там целая толпа, выбирай – не хочу!
«Я-то? Ну что ж, вот не сыграл я Федю Протасова – его хотел бы. Или царя Федора Иоанновича – тоже неплохо… А Иванов Чехова? У меня ведь и трактовка интересная есть! А?! Или Юлий Цезарь Шекспира?! Могу!»
«Э-э-э, не-е-ет, – скажут вышеупомянутые мэтры, сидя рядышком на садовой лавочке под кипарисами и лаврами, потягивая лимонад “Буратино”. – Не-е-ет, молодой человек! Нет. На эти роли есть у нас Качалов, Москвин, Смоктуновский, Симонов, Меркурьев, Ливанов, Болдуман… Вон они в очереди за талонами стоят. Да и поменьше роли все разобраны – вон вторая очередь, подлиннее, там и Борисов, и Богатырев, и Евстигнеев, и Стржельчик, и Трофимов, и Грибов, и Масальский… Яковлев, Папанов… Стоят, толкаются, интриги плетут… Так что вы уж давайте начните с малого: “К вам Александр Андреич Чацкий!” – и все! А что? Роль-то и крохотная, но добротная, можете и дикцию подработать – ведь у вас плоховато с этим делом… Пи-пи-пи-бби! Пэ-пэ-пэ-ббэ! Вот начнете с этого, а потом посмотрим… Так-то!»
Вот и лежу под капельницами, дышу кислородом, глотаю сотни таблеток – и все для того, чтобы оттянуть неотвратимость этого разговора… На этом свете хоть каким-то уважением пользуюсь – вон, отдельную палату дали с телевизором, хоть и шипит, – а там что? Заново все начинать?!
Да, конечно, плоховато я распорядился бриллиантовой россыпью тысяч дней (восемьдесят четыре умножить на триста шестьдесят пять равняется…). Телефон-то с калькулятором не работает, а сосчитать так… Ладно, потом сосчитаю, в общем, плоховато.
Вот, собственно говоря, и все.
Ну а театр? Вот… Тут посложнее… Крепко держался за БДТ за Товстоногова, полагая, что ничего лучше нет. Может быть, я и не ошибся. Рисковал Казаков, Даль, Юрский и многие-многие другие, перепробовали себя в других театрах, в режиссуре в поисках абсолютной театральной истины. А я… С пятьдесят девятого года в одном театре. Полагал, что истину эту найду, не сходя с места… Да, бывало, и приближался к ней, к этой истине, но, в общем-то, не очень часто. Вместе с Гогой. Может быть, именно в нем и было мое спасение, моя судьба?
Поэтому не вернулся в Москву, к маме… Горько вспоминать.
Прибило мой корабль к надежному берегу. Повезло мне, повезло. Судьба распорядилась так, спасибо, я не перечил ей.
Оп-па! Дверь распахивается без стука, входит блондиночка в белом, не медсестра… Батюшки, кто это? Кудри. Губки пухлые. Улыбается:
– Здрас-сте!
– Здрасте!
– Меня просили узнать о вашем самочуйствии.
– Кто?
– Эдуард Доминикович Козлодуев.
– А-а-а… А кто это, простите?..
– Вы что же, Козлодуева не знаете?!
– Не припомню, простите…
– Ладно вам. Короче, Снегурочку вызывали?
– Что?
– Снегурочку, говорю, вы вызывали?
– Какую Снегурочку?!
– Да будет вам! Вызывали?!
– Нет…
– Так. Это какая палата?
– Палата номер двадцать шесть.
– Двадцать шесть?! Вау! Меня двадцать пятая заказывала. Ошиблась, блин! Бай-бай!
И – цок-цок-цок! – исчезла. Как сон. Как утренний туман. Вот те на! Товарно-рыночные отношения… Блин!
Тихо в палате. За окном серая какая-то муть, то ли дождь идет, то ли туман, то ли дождь со снегом. Маркизовой лужи что-то даже и не видно за этим туманом…
А-а-а… Вот оно! Письмо от Голубевой Н. И. из Иваново, судя по штемпелю на конверте. Письмо как письмо. Пишет Голубева о моей книжке «Неужели это я?! Господи…», что ей поначалу понравилось, «все как у меня – я вас младше на десять месяцев», потом, правда, упрекает меня в том, что я, считая себя интеллигентным человеком, допускаю матерщину. Действительно, дважды я употребил нецензурную лексику – показалось, что этак будет покрепче. Может, и не надо было… Извиняюсь.
Но пока – письмо как письмо, даже с указанием обратного адреса и фамилией. Чаще всего приходят письма без указания на фамилию и имя пишущего. От таких писем я знаю, чего ждать: площадная ругань с угрозами – «бэтээрами размажем по стенке» или «жидовская морда» (кстати, почему «жидовская»? Уж если морда, то скорее русская… или грузинская… ан нет, жидовская).
Нет, у Голубевой все пока… хотя… Нет, вот, вот оно, началось.
«Вы пишете, что надрывали свои сердца на съезде. Вот это все вранье! Вы сейчас не бедствуете? Почему же нам, старикам, вы, депутаты, позволили жить по остаточному принципу? Это вы крошек наскребли от миллиардов и триллионов своих, и крохи эти – нам. У меня пенсия 6787 рублей 09 копеек…»
Уважаемая Нина Ивановна, я давно уже не депутат, как и мои друзья, но скажу, что сердца мы надрывали, так это правда. Правда, поверьте, дорогая Нина Ивановна! Все наше демократическое крыло съезда народных депутатов России делало все возможное, что в наших силах, чтобы люди стали жить лучше. Для этого надо было заставить работать экономику, которая к девяностым годам рухнула, дать свободу предпринимателям, вселить в них веру в себя, в свой труд. С подъемом экономики должен расти и жизненный уровень всех, в том числе и пенсионеров.
Знали бы вы, какое яростное сопротивление оказывали нам коммунисты, ставя палки в колеса экономического развития. Сколько сил тратилось нами, демократами, на то, чтобы заставить съезд, а потом и Верховный Совет принять тот или иной закон, направленный на развитие, на подъем страны.
Гайдар был у власти что-то около шести месяцев – и смотрите: за это время наполнились прилавки магазинов, уничтожен дефицит, частные предприятия начали выпускать продукцию – а это ведь только самое начало реформ.
А вот реформы судебные… милиции… правоохранительных органов… А вот разделение властей, когда одна власть контролирует другую и не дает воровать… Вот тут уж стоп, вот эти реформы, судебную, правоохранительных органов и так далее, то есть реформы, призванные создать условия, при которых воровать в государственных масштабах будет невозможно, – вот эти-то самые главные реформы и не дали провести Гайдару. Как ни дрался за него Ельцин, Гайдара убрали.
Недаром после отставки Егор Тимурович озаглавил свою статью в «Известиях» – «Реформы закончены. Забудьте».
И вот мы имеем теперь, что имеем. Все положительное – изобилие в магазинах, частные предприятия, обмен валюты, свобода выезда за границу – это то, что успели сделать Гайдар и демократы за шесть месяцев. Остальное – деятельность нынешних депутатов, и хорошее, и плохое, депутатов, за которых вы голосовали. За партию, которую вы избрали главной. Значит, и ваша доля есть в нынешнем положении вещей. Несомненно.
А что касается вашей пенсии, то это позор! Я бы на годик-другой назначил депутатам Госдумы зарплату размером с вашу пенсию – 6787 рублей 09 копеек. Да и губернатору вашему на два-три годика. Совесть надо иметь, а не валить все на «лихие девяностые». Столько лет у власти! Исправьте то, что кажется вам неправильным. Ведь ваших заклятых врагов, которые хотели лишить вас места у кормушки, – Гайдара, Ельцина, Сахарова, Старовойтовой, Немцова – давно уже нет на этом свете, исправьте! Ан нет…
…Вот, видимо, что я мог бы написать в ответном письме Нине Ивановне.
Но надо и на себя посмотреть критически. Чего мы хотели? Убрать власть, которая довела страну до ручки. Убрали. Построить новое демократическое государство. С честными выборами, с многопартийной системой. С частной собственностью.
Легко сказать. Мы хотели изменить государственный строй. Но на пути этого изменения – миллионы препятствий.
И первое препятствие – непонимание большинством или частью народа необходимости дальнейшего реформирования всей системы. Ведь что главным было для людей – чтобы стало легче, хотя бы чуть-чуть легче жить. Оно и стало: очередей нет, нет дефицита, можно купить все – от мыла до самолета, были бы деньги. Можно ездить, куда хочешь, говорить, что думаешь… Ну, в общем-то, и все… Вот и стоп реформам. Недоизмененная система несколько демократизировалась. Но и дала возможность обогащаться за счет воровства, за счет народа, породила коррупцию…
Никогда не забуду, это было в день всеобщего ликования – в день возвращения Горбачева из его заточения в Форосе, – мчались мы в машине в Кремль. По улице Горького, ныне Тверской. На съезд народных депутатов СССР, где выступать должен был Горбачев. Едем. Красный свет. Встали. Рядом с нами – грузовичок. Водитель узнал нас – и говорит:
– Ну что ж, даем вам полгода. Поздравляю! С победой! Налаживайте!
И поехал…
Да, так думали многие:
– Все! ГКЧП повержен, коммунисты убраны из власти, теперь-то и пойдет дело.
…Наивная вера в чудо, которое кто-то «наладит». Один из первых шагов реформаторов – отпуск цен в свободное плавание. Цены начали расти. Безумно. Заоблачно. Большинство стало нищать… Магазины полны товаров, а купить невозможно… Изобилие товаров российских, наших, – когда еще наступит, – тогда, когда экономика поднимется на новой рыночной основе… Здесь масса препятствий… А цены растут, растут… Коммунисты «выходят из окопов», опять повсюду красные флаги, митинги с кровью… Ваучеры, которые большинство продает, пропивает или прячет на черный день, и ловкие ребята у метро – с табличкой «Куплю ваучер» – скупали, скупали их сотнями тысяч, миллионами. Вот и появились первые богачи, олигархи.
После ухода коммунистов казна пуста, все сбережения народа на сберкнижках. А выдавать-то нечем! Гайдар объявляет: «Ваши суммы, написанные в ваших сберкнижках, – ничем не обеспечены, это пустые цифры…» Всеобщее возмущение… «Гайдар – вор!»
И вот одна из главных тогдашних ошибок правительства и наша: необходимо было выпустить облигации на исчезнувшие суммы с обязательством отдать по мере накопления все сбережения. Вот этого сделано не было, обошлись просто обещанием когда-нибудь вернуть… А мы, депутаты, пошли на поводу, не проявили настойчивости, ибо не чувствовали себя достаточно компетентными… «Демократы – воры!» появляется лозунг.
И кто виноват? Конечно, мы. Не вняли доказательствам Гайдара. Некомпетентны были. Так что ж, депутат должен быть компетентным. Ну, и так далее…
о, вот оно, вот оно, знакомое дребезжание в коридоре… Везут! Везут! Везут капельницу.
Систолы!
Или как-то еще… Эпистолы! Мать честная! На штативе висят две здоровенные бутылки, полные прозрачной жидкостью…
– Еще раз здрасте, Олег Валерианович. – Это сестра, молоденькая, Катя ее зовут.
Да, кажется, так ее имя. Катит этот штатив с дребезжащими здоровенными бутылями. Крахмал халатика, белая косынка, белокурые волосы.
– Здрасте. Это что же, сразу две бутылки в меня зальете?
– Нет, нет… Ха-ха-ха… Сначала одну, а уж потом вторую.
– Так это сколько времени-то займет? Часа два?!
– Ну, уж не меньше! Давайте-ка поработайте-ка кулачком.
– Работаю уже.
Сжать – разжать.
Надо сказать, поставить капельницу, ввести иголку в вену – это большое искусство. Как-то раз в другой больнице – там я с сердцем лежал – сестра аж стенку, у которой я лежал, залила кровищей, а воткнуть в вену иглу никак не могла, больно, больно, а потом синяк на полруки. А сейчас Катя так умело все делает, даже не замечаешь момента укола.
– Как, все?!
– Ну да… Во-о-от… Не мешает? Нигде? Ну, лежите спокойно, рукой не шевелите.
– Катя, простите, говорят, что скоро в связи с «реформой» всех медсестер переводят в разряд нянечек?
– Да, вроде хотят… И зарплата, как у нянечек, то ли четыре, то ли пять тысяч.
– И как же вы?
– А что я? Одна я, что ли? Вон, у нас на отделении в одно дежурство три сестры – ну, мы и решили: если так сделают, найдем себе другую работу, ну, не сестрой, так еще кем-нибудь, мало ли…
– А кто ж тогда будет капельницы ставить, лекарства разносить и так далее?
– А вот пусть врачи сами все и делают! Только, думаю, больные взбунтуются, да? Русский бунт – бессмысленный, жестокий!.. Ну да ладно, лежите смирно! Я буду приходить, проверять. Пока.
И ушла.
Как-то в другой больнице сестра, ставя мне капельницу, пошутила, напугала неопытного новичка:
– Видите, вот в этой прозрачной трубочке жидкость, да?
– Да, вижу.
– Ну, так вот, следите за уровнем! Жидкость закончится, вы увидите, бутылка пуста, и трубочка почти пустая, только в самом конце ее есть еще что-то – так следите, чтоб вслед за последней каплей не вошел в вену воздух, – тогда вам конец! Следите и кричите! – И ушла.
Я с напряженным ужасом смотрел на трубочку, следил, как уровень лекарства приближается к иголке – к моменту мгновенного моего ухода на тот свет, но тут появилась сестра и, посмеиваясь, сказала, что пошутила, что давление внутри человека остановит в нужный момент поток лекарства в трубочке.
– А вы, Олег Васильевич, испугались, а? Ха-ха-ха…
Да, дурак ты, боцман, и шутки и тебя дурацкие!
…Убийцы в белых халатах…
Помню, помню это время, этот холодный ужас… Пустую аптеку, что в московском нашем доме, Покровка, 11, ибо лекарства – отравлены врагами народа, евреями-врачами, космополитами безродными, потому-то и не ходят люди в поликлиники и врачей на дом не вызывают – убьют, отравят врачи-то, как убили Жданова, Горького, Куйбышева.
Помню, помню эти фильмы… «Суд чести», например. Фильм об опытах генетика-еврея ненавистного… «Муха дрозофила… Красные глаза, синие глаза… У-у-у… космополиты безродные» – это фраза положительного героя из этого фильма… Кинотеатр «Колизей», что на Чистаках… МХАТ мой любимый – «Чужая тень», «Илья Головин»… В финале «Чужой тени» Ливанов – академик, совершивший ужасный поступок, – поведал о своем открытии коллеге-иностранцу, за что и был отстранен от работы, рыдал от счастья, ибо его друг-академик говорит:
– Мне позвонил мой товарищ из ЦК и сказал, что, несмотря на ошибку, допущенную тобой, партия верит тебе и доверяет тебе дальнейшую работу. И судя по тому, как он мне это сказал, я понял, КТО ему это сказал.
Айванов поднимал потрясенный взор свой наверх, на яркий софит. Ждал, когда от нестерпимо яркого света навернутся слезы. Затем давал слезе скатиться по щеке и:
– Идемте!
– Куда?!
– Я говорю, идемте в лабораторию!!!
И уходил, выпрямившись, но нагнув голову, словно бык, бодающий врага. В данном случае космополита безродного. В те времена все понимали: безродный космополит – это завуалированное обозначение еврея… От евреев исходила жуткая опасность, жуткая. Поэтому евреев не принимали в военные училища, в университеты… С работой тоже было сложно.
Ленинград. Год где-то сорок девятый, пятидесятый. Зима. Еду в троллейбусе. На остановке напротив Витебского вокзала входит парень. Крепкий, румяный, меховая шапка набекрень. Воротник меховой. Разрумянился с мороза. Ну просто с какой-то кустодиевской картины. Троллейбус полупустой. Даже есть свободные места.
– Билетики берем, товарищи, билетики. – Это кондукторша, увешанная бумажными билетными рулонами. – Берем билетики. Товарищ, берите билетик.
– Что? Ты чего, жидовня, кричишь? Билетик тебе? А вот это не хочешь?!
Парень делает неприличный жест.
– Не хочешь, а?
Кондукторша – темноволосая, черноглазая, можно сказать, красивая женщина, но немножко нос подкачал, правда, великоват.
– Что?! Что вы себе позволяете?..
– Позволяете?! Я тебе сейчас, жидовка, позволю!!!
А троллейбус, подергивая и гудя, уже едет.
– Я те покажу! А вы что? – Это пассажирам. – А вы что? У-у-у, пархатые!
И, держа в вытянутых руках воображаемый автомат Калашникова, руками влево-вправо:
– Та-та-та-та-та… Только дернитесь, та-та-та-та-та!!!
Пассажиры, и я в том числе, молчат… Кто в окно с пристальным интересом: ах, какие красивые здания!.. Кто книжку читает, не оторваться. Кто изображает спящего. Крепко спящего, лишь бы не встретиться взглядом…
Белозубый, румяный, стоит у кабины водителя, глаза горят ненавистью. Троллейбус останавливается, распахиваются, грохоча, двери. Остановка.
Белозубый красавец, дыша крепким здоровьем, – с прощальным «У-у-у! Пархатые!» – выходит. Грохот дверей. Поехали дальше. Кондукторша негромко:
– Билетики, билетики…
Тишина в троллейбусе. Едем дальше.
Тысяча девятьсот девяностый год. Опять зима, мокрый снег… И, как это ни странно, опять, опять тот же троллейбус, натужно гудя, громыхая дверьми на остановках, везет меня по Загородному проспекту Ленинграда… А вот и остановка. Витебский вокзал.
Громыхнули двери. Среди вошедших – некто молодой, в овчинной шапке, дубленка с таким же светлым воротником. Спортивен, красив.
Тесно в троллейбусе. Держимся за поручни. Грохот дверей – дернулись и, натужно гудя, поехали.
– Ну ты, дай пройти! – Это молодой, в дубленке.
– Вы же видите – некуда двинуться. И не толкайтесь, пожалуйста… – Молодая, черноглазая…
– Что?! Некуда?! А ну пусти, жидовка пархатая…
И тут происходит нечто прекрасное. Жидовка наша разворачивается и с размаху как врежет ему по сытой роже и с другой стороны другой ладошкой как врежет! Хлясть!!! Еще раз: хлясть!!!
Обалдел молодой. Не вякнет. Соображает: что делать? Как поступить?
Из троллейбусного чрева чей-то голос:
– Правильно, молодец, девушка! Дайте-ка я его! Молодой парень в не по сезону легком драповом пальтишке – дубленочнику:
– Ты! Гад… Учти: еще раз скажешь такое, плохо будет. Пассажиры пока помалкивают. Молодой дубленочник:
– Что-a? Кто ты такой, падла!!!
– Я? Нормальный русский человек. А вот ты – подонок, – отвечает парень в пальтишке и, аккуратно сняв с обалдевшего дубленочника меховую шапку, окутывает ею свой кулак и этой самодельной боксерской перчаткой ка-а-ак влындит этому дубленочнику по роже! Тот аж присел от удивления. И тут вдруг какой-то голос из глубины троллейбуса:
– А ну, товарищи, действительно, помогите-ка эту сволочь выбросить отсюда…
Тут голоса:
– Да, да, давайте-ка, давайте…
Кто-то кричит водителю, стучит в стекло его кабинки:
– Остановите! Остановите. И двери откройте.
Остановился троллейбус, двери с грохотом распахнулись.
Кто – то берет дубленочника за шиворот, кто-то хватает за плечи, и выбрасывают его на мостовую в грязный снег… Шапка летит туда же.
Грохот дверей.
Поехали.
Сидит в талом грязном снегу дубленочник, изумленно смотрит на отъезжающий троллейбус. Голос по репродуктору в троллейбусе:
– Спасибо, товарищи. Следующая остановка – «Технологический институт».
И кондукторша, пожилая, громко:
– Билетики, билетики приобретайте, товарищи.
С тысяча девятьсот пятьдесят второго по тысяча девятьсот девяностый, кажется, или восемьдесят девятый – тридцать семь, тридцать восемь лет. Тридцать восемь лет понадобилось, чтобы ослаб страх, чтобы затеплилось чувство собственного достоинства в людях. Тридцать восемь лет и горбачевская перестройка.
Еще бы. Семьдесят лет пели хором: «Сталин – наша слава боевая» или лозунг «Слава великому советскому народу!». Подумайте, ведь в горячечном сне не привидится такое. Например, английский хор поет: «О Черчилле нашем, родном и любимом» или «Трумэн – наша слава боевая»… Или представьте себе лозунг где-нибудь в аэропорту крупными буквами: «Слава великому английскому (американскому, французскому, еврейскому и так далее, бери любой народ) народу!» Что бы мы сказали, услышав такое? А ведь это мы, мы долгие годы со слезами на глазах пели все это.
Ну ладно, хватит. Покурить. Ах да! Нельзя, капельница. Да и вообще – ХОБЛ, будь он неладен. А капельница – батюшки! – почти полна. Сколько же мне еще лежать-то, господи? Капает капельница.
Кап… Кап…
Ладно, давай-ка о приятном…
Осень… Прекрасная, редкая для Ленинграда, теплая, солнечная осень. Огненное золото деревьев горит на фоне глубокой лазури неба. Вонзается в синеву ослепительно сияющий шпиль церкви Инженерного замка. В просветах между деревьями красным сверкает здание дворца. Тихо. Тишину лишь иногда нарушает шорох падающего листа… Да изредка прогремит трамвай. Конный памятник Петру. «Прадеду – правнук».
Постой, в каком же это году? Автомобилей-то не было почти тогда… Где-то год шестьдесят шестой, семидесятый. Странное дело, сижу на лавочке, никуда не тороплюсь. Никогда этого не бывало за всю мою жизнь в Ленинграде. Обычно – бег с репетиции на радио, но это недалеко: Фонтанка, площадь Ломоносова с круглым сквером посреди площади и с памятником Ломоносову в центре сквера; примета: ходить через садик нельзя, того актера, чья нога хоть раз ступила на территорию сквера, ожидает какая-нибудь скверность в театре – либо снимут с роли, либо с треском провалишь ее, эту роль, либо вообще ничего не дадут в новой постановке, – значит, надо обойти скверик по окружности и, не замечая торжественного ужаса улицы Росси, бегом мимо Александринки, потом Катькин сквер (Катька – это императрица Екатерина Вторая), затем пересечь Невский, и вот он – Дом радио с лучшей в стране студией. Громадный, звуконепроницаемый зал: здесь пишут симфонии, драматические спектакли – идеальное место для работы. Впрочем, почему пишут? Уже не пишут. Писали – да. Писали, до того как эта студия не была к приезду президента переоборудована в пресс-центр, до того как она была разрушена, разделена на маленькие клетушки.
Так вот, мы работали в той, еще не сломанной студии. Заработок. Подспорье к нищенскому актерскому бюджету. Впрочем, могу кое-чем, записанным здесь, и похвастаться. Это отрывок из финала книги о Мольере Булгакова «Смерть Мольера», это Бродский – на смерть Джона Донна, это сказки Милна… Работаю и сейчас.
А в половине шестого – той же дорогой бегом обратно на спектакль в БДТ, по пути на улице проглотив два замечательно вкусных пирожка с капустой или повидлом, которые, подцепив на двурогую вилку, вместе с куском оберточной бумаги для гигиены вручает мне женщина в грязном белом переднике поверх ватника и с такими же нарукавниками. Перед ней – тележка, наполненная горячей водой, в которой плавает алюминиевый бак с пирожками. Пар! Вкуснее в жизни ничего не ел! И быстро – «петушком, петушком» – в театр, в гримерную:
– Привет, Сережа! Привет, Толя!
– Здорово, Бас!
– Какой спектакль сегодня?
– Ну, еще не решили…
Шутка, конечно.
Грим, костюм, Вера Григорьевна – щеточкой ширк! ширк! – перекрестит тебя – и на сцену!
А на телевидение – это значительно дальше и дольше. Тут и полубегом до метро, «Площадь Мира», и незабываемый запах подземки – смесь жженой резины, металлической окалины и человеческого пота, станция «Площадь Льва Толстого», и вверх, вверх, и – «петушком» – на улицу Чапыгина, на вновь отстроенную прекрасную студию, где занято большинство ленинградских актеров: почти еженедельно играем вживую на весь Союз все – от Шекспира и Чехова до Погодина и Тынянова.
Обратно – той же дорогой, но уже выйти надо на Невском из метро, бегом по Садовой сквозь толпы – там, возле ворот в Апраксин Двор, опять тетка в грязном фартуке, и – о чудо! – из бака, плавающего в кипятке, в оберточной бумаге тебе – два пирожка! Божественно! С капустой! И опять «петушком», стараясь не замечать резь от мозолей, глотая пирожок – в театр:
– Привет, Толя! Привет, Сергей!
– Привет, Бас!
– А сегодня что играем? – это я спрашиваю.
– Пока точно неизвестно.
И так – ежедневно, почти.
Где уж тут лавочки перед Инженерным замком.
Тут недавно понял: лет двадцать пять не был я на Невском проспекте, не сидел ни в одном кафе или ресторане. Все – «петушком, петушком»…
Остановись, Бас! Оглянись вокруг! Город-то какой, а?! А шпили, шпили! И прочий гранит! Ан нет, вот ты и добегался – ХОБЛ тебе, капельницы и прочие удовольствия.
Кап… Кап…
Чего-то сбился я… О чем это? А, да… Сквер у Инженерного замка… Тепло… Солнышко. Присел отдохнуть. Выходной день был, что ли? Или спектакля нет? Странное дело, сижу на лавочке…
Но… Что это? Вдали, в голубой дымке, медленно плывут среди золота листьев полупрозрачные три человеческие фигуры, медленно, торжественно, то исчезая в голубой дымке, то, вновь ярко озаряемые теплым осенним солнцем, обретают объем и плотность… Приближаются… женщина и двое мужчин… Их стройность подчеркивают красно-золотой плащ на женщине и элегантные костюмы мужчин.
Боже мой! Да это же… Не может быть! Да, да, это он! Массальский Павел Владимирович – мой любимый педагог по мастерству в студии Художественного театра. Все четыре прекрасных года он был с нами, со мной! Как он здесь? А, да! Ведь гастроли МХАТа в Ленинграде! А рядом – жена его Найя Александровна и сын Костя Градополов… Мы, студенты его курса, обожали его. Он всегда подтянутый, стройный, всегда элегантный костюм с тщательно подобранным галстуком. Нижняя губка чуть втянута, спина прямая, сверкающие элегантные ботинки… Красив, добр и требователен… Вот и сейчас в осенне-пряном золоте – идеальный светлый костюм, элегантное кепи чуть набекрень, бордовая бабочка на крахмальной рубашке.
«Ты уж не огорчай Пашу», – говорила мне бабушка, пытаясь хоть как-нибудь помочь мне в роли Хельмера в ибсеновской «Норе», которую готовил для выпускного спектакля Павел Владимирович, ведь ни черта у меня не получалось, я мучился, и Паша вместе со мной мучился… Девять лет прошло с той поры.
Мы, студенты, повально были влюблены в него: еще бы, популярнейший актер Художественного театра – «От автора» в «Воскресении», Тузенбах в «Трех сестрах», Вово в «Плодах просвещения», Джингл в «Пиквикском клубе»… А кино! Кино! «Без вины виноватые»! «Цирк» и его Кнейшиц: «Уважаемый публика ЭСЭСЭСУ!.. Фор ю, Мэри, фор ю!..»
Прохожие на улице останавливались и смотрели ему вслед. Еще бы, ослеплены были его красотой и популярностью.
Хотелось быть таким же, как и он. Я даже нижнюю губу чуть подтягивал, особенно когда он показывал мне, как надо играть Хельмера в «Норе». Но физические данные мои яростно сопротивлялись насилию, и просто никли и увядали, и роль не шла никак, несмотря на все усилия Павла Владимировича.
и вот огненное золото деревьев на фоне глубокой лазури неба… Слепящий, сияющий шпиль церкви Инженерного замка… Шорох падающих листьев… Осень…
Пытаясь держаться прямо, стесняясь нечищеных ботинок и неглаженых старых штанов, хочу встать навстречу.
– Здравствуйте! – И голос-то у меня какой-то хриплый, не мхатовский… – Здравствуйте, Павел Владимирович!
Но он не дает мне почему-то подняться.
– Нет, нет, не вставайте! Нельзя! Не двигайтесь! – И крепко держит меня за руку.
– Почему?!
– Вену проколете!
– Какая Вена? Питер, осень… А-а-а… Катя… Я это… действительно… что-то…
– Вот-вот, задремали. Ну как, нигде не щиплет?
– Нет, нет, Катя, вроде все в порядке.
Кап… кап… кап…
На донышке уже в бутылке. Кап, кап.
– Ну, лежите, скоро приду.
– Подождите, Катя, знаете, сколько мне лет? Восемьдесят четыре уже… Ужас, да?
– Ну-у… Вы…
– Да ладно, Катя. Все идет к концу… Ну да ладно. Скажите, знаете вы садик у Инженерного замка? Ну там, знаете, конный памятник – «Прадеду – правнук»… Там каштановая такая аллея идет… Знаете?
– Где?.. А-а-а… Ну?..
– Часто там бываете?
– Да вы что?! Куда там, к черту… Извините… Ведь все бегом, бегом! Я ведь на Гражданке живу, куда мне гулять! А туда пока доберешься, знаете, – все ноги отдавят… Ну, лежите, я скоро.
Ушла. По дороге бросила: «Какие там садики!»
Кап, кап…
Палата. Белые кафельные стены. Пролеженная тысячами больных кровать… Лежали, страдали… лечились… А кто-то и умер здесь, на этой койке… Ну, да мне еще девять лет осталось! Шире шаг, маэстро! А не лучше ли провести последние дни в компании доступных дев и хмельных товарищей? Или как там у Воланда?! Да где там! От алкоголя голова трещит и сердце бухает – тут кордарон, панангин и прочее… А девы – что девы? Редко такие, как Галя…
Кап, кап…
Да нет, были, были, я не говорю о театральных победах, были дни. Просто вот осень, листья падают, Массальский идет…
Как-то снимался я в кинофильме «Старшая сестра». Приехал на студию «Мосфильм» и с радостью и смущением узнал, что партнером моим в одной из сцен будет Массальский и артистка МХАТа Пилявская.
У него крохотная ролишка. Две-три фразы.
Неловко как-то: народный артист СССР, мой учитель – и две-три фразы. А у меня хоть и небольшая, но роль в нескольких эпизодах. А с другой стороны, каюсь, – некое подобие тщеславия по тому же поводу.
На съемке Павел Владимирович был сдержан, суховат, немногословен, говорил мне «вы». После съемки, вручив гонорар, ему подали машину.
– Пожалуйста, Олег, садитесь со мной.
– Что вы, что вы, Павел Владимирович, я на метро…
– Садитесь, садитесь! Мне это необходимо.
Я сел, и он – водителю:
– В «Берлин», пожалуйста!
«Берлин» – это ресторан на Петровских Линиях. Едем в молчании. Подъехали. Ресторанные двери глухо закрыты. Большая толпа страждущих и надеющихся. За дверным стеклом – краснорожий швейцар-вышибала. На двери большая таблица, крупными буквами: «Мест нет». Как, впрочем, на дверях всех ресторанов в то счастливое брежневское время.
– Идемте!
Протискиваемся сквозь толпу, и – о чудо! – дверь перед Массальским распахивается, вышибала-швейцар в поклоне бьется в пол лбом:
– Пожалте-с! – И, впустив нас, звериным рыком толпе: – Ку-у-уды?!
За нашими спинами с грохотом захлопывает дверь. МЕСТ НЕТ!
Идем к барной стойке. Паша – бармену:
– Ну-с, мне, пожалуйста, фужер коньяка «Двин»! И килограмм конфет «Мишка на Севере». Это шоферу, он ведь ждет. Тэ-э-эк-с, ему (показывает на меня)… э-э-э… Ну, да ведь он тоже артист! К тому же мой ученик! Ему тоже то же, ба-а-алыной фужер «Двин»!
– Что вы, что вы, Павел…
– Тихо! А для чего, как вы думаете, Олег Валерианович, я поехал сегодня на ваш дурацкий «Мосфильм»? Для чего, а? Так-то. Н-н-ну-с – я ведь теперь не только педагог, но и товарищ по несчастью! Отметим нашу творческую встречу! Будьте счастливы! Я верю, верю… – Звон хрусталя.
И – фужер одним глотком, сразу – о-о-п! – и конфеткой!
Ну и я – о-о-о-оп! – конфеткой!
И летит на барную стойку несколько скомканных красных десяток: зачем, зачем? куда столько?! И мимо вышибалы-швейцара (ему тоже десятку), он распахивает дверь, мы выходим сквозь толпу страждущих, за нашей спиной: «Ку-у-уды-ы-ы!» – и грохот двери. В машину: «Это вашим деткам, любезнейший», – конфеты в кульке.
– Вам, Олег! Вам куда, на Покровку? На Покровку, пожалуйста!
Машина тронулась. Маленькая пауза.
– Н-н-ну-с, н-н-ну-с, Олег Валерианович, а вот теперь-то ты мне и расскажешь подро-о-обнейшим образом о себе, о театре, о Товстоногове. С Таней как?
– Развелся, Павел Владимирович.
– Молодец, Олег, давно пора. Ну, ничего, теперь начнется у тебя настоящая жизнь! Ну, ладно, о себе, о себе расскажи. Я ведь слежу за тобой, тщательно слежу. И я в тебя верю! Слышишь, и твердо верю в твое будущее…
И сидит он рядом со мной, мой старший товарищ по несчастью, по цеху, красивый, стройный, соколиные глаза улыбаются, и расспрашивает, расспрашивает… Ученик Станиславского… Немировича… Рыцарь белоснежной чайки…
А мимо бежит Москва – летит, моя родная, юная моя Москва. Мама ждет на Покровке!..
А, вот и Катя!
– Ну, давайте теперь другую бутылочку. Только уговор: не спать! А то, знаете, при движении иголка может не туда…
– Да я знаю, знаю, Катя.
– Ну во-о-от! Не больно?
– Что вы, что вы, Катя.
– Пока. Буду приходить.
– Хорошо. Да, Катя, вы фильм «Цирк» смотрели?
– «Цирк»?
– Ну да! Помните: «На Луну я улетай, до свидания, гуд бай!» Ну, там ее хозяин, американец, помните, кричал: «Шор ю, Мэри! Фор ю», или помните: «Эта женщина имээт чьорний ребьонок!», помните?
– Ну…
– Так это мой учитель!!! Массальский!!!
– A-а… Ну ладно, я пошла. Буду приходить. – И ушла.
Кап… кап…
Да! Надо, надо торопиться, осталось мало. И как быстро все… Кап, кап! Надо, надо успеть! Правда, что? Что успеть-то? Сказали ж тебе: будешь жить до девяносто двух лет. Сказали? Сказали. Ну вот и живи. Тебе сейчас сколько? Восемьдесят четыре, да? Значит, осталось сколько? Девять или даже восемь. Видишь, как хорошо. Девять лет чего? Что я должен успеть за эти годы?! Кап, кап!
Дышу с трудом, хожу с трудом, фактически никому не нужен. Старый актер, сказал Станиславский, на сцене отвратителен. И это правда, я это чувствую. Ну а не на сцене? В жизни-то как? Внукам, Маринике и Тимофею, нужен ли?..
Да… А Пашу хоронил я спустя лет десять после той нашей встречи… Гроб стоял на сцене филиала Художественного театра, где в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году играли мы «Нору» Ибсена… полные надежд и тревоги… Кулисы с мхатовскими завитками, белоснежная чайка. А сейчас в полутемном зале сидели пришедшие проститься зрители, полный зал… Пожилые люди… в основном женщины. У многих были цветы в руках, но не купленные в магазине – дорого, а в горшках, из дома: герань, примула… резеда… ванька мокрый – домашние цветы… Я что-то говорил, опершись о суфлерскую будку спиной… Паша лежал красивый, строгий, худой, в усиках, нижняя губка, как всегда, чуть подтянута… Потом Новодевичий… Потом с Ваней Тархановым к Софье Станиславовне Пилявской, ближайшему другу Массальского. Там выпили из серебряной рюмочки Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой… Потом поехал к Володе Поболю. Застали там страшную картину черного пьянства…
Кап… кап…
Да… Так вот, Маринике и Тимофею нужен ли? Живут они в Москве и, видимо, там и останутся… Правда, летом приезжают, на Новый год, на Рождество. Это для меня всегда праздник, да и для Гали, конечно, тоже. С каждым их приездом вижу, как растут они и умнеют. Оба по характерам разные, но хорошие и добрые ребята… Дай им бог такими и оставаться… Не знаю, может быть, я им еще и пригожусь… Тут недавно Мариника спрашивает:
– Дедуля, а как ты стал великим артистом?
Балда этакая! Значит, от кого-то слышала… Глупость невероятная! Великий – это Смоктуновский, Луспекаев, Симонов, Меркурьев, Хмелев, Ливанов… и прочее, и тому подобное.
Ну, как ей объяснить, что слово «великий» приложимо к очень и очень немногим.
Я ей сказал:
– Да никакой я не великий.
– Как?!
– Да вот так! Я, может быть, неплохой актер, хороший, вероятно, но внутренних сил, способных разбудить во мне Симонова или Смоктуновского, – нет… Недаром я уперся и наотрез отказался репетировать Короля Лира шекспировского!
– Как – отказался?!
– Да вот так! Лира должен играть действительно великий артист, а не просто неплохой актер, поняла? А если он, этот неплохой, обнаглеет и возьмется за Лира – крышка ему! И Лиру тоже. Так что я, Мариника, – неплохой артист. Поняла? Неплохой. Но гордиться ты мной можешь – кое-что я сыграл действительно хорошо. Вот так.
Мариника подумала, подумала и говорит:
– Дедуля! Расскажи-ка мне лучше мистическую историю. Ладно?
Я ей рассказываю часто «мистическую»… Ложимся на диван, и тут я на ходу что-нибудь сочиняю… Недавно вот рассказал ей «Мастера и Маргариту», адаптированную, конечно, но она до сих пор боится одна ложиться спать… Перестарался… «Дай-ка я тебя поцелую!» Ужас-ужас!
Вот кому я действительно нужен – это Гале. Не дай бог помру. Необходим.
Предложили бы мне сейчас поехать по местам былой о моей «боевой и театральной славы»: Токио, Нью-Йорк, Авиньон, Мадрид… Поехал бы? Нет! Там я был не один, с товарищами, и чувство было радостное, чудное, свежее – вырвались мы ненадолго на свободу, в сказку, ходим, глядим, обалдеваем… А сейчас что? Что испытаю я, выйдя на пульсирующую огнями токийскую Гинзу? Да еще и без Дины Шварц? Она просила показать ей тогда Токио. Или с ней же в токийском Диснейленде…
– Ой, ой… Олег… Спасибо… Боже, птицы поют, боже…
– Да что вы, Диночка, что вы плачете?
– Олег, ну, подумайте, как же мы жили без этого детьми? Как же? – И плачет.
Что буду делать в номере гостиницы без друзей, к которым можно просто зайти потрепаться: к Мише Данилову, Заблудовскому, Панкову, Волкову?
и все будет напоминать о них. Вот кафе «Грэко» в Риме, где Гоголь бывал, где с Мишей пили кофе.
Вот бодега в Мадриде – где были с Малеванной, Стрижом, пили вино и пели песни… Было, было, было.
Вот Саграда Фамилия в Барселоне, куда затащил меня Вадим, или пивная в Эдинбурге, где с ним же…
Почти, почти уже все на том свете…
Пенсионеры западные – розовые, в седых кудельках – живут заново, путешествуют…
Не хочу я… Да и не на что.
Кап… Кап…
Помню, впервые мы как-то приехали на гастроли в Германию, в Восточную Германию, в Берлин. Первые наши заграничные гастроли. Ошеломило нас все: и гитлеровские дороги, и поезда, вокзалы, и орднунг сплошной, и незримое ощущение прошедшей войны, и наличие в магазинах посуды, обуви. Тогда в еще разделенном на восток и запад Берлине нас поселили в гостинице «Беролина» на Карл-Маркс-аллее. Гостиница показалась нам после Ленинграда верхом заграничности и элегантности…
Стеклянные! Самодвижущиеся! Двери! Идешь внутрь – они разъезжаются, проходишь – закрываются за тобой. Идешь обратно – опять разъезжаются, потом закрываются за тобой. Подмигивая друг другу, мы пытались разгадать секрет этого чуда. Шли наружу – двери разъезжались, потом закрывались за нашей спиной. Идешь обратно – опять разъезжаются! Заграница! А внутри, в холле, в элегантных мундирах красавцы! Одним словом, ресепшен! Швейцары! А «эксклюзив» – магазины, где были даже дамские сапоги?.. Унтер-ден-Линден! Правда, от старого Берлина почти ничего не осталось, но кое-где видны еще довоенные здания, музеи, ратуша, целая улица Фридрих-штрассе… Остальное – либо пустыри с бурьяном, либо новые кварталы, безликие, как и повсюду.
Но главное, главное – Берлинская стена, отделяющая наш социалистический мир от мира капитализма – мрачного, враждебного. Загадочный Чекпойнт Чарли – контроль при въезде в капитализм, в Западный Берлин… Вот они, Бранденбургские ворота – правда, до них не дойти: металлическая сетка, потом колючая проволока, потом еще что-то страшное, и лишь потом ворота, а потом, за ними, – Берлинская высоченная серая железобетонная стена… А подойдешь поближе к сетке, бросишь взгляд направо – вот он! Вот он, Рейхстаг! Весь выщербленный, избитый, в ряби дырок от снарядов и пуль, прожаренный великим огнем тысяча девятьсот сорок пятого года…
Помню, второго мая тысяча девятьсот сорок пятого года стояли мы с моей мамой вечером на Покровке, напротив табачной лавки, на крыше которой на фоне огненного заката растопырился, словно летучая мышь, громадный черный раструб громкоговорителя, откуда неслись торжественные слова Левитана:
– Нашими войсками взят Берлин!
И я, юный ленинец, пионер, стою по стойке «смирно» вместе с мамой, отдавая честь этому великому событию. Оба мы чувствовали, что вот еще! еще! немного – и все!!! Победа! Ее еще нет, но мы, стоя, слушая гимн, чувствуем ее близко-близко…
А потом, спустя шесть дней, восьмого мая, радостно срывались с места, подбегали к наушникам, висящим на гвозде – другого радио у нас не было, – летели на зов рассыпающихся хрусталем позывных «Широка страна моя родная…» и, боясь пропустить хоть одно слово, слушали в надежде на сообщение о победе, о конце войны. Слух о победе распространился уже по всей Москве, ждали, ждали, слушали, но каждый раз сообщения были о взятии очередных городов: в апреле – мае тысяча девятьсот сорок пятого года эти сообщения были уже почти рутиной, каждый день брали один-два новых города, и все ждали с трепетом и надеждой конца, конца – Победу! Но каждый перезвон позывных нес известие о взятии нового города… И когда где-то часов в двенадцать ночи в очередной раз мы рванулись к наушникам и услышали Левитана, сообщавшего о взятии города Секешфехервара, мама вдруг громко крикнула:
– Тьфу! Неужели нельзя сразу сказать! Что они тянут?! Безобразие!!! Все, Олег, ложимся спать! Все! Издевательство какое! При чем здесь какой-то Секешфехервар!
И мы легли спать…
А рано утром, часов в шесть, девятого мая… Но – как это вспоминается все?.. В тумане как-то все… Лицо мамы… Чем-то бабушка недовольна… Чем?! Что было, что говорила мама – не помню…
Помню, схватили мы с Витькой Альбацем мой красный флаг с вышитыми желтым шелком серпом и молотом. Мама дала нам палку от старой щетки, нацепили на нее флаг – и помчались на Красную площадь. Флаг этот брат мой по отцу – на одиннадцать лет меня старше – Жора, будучи хулиганистым парнем, спер, видимо, с одного из зданий во время какого-то праздника. Вообще он, видимо, попал в плохую компанию где-то в классе седьмом-восьмом, у меня даже нож финский его сохранился, на рукоятке буква «ж» вырезана; отец выдернул его из этой компании и отдал в Сумское артиллерийское училище, которое он окончил младшим лейтенантом двадцать второго июня сорок первого года.
С войны писал нам, слал посылочки, деньги присылал, а потом с сорок третьего пропал, ни слуху ни духу… Потом в Министерстве обороны нам объявили, что был тяжело ранен он на Курской дуге, у станции Прохоровка, в госпиталь не прибыл, какой там госпиталь, кровавая мясорубка… Я был там, у станции Прохоровка, теперь это место называется «Третье поле ратной славы России». Первое – это Куликовское поле, второе – Бородинское, а третье – здесь, у Прохоровки… Громадное пространство… Жара… Горизонт дрожит и двоится от раскаленного воздуха… Как и тогда, в сорок третьем. Братские могилы… пушки, танки. У одной из пушек меня остановил директор здешнего музея и сказал, что эта пушка принадлежала отдельному артдивизиону семидесятишестимиллиметровых пушек сто двадцать пятой стрелковой бригады, где Жора был начальником штаба.
– К этой пушке наверняка прикасался, а то, может быть, и стрелял из нее ваш брат.
Я положил ладонь на раскаленный металл, ствол обжег мне руку, словно не остыл еще от стрельбы.
Неловко как-то… Я, здоровый, живой лоб восьмидесяти лет, трогаю пушку, рядом с которой, может быть, оборвалась в пламенном аду прохоровской бойни чья-то жизнь, может быть, Жорина… Стыдно как-то. Хорошо одетый, в чистой рубашечке, упитанный, сытый… Прикасаюсь, дескать… отдаю последний долг. Стыдно. Неловко.
А посреди этого гигантского, выжженного до белизны жарой поля – высоченная беломраморная колокольня, а на самом ее верху – золотая фигура Божьей Матери с платом Богородицы на вытянутых руках… Сияет на солнце. Тишина. Только кузнечики звенят… Горизонт дрожит, плывет, струится…
Может быть, им, этим мальчишкам с разорванной плотью, с перебитыми костями, легче от этого, не знаю.
Пропал без вести… С этим и жили, с этим жил и я.
Но вот совсем недавно… военный историк Борис Рытиков – спасибо ему – прислал мне документы.
Не на Курской дуге погиб мой Жора… не у станции Прохоровка…
Вот они, ксерокопии полуистлевших фронтовых бумаг, врезались мне в память, словно я и сейчас держу их в руках.
Торопливый, рваный, трудно читаемый почерк. Фельдшера?.. Медсестры?.. Хирурга?..
…Скребет перо номер восемьдесят шесть по дну пузырька с остатком чернил, цепляется за плохую бумагу.
«…История болезни № 1213… ХППГ 497 Начштаба 973 арт. п. 160-й дивизии капитан Басилашвили (тут наш домашний адрес, фамилия папы, мамы, все точно) 07 сентября 1943 года получил сквозное осколочное проникающее ранение правой половины грудной клетки с повреждением 7, 8, 9 ребер…
7 девятого месяца 1943 года
– ранен в 10.00…
– первая помощь оказана товарищем через 30 минут…
– доставлен в медсанбат в 11.00…
– …в полевой госпиталь 497 поступил 07 IX 1943 в 19.00…
– блокада по Вишневскому…
– 2,5 литра крови перелито…
8 девятого месяца 1943, 02 часа
– состояние тяжелое… пульс нитевидный… дыхание частое… прерывистое…
– камфара… беспокоится… бледный.
08 девятого месяца 1943 года, 07.00 минут
– умер, проявление упадка сердечной деятельности и остановки дыхания.
Подпись: врач Г (неразборчиво).
Похоронен: лес, 0,75 километра ю.-в. деревни Петуховка Смоленской области. Приложен план захоронения».
Семьдесят пять лет лежит мой Жора, мой брат, в лесной могиле у деревни Петуховки. Вместе с сотнями своих товарищей.
А неточный ответ на запрос мамы и отца… ну что ж… миллионы бумаг… путаница… куда там…
Родился в тысяча девятьсот двадцать третьем году, убит в тысяча девятьсот сорок третьем. Двадцать лет. Прости, Жора. Что скажешь, глядя на меня сегодняшнего?
Темно в палате. Вечер. Надо свет зажечь. Щелкнул выключателем, благо рядом. Вспыхнул белым кафель, окно провалилось в черноту.
Да… Так вот, рванули мы с Витькой Альбацем по Покровке, раньше улица Чернышевского, по Маросейке, раньше улица Богдана Хмельницкого, по Ильинке, улица Куйбышева, на Красную площадь. Жорин флаг на палке! Над нами реет! На площади народу – тьма… Толпа – черного цвета… Не из-за траура, нет, нет! Просто надевали только черное или, по крайней мере, темное. Во время войны оно, темное, не такое маркое, грязь, пятна меньше заметны, мыла-то нет, да и перелицовочные швы не видны. И вот она, Красная площадь. Но не вижу я блеска медных оркестровых инструментов, не слышу победных маршей. Толпы, толпы народа стоят. Где-то, правда, патефон слышен, где-то там еще, у Василия Блаженного вроде, под гармошку танцуют… Смотрят на Кремль, на мавзолей… Да, да, небо! – небо синее-синее, ни одного облачка. Откосы у Кремлевской стены светятся нежно-зеленой молодой травкой… Вот солнце – да! Солнце радостно сияет, жарит вовсю, радуется за всех.
У Исторического музея народ подбрасывает в воздух какого-то военного с планками ранений на груди. Рядом двое военных – офицеры, видно, фронтовики, погоны-то зеленые, и звездочки зеленые, и на фуражке звезда тоже зеленая, сапоги какие-то зеленые, брезентовые, грудь у них блестит от орденов и медалей, – раздают ребятам мороженое с тележки мороженщицы, видимо, заплатили за все и подлетевшей ораве ребят раздают эскимо. Мне тоже перепадает – мороженое без шоколада, соленое (сахара-то нет), но, хоть и соленое, все равно!
Едет грузовик-полуторка. В кузове – киносъемочная камера, дядьки с кузова кричат нам и руками показывают: кидайте, дескать, в воздух ваши кепки, шапки! Я тоже кидаю свою тюбетейку, что ли, или кепку, вот не помню. Сейчас иногда по телевидению вижу этот кадр. Где там я? Где-то я там! А флаг Жорин с нами!
– Сталин сейчас выйдет! – говорят в толпе.
– Где, где?!
– А, вон, во-о-он окошко, видите, вон на углу, вон там…
– Да нет, на мавзолей выйдет!
– Сталин выйдет там, где Манеж, туда побежали!
Бежим. Нет Сталина.
Идем вокруг Кремля. Площадь Революции у музея Ленина.
– Сейчас Утесов выступал.
– Еще будет?
– Да нет, всё. Видишь, вон, вон музыканты в грузовик лезут.
В Охотном Ряду, между гостиницей «Москва» и Советом министров (нынешняя Дума), высоко-высоко, между двумя самыми высокими этажами, натянуты тросы, и на них флаги, огромные-огромные флаги: наш, СССР – красный, с серпом и молотом, и союзников, Америки – звездно-полосатый, Великобритании – красно-синие кресты, Франции – бело-сине-красный… Народу тоже толпы.
Какие-то военные в красивой, хорошо выглаженной незнакомой форме (американцы?) принесли патефон, танцуют фокстрот, где-то поют: «Итс э лонг вэй ту типерери!»
Красная площадь.
– Сталин был?
– Нет, не был.
Стоят, смотрят на Кремль, на звезды в чехлах… Ждут чего-то.
Кап… кап…
Берлин… Ни одна европейская столица не вызывала во мне такого острого чувства. А вот Берлин…
Берлин, Данцигер-штрассе, 20…
«У вас продается славянский шкаф? С тумбочкой…»
«Подвиг разведчика» с Кадочниковым в роли нашего разведчика в гитлеровском Берлине. Сколько раз смотрел я в «Колизее» на Чистоках эту картину! Странно только, почему пароль для наших разведчиков в фашистском Берлине – славянский шкаф? Именно славянский! Логичнее было бы какой-нибудь немецкий шкаф, шкаф Гамбса или что-нибудь вроде этого. Да еще с тумбочкой! Но это так, к слову.
Ганс Фаллада. «Каждый умирает в одиночку». Книгу эту принесла мама, потом взял почитать управдом… Потом почитал по очереди весь наш дом номер одиннадцать на Покровке. Истрепали… Даже сейчас ощущаю запах чистенькой берлинской квартиры, дешевого мыла, тушеной капусты или брюквы, в чугунной печке тлеет уголь или торф. Двое пожилых людей – муж и жена – пишут антифашистские открытки и тайком разносят их по всему Берлину… Осклизлая корзина, куда падает отрубленная голова пойманного старика… Или еще книжка «Карл Бреннер». До сих пор ощущаю запах старой проросшей картошки, сырость, пряный запах овощной лавки… Горьковато-сладкий запах дыма из труб на острых черепичных крышах, тусклые фонари… Шаги, звенящие по каменным плитам тротуара… Железные жалюзи на булочной, шаги солдатского патруля в сизой форме…
Тянуло, тянуло меня к Рейхстагу… Почему? Не знаю. То ли болезненное мое влечение к прошлому… война, детство… Как достоверное свидетельство моей ранней юности, моих ощущений того времени – да! Да! Это было, было все! И это мое, кровное! Вот свидетель, вот Рейхстаг, это со мной, со мной, вместе с мамой… бабулей…
То ли что-то еще, не знаю… Может быть, ощущение, буквально физическое ощущение напряженного, пограничного состояния. Вот она, стена. За ней – западный мир, неравенство, социальная несправедливость, нажива, вседозволенность.
И граница. И я стою между двумя мирами. Звенящая тишина.
И еще… До войны меня определили в «немецкую» группу.
Из окна столовой в нашей квартире виден был дом номер четырнадцать. Фасад этого дома выходил на Чистые пруды и был украшен изображениями мифологических животных… какие-то листья… Потом я узнал, что этим домом владел Московский патриархат когда-то, а звери – копия зверей на храме во Владимире.
В этом доме жительницей одной из коммуналок, немкой Полиной Францевной, была организована немецкая группа для детей пяти – семи лет.
Окно комнаты, где мы занимались, выходило во двор, и виден был наш дом, наши родные окна…
«Ден рюкен гераде хальтен!»
«Гебен зи мир, битте, ди лёффель».
То есть «Спину прямо держать» или «Дайте мне, пожалуйста, ложечку». Так говорила мне наша воспитательница, немка Полина Францевна, и это врезалось мне в память на всю жизнь вместе с «гемюзе», «брот», «герр штюле», «хаус» и что-то еще. И корзиночка, желтая, плетеная из золотистой соломки, с крышечкой, запираемая палочкой, просовывающейся в скобку… В эту корзиночку мама положила мне бутерброды на белом хлебе с любительской колбасой, точно помню, и яблоко и сказала:
– Олег, во время занятий будет у вас перемена. Знаешь, что это такое, почему это время названо переменой?
– Нет, не знаю.
– А потому, что дети, твои товарищи, будут меняться друг с другом тем, что им дали их родители, вот как я дала тебе бутерброды и яблоко. Как только начнется перемена, предложи кому-нибудь свое яблоко или бутерброд. Он возьмет и в обмен даст тебе свое. Понял?
– Да, понял!
На перемене я предложил свое кому-то, кто-то с радостью схватил бутерброд, кто-то яблоко, еще кто-то… И у меня осталась пустая корзиночка… А обмен – обмен не состоялся почему-то…
Полина Францевна делала маленькие дневнички для каждого и ставила туда оценки за поведение и за «успешность».
Полина Францевна… Что-то светленькое, седенькое… Розовый румянец на чистых щечках… очки… улыбка…
– Заген зи мир, битте, генедиге фрау. Во ист ди майне бух?.. Зетсен зи зих! Дер тыш!
Вернувшись из Тбилиси из эвакуации, мы с мамой пошли проведать Полину Францевну. Поднялись на четвертый этаж дома со львами на фасаде. Позвонили в дверь. Нам открыла соседка Полины Францевны. Боязливо оглянувшись:
– А, Полина Францевна… Так нет ее…
– А где она? Скоро придет?
– Ее вообще нет… В сорок первом за ней пришли… эти… ну… знаете… А вещи так и остались… Мы ее больше не видели… Сейчас в ее комнате уже другие…
Заген мир битте, во ист дизез генедиге фрау Полина Францевна?
Да, тянуло меня к Рейхстагу. И вот в этот раз приехал я на съемки в Западном Берлине, а поселили меня в гостинице МИДа ГДР, в Восточном Берлине. В посольстве мне выдали листок с печатями и подписями, которые служат пропуском в Берлин Западный. Ехать надо завтра на S-бане (надземной железной дорогой) с вокзала Фридрих-штрассе. Ну, берлинские вокзалы – это отдельная тема, фантастика, техника, архитектура, стабильность, прокопченность… Как-то я, проходя мимо этого вокзала, обратил внимание на стену, сложенную из стеклянных кирпичей. «Стена плача», – сказал мне берлинец, сопровождавший меня. У этой стены со слезами расставались жители Восточного Берлина со своими родственниками из Западного Берлина, приехавшими на выходные навестить их. Объявляли посадку, западные берлинцы шли на перрон, а восточные, глотая слезы, оставались за стеклом. Выезд на Запад был им запрещен, попытки самовольно переехать на Запад, бегство карались жестоко – тюрьмой или еще хуже.
Листок с печатями, этот пропуск, я положил в паспорт. Завтра буду в Западном Берлине, сяду на поезд здесь же, на Фридрих-штрассе, пересеку границу над Берлинской стеной и выйду на станции Zoo – Зоопарк. А пока пойду к себе в номер и поем чего-нибудь – в «гаштетную» идти нельзя, экономлю деньги на туфли Гале. Пришел в номер. Сижу. Есть что-то не хочется. Да и душно очень, жара. Решил пройтись по вечернему Берлину. Вечер уже, темно.
Прямо напротив гостиницы – узенькая улочка. Мне кажется, называлась она Карл-Бреннер-штрассе, впрочем, может быть, я ошибаюсь.
Пойду-ка я по этой улочке, она ведь параллельна Унтер-ден-Линден – значит дойду до стены и Рейхстаг увижу, но уже не справа, а слева от себя. А потом и в номер вернусь.
Мне рассказывали, что многие восточные немцы пытались бежать через стену, над стеной, под стеной. Кому-то это удавалось, но большинству – нет. Был дан приказ стрелять, многие погибли. Солдат, проявивших бдительность, награждали.
Все это – фантастика вокзала, Рейхстаг, стена и предстенные заграды, солдаты ГДР и манящий неизвестностью Западный Берлин – возбуждало острый интерес, манило тайной, запретностью, воспоминаниями.
И отправился я по узенькой улочке Карл-Бреннер-штрассе, не торопясь, к стене, к Рейхстагу.
Пустынна была улочка. Наглухо закрыты железными волнистыми жалюзи витрины… «Гемюзе ладен»… «Бэккерей». Звенящая тишина. Темно. Черное ночное небо. Ни единого прохожего. Еле-еле мерцают газовые светильники, почти ничего не освещая.
Громкое эхо моих шагов по плитам тротуара… Надо бы потише…
Впереди над улицей – мост S-бана. Завтра я проеду по нему над стеной в Западный Берлин. Во всю длину моста – бесконечное немецкое слово букв пятнадцать-двадцать… Восклицательный знак в конце… Иду дальше… Душно.
Окна домов почему-то все без огней. Может быть, шторы? И домовитые немцы там, внутри своих квартир, играют в железные дороги, гоняют миниатюрные электровозы, пассажирские пульманы пощелкивают на стрелках, втягиваются в туннели, тормозят у перронов?..
А может быть, уже спят? Или просто это нежилые дома? Нет, а лавки зачем?
Вдруг из-за поворота – ослепительный свет! Впереди высокая металлическая сетка блестит. За ней пустое пространство, потом какие-то заграждения, сияет колючая проволока, еще дальше – бункер, посверкивают каски солдатские. А еще дальше, там, вдали, метрах в шестидесяти, – вон она, высокая бетонная Берлинская стена.
Подхожу ближе. Химически чистый ртутный свет заливает границу. Словно фото лунной поверхности, черное мрачное небо и сияющая белоснежная поверхность. Безмолвие. Жутковато.
Два угловых дома, два последних дома справа и слева от меня мертвы: печальные провалы окон, черные от копоти стены, траурная пустота, следы мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Подошел ближе к сетке, смотрю налево.
Вот он – Рейхстаг!
Черный, обугленный, с торчащими ребрами вдребезги разбитого купола… Здесь где-то рядом Гитлер принял яд, Геббельс… Здесь шипела кровь, попадая в огонь, падали люди, крича… И я, юный пионер Советского Союза, слышу голос ликующего Левитана: «Нашими войсками взята столица фашистской Германии город Берлин!!!» Стою навытяжку на Покровке с мамой… Второго мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Громадный черный репродуктор на фоне алого заката растопырился, словно летучая мышь…
Здравствуй, мое прошлое! Мама моя… Папа… Бабушка… Жора… Вас давно нет, а я вот один, вместе с вами стою в тишине наедине с нашим прошлым. Вот оно, рядом!
Подхожу совсем близко к сетке, стараюсь увидеть детали.
И вдруг мертвую тишину взрывает оглушительное рычание заводимого мотора, и, мягко урча, выезжает там, вдали от меня, из бункера мотоцикл, две стальные каски поблескивают на фоне небесной тьмы, плавно и бесшумно часть металлической сетки отодвигается в сторону – это, оказывается, ворота, – и выезжает из них мотоцикл с коляской. Два серо-сизых солдата, с горящими ярко фонарями на груди, автоматы. Поворачиваюсь, хочу уйти, делаю несколько шагов.
– Хальт!
Это мне? И опять гневно:
– Хальт!!! – громко, словно лая, с надрывом.
Останавливаюсь.
– Хенде хох!!!
Поднимаю руки вверх.
Вокруг – никого, улочка пуста. Сзади, во тьме, маленькие голубые светлячки газовых горелок на редких черных столбах. Черные дырки автоматов сверлят меня насквозь.
«Убьют. Убьют при попытке!» – мелькает в мозгу. Многие пытались – десятки убитых.
– Аусвайс!
Одной рукой достаю паспорт, тяну серо-сизому… Витые погончики поблескивают серебром… Руку опять вверх…
Серо-сизый, не глядя, кладет мой паспорт в нагрудный карман и застегивает его на серебряную пуговицу.
Оба уже стоят передо мной. Один из них, словно приказ оглашая, начинает что-то говорить громко, четко и раздельно.
И – никого, никого вокруг! Господи!
Ничего не понимаю. Жарища. Пот заливает глаза. Щиплет, да еще фонари в лицо.
Четко. Словно лает, словно приговор читает. и тут второй автоматом – клац-клац!
И какое-то от безнадежного ужаса, видно, озарение на меня накатило:
– Их бин шаушпилер! – говорю, тоже громко и быстро… Ну, дальше, дальше! Полина Францевна, милая, помогайте! Как там?! – Их бин русиш шаушпилер, – говорю, – то есть их бин советише шаушпилер, – говорю. – Майне фатер дизе хаус, – показываю на Рейхстаг, – дизе Рейхстаг… – Ну как «брал, брал»… как? Как? – Пу-пу, – говорю.
Ну как им сказать? Я просто пришел посмотреть… как по-немецки «посмотреть»? А, нет, не помню… И тут меня осеняет.
– Их бин советиш шаушпилер, – говорю. Ну, ну, Полина Францевна, дальше. – Морген, – говорю, – их вонунг… – Так, кажется, «ехать» или нет… – Их гейне он ес дизес S-бан нах Вест Берлин унд арбайт нах кинематограф советиш!
То есть если вы думаете, что я хотел бежать в Западный Берлин, – это нелепость, ибо завтра я и так буду там, в Западном Берлине.
– Майне папир советиш амбасадор ин майне аусвайс кляйне папир, тикет, – это я уже от ужаса по-английски говорю и пальцем показываю на нагрудный карман сизо-серого. – Ин аусвайс, ин майи аусвайс.
Долгая пауза. Смотрят. Зрачки автоматов сверлят насквозь.
Серо-сизый расстегивает серебряную пуговичку, не отрывая от меня взгляда, нехотя достает мой паспорт – «аусвайс», начинает листать и – о счастье! – из него выпадает белый листочек – тот, который вручили мне в посольстве, – разрешение на въезд в Западный Берлин. Выпадает и, словно сухой осенний лист, медленно кружась, падает к ногам серо-сизого.
Поднимает. Читает. Длинная пауза. Оба переглядываются, долго молчат. Только мотоцикл на холостом ходу мягко подрагивает. О чем-то вполголоса друг с другом.
Серо-сизый вкладывает пропуск в паспорт, протягивает мне и говорит:
– Шпацирен.
Иди, дескать.
– Линке, рехт – пу-пу, – то есть влево, вправо пойдешь, будем стрелять.
Из химически яркой, ослепительно-блестящей металлом касок и решеток пограничной полосы шагнул я опять во мрак узенькой улочки Карл-Бреннер-штрассе. Стараюсь идти прямо-прямо, медленно. Словно две горячие дырки горят у меня в спине. Не дай бог, качнет меня… лингс, рехт…
А! Вот и площадь маленькая, скверик… Я шасть налево – и бегом – куда бы от них, а сзади с нарастающей громкостью приближается: та-та-та-та-та!
Рву двери какие-то! Заперто. Вторая. Заперто. Накрепко. Одна, вторая… Дверь какая-то в полуподвальчик. Толкаю ее – колокольчик, открывается. Ступенек десять вниз. Сидит какой-то седой, в синей форменной фуражке под зеленой лампой, в очках. Смотрит на меня.
– Вас волен зи?
Я к нему и умоляюще быстрым срывающимся шепотом:
– Их бин русиш шаушпилер, битте. Полицай, полицай, пу-пу…
Человек долго смотрит изучающе на меня сквозь круглые линзы очков. Молчит. И вдруг корявым, помню, таким прокуренным табачным пальцем показывает мне туда, за лестницу, тычет, тычет пальцем несколько раз – туда, за дверь. На цыпочках забегаю за лестницу, встаю. Он мне пальцем к губам:
– Пет!..
Та-та-та-та-та. Остановились. Ну все, конец, думаю. Он опять: «Пет!» – палец к губам. Колокольчик. Дверь открывается, скрывая меня от них, и я их не вижу. Затаил дыхание. Слышу только: что-то спрашивают.
Тот, что в фуражке, охранник, – я его вижу – отрицательно качает головой: «Найн, найн…»
Слышу, сизые мои постояли и пошли обратно. Колокольчик динь-дынь! Дверь захлопнулась и – та-та-та-та-та… – удаляющийся мотоцикл. Стою. Охранник прикладывает палец к губам: «Пет!»
Молчу. Проходит минут десять.
Охранник машет мне рукой: можно, мол, идти.
Подхожу к охраннику и шепотом, охрипшим шепотом:
– Дайке, дайке зеер!!! Спасибо, спасибо. Генедиге хер, дайке!!!
А охранник вдруг – охрипшим, тоже охрипшим шепотом:
– Нитшего. Нитшего. Я сналь руски, ам дер Русия. Плен. Спасибо.
Я вышел, осторожно прикрыв дверь, чтоб не звякнул колокольчик. Тьма. Редкие огонечки газовых горелок. Тихо. Прошел крадучись квартала два. Вот и мост. Налево за мостом свет, вывеска светится! Гаштетная! Вхожу. Светло, гул голосов, кто-то поет, пахнет какой-то кислятиной – пролитым пивом, что ли? Духотища!
Сажусь за стол, заказываю – да, да! заказываю!!! имею право! бог с ними, с туфлями! куплю подешевле! ведь вообще ничего не ел сегодня! – большую кружку пива! И жареную сосиску – братвурст, нет, две! И картофельный салат! Битте!
Поел, опьянел. Тяжело. Пиво-то я никогда не пью! А тут – гросс бир, большое пиво! Иду домой. В номер. По дороге встречаю директора картины, Цируль его фамилия. Рассказываю ему, что было со мной. Он вдруг становится белым, как бумага.
– Голубчик, вы сетку-то эту не трогали?
– Нет.
– Бог вас спас! Ведь там как – если дотронуться до этой сетки, с двух углов стреляют автоматы-самопалы, прямо вдоль сетки, на двух уровнях… Бог вас спас. Да и на мосту видели надпись? Проход под мостом карается по закону!
– По какому закону? Чем карается?!
– Чем-чем? Сами знаете.
Господи! Благодарю тебя! И того седого, бывшего нашего пленного… в фуражке… с кривым пальцем…
Уже не капает. Вторая банка пуста. А Катя что-то не идет…
Почему я не художник… А ведь мог бы им быть… Но только не стал бы рисовать эту стену, сияющую мертвым светом на фоне черного неба. А ведь мог бы – этакой полусухой кистью, небрежно – шварк! – жженая кость – небо, дескать, белила – шварк! – блеск металла…
Нет, мне по душе яркие, солнечные, брызжущие жизнью краски!
Тянуло меня рисовать всегда… Еще до войны мама гордилась моим «кавардаком» – грудой разноцветных кубиков, нарисованных мной акварелью… В Тбилиси что-то мазюкал… В голодной и морозной Москве после эвакуации вонзился в мое сердце пряный запах дедушкиных рисовальных ящиков – груда тюбиков засохших, засохшие кисти, старая протертая акварель… Его закатанные в трубку ватманы с акварелями, чертежами…
И я рисовал, рисовал, рисовал… В основном, конечно, пачкотня…
Потом появился художник – Петр Николаевич Григорьев, сосед с третьего этажа, отец маминой подруги Лидочки… Подарил мне на новый, тысяча девятьсот сорок четвертый год настоящий этюдник с кистями, палитрой! Этюдник и палитра были абсолютно затерты красками, словно драгоценный мрамор, палитра, пропитанная многолетним маслом и с радужными следами прошлых работ… Мастихин… Счастье! Зеленый кувшин на фоне белой тряпочки!
А запах! Запах! Олифа… керосин… тряпки замасленные…
Дедушкин громадный мольберт!
В Ахтырке, деревне, где мы сняли пол-избы под дачу, – тоже писал: речка Воря, поле у деревни Машкино, гумно колхозное, деревушка Абрамцево…
Рубашки мои были навечно запачканы маслом, красками… Одеяло приобрело два краплачных несмываемых, воняющих керосином пятна…
И все это было упоительно!
В тысяча девятьсот сорок шестом году я поступил в художественную школу в Москве, самостоятельно поступил. Правда, робея, пришел на показ с мамой… Но все по моей инициативе. Взяли. Каждое утро – к девяти утра – на метро до «Парка Культуры», и там, сразу за павильоном метро, – двухэтажный кирпичный дом, там художественная школа. А потом в обычную среднюю школу, что в Колпачном, рядом с нашим домом, – там я учился во вторую смену, с двух часов.
Да, все, что рисовал до школы, было упоительно. А вот художественная школа – это уже иное…
Тоскливые и бездушные гипсовые пирамиды, шары… Глаз Давида… ухо Давида… И все это – карандаш. Ластик – нельзя, пальцем – нельзя… Тоска… Я спустя рукава все это делал – хуже всех… А потом, уже в акварели, не узнал, к стыду своему, свою же работу, когда нам раздавал их педагог.
– А вот это – чье?!
– Ужас! – общий смех.
Вместо симпатичного натюрморта с медным кофейником на зеленом фоне – нечто крохотное, убогое, еле намазюканное… Это рядом-то с яркими работами других!
– Чье это безобразие?!
И тут я:
– Мое, кажется…
– Да… А вам не кажется… что… А! Ладно…
А вокруг – насмешки, подкалывания. Я тогда это очень переживал, руки опускались – что там, ведь мне десять лет… Я еще не закален противиться яду, насмешкам…
Правда, были и друзья… Диадоров (так, кажется…), Снисаревский… Хорошие ребята. Диадоров, помню, нарисовал на меня шарж: старый, обрюзглый, толстый человек – это я – стоит над толпой на эстраде, а вокруг зрители, и что-то он вещает… Старый артист.
– Вот таким ты будешь впоследствии. Актером старым!
– Ты что?
– Зуб даю!
Диадоров оказался прав, к сожалению… Его имя я встречал иногда на выставках, но не убежден, он ли это.
Последней каплей, переполнившей чашу моих унижений, послужил натюрморт – синий жатый бархат складками, на его фоне стоит фаянсовое блюдо с голубыми узорами, а впереди всего этого – три яблока: желтое, зеленоватое, красное – свежие-свежие, и так красиво они светятся, выпуклые такие!..
И бархат вроде получился, и, как ни странно, блюдо флорентийское, и узоры выпуклые на нем… Писал я акварелью, но густо, словно это гуашь… Что преступно…
Но вот яблоки никак не хотели сиять на первом плане, как там, в натуре. И так и этак я – никак… Они такие объемные там, так впереди автономно сияют! И густой темно-синий бархат подчеркивает все это!
Взял я да и обвел одно яблоко черным, густым и нахальным – «кость жженая»… И вдруг! Заиграло, засветилось яблоко, вылезло вперед! И остальные – тоже!
Первая моя удача! И я сдал эту работу педагогу на просмотр.
Через день.
– А это чья работа?!
– Моя, – говорю. (Не стесняюсь, она мне нравится.)
И тут педагог, бледнея, переходя на крик:
– Какой мерзавец?! Кто?! Кто вас этому научил?! Где вы могли этого нахвататься?!
А тогда, в тысяча девятьсот сорок шестом, сорок седьмом и далее годах шла активная борьба с «гнилым влиянием Запада»: с космополитизмом, с кибернетикой – буржуазной псевдонаукой, с генетикой – услужливой проституткой Запада, ну а об импрессионистах мы и не знали ничего, книги о них были изъяты, картины спрятаны по подвалам музеев… Академик Вавилов, генетик, объявлен врагом народа, арестован и погиб, как и его сторонники, то же и в кибернетике… О Мейерхольде, Таирове, Михаиле Чехове и многих других мы и знать ничего не знали…
Что же касается яркой формы в живописи, вообще в искусстве, – преследовалось, изгонялось, обвинялось в низкопоклонстве перед Западом, во враждебной деятельности, антинародной…
Запросто можно и вслед за генетиками и кибернетиками – на Лубянку, да и подальше – на тот свет.
– Кто?! Кто вас этому научил!!! Какой мерзавец? Что это за черный цвет?! Откуда?
– Да нет, никто меня не учил, это я сам… Ну чтоб яблоки выпукло заиграли.
– Сам?! Не лгите!!! Кто, кто вас научил этому безобразию?! Выпуклости, видите ли, ему захотелось!..
Общий хохот, насмешки…
– Перепишите!
Короче, не стал я ничего переписывать. Просто больше не приходил в школу, но рисовать не бросил, писал и маслом, и акварелью, и карандаш, и тушь…
Снисаревский тоже ушел. Пошли во Дворец пионеров на улице Стопани.
О! Вот там я развернулся… Репин! Веласкес! Педагог в восторге! Ворона – ее чучело – сияет всеми красками спектра! И так далее!
Как я был счастлив, когда, вымолив в Лавке художников, что на Кузнецком, кусочки холста и купив вдобавок какой-то «волконскоит», придя домой и попробовав щетинной кистью (других не было) этот волконскоит на кусочке белого картона, увидел я то самое, чего добивался тщетно, – солнце! Солнце сквозь свежую зелень! Солнце на листьях, траве, бьющее сквозь нее! Не оторваться. Теплый, даже горячий свет зелени. И как же я был поражен, это уже потом, после смерти Сталина, увидав на картине Сезанна, где сосна на холме, – ту самую беззастенчивую берлинскую лазурь в неосвещенных солнцем частях хвои, которую я видел на природе, но не смел положить на холст, ибо – надо быть верным натуре, какая там синяя краска – это же неправда, хвоя ведь зеленая, ну искал я в наборе зеленого, коричневого, желтого и прочего ту самую тень, которая гениально и просто легла у Сезанна темно-синим, объемно подчеркнув синь неба, зной, горящий яркой медью (кадмий!) ствол шершавой и нагретой солнцем сосны!
Но каждая картина, каждый пейзаж выдвигал свои требования. Ну, освоил я что-то в пейзаже. Потом смотрю – мало… Мучительно пытаюсь преодолеть, добиться правды… Удается! И пошло-поехало по открытой дороге… А потом – опять – вижу слабину, пытаюсь преодолеть и ее. И так со ступеньки на ступеньку. Процесс мучительный. И на одной из ступенек – сломался я. В прямом смысле: сломал кисти, карандаши, порвал ватманы и дал себе слово больше никогда! никогда не заниматься этим мучительным делом.
Настолько твердо решил, что моего товарища Снисаревского, с которым мы подчас дома у меня рисовали, однажды не пустил домой к себе – все! Завязал! С рисованием покончено.
Его я больше не видел. К сожалению. Он обиделся и исчез навсегда.
Редко, очень редко «пописывал» я кое-где, в Хотьково в основном… Но это так… любительство…
А в Ленинград приехал – пошел однажды на Острова – там так красиво! – провел несколько линий на бумаге… Но что-то не пошло у меня совсем… Нет подмосковного буйства, пряной красоты, запаха перегретой листвы… сочащейся хвойной смолы…
Все. Больше никогда не рисовал. И как же обалдел, увидев где-то в пятьдесят восьмом году, кажется, открытую экспозицию «Бубнового валета» в Русском музее, раннего Машкова, Кончаловского! А в Эрмитаже! В Эрмитаже возвращение Гогена, Дега, Ван Гога, Мане, Матисса!..
Между прочим, у Сезанна – натюрморт: на фоне белой скатерти яблоки! Яблоки. Светятся. Выпуклые! Милые вы мои! И обведены черным. Такие дела.
С завистью смотрю я на художников. Быть наедине с холстом, без публики, сидеть на пеньке в поле и писать солнце, деревья, небо…
А в мастерской – острый запах краски, олифы… И никто в душу к тебе не лезет… не плюет.
А, вот и Катя.
– Ну что, все в порядке?
– Да, Катя, все. Спасибо.
– Не благодарите! Плохая примета. Ну вот, руку согните и минут пять так… Ну все, до завтра.
Ушла, бренча стойкой на колесиках с бутылками…
У меня дома в комнате висит мамин портрет – еще девочка… Работа маслом академика Милорадовича, друга моего дедушки. Милорадович был недоволен мамой как натурщицей – не могла усидеть спокойно несколько минут! Все прыгала, фыркала…
На портрете маме лет десять-двенадцать… Девочка еще совсем… Сидит то ли в красном халатике, то ли в платьице… В волосах – черный большой бант, в руке – беленький платочек. Смотрит внимательно. И невдомек ей, что дальше будет… Революция… Университет… Замужество, смерть первого ребенка, смерть отца, второй ребенок – я, самая родная ее кровиночка, не отделимая от нее, тут и рисование, и елочные праздники, и война, и голод… и болезни… И вырастет эта кровиночка, и женится, и уедет в другой город… И будет эта орясина, этот долбодер иногда приезжать и рассказывать пошлые актерские анекдоты… И будет эта девочка с картины ждать, ждать в одиночестве, уже постаревшая девочка будет ждать свою кровиночку, радуясь каждой минуте с ним, родным ее кусочком, а кусочек этот поживет дня два да и отправится восвояси, вздохнув с облегчением, а девочка будет стоять на балконе черной лестницы на Покровке и махать, махать в темноту рукой: «Ни пуха ни пера в квадрате!..»
А потом, уже смертельно больная, в окружении родной хотьковской листвы, будет медленно и неостановимо уходить куда-то, в какой-то другой и строгий мир… Но, на счастье, кровиночка рядом!
И будет поздним вечером в моросящей темноте идти за кусочком своим, преодолевая слабость, на соседнюю дачу, за кровинушкои своей, идти, отражаясь в глинистых лужах, отбрасывая черный столб своей тени в тумане… И что волноваться-то? Всего девять вечера, кровиночка сидит с приятелем, выпивает, кайф ловит! А девочка с черным бантом идет, скользя по глине, чтобы хоть на минутку продлить близость с ним, с ее кровиночкой, ее малышом…
Девочка с портрета глядит внимательно. Красный халатик… платочек в руке, бант…
Все впереди.
Пойду покурю. Черт с ним, с ХОБЛ, не могу больше.
Коридор.
Столовая.
В ней телевизор.
Сидят, смотрят. И Баррикад здесь… Увидел меня, подошел:
– Вот, гляди, Валерьяныч, до чего твоя демократия довела! Это что ж нам показывают?!
А на экране какие-то голые тетки с вениками бегают, повизгивают! А кто-то бородатый, в камуфляже военном, сидя на серой лошади, поливает их шампанским из бутылки… На первом плане – карлик какой-то.
– Что это?
– Что это, Валентиныч?! Это ты меня спрашиваешь?! Ведь этого добивались, да? Свободы. Вот и жрите эту вашу свободу с голыми бабами! Что это? Это, Валерьяныч, «Три сестры» Чехова. Видал?
Картинка с голыми бабами исчезает вместе с лошадью и карликом. Появляется на экране белокурый человек, почему-то в буденовке со звездой, в футболке, в черных, облегающих плотно ноги и демонстрирующих невиданную мужскую силу штанах. Пожилой мужчина. Голые руки – сплошь сине-красная татуировка! Режиссер.
Элегантная дама за полупрозрачным столом в нежных разводах:
– Сегодня у нас в гостях Владимир Рюрикович Иванов. На днях состоялась премьера вашего спектакля. Несколько вопросов. Почему вы уничтожили зрительный зал, убрав кресла и опустив пол зрительного зала значительно ниже сцены?
Иванов, устало-покровительственно:
– Пора вскрывать смыслы. Надоело слушать эту актерскую ди-ди-ди-да-да-да! Ненавижу! Правденку эту, навязшую в зубах. Ну, хорошо, объясню: женщины обнажены, ибо они беззащитны и хотят чистоты, поэтому с вениками, а вот тот, что в камуфляже, на коне, льет на них шампанское – в этом тоже смысл, ибо он хочет опьянить их. Но сестры выше нравственно нас всех, поэтому зритель сидит ниже сцены и ничего не видит. Он слеп, понимаете, слеп! Да, мы приглашаем «Метрострой», он роет для нас яму в зрительном зале, после спектакля засыпает. Да, это дорого. Но игра стоит свеч. Нервы обнажены. Смыслы наглядны. Это современный театр, западный театр. От которого русский театр отстал лет на триста.
– Видимо, метатекст, провоцирующий дискуссию, вас интересует значительно больше, чем внутренняя суть, сюжетность?.. Праотец новой драмы – вы его обнаружили!..
– Кое-кто не понимает, но у нас после спектакля на улице стоят бригады актеров, разъясняющих зрителям смыслы спектакля. Мало того, по школам ходим. Объясняем, что такое театр. Его смыслы. Отучаем от старого. И еще – центр «Агамемнон» открывает в нашем театре цикл лекций о современном театре. И вообще, ставить спектакли – это не главная задача. Задача – перезастройка душ актеров нашего театра, попытка заставить их забыть все прежнее, прогнившее. Всю эту…
Вступает третий человек на экране – нормально одет, костюм, правда, без галстука, что должно, видимо, подчеркнуть его близость к современной режиссуре с выпирающими гениталиями.
– Вы, всемирно известный режиссер, впервые сталкиваетесь с чеховской драматургией. И насколько ярко это столкновение! Несомненно, в истории русской сцены этот спектакль займет первое место! На этом… Господин Иванов, мы заканчиваем нашу встречу сценой из вашего спектакля по Чехову, правда, с несколько измененным названием – «Три зассыхи». Спасибо вам!
– Спасибо и вам! Не ссыте!
Белокурый человек с татуировкой исчезает. И возникает картинка: посреди сцены – унитаз с цепочкой. На унитазе, спустив штаны, сидит полковник. Рядом, на канапе, дама в нижнем белье с банным веником, зажатым между коленями.
– Тарам-пам-пам, – говорит, покряхтывая, полковник…
– Там-пам! – отвечает дама, разжав колени и роняя веник на пол.
Удар гонга. Это карлик.
Все! Больше не могу, ухожу. Баррикад – за мной:
– Ну что? Добились?! «Три зассыхи», а?! Ах вы, распротак вашу… Стрелять, стрелять всех вас!!!
– Да, Сергей Иванович, на сей раз вы правы.
– На сей раз?! Знаешь что, Валентиныч, ты курить шел, да? Вот и иди. и подумай!
Иду. На черной лестнице холодно и грязно. И темно. На все шесть этажей – три лампочки… Коричневый полумрак. Никого. Тишина. Холодно.
Ну что ж. Надо подумать! Надо… Сел на трехногий стул с рваным клеенчатым сиденьем, клочья какие-то торчат. Упираюсь ногой, чтобы не упасть… Сидеть холодно… Встаю, подхожу к перилам… Опираюсь на них. Пять этажей внизу… Так и тянет. Пролет широкий, а высота – каждый этаж метра четыре… А внизу, на самом дне, – в полутьме доски какие-то грязные, матрац драный валяется в пятнах… Закуриваю.
Кстати, почему это Товстоногову не пришло в голову для спектакля «На дне» по Горькому убрать все кресла из зрительного зала к чертям собачьим, построить амфитеатр из досок до потолка зала, а? А действие и в самом деле было бы там, на сцене внизу, на дне! Это же образ! В этом смыслы!!! Зритель смотрит вниз на копошащихся где-то внизу актеров!
А вот еще лучше! Грандиозно!!! Рассаживать зрителей здесь, в больнице, вот на этой самой лестнице, на шести ее пролетах, прямо на грязных каменных ступеньках! А актеры – там, далеко внизу, на матраце в пятнах и на пыльных досках! А свет… Свет вот этот самый – три лампочки на шесть этажей!!! Почти тьма! Это же образ! И богаче, чем у Горького, – у него только «на дне», а здесь еще и «во тьме». Углубился смысл! Выше Горького.
Это ж прямо же ж на «Золотую маску» тянет! Гастроли в Европе! Мировая слава же ж!
Что? Актеров не видно? И не слышно? А зачем? Зачем их видеть и слышать-то? Образ, образ темной грязной лестницы, и кто-то там копошится внизу – и все! Все!!! Смыслы обнажены!
Да и не нужны они, актеры-то, вовсе! Зачем, когда и так все ясно?! Нужен режиссер, его сны, сны… Да и присутствие зрителя совсем не обязательно! Это же исповедь режиссера! А исповедь не бывает публичной!
Ан нет… Товстоногов и иже с ним предпочитали почему-то мучительный, адский труд, муку работы с актерами, художником… Пытались добраться до сердцевины… Через актера, его взаимодействие с окружающими персонажами, с действительностью. Итак – всю жизнь. Иногда получался шедевр, иногда – проходной спектакль, но цель одна: вскрыть первооснову и заразить ею зрителя, заразить ею актера, а средства – оформление, свет и так далее, – внешний образ спектакля диктовался единственной задачей: помочь актеру наиболее ярко, пронзительно донести до души зрителя мысль, чувства, волновавшие автора, заставлявшие его водить пером по бумаге.
Концептуальная режиссура. Что это?
От слова «концепция». Я, дескать, так вижу. Вижу, и все. Все это продиктовано моим внутренним миром. Ну, допустим, вот… Любви нет, это нас обманывают! Есть только сексуальная тяга. Допустим. И вот беру я «Дядю Ваню», к примеру. И показываю, что за всеми словесами дяди Вани, за всей его мучительной жизнью – только одно: половая неудовлетворенность. Ему мало одной Сони – его племянницы, с которой он сожительствует, няни – тоже у него в наложницах… Тут и о матери можно подумать дяде Ване! Нет, ему подавай Елену! А по ночам извивается от страсти, глядя на портрет Ломоносова, думая, что это румяная девушка в кудряшках… И прав Серебряков, говоря: «Дело надо делать, господа». Да, надо делать дело, а не ворочаться и не елозить по ночам под портретом Ломоносова. Вот это и концепция! Россия обречена, ибо она вся населена Ванями, думающими только о плоти!
Или наоборот! Если хотите! Дядя Ваня чист как стеклышко, а Елена сожительствует с Соней. Как это ново! Интересно, свежо!
А вот если говорить откровенно, все эти оригинальные концепции – это есть наглая попытка прикрыть отсутствие собственного профессионализма, неумение и нежелание работать с актером и, самое главное, зачастую – отсутствие таланта… Это беда…
Но зато он – первач! Модный режиссер в поиске. Европа!!!
Стоп! Стоп, Олег. Откуда столько злобы? Что делать-то? Запрещать их, что ли? Нельзя. Сколько лет запрещали, карали «формалистов»… Любую яркую форму уничтожали на корню. Мейерхольда убили в тюрьмах и многих других, обокрали искусство…
Ты же сам боролся за свободу искусства, за свободу творчества! За отсутствие всеподавляющей цензуры! Против тормозящего развитие диктата, чей бы он ни был: партийного, демократического – любого диктата!
А за окном постепенно вечереет, бело-сизая мгла какая-то… Снег, что ли, или дождь…
Вот он, зал заседаний Первого съезда народных депутатов РСФСР. Светло и радостно. Делаем нужное дело. Строим новую демократическую Россию. Ельцин. Красивый, высокий, стройный. Прядь аккуратно зачесана назад. Костюм хороший, темно-синий, в талию. Но, вижу, не новый. Рубаха – чистая, но, видно, не новая. Шикарный, под цвет костюма, галстук, купленный в США Курковой.
Стою рядом с ним и выполняю поручение Поленова, нашего председателя комиссии по культуре. Прошу Ельцина о придании нашей комиссии по культуре при Верховном Совете России статуса отдельной комиссии – раньше ведь как: в одну комиссию входили и культура, и наука, и туризм, и спорт.
А мы добиваемся выделения нашей комиссии в отдельную, со своим бюджетом, транспортом, секретарем и так далее, мотивируя это тем, что культура – один из важнейших аспектов возрождения России, культура во всех ее спектрах – от колхозного баяна до занавеса в Большом театре, от частушки до «Ивана Сусанина», или «Фигаро», или «Трех сестер»…
Стою рядом с Борисом Николаевичем. Он высокий, выше меня, хочется встать на цыпочки, чтобы не смотреть все время снизу вверх: что я, перед царем, что ли? Глаза его пронзительно светятся голубизной.
– Понимаете, Борис Николаевич, культура – это не только пианино в клубе… Это попытка воздействовать на народ в нравственном отношении, попытка расставить акценты нравственные, изуродованные за семьдесят пять лет, так, как они сложились за века существования Руси, России, вернуть понимание того, что хорошо, что плохо! Это и литература, и кино, и театр… Библиотеки, художники – ну, все, все, все… Ведь как финансировалась культура раньше? Остаточный принцип. Наша комиссия должна добиться отдельного финансирования, отдельной строки в бюджете, это серьезно, это престиж культуры, это главное! Понимаете?
– Ну, блин!.. Ну вы даете ваще!
– Что?
– Что-что? Конь в пальто!
Это, прошуршав дверью на лестницу из больничного коридора, распахнув ее и бросив желтое пятно света на грязный каменный пол, вошла покурить, видимо, Снегурочка.
– Ну, японский городовой, ухандакали вы меня совсем! Что, у вас все такие?!
– Какие «такие»?
– «Какие», «какие»! Стойкие оловянные солдатики! Все эти ваши туберкулезники…
– Не знаю… Ладно, я пошел… Холодно тут.
Ткнул сигарету в грязное блюдечко на щербатом подоконнике, ушел, уронив трехногий стул. Прикрыл дверь. Вот здесь светло. Из столовой – громкий вопль телевизора. Певица под уханье оркестра кричит: «Я хочу тебя, хочу, днем и ночью я хочу, тра-ля-ля!..» Хорошие стихи.
Просто Баратынский или Тютчев.
Валерьянки принять, что ли?
Ладно. Вот и моя палата номер двадцать шесть. Тут тихо, белый кафель… кровать с рычагами… трубка кислородная. Подышу-ка я! Так полегче! Лег. Вставил в нос кислородные трубочки. Поехали! Градусник под мышку. Отлично. Можно жить… «Работать можно дружно». Интересно, а кто там, за стенкой? В двадцать пятой палате? Ну да ладно, какая мне разница в конце-то концов. А интересно – ведь здесь строжайший контроль. На отделение не попасть, пост медсестер… кабинеты… врач… Все расписано: часы посещений, все-все! Интересно… Да, о чем это бишь я… А, Ельцин… О культуре, о придании комиссии по культуре статуса отдельной комиссии со своим бюджетом, который мы постараемся увеличить, чтобы не питаться остатками от того, что распределяется между остальными подкомиссиями.
– Вне культуры во всех ее спектрах нет государства, понимаете, Борис Николаевич?
– Понимаю. Отлично понимаю, Олег Валерианович. (Б. Н. всегда ко всем обращался уважительно, по имени-отчеству. А ненормативной лексики я никогда от него не слышал. И никто не слышал.) Обещаю: будет создана отдельная комиссия. Это необходимо. Возрождение России должно начинаться с ее культуры. Обещаю!
Сверкнув глазами, пожал руку.
И комиссия была создана.
До этого, в самом начале работы первого съезда, Б. Н. предложил мне пост министра культуры в правительстве.
Вспомнил Хлестакова: «Я, признаюсь, смутился, вышел в халате. Хотел отказаться… А потом думаю: а, дойдет до государя, да и послужной список тоже. Извольте, господа, я принимаю должность! Так и быть, принимаю. Но уж у меня ни-ни!»
Признаюсь, меня хватило только на халат. То есть я болел, лежал в постели. Звонок. Ельцин у телефона.
– Олег Валерианович, мы не можем начать заседание кабинета министров, нет полного состава. В том числе министра культуры. Мы тут с Силаевым подумали, предлагаем вам этот пост.
Не помню уже, что я, лежащий с температурой, ответил. Наверное, поблагодарил за доверие, что-нибудь еще такое, соответствующее моменту. А в воображении моем неслись жуткие картины переезда из Питера в Москву, книги, шкафы, посуда и прочая дребедень… Оля и Ксюша, Галя с их работой на телевидении Питера. И что самое главное – абсолютное отсутствие желания быть начальником и руководителем. Более того, ни желания, ни умения руководить, командовать людьми, короче говоря, – абсолютное отсутствие административных способностей.
И, наконец, что самое главное, – я актер. Актер я! У меня в месяц десять – двенадцать спектаклей! Я выхожу на сцену почти ежевечерне! Что же, бросить все это? А ведь я хочу достичь в моем актерстве идеала. Ну, я понимаю, не идеала, но хотя бы приближения к нему. И бросить? Сесть за полированный стол в громадном кабинете и надувать щеки, робея перед подчиненными?! Или – мотаться из Питера в Москву и обратно, сочетая спектакли в Питере и работу министра в Москве?! Ну, это ж несерьезно. Работа министра культуры в тот момент – наитяжелейшая, ответственнейшая работа, работа, если мыслить государственно, это работа по возвращению, утверждению нравственных, моральных правил, уничтоженных или изуродованных во времена всевластия КПСС. Работа, требующая отдачи всех сил, всего времени…
– Понимаю, Олег Валерианович, вам надо время на решение… Завтра жду вашего согласия. Выздоравливайте. До свидания.
Гудки.
Вот-те на! Не было печали! Да еще нет во мне честолюбия, всегда испытывал чувство неловкости, слушая славословия в свой адрес, всегда пытался шуткой (чаще всего неудачной) прекратить поток неискренних восхвалений. Юбилеи – жуткое дело. Стыдно до ужаса. Последний, восьмидесятилетний, я просто «зарубил», а тут – министр! Да боже упаси!
А то согласился бы! И попал бы в номенклатуру. Зарплата у министра не то, что у актера, пусть даже и народного. А потом, если и не министр, все равно «государственный человек». Что?
Нет, нет и нет.
Позвонил Ельцин на следующий день. Мотивировки отказа были готовы. Отказался. Потом еще один раз через день, через два Ельцин повторил свое предложение. На мой отрицательный ответ Б. Н. говорит:
– Ну ладно. Что ж. Тогда даю вам поручение. Найдите сами достойную кандидатуру. Шта? (Б. Н. слово «что» произносил именно как «шта».) Найдите. В кратчайший срок.
Гудки.
И помчался я по Москве в поисках министра. В комиссии по культуре не было еще своего транспорта, поэтому метро, трамвай, на такси денег не было. Городской транспорт и телефон. Щедрин, Вознесенский, Евтушенко, ряд других достойных имен – отказались… под разными предлогами. И я их понимал. И вдруг я вспомнил о Говорухине, о его фильме «Так жить нельзя», о фильме, после просмотра которого депутаты съезда проголосовали за Ельцина, за изменения… Мчусь на «Мосфильм». Застаю Говорухина. Объясняю ситуацию. И – неожиданно вижу: загорается в глазах Станислава Сергеевича живой интерес. И понимание необходимости и важности этой работы. И – о чудо и счастье! – Говорухин соглашается!
Мчусь к Дому правительства, в Белый дом, к Силаеву.
– Говорухин дал согласие. Немедленно поезжайте к нему на «Мосфильм» и подтвердите предложение. Немедленно! А то он заколеблется!
и – вот время было! – Силаев, председатель Совета министров России, вызывает машину, мчится на «Мосфильм»… И Говорухин дает окончательное согласие! Ура!
Но! Начался двухмесячный отпуск у депутатов… И за эти два месяца выветрился боевой дух у нашего режиссера… И когда пришла пора работать, Говорухин отказался, а он много, очень много мог бы сделать для новой России, для ее культуры, для кино в частности! И я не наблюдал бы его суровый взор, направленный в сегодняшний день, день, который мог бы быть несколько иным, включись он в работу…
Впрочем, а чем я лучше? Ведь тоже отказался. А Вознесенский, Евтушенко? Да, трудно, да, неизвестность, пусть кто-нибудь другой, а я помогу, дескать…
Единственный, кто взвалил на себя всю ответственность, всю неподъемную тяжесть, – это Юрий Мефодьевич Соломин. А ведь вот и артист, и худрук Малого театра, да еще и кино, и концерты, да мало ли! Нет, взвалил! И очень, очень во многом помог российской культуре начать обретать человеческое существование!
Помню, как мы подбрасывали клок сена театрам, зная, что грядет инфляция: чуть повышали зарплату, потом инфляция догоняла – а мы опять и опять чуть повышали. Это теперь называют индексацией… А мораторий, то есть запрещение передачи в частные руки помещений театров, концертных залов и так далее… А мастерские художников, которые им принадлежали, а затем кто-то умный решил их отобрать? Остались мастерские художникам. и все это благодаря стараниям Соломина и нашим, нашей комиссии по культуре. Мы пытались работать совместно с министерством. И многого добились.
А судьба театра «Зазеркалье» в Ленинграде?
Тут мы и Ельцина подключили, и теперь есть у нас в Питере детский музыкальный театр. Правда, был до этого там рок-клуб, но, подумал я, дети важнее, рок-клуб не погибнет, найдем ему место, а вот сложнейший механизм музыкального театра надо холить и лелеять в большом настоящем театральном здании, так что в Питере теперь детская опера есть! И уже получает награды и даже – «Золотую маску».
А «Пушкинская-10»?
Есть такое уютное место в Питере неподалеку от Московского вокзала: сворачиваешь с Невского – и попадаешь на небольшую площадь со сквериком в центре, с чугунным Пушкиным посреди скверика…
До революции дома, окружавшие площадь, – сплошь гостиницы.
Один из домов, номер десять, стоял пустой, ожидал капремонта. Мне пришло в голову: а что, если создать здесь, в центре Ленинграда, свой Монмартр? Где жили бы и работали художники, поэты, музыканты?..
В результате тяжелой борьбы с другими претендовавшими на этот дом, из которого в результате можно извлечь выгоду и обогатиться, удалось все-таки создать этакое подобие дома-коммуны, где поселились, правда, пока в жутких тогдашних условиях, наши творцы!
И я счастлив этим.
Счастье – счастьем, но чего это мне стоило? Тупое сопротивление новых (уже новых!!!) властей, хождение по инстанциям, прямые скандалы…
А история с коллекционером живописи Михайловым! Был такой – длинный, худой, заросший черным волосом… Кроссовки. Собирал андеграунд при советской власти, развешивал в квартире своей, благо большая, приглашал посетителей. Посадили его кагэбэшники, а картины приговорили к сожжению, квартиру опечатали.
Отсидев весь положенный срок, Михайлов, выйдя из тюрьмы, немедленно пошел к своей опечатанной квартире, сорвал печати – и увидел, что самая ценная часть его собрания украдена!
Тут же пошел в КГБ с заявлением о краже.
И за то, что сорвал печати с опечатанной двери, дали еще срок. Прелесть, да? А картины эти так почти все и пропали.
Отсидев, Михайлов обратился ко мне с просьбой посодействовать в получении постоянного помещения для музея под названием «Искусство, приговоренное Комитетом госбезопасности к уничтожению». Ну что ж, подумал я, городу нужна галерея… Стал пробивать помещение. Вот тут и началось!
Правда, уже развалился Союз и разговаривать стало с властями предержащими и непредержащими легче: все-таки я – депутат России, суверенного государства, а не депутат одной шестнадцатой части страны! И все равно – рогатки, рогатки… Даже Собчак, мэр Ленинграда, давал точку застройки далеко-далеко от центра – на левом, правда, берегу Невы, но километрах в двенадцати от центра…
Наконец удалось-таки «выбить» пятно застройки на набережной Обводного канала, рядом с автовокзалом. «Пятно» это было довольно большое, вместе с выставочным залом решено было поставить гостиницу для художников, для покупателей и т. д.
Найден был спонсор – итальянский бизнесмен, который взялся построить и сдать все помещения под ключ. Требовалось только одно: получить разрешение на начало работ от мэра Собчака.
Анатолий Александрович вручил мне это разрешение с подписями и печатями.
Дело оставалось за малым – переслать по факсу ксерокопию в Италию.
Радостный, понимая, что дело почти в шляпе, бегу по коридорам Мариинского дворца в помещение, где вся эта механика: факсы, ксероксы, Интернет и так далее.
– Вам помогут переслать этот документ. Там находится мой помощник, Сережа, он все сделает.
Вхожу, и действительно, стоит среди всей этой техники высокий милый молодой брюнет, в аккуратном сереньком костюмчике, в галстучке.
– Здравствуйте! Сережа?
– Да. Здравствуйте. Вам что, Олег Валерианович?
– Вот, отправить это в Италию по этому адресу.
– Дайте.
– Вот!
Сережа берет, внимательно читает, раза три пробегает глазами мою бумагу.
– Я ничем не могу вам помочь!
– Как?!
– Не могу. Не отправлю я это. Я не могу это отправить!
– Как не можете? Я – народный депутат России, требую отправить этот документ по адресу! Требую!
Пауза. Довольно длительная.
– Хорошо. Только из уважения к вам.
– При чем тут уважение? Это рабочий документ, Сергей!
– Н-н-ну, хорошо… Дайте.
Отдаю бумагу, она куда-то вставляется, гудение, кнопки, что-то мигает, щелкает…
– Вот, пожалуйста.
Подлинник опять у меня в руках.
– Спасибо.
– Пожалуйста. До свидания.
Все! Дело сделано! Будет у нас галерея современного искусства: художники могут приезжать, устраивать свои выставки, жить в гостинице!
Утром следующего дня врывается ко мне лохматый, небритый, немытый, растерянный Михайлов. В грязных кроссовках.
Ему звонил тот самый итальянец-спонсор. Взбешенный. Он получил факс. Но текста о разрешении, подписи Собчака, печати и прочего – нет. Чистый лист белой бумаги.
Так накрылась наша галерея. Правда, все-таки удалось найти на Литейном небольшое выставочное помещение, но… не то!
Ну и надоел я со своими просьбами Анатолию Александровичу, видимо… Как и многие вроде меня. Достали его своими просьбами.
Анатолий Александрович Собчак с тех пор почему-то стал тщательно избегать встреч со мной.
Например, в пустом магазине народу никого. Иду от кассы к продавцу с чеком, а она мне:
– Ой! Как вас Собчак-то боится.
– Какой Собчак? Почему вы решили, что он боится?
– А он сейчас вошел в магазин, увидел вас со спины – вы в кассе чек получали, – быстренько развернулся и ушел! А так, видно, купить что-то хотел.
– Да вы путаете. Это не он.
– А вы взгляните в витрину-то. Он это!
Через туманное стекло витрины смотрю: действительно, Собчак Анатолий Александрович собственной персоной быстро садится рядом с шофером в автомобиль, ерзает. Сел в BMW и уехал…
Странно. Собчак, с которым были дружны… были заодно… Собчак, что тайком срывал во время выборов со стен фотографии моих соперников…
Тот, с которым глазник Федоров и я шли на выборы в одной партии – Российское движение демократических реформ… Провалились, правда, но шли, шли вместе.
Чудеса. Странно. А может быть, и нет… Может, я обидел его чем-то? Да нет, как я мог… Просто устал, устал он от моих почти невыполнимых просьб.
А история с Гергиевым Валерием Абисаловичем. Просил Валерий Абисалович разрешения у мэрии, у того же Собчака, купить себе квартиру на набережной Робеспьера, напротив Крестов.
Крепко было вбито в нас рабское начало, еще со времен древлян или еще каких-то наших предков, мазавших кровью детской гигантских идолищ, чтобы получить разрешение или там благословение на любое дело… Понятие «частная собственность» еще не проникло в наше сознание окончательно, понятие «купить-продать» тоже было чем-то немного неприличным, – короче, чтобы купить, считалось необходимым попросить у начальника разрешение. Вот и я прошу разрешения у Собчака разрешить Валерию Абисаловичу Гергиеву купить за свой счет квартиру на набережной Робеспьера.
Собчак немедленно дал разрешение Гергиеву – разрешение купить квартиру за его собственные деньги на набережной Робеспьера.
Иду в комиссию по квартирным делам.
Сидит за столом некто, уже довольно важный. Вокруг по стенке – просители с бумажками.
Подаю документы Гергиева и бумагу от Собчака.
– Придите завтра. Надо подумать.
– ?
– Подумать надо! Не поняли? Надо подумать.
Прихожу завтра, мизансцена та же: он во главе стола, вокруг просители с бумажками.
– Разрешаем купить. Цена за один квадратный метр… – И он называет мне какую-то безумную, невыполнимую абсолютно цену в долларах, по тем временам совершенно фантастическую.
– Вы что, с ума сошли? Квартира большая, это же миллионы – нет у Гергиева таких денег!
– Нет – значит не купит!
– Откуда взялась эта безумная цифра за квадратный метр? Ведь Собчак распорядился.
– Не Собчак цену назначает! Комиссия подумала и решила. Все! Идите. Следующий!
Вот следующий день. Опять еду туда же.
Мизансцена та же. Этот тип опять в кресле за столом. Вокруг по стенкам просители с бумажками.
– Опять вы? Я же сказал вам…
– Поймите, сумма, которую вы назвали за квадратный метр, фантастически велика! Нет таких денег у Гергиева! А городу нужен руководитель Мариинки такого уровня! Необходим!!!
– Если ТЕБЕ так люб ТВОЙ Гергиев, так и отдай ему свою квартиру.
Вот она!!! Вот и вскипела она во мне наконец – скрытая моя кавказская кровь! Вот тут и выдал я ему по полной программе! Угрожал и президентом, и связями, и прессой, и многим другим, о чем сейчас и вспомнить страшно.
А просители по стенкам – шепотком – правильно… правильно!..
Ну, кончилось.
– Любочка, дайте мне чистые бланки по Гергиеву.
Люба дает, возникает на бумажке совсем другая цифра, немалая, конечно, но в десятки раз меньшая, которую, конечно, поднапрягшись, но сможет выплатить Гергиев.
Вышел я из мэрии, сел в свой «жигуль» и поехал домой. Еду и через некоторое время с недоумением замечаю, что встречные автомобили что-то мне сигналят, моргают… Я еду и еду. Чего это они? И где-то в середине пути понимаю, что еду я по встречной полосе, нарушая все и вся, – счастье, нет милиционеров.
После этой операции удалось мне «выбить» БЕСПЛАТНО квартиру для инвалида, боевого офицера, участника боев на Халхин-Голе, который жил с женой, дочерью, ее мужем и двумя детьми в одной комнате. Долго мразь эта чиновничья из мэрии издевалась над ними: давали четвертый этаж без лифта. А как он без ног-то, в коляске? Но все-таки все у меня получилось. Отдельная квартира после одной комнаты – рай!
Да, но о чем я? О засилье «концептуалистов», о невозможности цензуры и о тупике, в который заводит театр современный постмодернизм – вот с чего я начал.
А занесло куда?
Кстати – закон о культуре разработан нашей комиссией по культуре с моим участием…
Вот – раздел второй, статья восемь: «Неотъемлемое право каждого на культурную деятельность…»
Статья двенадцать: «Право каждого на выбор формы своего художественного произведения…»
Или Конституция России, статья сорок четвертая: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного и других форм творчества».
Мы, памятуя разгоны московских выставок, ругань Хрущева в Манеже, судьбы Мейерхольда, Филонова, Малевича, Таирова, судьбу МХАТа 2-го, повсеместного оплевывания Эфроса и других, то есть уничтожение всего необычного, нового, всячески пытались защитить это новое, дать развиваться ему беспрепятственно, обогащая, разнообразя палитру культуры.
Грубо говоря, «твори! выдумывай! пробуй!».
И вот творцы, боязливо поосмотревшись, обвыкнув, потихоньку осмелев, стали творить. Сначала полился со сцены полновесный, полноценный мат. Ибо это жизнь! Потом пошли совокупления. Ибо это тоже жизнь!
«Это жизнь, это правда ее! Запретить не имеете права! Закон на нашей стороне!»
И действительно, закон провозглашает свободу творчества.
И постепенно – пошло-поехало… Голые… бояре с айфонами… педерасты… Подключились все режиссеры, почти все. Еще бы! Все можно оправдать, любую нелепость можно выдать за шедевр, оправдывая непонимание «недоразвитостью» зрителя… Отелло почему-то белый. Хотя он и кричит: «Черен я! Черен!» Спрашиваю я, почему белый?
– Как? Вы не поняли?
– Нет, извините…
Пожимают плечами: ну что с ним, дескать, разговаривать… с дураком… Причем самое интересное: чем бездарнее режиссер – тем больше «новаций», тем больше гонора… тем навороченнее «непонятное»…
Но вот:
Я вышел на площадь, выжженный квартал надел на голову, как рыжий парик. Людям страшно – у меня изо рта шевелит ногами непрожеванный крик.Или:
Я сам. Глаза наслезненные бочками выкачу. Дайте о ребра опереться. Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу! Рухнули. Не выскочишь из сердца!Черт знает что! А вот Пушкин Александр Сергеевич что бы сказал, прочтя такое?! Пушкин, гений, со своими ямбами пятистопными что бы сказал?
– К барьеру! За издевательство! – И перчаткой по физиономии – хлясть!
А если его, как и меня, по непонятной причине при чтении этих строчек вдруг словно током ударит?..
– Человек, одинокий, страшно больной, хочет освободиться от любви, от сердца – ему одно остается: выскочить, выскочить оттуда, из сердца! Не может! Остался с болью, с кошмаром… Маяковский…
Любая форма, самая неслыханная, годится, если она рождена гением! Ну хотя бы талантом! Любая!!! И – болью, болью за людей, и озарена светом…
Но как легко замаскироваться под талант, не обладая ничем, кроме наглости, как легко прикрыть свою наготу новаторской мишурой!..
Ну, и что делать? Разоблачать? Клеймить на собраниях?
Ни в коем случае. Никогда. Единственно – противопоставить всей этой чепухе нечто, что Станиславский называл правдой чувств и истиной страстей в предлагаемых обстоятельствах.
Чтобы внутренняя жизнь персонажей заворожила зрителей. Чтобы возник Человек на сцене – неповторимый и настоящий…
И вижу я, запыхтят сигаретами Товстоноговы, Ефремовы, закричат из глубины пустого зала Любимовы и многие другие, отчаиваясь, радуясь, негодуя и торжествуя, используя то драгоценное, что осталось после ухода формальной волны. А что – в этой волне и жемчуг даже иногда попадается.
Недавно видел «Онегина» в Вахтанговском театре в постановке Туминаса. Великий спектакль! Поставлен якобы формально, но для меня Туминас открыл заново Пушкина, я еле сдерживал рыдания в конце спектакля.
Вот вам и концептуалист!
Тэкс. Ну-ка, градусник! Что там? Мама родная! Тридцать восемь и пять! Здрасте! Приехали. Может быть, градусник бракованный? Буду ждать врача…
А актеры? Что, помалкивают? Многим нравится. Очень многим нравится концептуальная режиссура. А кому нет? Да что актеры. Это мне легко говорить. Все мои роли, сделанные и несделанные, – за спиной уже… Чего ждать? Да и чего и кого бояться?
А что молодому? А что не народному? Ведь полнейшая зависимость от обстоятельств, от хозяина, от того, что «дадут – не дадут», не дай бог, лишнее скажешь – наживешь врага, да и зарплаты можно лишиться. А как семья, дети?..
Нет уж, лучше помолчать…
Что ж, понять можно.
Страх высунуться, не быть, как все, впитан нами с молоком матери.
Страх и боязнь взять на себя ответственность: пусть кто-нибудь, а я посмотрю…
И еще – онемение всех членов тела при встрече с начальством.
«Из боязни подхалимажа с начальством были просто грубы» (Ильф).
Тоже проявление рабского. Желание «показаться», а не быть…
Шел, помню, съезд ВТО. (Почему, кстати, Всероссийское театральное общество – хорошее название, придумано еще Савиной, – переименовано в Союз театральных деятелей? Потому что называться деятелем почетнее, престижнее, что ли, чем быть просто работником: артистом, режиссером, художником? Нет, деятель! Это вам не фиг собачий.) Ну ладно. Итак, идет съезд СТД. Какой же это год? Я уже депутатом был… Тысяча девятьсот девяносто второй? Девяносто первый?
На этом съезде Ульянов уходил в отставку с поста председателя СТД. Кстати, по тем временам – очень много сделал хорошего. Порядочный, честный человек. И артист замечательный. Спасибо ему.
Так вот. Идет съезд, выступают режиссеры, актеры, директора…
Горячо выступают, говорят о трудностях, о преодолении… Но – все выступления в результате сводятся к одному, и справедливо сводятся: нет денег. Нет денег на декорации, нет денег на костюмы, на зарплату, на гастроли, на ремонт и т. д. и т. п. Одним словом, на все! На все нет денег.
Нашей комиссией по культуре был уже создан закон о культуре и был уже принят и подписан Ельциным. Была там статья, говорящая о бюджетном финансировании культуры: на культуру государство отдает не менее двух процентов от госбюджета и не менее шести процентов от муниципального.
Я вышел на трибуну и сказал, что, если бы наш закон исполнялся, воплей, подобных сегодняшним, вообще бы не было. Но беда в том, что закон не исполняется.
– Как отнесется съезд к тому, чтобы направить генпрокурору запрос относительно невыполнения правительством Российской Федерации закона о культуре? Генпрокурор заставит правительство дать деньги – ибо культура в этом году не получила финансирования в размере двух процентов от бюджета России.
Общий восторг в зале! Молодец! Ура! Правильно!
Говорю, что уезжаю сегодня в Питер, у меня там спектакли, а письмо, или запрос, или жалобу, в прокуратуру могут составить (и грамотно составить) юристы стд, их у нас много – тот же Дадамян! А подписать могут либо все участники съезда, либо вновь избранный председатель. До этого выступления позвонил я Егору Тимуровичу Гайдару и задал ему вопрос, как он отнесется к подобному демаршу, а он был в то время председателем правительства.
– Прекрасно! Подавайте запрос в прокуратуру! Надо учиться жить в правовом государстве, а не ждать подачек! Подавайте! Это будет первым шагом, наглядным уроком для всех!
Провожаемый восклицаниями: «Молодец!», «Спасибо!» – уехал я на вокзал, лег на полку в «Красной стреле», натянул на голову одеяло и, счастливый, заснул под стук колес.
Через несколько дней приезжаю в Москву, иду в секретариат СТД.
– Ну как? Написали в прокуратуру?
– Да нет…
– Почему?!
– Да знаете, как-то необычно… Надо бы посоветоваться… Да и вообще… Да и стоит ли скандалить? Наживать врагов…
Так никакого запроса в прокуратуру и не поступило. Зато еще горячее, еще взволнованнее полились речи об отсутствии денег на культуру, еще гражданственнее зазвучали слова о значении культуры в жизни России. Появился даже новый термин – «геноцид культуры».
Или вот еще…
А! Вот и врач!
– Ну, как дела?
– Да ничего, спасибо. Только вот температура…
– Как?
– Тридцать восемь и пять.
– Ну-ка, ну-ка… – Смотрит градусник. – Да… Вот черт! Сейчас другой градусник поставим, может быть, этот бракованный. А вообще-то, знаете, когда температура – это хорошо, это значит, что организм сам борется с инфекцией, с вирусом! Сам организм, самостоятельно!
Вышел.
Ну да. «Если больной помрет, так и сам помрет, а если выздоровеет, так и сам выздоровеет» (Николай Васильевич Гоголь, «Ревизор»).
Да, или вот еще – тоже съезд СТД.
Прошу слова и говорю, что мы должны понимать: постепенно страна въезжает в капитализм, причем дикий, необъезженный. Цель любого хозяина – прибыль. Хозяин театра лелеет прежде всего собственную выгоду, какова бы она ни была. И ни перед чем не остановится для достижения своей цели. Будь то частник или министр.
Мы, работники театра, беззащитны перед хозяином. Договор? Да что договор! Что хочу, то и ворочу. Нам необходим профессиональный союз, защищающий права трудящихся, круговая порука всех за каждого, чьи права нарушены. Есть образцы: профсоюзы в США, во Франции…
У нас ведь есть все: здания, дома отдыха, транспорт – необходимо плавно, не торопясь, переходить на профсоюзные рельсы, не сразу, конечно, но необходимо!
– Да ну, Олег… Представляешь, какая это волокита бумажная…
Я прошу проголосовать съезд. За создание профсоюза. И что? Поднялась одна рука. Это – Сундстрем из Петербурга, из Петербургского театрального института… Одна.
И все. Всем остальным – по фигу.
Я сошел с трибуны, сказав лишнее. Ну что ж, и сидите. Вот когда вас жареный петух клюнет в жопу, тогда завопите, но будет поздно.
Сейчас наступает время жареного петуха. Ну и ладно. Мне восемьдесят четвертый год. Без меня, пожалуйста!
Что-что, а лишнее говорить я научился. Лишнее и неприличное. Что зря. Та же история с московским театром Трушкина, Театром имени Антона Чехова. Больше пятнадцати лет я там работал. Трушкин меня пригласил, я согласился, конечно, – лишний заработок играл свою роль, – но главное, главное – мне хотелось поддержать один из первых частных театров России. Хотя это и трудновато: мотаться между Москвой и Петербургом. Играли мы «Ужин с дураком» с замечательным Геной Хазановым, с Равиковичем, Дьяченко, Михайловским. Спектакль до сих пор пользуется успехом, аншлаги! Играли «Цену» Миллера – великая, удивительная пьеса, но большинству современников не нужны сюжеты, затрагивающие их совесть.
Нет, не хочу. Нет. Дальше не буду вспоминать о Театре имени Антона Чехова. Тяжело и одиноко. Без моих друзей, ставших мне родными и близкими, – Гены, Бори, Володи, всех-всех… Больше пятнадцати лет были мы вместе, и это были счастливые годы. Моя несдержанность, деланная обида на меня Трушкина и… Ну, что там… Я уже стар, баба с возу – кобыле легче… А я могу только с грустной улыбкой вспоминать о прошедшем…
Вот что такое старый артист. Учитесь, ребятки… На будущее.
Входит доктор:
– Вот вам градусник! Думаю, этот не бракованный. Но, если температура повышенная, не огорчайтесь – это нормально. Даже хорошо! Вон, ваш сосед из двадцать пятой палаты – и с температурой чудеса вытворяет… Да еще у него там охрана – тоже, хоть и без температуры… знаете… черт знает что такое!
– А что?
– Да нет, ничего… Даже не выписать его – лапа у него где-то там… наверху… Ну да бог с ним. Через десять минут зайду.
Ставлю градусник.
Тоска… Как там дома?.. Чертов мобильник…
Белый дом – нынешний Дом правительства – так спроектирован, что незнающий посетитель никогда – понимаете? – никогда не сможет самостоятельно покинуть здание Белого дома, как мы называли его тогда, в «лихие девяностые», а ныне Дом правительства России. Мышеловка! Неисчислимое количество мраморных лестниц, километровых коридоров, переходов сбивает с толку и приводит желающего выйти из здания человека в очередной тупик. Представьте, а если это какой-нибудь иностранный шпион, заброшенный сюда враждебной державой, и у него назначена встреча с резидентом? Шпион мечется вверх-вниз по десяткам лестниц, но вновь и вновь упирается либо в тупик с зеркалом и с ужасом видит себя – бледного, потного, растерянного, либо в лестницу, ведущую не вниз, к выходу, а куда-то наверх, в неведомое!
Время встречи с резидентом упущено. Провал.
Шпион кричит: «А-а-а! Хелп ми!» Гулкое эхо отвечает ему… И если найдут его чекисты, что вряд ли, ибо сами запутаются, то сдается либо, что самое правильное, вынимает свой парабеллум и пускает себе пулю в лоб.
И, может быть, через многие годы найдут его высохшую мумию где-нибудь у зеркала за пальмой и поместят в музей «холодной войны», в большую стеклянную витрину.
Несемся мы с Сеславинским вниз по лестницам Белого дома (дорогу мы с трудом, но изучили), несемся с нашего пятнадцатого этажа, где комиссия по культуре!
Вниз, вниз! В зал заседаний Верховного Совета! Лифт невозможен – долго ждать!
Через две-три ступеньки! Ибо можем опоздать на третье чтение нашего закона о культуре! Оно – чтение – должно было начаться в четырнадцать тридцать, а начали – мы услышали по трансляции – в час дня!
Мчимся вниз!
Сеславинский, свистя штанами, задыхаясь, выкрикивает на лету нечто нечленораздельное, свидетельствующее о его крайней растерянности и недовольстве самим собой и вообще!
Успеть! Успеть к началу обсуждения! Свистят новые штаны Сеславинского, трещат мои колени, мелькают ковры, мрамор, зеркала!..
Два процента!!! Два процента от бюджета Российской Федерации должны выделяться на культуру! Эта цифра записана в проекте нашего закона, который обсуждают сегодня, и именно эти два процента вызывают яростное возражение у почти всех депутатов.
– Совсем с ума посходили! Да им и одного процента – поверх головы!
И может сессия Верховного Совета дать и один процент или вообще сотые доли процента – куда и больше-то, бездельники!
А может из-за этой статьи вообще не принять закон!
И пропали тогда наши надежды на возрождение российской культуры, на возникновение новых музеев, театров, кинозалов, на поддержку новаторов во всех видах культуры, и продолжат директора театров, ломая руки, умолять о субсидировании… И будут старушки в музейных залах питаться одной овсянкой, и будут по-прежнему гнить и разрушаться объекты культуры: музеи, театры, библиотеки, концертные залы…
Нет! Мчимся вниз. Задыхаемся. Вбегаем в зал заседаний.
Хасбулатов, председатель, уже начал обсуждение.
Поленов Федор Михайлович, председатель комиссии нашей по культуре, – здесь, слава богу. Борода, усы – все на месте! И вот обсуждается статья о финансировании.
Я, преодолевая одышку, прошу слова от микрофона из зала.
Одна минута! Не больше. Больше – внимание депутатов рассеивается, и они просто перестают слушать. Вот и попробуй здесь убедить!
– …Вот что такое для сегодняшней России культура! И только она может возродить национальное самосознание… – говорю я и прошу: – Четыре процента от бюджета России на культуру (так мы в комиссии договорились: требовать четыре, чтоб потом, торгуясь, сойтись на двух).
Шум, крик поднялся! Смех и выкрики:
– Ну, арти-и-ист! Арти-и-ист! А полбюджета не хочешь?
– Зажрались совсем!
Зажрались! Да до нас вообще культура финансировалась по остаточному принципу!
Говорит Сеславинский. Довольно толково и убедительно. Настаивает на том же, на четырех процентах.
Выступают противники. Как и ожидалось: либо остаточный принцип, либо один процент или его сотые доли. Я предлагаю проголосовать за четыре процента.
Крики, смех…
И тут Поленов Федор Михайлович, внук художника Поленова, предваряя голосование, подходит к микрофону и басом, охрипшим, над реями рея (в прошлом моряк), желая смягчить юмором напряженную ситуацию, произносит фразу Воробьянинова из «Двенадцати стульев»:
– Полагаю, торг здесь неуместен!
Никакой реакции. Где-то даже слышен звук «у-у-у, сука!».
Ну ладно, голосуем. Результат: большинство против. А меня смех разбирает. От идиотизма происходящего. Хасбулатов объявляет перерыв. Слава богу.
Идем на поклон к Хасбулатову в его комнату отдыха.
Он лежит на широком кожаном диване, ноги в туфлях задраны на высокий диванный валик. Отдыхает. Сладкий дым от трубочки окутывает комнату. Пых… пых… Туфельки на нем шикарные, мягкие… Ладно, о чем это я? При чем здесь туфельки?
Мы робко, руки по швам, стоим перед ним.
Поленов, Толстой, Сеславинский и я.
Хасбулатов, не меняя позы, – пых! Пых, пых…
– Вам чего?
– Да вот, Руслан Имранович, пришли с просьбой.
– Пых… Ну?
– Помогите нам…
– Чем… пых…
– Понимаете, Руслан Имранович, у депутатов вызывает возражение статья, где говорится, что на культуру будет выделяться не менее двух процентов от бюджета РФ. Они хотят снизить до одного, а то и меньше. Мы нарочно завысили цифру, заявленную в законе, – два процента – и просили проголосовать за четыре в надежде, что в результате дебатов пойдем друг другу навстречу: мы, допустим, снижаем до трех процентов, депутаты повышают до одного, мы снижаем с трех до двух и просим голосовать за два. И если вы нам поможете, при вашем-то умении, Руслан Имранович, депутатские амбиции будут удовлетворены. Руслан Имранович, депутаты согласятся на два процента. Ведь это будет выглядеть как наша уступка, понимаете, уступка с нашей стороны. Помогите нам.
Хасбулатов, не меняя позы, ботинки высоко на валике дивана:
– Пых… пых… Уступка… Ну ладно, идите… Пых…
– Спасибо, спасибо, Руслан Имранович!!! – кланяемся мы.
Хасбулатов блаженно закатывает карие глаза – пых, пых… пуф-ф…
Уходим.
Оглядываюсь. Ну и туфельки, туфельки у него – загляденье…
– Ну-ка, ну-ка. – Это врач. – Ну-ка, ну-ка, давайте сюда ваш градусник. И выньте эти ваши кислородные кишочки из носа, подышали уже, хватит!
– А с ними легче дышать…
– Знаю, знаю, но нельзя же привыкать… Ну вот, видите, уже лучше – тридцать семь и пять! А на прежнем сколько было?
– Тридцать восемь.
– Ну вот, видите, этот градусник лучше!
– А может, прежний исправный, правильно показывает, а этот врет?
– Ну уж вы… Что ж, нам все градусники проверять?! Ладно, лежите.
– Сергей Арнольдович, посидите у меня, посидите, отдохните, я вижу, вы все бегаете, мечетесь… Отдохните… Как вам работается? Устаете… Садитесь, садитесь, пожалуйста.
– Да некогда, спасибо, конечно… Устаю… конечно, устаю…
– Знаете анекдот? Больной перед операцией спрашивает хирурга: «Доктор, а после операции я смогу играть на скрипке?» Доктор отвечает: «Ну, конечно, конечно, голубчик». А больной говорит: «Как хорошо, ведь до сих пор я не умел играть на скрипке!»
– Да, да…
Вижу, устал доктор. Действительно очень устал. Десятки людей стонут, жалуются, каждому надо помочь, да еще десятки бумаг надо заполнить – отчеты и т. д. Завотделением…
– Ну, посидите, посидите, Сергей Арнольдович.
– Да нет, спасибо… Надо идти. Я еще зайду.
Ушел.
Да… А закон приняли. Слава богу! С двумя процентами на культуру России от бюджета… Правда, недавно заглянул в закон наш – нет там уже этой статьи… И – сноска: «Изъято»…
Вечер в больнице – самое дохлое время. За окном тьма и тоска. Днем можно любоваться Маркизовой лужей. Сейчас ничего не видно. Черная ночь, холодное мокрое стекло. Ветер бросает в стекло пригоршни дождя со снегом, выбивает тревожную дробь.
В такие вечера невольно лезут в голову ненужные мысли, в основном – тревожно-грустные… Как это Вершинин в «Трех сестрах» говорит:
– Одинокому становится грустно на душе…
Но разве я одинок? Да нет, конечно. Жена, девочки, внуки. Вроде все хорошо… Ан нет, тоска гложет. Каждый умирает в одиночку. Так назван роман Фаллады. И назван точно.
И в Москве в бытность мою депутатом… вроде не один. Много новых друзей, нужное, хоть и трудное дело…
Но вот сижу я один в нашей коммунальной квартире на Покровке, в квартире, в которой я родился, в квартире, в которой прожил детство и юность. Раньше она была полна народом: дедушка, бабушка, мама, папа, Жора, я, Ася, Агаша, Костя, Марисаковна – жили семьей…
Иногда поругивались, мирились. Помогали друг другу. Ася гуляла со мной маленьким на Чистых прудах… Пережили войну… Керосинка, примусы, керогазы… печки… Карточки… Наши венские стулья, для крепости перевязанные Асиными телефонными шнурами… Аптека на первом этаже, наш двор, пропахший валерьянкой… Кот Барсик…
И вот стали тихонько, один за другим, уходить из квартиры ее жители… Дедушка… Агаша… Я перебрался в Ленинград, и оставшиеся – Ася, Костя, папа, мама, бабушка – радостно встречали меня пирогами, чаем… Рассказы, разговоры… Но время брало свое, пустела квартира, ушла и бабушка, ушли и мама, и папа, и Костя… Последней была Ася… Потом и она ушла. Пусто и тихо. Новыми жильцами почему-то долго не заселяли.
Остались столы, стулья, кастрюли, ножи, вилки – все, все для жизни, а жить уже некому. Тишина. Пусто. И я в пустоте. И только теперь, в этой пустоте, я впервые почувствовал, какой драгоценностью была та жизнь и что уже не вернешь ничего.
В ледяной тишине квартиры я, шаркая ногами в тапочках, стараюсь шаркать так же, как папа… И эхо пустой квартиры отвечает мне папиной близостью…
Или крикнешь громко в черную пустоту: «Мама! Чай будешь пить?» – и на долю секунды воскресает наш круглый обеденный стол, покрытый лысой, потертой клеенкой, алюминиевый чайник с подгоревшей деревянной ручкой и грелкой-«купчихой»…
И вновь тишина и смерть.
Быстро прошла жизнь!
Школа, рисование, футбол, первая любовь, телефон-автомат на Покровке. К-7-55-63… Лиду можно?
Зачем эта гулкая пустота в квартире? И я один смотрю в кухонное окно на белый снежный двор, на голые черные деревья, слушаю воронье карканье…
Вот собаки – бездомная дворовая стая – мои друзья… Их глава, его звали Бимом, – здоровенный черный дворняга – был сдержан, но приветлив. Его жена – вертлявая Бэлла – смотрела заискивающе и ласково. И много их разновозрастных детей. Жили они в подвале соседнего полуразрушенного дома.
Во время съездов и съемок неделями я жил в Москве, в нашей пустой и тревожно-грустной квартире.
Никогда не ласкал собак, не почесывал Бима за ухом, да он бы и не позволил подобной фамильярности. Отношения были чисто мужские, сдержанные.
Подкармливал их, чем мог. В бывшем магазине «Центросоюз» иногда выбрасывали ужасные котлеты – больше ничего не было на прилавках, а эти котлеты – человек съесть их просто не мог, серо-зеленые какие-то… Из чего они были сделаны? Но на абсолютно пустом прилавке лежали только они, я брал штук десять – двадцать и давал собакам. Они привыкли ко мне и всегда приветствовали, подбегая и махая дурацкими своими хвостами. Так продолжалось два года.
И вот съезд был распущен, съемки закончены, и я прощался с Москвой, с квартирой, звенящей и гулкой от пустоты…
Понимал, что уезжаю надолго и что этот период зыбкой близости с прошлым закончен навсегда.
Пошел к мяснику в магазин. За две пол-литры, которые удалось достать случайно, он продал мне два кило вырезки из своих секретных запасов. Нарезал вырезку на много-много кусков.
Уезжая, я взял вещи, запер двери и вышел во двор. Собаки подошли.
Я протянул Биму ладонь, на которой лежал кусок вырезки граммов сто. Бим понюхал. Отошел и вопросительно посмотрел на меня. «Ешь, Бим, ешь!» Он осторожно взял с ладони мясо. Не глотал. Держал в зубах и глядел на свою стаю. На Бэллу. Я протянул и Бэлле кусок. И щенкам. Бэлла и дети стали есть.
Тогда и Бим проглотил невиданное лакомство.
Я еще и еще давал ему мясо. И Бэлле, и щенкам. Наконец мясо кончилось. Бим посмотрел вопросительно. Я показал Биму пустые ладони. Бим постоял, потом подошел и ткнулся мягким своим носом мне в колено и постоял так минуты две.
Оглядел я мой остывший, холодный двор, вдохнул родной аптечный запах.
Посмотрел вверх, на голый пустой балкон черной лестницы, с которого мама когда-то, провожая меня, махала мне рукой… Посмотрел на Бима… на собак… Они вильнули хвостами…
Я сказал им: «Пока!» – и пошел на вокзал.
Больше я их никогда не видел.
…Недавно смотрел передачу по «Культуре». Молодой режиссер, стройный, белокурый, волоокий, с тонкими запястьями, элегантно закинув ногу на ногу, довольно интересно рассуждал о себе, о театре, об архаичности прежнего театра, о поисках новых форм, режиссуры, о своем понимании современного театра.
Об отвращении к терминам Станиславского: «задача», «сверхзадача», «событие», «предлагаемые обстоятельства» и т. д. То есть к главному, что составляет актерскую профессию… Гладко говорил, образно, где-то даже позволяя нам, слушателям, любоваться его логикой, начитанностью, образованностью… Речь плавная, отличный русский язык, четкое логическое построение.
Я видел его спектакли.
Впечатление гнетущее.
Отчего такое недоверие, я бы даже сказал – ненависть к актерам, к их попытке понять особенности своего персонажа, его цель, его понимание жизни и смерти?! Нет, все заменено техникой (надо сказать, очень-очень четко, профессионально, точно построенной), шумовыми и музыкальными взрывами, телеэкранами, бешеной скороговоркой, гомосексуалистами и лесбиянками…
«Бедные обманутые актеры, – думаю я. – Ведь каждый из вас мог бы замечательно сыграть трагедию своего персонажа – я ведь знаю вас: все вы очень! очень талантливы! Я ведь помню вас по другим спектаклям!»
Плавно и элегантно льются слова, мелькают термины: «амбивалентно», «метатекст»… Мы любуемся пластичностью его речи, его образованностью.
Возникнет ли благодаря его стараниям театр, вознесясь на новую, современную ступень? Нет. Не возникнет. Останутся обуглившиеся руины, как после атомного взрыва в Хиросиме.
В муках рождается новый театр… Да полно, новый ли?
Да, в «Евгении Онегине» у вахтанговцев черт-те что: Ольга с аккордеоном, манерно-условные движения актеров… Ну, думаю, началось!..
Но нет, нет… Постепенно, шаг за шагом условно-формальная атмосфера завораживает меня, настраивает на свой, единственно возможный лад, и я не могу сдержать рыданий счастья, когда Татьяна, впервые ошеломленно открыв в себе неведомое ранее чувство, счастье любви, любви, озарившей нежданно-негаданно душу деревенской девушки, – ослепленная этим чудом, швыряя свою девичью постель (!) по сцене, рвет мне сердце бесстыдной правдой:
– Я к вам пишу – чего же боле?..
И это – подлинный Пушкин, его сердцевина, до которой, читая «Онегина», не всегда, вернее, почти никогда, мы не докапываемся…
А убийство?! Да! Убийство Ленского?!
Ай да Туминас! Ай да сукин сын!!! Спасибо ему за счастье, за мои слезы на «Онегине».
Внешне – да, формальный, условный театр. Но главное, главное – правда чувств, подлинность жизни человеческого духа, персонажей спектакля, завораживающие зрителя, стыдливо сдерживающего слезы счастья…
Это что – новый театр? Да нет… Это то, за что кладут свои жизни актеры и режиссеры во все века.
А потом посмотрел еще один спектакль того самого волоокого режиссера. Оказывается, можно! Блистательная, восхитительная жизнь актеров на сцене. Форма? Да, видимо, что-то есть, но она не лезет вперед, восхищая «необычностью», она высвечивает то, что в актерских душах, и ее не замечаешь.
За окном что-то буря разыгралась. Трах! – по окну пригоршнями снега или дождя – трах!..
– Другь мой… Вы назначаетесь агитатором на выборах по адресу: проезд Художественного театра, дом восемь, квартира такая-то…
Предстояли выборы в Верховный Совет СССР, и Веня, а точнее директор студии Московского Художественного театра Вениамин Захарович Радомысленский обратился ко мне с придыханием…
Баллотировался от района, где расположен МХАТ, только один кандидат, естественно. Как и повсюду в те времена.
– Знаете, другь мой… Это квартира, где живет семья покойного Собинова, великого тенора из Большого театра. Там вы можете встретить Льва Кассиля. Знаете такого писателя?
– Ну как же, как же, Вениамин Захарович, конечно. «Кондуит и Швамбрания» – любимая моя книжка!
– Ну вот, там вы и можете его увидеть, вот и познакомитесь. Так что вы, другь мой, уж, пожалуйста, ведите себя соответственно, помните, что вы – агитатор от студии МХАТ, а это большая ответственность!
Дом номер восемь располагается рядом со студией. И действительно, на стене рядом с дверью, ведущей внутрь, на лестницу, мраморная доска, удостоверяющая, что здесь, в этом доме, в самом деле проживал «…народный артист СССР Леонид Собинов».
Собинов! Кассиль!
Поднимаюсь, задыхаясь от волнения, по лестнице. Вот и дверь. Нажимаю на кнопку звонка. Где-то там, в мягких священных недрах квартиры, еле слышно шелестит звонок. Тишина. Еще раз. Тишину нарушает далекий приглушенный женский голос: «Иду… иду…» Пауза.
Наконец сквозь дверь:
– Кто там?
– Это я, агитатор…
– Какой такой агитатор? Агитатор чего?
– Агитатор за выборы! От студии.
– А мы-то при чем? У вас в студии выборы, а мы-то здесь при чем?
– Да нет, не в студии выборы, а всюду, всюду…
– А вы кто?
– Я агитатор за выборы от студии МХАТ, то есть не от студии, а от избирательной комиссии по выборам… А вообще-то я из студии МХАТ…
– A-а… ну, тогда… если… Так вы из студии, агитатор?
Громыхают запоры, дверь, обитая пыльной клеенкой, шурша, открывается. На пороге немолодая дама.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте, молодой человек. Вы из студии?
– Да, я агитатор.
– Агитатор из студии Художественного театра?
– Да. За выборы.
– Ну да. Вот у вас на пиджаке чайка мхатовская. Проходите, молодой человек, вот сюда…
(Темно-синие стены, кресла красного дерева… Сияние хрустальной люстры… Картины…)
– Садитесь. Значит, вы из студии агитатор?
– Ну да.
– А что это у вас в руках?
– А-а-а… Это приглашение на выборы.
– Ну-ка, дайте… Та-а-ак… Блок коммунистов и беспартийных… Так… А кто кандидаты?
– Там один… то есть одна… э-э-э… Забыл, как ее…
– Ну как же! Вот же написано: Сидорова Екатерина Федоровна.
– Да-да! Сидорова!
– Ну вот и давайте, агитируйте нас. Валя! (Выходит молодая женщина.) Вот, Валя, сейчас агитатор за выборы из студии Художественного театра будет нас агитировать за… За кого, молодой человек?
– За эту… ну, как ее…
– Правильно! За Сидорову Екатерину Федоровну?
– Да-да! За нее. Спасибо.
– Вот и агитируйте. Чаю хотите?
– Спасибо.
– А пирожное!
– Спасибо.
– Ну, так агитируйте. Ну? Ну, просто скажите: приходите, дескать, на выборы и голосуйте за… ну? За кого?
– За эту… ну, как ее…
– Правильно. Сидорову Екатерину Федоровну! Пейте, пейте чай! Вот вам наполеон! Ешьте, не стесняйтесь.
И тут из соседней комнаты открывается дверь, и выходит оттуда Лев Кассиль. Больше ведь некому. Идет сразу в прихожую, по дороге бросает:
– Здравствуйте!
– Здравствуйте.
Тут дама вступает:
– Вот из студии МХАТ агитатор. Запомните, молодой человек, – за Сидорову! Приглашают на выборы. Придем?
Мужчина из прихожей:
– Обязательно!
– Все придем?
Мужчина, уходя:
– Обязательно придем, обязательно все придем. До свидания.
Щелкает входная дверь. Ушел.
Я говорю:
– Спасибо вам большое за чай, пирожное! Я пошел!
– В студию?
– В студию.
– Вы там на артиста?
– Да… У Массальского…
– А, у Паши… Ну и дай вам бог! До свидания!
Я выхожу на лестничную площадку, спускаюсь по ступенькам вниз… Сверху громкий голос мне вдогонку:
– Запомните: Си-до-ро-ва! – И эхо гулкое: ва-а-а…
И дверь – бух! – закрылась.
Так, агитируя за Сидорову, я познакомился со Львом Кассилем.
А, впрочем, может быть, это был и не Лев Кассиль. Не уверен.
Или вот Маршак. Самуил Яковлевич. Это уж точно он. В школе – это был четвертый или пятый класс…
– …Пионеры! Сегодня вечером в Доме пионеров будет встреча с писателем Маршаком! Ваш долг – прийти на эту встречу и послушать Маршака.
Почему это нашим долгом является, нам не объяснили.
Ну что ж, долг так долг. «К борьбе за дело Ленина – Сталина будь готов! Всегда готов!»
Я знал, что есть такой писатель Маршак, но что он написал – ну, просто не помню. А, да! Есть еще Михалков, «Дядя Степа»…
Зато знал наизусть замечательные строчки, они врезались мне в память. На бабушкином туалетном столике, прислонившись к тоненькой зеленой вазочке, стояла открытка: на фоне голубого неба стоит румяный матрос – белая тужурка, синие штаны, полосатая тельняшка, с бескозырки ленточки развеваются! В руках держит винтовку. А к штыку флаг бело-голубой морской приделан, гармошкой сложен. И если развернуть эту гармошку, на каждой странице флага – военные корабли, и первый – серый красавец крейсер «Киров»! И стихи:
Долго орала, что хочет Урала, Финская шатия песенки! Эх, генералы! Где вам Уралы! Встретимся лучше в Хельсинки!Это, значит, тысяча девятьсот тридцать девятый год, война с Финляндией, которая напала на нашу страну, желая нас поработить, захватив до Урала.
Фиг им!
И, глядя на розовощекого, в ленточках, матроса, я радостно понимал, что да, конечно, встретимся только в Хельсинки! Не можем не встретиться!
Это мне пять лет…
А вот теперь тысяча девятьсот сорок третий, сорок четвертый год, еще война Великая Отечественная идет, а нас, пионеров, зовут на встречу с Маршаком.
А! Вот:
Собирались лодыри на урок, А попали лодыри на каток.Это точно Маршак. На пленке диафильма, который я прокручивал через старинный волшебный фонарь, мне врезалось: «Автор – Маршак»…
…Темно в комнате. Белая простыня экрана над моей кроватью – занавес, что мне сделала бабуля, раскрыт, и вот поворачиваю ручку – «Лодыри». Маршак. Еще поворот – снизу вверх ползет по экрану черная перепонка, и приезжает картинка: двое ребят с портфелями и коньками «Снегурки» на веревках – кот какой-то ученый. От фонаря пышет горячим железом.
Позже, после войны, на месте этого экрана висел белый полотняный коврик с вышитой на нем синими нитками картинкой – какие-то овечки и цветочки, и надпись: «Прилетело яро з далека» – на чешском, что ли, или на польском? То есть, видимо, «прилетела весна издалека». Так я перевел, видимо, с чешского или польского… Что делать… Война, фронт, брошенные дома, наверное, не удержался папа: «Этот коврик взят в качестве трофея»… Вроде того как перед демонстрацией иностранного фильма в кинотеатре «Колизей» шла надпись: «Этот фильм взят в качестве трофея». Даже «Тарзан» с Джонни Вайсмюллером, или американские «Три мушкетера», или «Девушка моей мечты»…
О чем это я?
Да! О Маршаке!
Дом пионеров располагался в одном из крыльев бывшего дома-усадьбы Трубецких на Покровке – громадный, изломанный по фасаду, синий с белыми колоннами… В одном крыле этого дома находился родильный дом, где и я родился, – знаменитая Лепехинка – и, наверное, женская консультация при этом родильном доме. Потому что бабушка однажды повела меня туда (какая связь женской консультации со мною? видимо, привела она меня к знакомому врачу по блату, чтобы посмотрел мои уши), ну, не знаю, помню только отчетливо священный ужас, охвативший меня, девятилетнего, при виде светящихся цветных витрин с изображением мужских членов со всеми тайными подробностями. Бабуля тоже остолбенела вместе со мной, а потом притворилась, что ничего особенного.
Поэтому я и думаю, что это была все-таки женская консультация.
Да, Дом пионеров…
Вообще-то, по правде говоря, бабуля моя мало стеснялась меня и с удовольствием рассказывала мне, жаря картошку на круглой керосинке, всякие «неприличные» истории. Конечно, не переступая порога дозволенного.
Например, дедушка мой, Сергей Михайлович, рассказал ей, как он с группой художников добивался приема у Луначарского, пытаясь спасти от разрушения многие московские храмы: на Покровке, на Красной площади и так далее. Но так и не добились… Надо сказать, что в те времена был основан театр под руководством Наталии Сац, и еще был некто, тоже по культуре, по культурной части, по фамилии Рут. Так вот каждый раз художников останавливал в вестибюле Наркомпроса возглас швейцара:
– К Анатолию Васильевичу нельзя-с! Они с Рут-с!
Или:
– К Анатолию Васильевичу нельзя-с! Они с Сац!
Конечно, подобные реплики были придуманы острословами, но факт остается фактом: и храм на Покровке, и на Красной площади, и Иверская часовня, и многие-многие архитектурные шедевры – свидетели российской истории – были уничтожены…
На Покровке, например, на месте храма Успения Богородицы, приведшего в тысяча восемьсот двенадцатом году в восторг Наполеона, который, чтобы спасти храм во время тогдашнего страшного московского пожара, поставил вокруг него охрану из своих солдат, – теперь скверик с чахлой растительностью и с очередной «шаурмой».
Какими словами можно охарактеризовать уровень нравственности народа, уничтожавшего с радостью все то, что было свято для их предков, для отцов, дедов… Все то, что было сутью русской жизни!
Так вот все это и многое другое рассказала мне, похохатывая, бабуля…
Не стесняясь ребенка…
И про то, как разрушали Чудов монастырь в Кремле (дедушка был тогда смотрителем книжного хранения монастыря), как готовили монастырь к уничтожению, как выбрасывали на площадь Ивановскую тома редчайших книг, обливали керосином и поджигали эти горы бесценных свидетельств многовековой истории русского народа и плясали вокруг гигантских костров. Ну да, зима была, холодно, надо было погреться… Дедушка, передавала мне бабуля, говорил ей, что наш самый человечный человек, Владимир Ильич, тоже там поплясывал…
Сейчас, когда вижу толпу у мавзолея… и венки…
Ты гори, гори, свеча, В красной жопе Ильича! -стишок того времени…
Да, так вот Маршак… Дом пионеров располагался в противоположном от Аепехинки крыле усадьбы. Обшарпанные старые стены, покрытые синей клеевой краской, большая комната, на длинном перекрученном шнуре – матовый пыльный светящийся желтый шар. Стол большой. Фанерная столешница расслоилась от времени, цепляет рукава… Холодно. Все сидим, кто в пальто перелицованном, кто в ватнике, кто в шубе… Мы бриты наголо, поэтому головы мерзнут, и мы в шапках, у кого какая. Все в валенках…
Маршак – немолодой уже дядя, сидит без пальто, в черном костюме, белая рубашка, галстук… Белое, мучнистого цвета лицо, черные круглые ободки очков, жесткие, густые, слегка вьющиеся волосы зачесаны аккуратно назад… Не толст, но и не худ – можно сказать, плотного сложения.
Сидит, облокотясь локтями на протертый стол. Перед ним – книжки…
Читает нам вслух что-то. Не помню что. Сидим… слушаем…
Вдруг Женька Коровин громко:
– Да ну, херня какая-то! Для малолеток! Что он голову морочит? Пошел он на хер!
В пальтишке на рыбьем меху, шапка-ушанка поношенная, уши вверх торчат.
– На хер!
С грохотом отодвигает стул, хватает свой растрепанный портфель и уходит.
Пауза… потом еще кто-то:
– Дану, и я!..
Тоже уходит. Хлопнула фанерная некрашеная дверь.
Пауза. Маршак сидит сцепив руки на столе. Долго молчит. Долго. Наконец опять начинает тихо что-то вроде:
– Мне, коту ученому, скоро год…
Чем все закончилось, не помню. Может быть, и я ушел?
Не помню…
Недавно смотрел по ТВ сериал Урсуляка «Жизнь и судьба». Человек, созданный талантом Маковецкого, уникален и «незаметен». До боли напоминает того дядю по фамилии Маршак в Доме пионеров на Покровке.
За подобные актерские создания надо бы ставить памятники из золота!
Неприятный, себе на уме, чистоплюй… Хотел бы я ехать с ним в одном купе в вагоне? Ни за что!
И – здесь же, в этой неприятной плоти, – честнейший, порядочнейший человек с гипертрофированной совестью.
Как это? Как это делается?!
Но никто особо и не заметил… Такой мы народ: тупой, словно мокрая глина.
Так же «незаметен» был Лыков в сериале «Ленинград 46». На фоне органично, хорошо играющих актеров – возник странный, возбуждающий надежду человек. Бандит, жестокий убийца, но в то же время любящий детей-беспризорников, добрый и великодушный. Видимо, судьба заставила стать волком… Волком, в сердце которого иногда и милосердие стучится…
С потными ладонями, в какой-то дурацкой шляпке…
Как легко и выгодно быть просто органичным на телеэкране: играй самого себя – не подкопаешься! И сколько же нравственного труда, мучения на пути к созданию актером из себя другого человека, абсолютно органично существующего на экране, но, самое главное, – органика-то эта не артиста Тютькина, а персонажа, превратившегося из Тютькина в нового человека! Существующего уже на экране по свойственным только ему законам – сердце бьется с другой частотой, голос как-то иначе звучит, походка и жесты диктуются не Тютькиным, а кем-то, кто стал персонажем!!!
И как легко ловкачу-актеру, делающему ба-а-альшие бабки, снимающемуся сразу в трех-четырех сериалах, органичненько имитировать внутреннюю жизнь, не затрачиваясь, а впереди-то – достройка загородного дворца в американском или европейском стиле, газоны, вазоны, джакузи, биде! Мечта осуществляется… И всего-то – проболтай органичненько, и даже иногда с выражением, слова и забудь о совести. Мальдивы, Багамы, Антибы.
Э-э-э, да бог с ней, с совестью! Да и автополив нужен новый, а охраннику сколько платить! А повару!
Так что ну его, это перевоплощение.
Да и пипл хавает, окей!
Вообще-то пипл, то есть зритель, судя по телевизионной картинке, впитывает с радостью все, что предложат ему ловкие дельцы от искусства… А предлагаю они… Боже, боже, во что превратилась современная эстрада, особенно музыкальная…
Пипл, то есть по-английски people – народ… Сколько наглого презрения даже в этом одном только выражении – «пипл хавает»! И сколько бездарной самоуверенности в поведении человека, присвоившего себе имя «артист», к каким самым низменным, грязным чувствам зрителя обращена его «работа»…
А пипл – что пипл? Народ радостно ржет, пританцовывая, ведь щекотно, когда чешут пониже пупка… И оскотинивается постепенно. Может быть, это и есть задача современной эстрады – превратить «пиплов» в скопище бездумных особей, создать постепенно «Скотный двор»?
Нет, нет, все-таки на первом месте, конечно, деньги, рынок. Покупаете всякую дрянь? Отлично! Едите колбасу-эрзац? Прекрасно! Что?! Болеете и умираете? А нам какое дело! Вы же сами деньги платили? Сами! Вот и хавайте, хавай, хавай, пипл! А мы, мастера эстрады, мастера искусств, усадьбы свои по телеку вам покажем! Видали?! Громадный дворец с башнями или ранчо в американском стиле – камины, бар, две бани, русская и сауна, а у меня одна лестница из цельного мрамора сколько стоит!
Как же уже давно… «Быстро жизнь пронеслась, словно и не жил». Давно… где-то в девяностые годы был я на концертах в Красноярске. Живу в гостинице. Шкаф, кровать, туалет, душ, стол, тумбочка. Из окна вид – как на помятой банкноте «10 рублей»: река, мост, лес вдали. Город плохо помню. По вечерам концерт, читаю Пушкина, Маяковского, Евтушенко, еще что-то… И вдруг получаю приглашение от писателя Астафьева приехать к нему завтра с утра в гости, в деревню Овсянку.
Виктор Петрович Астафьев! Настоящий, непридуманный писатель.
Я «открыл» для себя Астафьева незадолго до этого. Резануло меня сначала «Печальным детективом» – о нас, о нас впервые! – а потом ода русскому огороду, «Последний поклон»… И автор – человек совершенно чужой мне среды, из сибирских крестьян, полуграмотных, от земли, детдомовец. И я, читатель, – мальчик из московской интеллигентной семьи, папа, мама, бабушка, «армериттер» по утрам с какао, «дер рюке гераде хальтен»… И я читаю о деревенском детстве автора – и словно это все обо мне: те же удивления, хотения, огорчения… радости и слезы, запахи… И не мешает мне яркий, необычный подчас язык, – напротив, явственнее, чувственнее ощущаю я себя и на огороде, среди огуречной ботвы, и в тайге, и у крестьянской крепкой избы… Да и жизненные гражданские позиции вроде наши схожи…
Всечеловечность – признак большого художника. И вот этот художник приглашает меня к себе! И я с радостью принимаю это приглашение, без малейшего чувства стеснения, еду к своему, родному, такому знакомому, еще ни разу не виданному мною человеку. Какая радость поблагодарить его, поделиться многим.
И мы трясемся в «жигулях» по длиннющему мосту, сворачиваем направо и едем по правому берегу Енисея вверх, туда, к Овсянке. Но!
– Вот здесь остановимся. Вот они! Знаменитые Красноярские столбы. Взберемся наверх. Давайте руку.
Вот уж не хотелось бы лезть на эти столбы. Ну да, красиво, действительно очень красивые узкие скалы над широченным Енисеем. Лес шумит. Но там-то, там, в Овсянке, – Астафьев, а вечером – концерт в Красноярске…
– А может, не надо? Там ведь Виктор Петрович ждет…
– Надо. То есть как это «не надо»? Быть в Красноярске и не полюбоваться на столбы? Это, знаете… вас не поймут…
Ну да, неудобно, гостеприимство все-таки… Ладно, лезем.
Поднимаемся минут тридцать. Действительно красиво. Восторгаюсь с запасом. Показываю, что переполнен красотой, еще минута – и буду отравлен ею…
– Все. Прекрасно! Больше не могу, сойду с ума! Вниз, вниз!
Минут сорок спускаемся вниз. Фу… Поехали?!
– Не-е-ет, вот, видите, вот он, самый главный наш столб. Полезем, посмотрим на него! Полезем-полезем!
– Не надо…
– То есть как это «не надо»?! Не влезть на эти столбы? Все лазают. Вот недавно французы лазали.
– Так то французы! У них там Альпы, они привыкшие, а я – равнинный житель, мне страшно…
Не полез я, хоть они и прекрасны, эти столбы. Какие столбы, когда там Астафьев! Время-то идет. Заставил ехать дальше. Сели. Поехали. Спутник мой с этой минуты молчал. Обиженно. Ну, да бог с ним! Молчал все время: и у Астафьева, и на обратной дороге, весь обратный путь. Ну, да это потом. А сейчас – вот она, Овсянка! Светится на крутом спуске к Енисею.
А вот и Астафьев. Невысокий, коренастый. На курносом загорелом лице добрые голубые глаза.
– Здравствуйте, Олег! Олег Баслашвили – так?
– Здравствуйте, Виктор Петрович! Басилашвили – так вернее.
– А, ну, буду знать. Басилашвили. Грузин? А светлый.
Голубая рубашка с закатанными рукавами. Что-то делал в огороде. Сильная загорелая ладонь. Повел к себе, в дом. Помнится, просто изба. Большая печь. Стол. И еще к окну письменный стол, над ним книжные полки, книги, книги.
И мне почему-то легко с ним, нет обязательной в таких случаях нудной необходимости говорить что-то умное, располагающее… Просто я рад, рад близкому и родному человеку…
И он, видимо, чувствует это.
– Хотите, – говорит, – покажу вам мою достопримечательность? – И ведет меня в огород, за кусты, в самый угол.
Вот он, дощатый российский сортир. Но! Дверь в сортир не обычная, дощатая, как по всей Руси Великой, а сделана из большого листа прозрачного плексигласа! Так что сидящий внутри виден весь, с ног до головы. Всей деревне можно смотреть! И дверь прекрасно сделана. Никелированная импортная ручка, никелированная рама на фоне серых шершавых досок сортира смотрится как залетная гостья откуда-нибудь с выставки зарубежного современного дизайна. Франкфурт! Дрезден!
– Зачем это, Виктор Петрович?
– А-а-а… Это к нам в Овсянку президент Ельцин приезжал…
И Астафьев рассказал, что за несколько дней до визита президента приехала охрана, все осмотрела, проверила – и сделала эту стеклянную дверь: а вдруг президенту станет плохо там, внутри, охрана это увидит и придет на помощь.
– Ну, ничего… Я занавесочку приделал там после.
– А как Ельцин-то?! Видел это?
– Да. Чертыхнулся и пошел за кустики. А вообще-то мужик неплохой, по-моему.
Показал Виктор Петрович и асфальтовую дорогу, идущую мимо его дома к реке, к самой воде. Словно взлетно-посадочная полоса для какого-то самолета-амфибии, словно дорога для «Наутилуса».
Это если президенту захочется к воде подойти. Не пешком же ведь, правда?
Да… Повел меня на берег Енисея. Гигантской ширины река мчала свои черные воды с пугающей скоростью…
На другом, очень далеком берегу вздыбились крутые каменные лбы темных холмов…
Где-то здесь, рядом, утонула мама Астафьева. Дом недалеко от берега.
Астафьев ведет меня в огород, показывая, где что. Гордится какой-то особенной картошкой. Сокрушается, что силы уже не те… что жена болеет… Мария Семеновна…
– А то бы в этом году картошки накопали бы! О-го!
В тысяча девятьсот сорок первом году, в ноябре, в заваленной снегом, замороженной Москве, когда все – воздух, вещи, люди – были туго запеленуты чувством неотвратимой трагедии – немцы были чуть ли не в Химках, – однажды поздним-поздним вечером услышали жители квартиры номер пятнадцать в доме номер одиннадцать на Покровке странный мягкий скрипящий шум, доносящийся с улицы. Насторожились. Шум не умолкал. Наоборот, становился все громче, внятнее. Ася, бабушка и мама столпились у окна, выходящего на угол нашего переулочка и Покровки… Постояли.
– Олег, отойди от окна!
Это мама. Она с треском распахивает створку окна с белым марлевым крестом, блеснуло стекло с застывшим льдом. Морозный пар врывается. Мама смотрит, высунувшись, туда, направо, на Покровку.
– Это наши, бойцы! В чем-то белом и в валенках… Их много! Много!
Ася вдруг:
– Это сибиряки! Сибиряки это. Днем в очереди говорили. Войска из Сибири пришли!
Скрипит снег под валенками: хр-хр-хр…
И легче сразу стало, словно вдохнул во всю грудь. Сибиряки. Они защитят. И – точно, не вошел немец в Москву, не вошел! А сколько их полегло… Сколько полегло… сибиряков-то.
Хр-хр-хр… зиг-зиг-зиг…
Астафьев восемнадцати лет добровольцем ушел на фронт. Контужен. Тяжело ранен. Лишился глаза – так написано в его биографии. При встрече я как-то не заметил этого…
Всю войну прошел солдатом. И награда у него солдатская – медаль «За отвагу». Работал слесарем, учителем, дежурным по вокзалу, кладовщиком… Виктор Петрович ведет меня в библиотеку, которая построена по его инициативе, с его участием. Красивый двухэтажный каменный дом. Тысячи книг. Большой читальный зал. Показывает с гордостью. Ощущение, что эта библиотека дороже ему, чем все написанное им…
Мог бы на свои гонорары на Антибы слетать, Багамы, Мальдивы и прочие Филиппины, где «все включено», где «нэбо яркое так синэ, где дэвушки, как на картинэ»… А нет, он вкладывает все свои деньги в строительство библиотеки своей родной Овсянки, для своих, деревенских, для детей, пытаясь сделать все, чтоб их детство и юность были чуть краше, чем его собственные, и чтоб души их становились чистыми, яркими…
Ни дома с башнями, ни бассейнов, ни шлагбаумов нет… Маленький домик в родной деревне, на берегу грозного черного Енисея, в котором утонула его мама. Дощатый сортир с прозрачной дверью, картошка.
Время, время поджимает. Вечером концерт, будь он неладен! Надо уезжать.
Если бы не столбы эти…
Виктор Петрович ведет в дом, сетует, что не можем мы с ним выпить – сердце.
– Да и вам нельзя, концерт у вас, как мне сказали. Ну, да ничего, давайте на прощанье чайку, с травами, с медком, полезно и вам и мне…
Сидим, пьем чудесный травяной чай с медом, и мощное магнитное поле могучего Енисея объемлет нас, заполняет пространство, тревожит душу… Виктор Петрович дарит на прощанье два томика «Последнего поклона» с надписью: «Олегу Басилашвили мою самую заветную, наконец-то завершенную книжку. Виктор Астафьев. 3 июля 96 года». А на второй книжке опять: «Олег! А это цветок стародуб (нарисован цветок), адонис, трава от сердца. Приспичит – пей. Виктор Петрович». И еще дарит книгу «Царь-рыба». В названии меняет «рыба» на «рыбу» и приписывает «на уху», получается: «Олегу царь-рыбу на уху. В. П.». Но время, время, время… Надо прощаться. Столбы, будь они неладны!..
– Виктор Петрович, рад был… Как не хочется уезжать…
– Да приезжайте!
Голубые глаза светятся. Какое там ранение! Крепко скроенный, большущий русский писатель, надежный.
Машина зарычала, дернулась. Поехали. Виктор Петрович стоит на заасфальтированной для президента дороге, постепенно уменьшаясь в размерах, машет рукой…
Поворот. Все…
Столбы проехали в молчании.
Как-то Астафьев с болью упрекнул нас, русских, в рабском менталитете, вороватости, лени… С горечью об этом сказал. С болью. Надеясь на выздоровление в будущем. Многие обиделись.
Через некоторое время ему потребовалось лечение за границей. Нужной суммы не было, и, несмотря на усилия местных врачей, Астафьев скончался в Красноярске. Сердце не выдержало.
А столбы стоят себе, и французы на них лазают…
…Грузины очень обиделись на «Ловлю пескарей в Грузии» Астафьева… Русские – на обвинения в рабском менталитете…
Бум! Дверь палаты распахивается!
Врывается неожиданный женский смех и звон бокалов из соседней блатной палаты. И чей-то бас: «Тихо, тихо! Тихо! Тс-с-с…» – утихомиривает кого-то.
В дверях – молодой мужчина во всем черном, высокий, здоровый, бицепсы выпирают из-под черного шелка рубашки, шея – здоровенная, переходящая плавно в череп. Но лицо симпатичное, румяное, улыбается.
– Валерьич, привет!
– Я не Валерьич, простите.
– А кто же вы?!
– Валерианович.
– А-а-а! Валерьянка, значит! Аптека! Ни к чему нам валерьянка, мы устроим лучше пьянку! Ха-ха! Идем к нам, Валерьяныч! Хули тут одному куковать, у нас весело, и выпить есть, и закусить – все-все! Кстати, и фемины-путаны, полный набор! Пошли!
– Да я…
– Что «да я»? Пошли! Тебя сам Альберт Илларионыч приглашает! Давай-давай! Быстро! Ну!
– Спасибо, конечно, но это ведь больница, нельзя… К тому же я болен, у меня температура.
– Чево? Температура? А у нас – темпера… темпераментура! Давай-давай-давай!
– Нет, не пойду. Передайте Илларионычу…
И вот тут он вдруг:
– Стоп! Стоп! Вот так нельзя, так нельзя. Учти, надо говорить: Альберт Илларионовичу!
– Вот-вот, передайте ему, что я благодарю за приглашение, но не пойду. Здесь больница. Режим. И нарушать его я не хочу. Могут и выгнать!
– Выгнать?! Да Альберт Илларионыч, знаешь, кто??? Это еще кто кого выгонит!
– Не пойду. Спасибо.
– Да-а-а, Валерьяныч, слабак ты! С народом не хочешь! С народом! А еще народный артист! Дерьмо ты, а не артист! Не поймет тебя Альберт Илларионыч, учти, не поймет!
– Всего доброго.
– Н-н-ну что ж… смори, Владиславыч! Смори! Дело твое… Сам виноват! Артист!..
Бум…
Дверь захлопнулась. Все стихло. Смолк и звон бокалов, и женский смех, только порывами дождь по стеклу – тук-тук-тук! – и стихнет. Потом опять – тук-тук! дзинь! Черно за окном и холодно.
Да…
Так вот, обиделись русские за рабский менталитет, обиделись грузины…
А мне что делать? Я и грузин, я и русский… Вообще должен возненавидеть Астафьева? Окончательно? Да нет, люблю я этого человека. и радуюсь тому, что в каждой повести его, в каждом рассказе – правда. Правда искусства. Не правда с фигой в кармане, правда человеческих взаимоотношений, правда, рожденная любовью к Родине, правда, завораживающая вместе с магнитным полем гигантской реки, втягивающей меня в самую глубь нашей русской жизни…
А Грузия?.. Что Грузия? Тянет, тянет меня туда, так же как тянет в Москву – в наш двор, на Покровку, в Старосадский, на Чистые пруды… А в Грузии мне хорошо… Не знаю почему… То ли неожиданно детство мое военное тихо зазвучит, и с добрыми, отзывчивыми людьми так легко и радостно… А в селе Карби – родине отца – кладбище. Все могилы, самые старые, с тринадцатого века, все – Басилашвили… А в Москве мои дорогие дед, мама, папа – на Ваганькове, бабушка и ее сын – на Донском…
А дураки и подонки всюду имеются, к сожалению. И в большом количестве.
Совет К. С. Станиславского: читать только ругательные статьи о себе. Ибо в каждой ругани есть доля истины. А хвалебные отзывы – ну что ж, приятно… И не более… А если часто читать лестные слова в свой адрес, можно и вправду поверить, что ты гений и, что бы ты ни делал, все гениально. И остановиться в работе, и сойти с ума.
Тук-тук-тук… дзинь! – снег с дождем в стекло…
Мелкий дождик сеет. Пасмурно. Сырой гнилой ветер. Ленинград. Угол Ленина и Большого проспекта Петроградской. Чахлый мокрый скверик. Посредине на сером граните – большая чугунная голова Ленина. Мудрая и хитрая усмешка. Правильной, дескать, дорогой идете, товарищи!
Погромыхивает красно-белая коробочка ленинградского трамвайчика. Вечер.
Шестой этаж в угловом доме. Маленькая квартирка капитана дальнего плавания Виктора Викторовича Конецкого. Писателя.
Сидит он на старенькой тахте, за спиной на стене – большая карта – синие моря, океаны… По стенам его акварели. Хорошие акварели. Талантливые. Книги…
Маленький, худущий, в чем душа держится. Скулы острые. Когда смеется, закинув голову назад и немного склонив ее набок, на впалых щеках резко прочерчиваются глубокие морщины вокруг рта. Смеется, а глаза грустные… Не плавает больше… То да се…
Усадил меня за свой письменный стол:
– Сиди! Больше негде!
И травлю я разные байки – о театре, о депутатстве своем… И чтобы посмешнее…
Дорогой мой писатель! Как спасал он меня от одиночества, от смертельной тоски, когда лежал я ночью на пробитой своей тахте в маленькой комнате на Торжковской с его книжкой в руках…
Ночь… Звенящая тишина. Редко проревет за окном одинокий грузовик… Горит моя «электрокеросиновая лампа», и погружаюсь я в соленые брызги его письма, радуюсь и грущу вместе с ним.
Ледовые поля морей и океанов, редкие бедные поселки на тоскливых берегах…
И несмотря на грусть и тоску пейзажей – любовь, испытываемая автором к этой неприглядной красоте, заражает и меня… Холодные, угрюмые воды Карского, Баренцева морей, море Лаптевых, неприветливые и опасные берега Новой Земли… А люди, люди! Капитаны, штурманы… матросы… Это ведь все мы, советские… Неуемный Ниточкин… Фаддей Фаддеевич! Да мало ли! Это все мы, мы, граждане великой страны СССР, – в жуткий шторм, чудом избежав гибели в пучине, вниз и вверх швыряемые бешеным океаном, в утлой спасательной лодчонке, горюем о валютных суточных, утонувших вместе с кораблем, робко надеясь, что возместят и что можно будет все-таки купить на идеологически чуждых берегах кофточку жене и пальтишко дочери.
Воспитанные в советских школах, училищах, вместившие в себя все хорошее и немало дурного, вбитое нам в головы.
Выпиваем понемногу.
За мокрым окном – тьма.
Рядом с ним жена – чудесная Танечка, любящая, заботливая.
– То есть как это?! По сто грламм всего-то! Гость прлишель!
У него как-то вместо «р» прорывалось «рл», да и в конце слова иногда вместо «л» – «ль» получалось.
– Вот ты мне все рассказываешь!.. Так вот я теперь расскажу. Слушай. Все прлавда! Но прледварлительно – по грламулечке. Ладно, Таня?
– Ладно уж…
И рассказывает он мне следующее.
В советские времена ходила по лагерям ГУЛАГа легенда о некоем зэке – условно назовем его Иванов, – сбежавшем из лагеря, прошедшем тайгу, степи, весь необъятный Советский Союз, добравшемся несхваченным до Черного моря, которое он преодолел вплавь и достиг Турции, а дальше – Европа. Америка… Свобода. Легендарная личность.
– Пригласили меня как-то в Америку на симпозиум по соврлеменному роману. Что такое соврлеменный роман – убей бог, не знаю! Ну да, «Война и мир», «Тихий Дон» – ну, конечно, знаю. Так ведь это давно! А вот о соврлеменных романах не знаю ничего, ровным счетом.
Подумал-подумал Виктор Викторович, да и поехал в Америку, полетел, несмотря на то что не знаком был с современным романом. Это шел где-то, наверное, шестидесятый какой-то год двадцатого столетия.
Виза, собеседование, разрешение и т. д.
Конечно, «незнание» его для красного словца, ну да ладно. Хотя, действительно, какие романы в те светлые годы?! Маковский?
– Да еще и выступать надо было. Ну ладно, думаю, перекантуюсь как-нибудь. Не в этом дело!
А дело было вот в чем. Прилетел Конецкий. Нью-Йорк. Отель. «Плиз ё рум намбэ ту твенти ван. Е спич тумороу. Бай!»
Завтра, значит, надо что-то говорить. Сидит он в номере ту твенти ван. Вдруг – звонок. Звонит некто и говорит по-русски, что Иванов – тот самый, прославленный, зэк, легенда ГУЛАГа – приглашает известного писателя Конецкого в гости, что любит все, что тот написал, и знакомство с ним будет для него, Иванова, большой радостью. Ну?! И о чем тут думать? Плюнул Виктор Викторович на все инструкции – ходить пятерками, опасаться провокаций, высоко нести честь и т. д., – узнал адрес и дал согласие приехать.
– Спустился быстренько вниз, купиль в гастрлономе «бомбу» («бомба» – это двухлитровая бутыль столичной водки с ручкой), ему купиль арлбуз – мало ли, вдруг он не пьет…
И на такси полетел к Иванову. Тот оказался высоченным, здоровенным мужиком, радостно встретил Конецкого.
– Какой там не пьет! Еще как пьет! Сидим мы, значит, выпиваем, арлбуз тоже в дело пошель – закусь хоть куда! Подружились, обнимаемся!
Говорят о том о сем, вспоминают пятидесятые. Иванов в любви объясняется – у Конецкого ведь очень много о Севере, о Севморпути, о штормах, о ледовых полях… Иванову все это близко, он ведь зэк промороженный, просвистанный всеми ледяными ветрами зэк!.. Сел, говорит, ни за что – анекдоты травил, вот тебе антисоветская пропаганда и агитация! Пятьдесят восемь «а». Рассказывает про свой побег, как мыкался, прятался… Виктор Викторович тоже стал вспоминать себя в эти годы и вспомнил.
– Я, – говорит, – в этом году на Колыму баржи проводил с немецкими овчарками.
Немецкими овчарками в те счастливые времена называли наших женщин, которые во время войны на оккупированной территории сожительствовали с немцами. Были там, которые сожительствовали, а были и облыжно обвиненные в сожительстве – понравилась соседке чужая хата да корова, идет куда надо, клевещет на рачительную хозяйку, хотя та ни сном ни духом с немцами дела не имела, – вот и нет на свете этой хозяйки, и ее семьи тоже нет. Поехали они на Колыму, по дороге умирая, а хозяйство все переходит доносчице.
– Да… А я говорю: в этом году, говорю, на Колыму баржи проводил с немецкими овчарками! И тут он, представляешь, ни слова не говоря, ка-а-ак врежет мне по башке! Со всей силы! По физиономии! Я аж головой о стенку трлахнулся! Хорошо – на стенке сзади меня ковер плотный висель – смягчил удар… А кулак у него пудовый, надо сказать! Не будь ковра, в нокауте быль бы! «Ах ты, – говорит, – сволочь ты эдакая! Мы там как скелеты голодные, мерли как мухи, а ты, значит, падла, заключенных возил?! Зэчек?!» Ну, хотель я ему хук справа дать, да, думаю…
– Витенька, какой хук, – это Таня, – какой хук справа?! Ты на себя в зеркало погляди! Боксер в весе комара!
– Да ладно! Что я, зрля, что ли… Ну, в общем, приехаль я к себе в гостиницу, вижу, в зеркале вместо морлды что-то красно-синее с одним глазом…
Короче, взял Виктор Викторович свой фибровый чемоданчик, спустился в сияющий холл внизу, купил в гостиничном магазинчике черные большие очки, взял такси, в аэропорту Кеннеди поменял билет (благо у него в два конца), пошел по дороге к гейт намбэ ванн твенти найн, где стоял наш ТУ…
– И увидель грлуппу наших, только что прилетевших на симпозиум. Дудин Мишка – ну, этому-то не вперлвой демонстрировать, что ему эта Америка – тьфу! У советских, дескать, собственная гордость! Кто-то еще и перепуганный насмерть Лихачев. Он первый раз за границей, поэтому страшно, естественно: провокации, то да се… Меня не узнали, куда там! Маленький штымп с синим лицом в черных очках! Не узнали. И через десять часов быль я уже дома, здесь, слава богу. Вот так, Олежек, дело с соврлеменным романом-то обстоит! А ты говоришь! Ну, еще по грламулечке, на посошок!
На прощание подарил мне пятитомник «За Доброй Надеждой» и надписал: «Олегу книга на все добрые надежды. 18 февраля 92 года».
Правда, потом оказалось, что пятый том не пятый, а четвертый, так что у меня теперь два четвертых, а пятого нет. Ну да ладно! Зато хорошо посидели!
А Саша Володин – ну, это уже «свой» совсем. Даже и не считаю. и в театре у Дины, и «Осенний марафон»… На съемках Гия Данелия заставлял его все время присутствовать. А он не очень хотел. «Все равно все это у меня не ахти как – исправляйте, как хотите». Даже название изменили, а он и не пикнул. Было-то ведь «Горестная жизнь плута», а стало «Осенний марафон»…
Встречались мы часто, то есть сталкивались то там, то здесь… Книжки мне дарил… Но очень близки мы не были… Раз он мне даже сказал:
– Олег, я вас боюсь…
– Почему, Саша?!
– Не знаю. Боюсь, и все.
Видимо, моя вина. Вот тот самый комплекс неполноценности, крепко засевший во мне со студии Художественного театра, часто не позволял мне быть самим собой… А это тяжело прежде всего для самого себя. Не говоря уж об окружающих. Например, Соленый в «Трех сестрах» пытается быть легким, остроумным, а получается сплошная чепуха. Так и у меня… Только убивать бы я никого не стал, тем более Тузенбаха, а уж Володину вообще было бояться нечего, я его очень любил. Но тесному сближению с интересным мне человеком препятствовал вот этот самый комплекс.
Ну да ладно. Теперь, по выражению Стоянова, я – «гуру». Мудрец и провозвестник. Типа Заратустры. Мне теперь девушки пальто даже подают.
Бах! Опять дверь распахивается!
На пороге невысокий крепкий человек в расстегнутой рубахе. Накинут белый халат. Рубаха расстегнута, среди густых волос на груди поблескивает крестик. Видимо, тот самый Илларионыч. Сзади мой прежний визитер, теперь тоже в белом халате.
– Здравствуйте, Олег Валерьянович! Вот пришли извиниться за Юрино вторжение! Юрий! Ты готов извиниться перед Олегом Валерьяновичем?
– Конечно, Альберт Илларионович.
– Ну, так извиняйся!
– Да… Не, ну, ка-а-анкретно, блин… И ваще… честно… Не хотел…
– Ну ладно, Юра, – говорю, – ничего страшного, все в порядке.
– Мы люди простые, – говорит Альберт Илларионович, – мы простые, манерам, как грится, не обучены, но ведь от всего сердца, с уважением. Так что извините.
– Ну что вы, все хорошо, Арнольд Илларионович.
И тут Юра неожиданно напористо:
– Стоп, стоп, так не годится, не Арнольд. Альберт! Запомните: Альберт Илларионович.
И опять Илларионович:
– Спасибо, Юра. Ну а теперь уж, как грится, прошу к нашему шалашу!!! Прошу! Хотим нарушить ваше уединение! Ха-ха! Будем лечиться дедовским верным способом! А?! А то можем и сауну, если хотите, сообразить. У нас это быстро! Лечиться так лечиться! Верно?
«Ну как, как мне избежать этого кошмара?!»
– Нет, – говорю, – Адольф Виссарионыч…
Тут Юра:
– Илларионыч! Альфред Илларионыч! Тьфу, блин!.. Совсем я… не Альфред! Илларионыч Альберт, Альберт, блин!
И тут Илларионыч:
– Заткнись, поэл! Заткнись!
– Нет, – говорю, – Альберт Илларионыч, нет. Видите, кислородная кишка у меня, только что капельница была, температура, – говорю, – сорок. И вообще – постельный режим.
– A-а… Ну, как грится, насильно мил не будешь… А то ведь хотел, хотел как актер с актером… Я ведь тоже одно время корячился на «скене»… за гроши. Не-е-ет, решил – все! Хватит! Хочу жить нормально! Короче, теперь вот он, теперь я известный бизнесмен Альберт Илларионыч Москвичев, селфмейдмэн, продюсер, всеми уважаемый продюсер. И вот охрана – Юрий… И еще там в палате Сергей, но он там блядей стережет, а то ведь сбегут, суки! Иногда, правда, ностальгия… Знаете, запах кулис, жар прожекторов… С Фимкой Копеляном, помню, в «Стреле»! Ну, он дает! Или со Стрижом тоже… встречались на телевидении… Да! А как там моя Люська Куренная, а? Ну, эта ваще… А пойдем, а? Изобразишь нам кое-чево… Бетховена… Шакеспиара… А?! Помню ведь, помню всю эту хреновину. «Почему вы всегда ходите в черном?» Помню, помню… Ну, ладно, ладно, кукуй здесь, пенсионер, повторяй про себя хреновину эту всякую. Ну да ладно, извиняйте, артист! Пошли, Юрий. Руку, товарищ! Ха-ха!
– Пошли, Арнольд… Тьфу ты, мать твою, ей-богу! Альберт! Запутался я совсем…
– Заткнись!
Ушли. Дверь – бух! Тишина.
Грохочут танки.
Дробь снега с дождем по оконному стеклу.
Трах! Тук-тук, цок!.. Наводнение, что ли, будет?
Бог с ними, Илларионычами, продюсерами!
А мы, братцы, остаемся. Артистами остаемся.
Кому-то везет, кому-то нет, кто радостен, а кто плачет ночами…
Унижаемся перед продюсерами, алчными и бездарными людьми, на отвратительных кастингах.
Полагаемся на милость Божью, умоляя Его о работе…
Кто-то уходит, не выдержав, но остается Актером… Не предает, нет!
Дорогие мои! Пусть улыбнется вам судьба, пусть Бог вспомнит о вас, прославит вас!
Я уже стар. Впереди – тихо. Имею право на этот высокий стиль.
Тук-тук, цок-цок-цок, трах, тук! – опять порывы ветра швыряют из тьмы в оконные стекла снег с дождем.
…Тимофей… Тимка… Внучек мой родной!.. Кем-то ты будешь? Куда поманит тебя судьба? Неужто пойдешь по неверным стопам твоего деда?! А может быть, другое что-то? Надеюсь.
Главное, помни: быть человеком! Делать что-то полезное, нужное другим…
Ну а уж если и попадешь в нашу театральную, кишащую противоречиями, завистями, наушничеством, предательством среду, в наш «террариум единомышленников» (по выражению Г. А. Товстоногова), – держись! Самое трудное здесь – остаться порядочным человеком и добиваться удачи, не делая никому зла, не совершая подлости…
Мариника… Ника… Лапушка моя внучка! Что-то тебе повелит судьба? Ты уже большая, и есть в тебе, я чувствую, задатки чего-то хорошего, нужного всем… Никогда не опускай руки, знай – раз мы живем на этом свете, значит, это кому-то необходимо! Необходимо, чтобы мы были именно людьми и именно такими… Ведь есть и котята, и поросята, и цыплята, и многие милые другие создания, но вот мы созданы человеками, именно людьми, и кем-то наделены почему-то совестью, чувством порядочности, честью… сочувствием к другим… Зачем? Как ты думаешь?
Жаль, что не увижу я вас обоих в расцвете ваших сил, не смогу помочь, но надеюсь на вас! Крепко надеюсь…
Трах! Тук, цук, дзинь, бум!
Ну, это уже не просто ветер, это уже буря какая-то!
И опять тишина.
Вечер. Сколько сейчас? О, уже поздно… А спать не хочется. Телевизор не работает, телефон испорчен. На столе «Гексоген» Проханова. Нет уж, спасибо. Время тянется неимоверно медленно, наваливаются тоска и щемящее чувство одиночества.
Впрочем, что ж это я? У меня двое любимых внучат, двое дочек, хороших и порядочных людей. Галочка, жена, замечательная. Добрая, готовая «отдать последнюю рубашку» тому, кто в беде… Не могу себе представить, что кто-то из нас останется в одиночестве… Чем тогда покажется наша прошлая жизнь, в которой, если вспомнить, было столько яркого и прекрасного! Да и вообще – кем бы я был, каким бы, если бы не встретилась мне Галя… Самое время мысленно попросить у нее прощения за все то, чем огорчал я ее.
Что почувствует один из нас, что испытает, очутившись в одиночестве?..
Все! Хватит! Не думать об этом! А! Кстати! Вот и радость – лекарство. Кордарон! Предуктал! Тромбоасс! Симбикорт! В бой! Поддержим здоровье! Ура! Шире шаг, маэстро! Да еще кислородом через кишечку – совсем замечательно! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Бум! Трах! Так, тук, цок, бам!
О! Это уже где-то окно затрепетало!
Вот как передать это интонационно в «Медном всаднике»?
Над омраченным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом. <…> Уж было поздно и темно; Сердито бился дождь в окно, И ветер дул, печально воя.А что, если просто попытаться почувствовать, вспомнить его – это вот состояние: вечер, темно, дождь, одиноко… Ничего не изображая… Внешне проявится само?.. Может быть, так?
А в концерте, наряду с безысходностью судьбы маленького, да что маленького – просто обычного гражданина, подавляемого волей великого государства, его тяжестью, человека, сходящего с ума от безысходности у подножия памятника Петру с простертою рукою, – надо что-то противопоставить – все-таки жизнь прекрасна! Прекрасна! И это правда! Летние ясные утра, смех ребенка, шелест листвы, прекрасные ночи, полные любви… Запах свежеструганных досок, пирогов с капустой – да все, все прекрасно! И провалитесь вы с вашими великими думами!
Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря. <…> Зелень лавра, доходящая до дрожи. Дверь распахнутая, пыльное оконце. Стул покинутый, оставленное ложе. Ткань, впитавшая полуденное солнце. Понт шумит за черной изгородью пиний. Чье-то судно с ветром борется у мыса. На рассохшейся скамейке – Старший Плиний. Дрозд щебечет в шевелюре кипариса. БродскийПришли ко мне недавно с просьбой подписать письмо президенту. Просьба такая: одобрить строительство яхт-клуба в Петербурге, заручиться, значит, одобрением. Почему? Это ведь дело, наверное, городских властей, яхт-клуб? Если город хочет построить яхт-клуб. Или это забота богатых, у кого есть яхты, кому этот яхт-клуб необходим так же, как, допустим, престижные сауны, бассейны с девочками, поражающие роскошью дворцы – куда там бывшим русским монархам!
Что заставляет вас бухаться в ножки и искать одобрения?! Зачем? Стройте, не нарушая законов города и страны! Нет, нужно заручиться милостью высшего начальства. Зачем?! Чтобы, построив, не испытать, не дай бог, государев гнев? Грустно все это…
…Не приемлю, ненавижу это все. Все, что в нас ушедшим рабьим вбито… МаяковскийНе подписал я это письмо. Обиделись.
Надо не по капле выдавливать из себя раба, как говорил Антон Павлович, а тоннами, не жалея тюбика… лет двести, не менее…
Тук-тук-тук!
Э-э-э, нет, это не ветер. Кто-то в дверь стучится. Неужто Виссарионыч?! Батюшки-светы!
– Да-да, входите!
Дверь открывается, и входит Борис Федорович – больной из нашего отделения. Мы в столовой с ним познакомились. Больничный халат, аккуратно запахнутый, лысый костистый череп, черная борода… В руках маленький, глянцевый, разноцветно поблескивающий подарочный пакетик. Держит кончиками пальцев два шелковых красных шнурочка, протягивает этот пакетик мне.
– Это вам. От нашей палаты.
– Что это, Борис Федорович?
– А вот посмотрите.
Беру пакетик, вынимаю оттуда… «Беломор»! Папиросы, которые я курил с тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Теперь сигареты курю. А «Беломора» этого теперь нигде не сыщешь. А вот нашли. Правда, если раньше двадцать «беломорин» были запечатаны в пачку из плохой шершавой серой бумаги, и ты, чтобы достать папиросу, не жалея, рвал эту пачку где попало, то теперь это элегантная металлическая коробочка, этакий портсигарчик с сохраненным на крышке старым рисунком: карта европейской части СССР с вытисненными на ней синими реками и морями – и красная линия, обозначающая канал.
– Ух ты! Спасибо, Борис Федорович! Где это вы купили? Присаживайтесь!
– Спасибо. А, это вот мы знаем, что вы «Беломор» курите, так я жену попросил, она в аэропорту служит, вот она там и купила, во фри-шопе. Она ваша поклонница. Это ведь теперь за валюту продают иностранцам. «Советское – значит отличное» – помните лозунг? Ну так вот, теперь этот «Беломор» – антикварная редкость, и иностранцы его раскупают вместе с плакатами советской поры, помните, «Болтун – находка для шпиона», или там… «Пьянству – бой!», или еще, помните, «Посторонись, доллар! Советский рубль идет!». Помните?
– Ну как же, как же! «Накопил – и машину купил», «Решения XXV съезда КПСС одобряем!», «Народ и партия едины».
– Да, да! А Ленин в кепочке, помните? Ручкой так, вроде привет шлет. «Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!» Да, «Беломор»… Водка «Столичная»… А «Пшеничная», по-моему, с димедролом была, я от нее сразу засыпал. Выпьешь сто грамм – и рога в землю. Сон беспробудный. Сырком плавленым закусишь – а что, вкусный был сырок «Дружба» – и в койку! А рюмочные! Помните – рюмочные, стояка давали – стульев нет, одни круглые столики на железной ноге – и – стоя – пятьдесят грамм и бутерброд с килькой! О! Как пошла! И еще пятьдесят – и бутерброд, теперь уже не с килькой, а с половиной крутого яйца с лучком! Прелесть. И – беседы, беседы… С кем – неважно! А тема всегда найдется… Вышел на улицу, закурил тот же «Беломор» – метров сто прошел – стоп! Вот тебе и еще рюмочная, а там еще и еще… А куда деваться? Эрмитаж ведь не каждый день, правда? Или там «Баллада о солдате»… в «Великане»… А тут – будьте любезны – вот вам и водочка, и килечка… Замена счастию она! Да… было время…
– Да, было. А помните угол Невского и Садовой?
– Да-да, подвальчик, шампанское, сто пятьдесят коньяку, пятьдесят шампанского – коктейль «Адмиральский», сто на сто – «Капитанский», сто пятьдесят шампанского и пятьдесят коньяку – «Лейтенантский»…
– И конфетка «Кара-Кум»!
– И конфетка «Кара-Кум». Стоишь, беседуешь. Наверху, в окошечке, ноги, ноги прохожих по Невскому топают, колеса троллейбусов… Солнышко! Но тут дороже гораздо, это уже – элита! Мыслящая и глубоко чувствующая элита Ленинграда, моряки, офицеры, ученые, писатели! Инженеры человеческих душ!!! Передовая молодежь…
– Э-э-э, нет! Передовая в «Сайгоне», в основном угол Невского…
– Невского и Владимирского! Но, знаете, молодежь там действительно была неплохая. Там, по моим наблюдениям, как-то и не пили особенно, в основном кофе литрами… Вот там беседы настоящие велись: о театре, о поэзии, спорили… А пить-то почти и не пили… Не разбежишься… Да и не распускали особенно языки – стукачей там навалом… да и дорого… Вот так по рюмочным все мужское население… Ресторанов-то на весь город – кот наплакал, да и куда ни сунься – мест нет. А зачем нам эти рестораны? Рюмочная – вот наша территория! А что? Читать нечего, на книжных полках одна идеологическая жвачка, портреты вождей со звездочками золотыми… Ну, футбол иногда, толпа тыщ в пятьдесят поддавших мужиков орет: «Го-о-ол!!! В сачке!» Ну, хоккей под водочку опять же или фигурное катание… Гадали: спит, допустим, Иванова с этим, ну, который с ней катается, ну, неважно, или не спит… Потом как-то я задумался. А чего это они, думаю, книг не печатают, спектакли запрещают, за Солженицына – в кутузку, в магазине шаром покати. А водки зато навалом! Споить нас хотят? Идиотов послушных? Да вот тот же «Беломор» – это же сколько тысяч зэков там в земле гниет, а мы спокойненько пачку папирос с изображением Беломорканала имени Сталина, не задумываясь… А потом о кораблях с учеными вспомнил… Это что ж с нами… со мной! со мной! сделать хотят? И сколько в парадных, по подвалам мужиков валяется! И я в их числе, в общем-то, тоже… Ну, завязал я! Навсегда. Фиг вам, думаю. Идиота из меня не сделаете. И курить перестал. Совсем. И не пью, вот уже больше сорока лет ни капли! Ну, в Новый год там бокал шампанского… Да, что-то разговорился я, извините…
Борис Федорович. Технарь. Работает сейчас на каком-то частном предприятии.
– Вы знаете, извините, опять я… Но вот смотрю я телевизор, вроде все хорошо, пьем меньше, а кто и вообще в полной завязке, ведь меньше или хуже работаешь – меньше и получаешь… Мужики по парадным не валяются… Но вот – рушат малый бизнес, закрывают, банкротят, суды эти постыдные… неправедные… Частная собственность, в общем-то, растоптана… Магазины полны, спасибо Гайдару… но цены, цены! Нынче без тысячи в магазин и не суйся… Ну и так далее… Ну вот гляжу я в ящик – по всем каналам вот эти уроки ненависти! Кричат, брызжут слюной, и чуть кто слово не так – орут, не дают сказать… «Война, война! Флаг над Киевом, наш триколор!» Бомбим какую-то Сирию, на фиг она… А старухи по оставшимся деревням – да их и нету почти уже, деревень-то! У старухи пенсия четыре-шесть тысяч! Это ж надо! Это что ж, опять меня идиотом сделать хотят?! Только теперь уже по ящику… И этот, как его, ну, грузин этот… Кричит, слюной брызжет, подпрыгивает! Теперь уже не водкой, а по ящику!.. А лица, лица… кричат…
– Да, Борис Федорович, лица… Я эти лица еще в девяностые… И сейчас могу по лицу определить… Как-то выступал я на съезде народных депутатов России. Коммунисты хотели Гайдара и всю его команду – в отставку, ну, чтобы не дать начаться реформам, которые необходимы. Ну, я и выступил в защиту Гайдара. В защиту реформ. Стою на трибуне, смотрю: лица! Сытые, розовые – и кричат, кричат! Ненавидят. Не дают сказать. А реформы – необходимы! Чтобы дать возможность начать работать экономике! Не дают сказать, ногами стучат! Кричат… А людям есть нечего… Выступил. Вечером после заседания выхожу из Кремля, вижу – масса народу с красными флагами коридор такой образовала, в руках у некоторых объемистые тяжелые мешочки. Иду, как сквозь строй. Достают из этих мешочков монеты и – с размаху – в лицо мне! И все поголовно… все – плюются в лицо мне… Лица, лица… Да, помню эти лица… От ударов монет больно! А они хохочут… Лица… Ведь для них же, для этих лиц стараемся! Чтоб было, что кушать им хотя бы! Плюются, кричат… Как вот и сейчас по телевизору во время, как вы говорите, «уроков ненависти»… Лица… «Капричос» Гойи помните?
– Ну, еще бы! Сон разума рождает чудовищ! Так, кажется?
– Да. Еще хуже, когда совесть атрофировалась… Ну да ладно. Спасибо вам за «Беломор».
Поговорили еще немного на общие темы… Ушел Борис Федорович. Технарь. За окном стихло, вроде и ветер не воет.
Тишина в палате… Кафель…
Вынуть трубочки кислородные. Нельзя так. Привыкнешь, а без них – крышка!
Впрочем, в результате и с ними крышка! Ну, все, все!!! Какая такая крышка? Мне бы жить и жить, сквозь годы мчась… Правда, лучше бы не мчаться, а просто медленно продвигаться. А то в последнее время что-то уж чересчур быстро летят десятилетия. Пачками. Только вчера, казалось, отмечал семидесятилетие. Ну! Ан нет – погляди-ка в зеркало! Видал? То-то, брат!
А-а-а… Вот ведь забыл, предуктал вечером! А сейчас вечер. Тьма за окном. Вот и прими, продли существование… Тьфу, что-то я – ну-ка, солнце! Ярче брызни!
Выпить бы. Алкоголю. Любого. Лучше водки. Правда, когда сейчас, очень, правда, редко, но вкушаю водяру – никакого удовольствия.
Как Мерчуткина у Чехова: «Кофий сегодня пила безо всякого удовольствия».
Сердце начинает бухать, и голова болит, и – самое страшное – болтливость, старческая болтливость… «Помню, сказала мне как-то Книппер-Чехова…» А они, эти молодые, спрашивают: «А кто это, Книппер-Чехова?» Да… «А вот в “Трех сестрах” у Немировича…» А они опять: «А кто это, Немирович?» Да, и нет полета после выпивки… Желание глупое – вразумить молодежь: дескать, вот в мое время!..
А молодежь смотрит на тебя с недоумением – кто это? Кто этот старый зануда?
И все эти мои роли… и популярность… победы… А радости и огорчения – канули куда-то в далекое прошлое, никому не нужное и не интересное… словно в помойку.
И, наверное, взгляд на мир у них свой, иной какой-то, и насущность, и предназначение театра – совсем иное, нежели у нас, в наше время…
И что после артиста остается? Ничего. Пусто. Вот у художников… писателей… Не у всех, правда… Леонардо… Брейгель… Рублев… Левитан, Вермеер… Барма и Постник, Толстой… Да что там, это великие, гении. А просто – «Васька, Васенька, это что там за картинка, вон там, за шкафом, в пыли валяется? Подпись – Тютькин какой-то… А чего? Красиво, правда? кРасивая кошечка. Повесим, а, Коля?» Вот и Тютькин остался, а актер – даже не пар из чайника…
Но…
Венский музей истории искусств. Это мы на гастролях в Вене. На сцене Театра ан дер Вин.
Наш кагэбэшник меня предупредил перед спектаклем: получены разведданные, что будут бросать из публики банки со слезоточивым газом. Увидите банку – сразу ногой ее ко мне пасуйте, а я в первом ряду крайний слева…
Какие там банки!
Взрывы аплодисментов… хохот!.. А в финале – грохот каблуков по полу – наивысшее одобрение и восторг! Ни о каких банках и речи нет.
Хотя на этой сцене в свое время с треском и позором провалилась премьера «Кармен» Бизе, автор был освистан. Вот так вот.
Да, дальше. Итак, Венский музей истории искусств, гигантское что-то. Монеты. Шпаги. Вазы… Мягкие мебеля с бронзовыми выкрутами…
А где же он?! Где цель моего прихода – таинственный и непознанный мною Брейгель?!
Зал за залом… зал за залом… Что-то не видно…
И вдруг – ВОТ!
Словно бревном по башке! Питер! Брейгель! Старший!
Вот она – «Крестьянская свадьба»…
Вот они – нет, совсем не пьяные – крестьяне, едят – что? Кашу какую-то, вылизывают тарелки. Невеста в гордом одиночестве, какой-то феодал, в черном, со шпагой, о чем-то чинно беседует со священником.
Вот они, крепкие старые корабельные доски, на которых все это написано, доски от кораблей, пролежавших десятки лет на дне морском, толстые, тяжелые, просоленные, – вот они держат на себе крестьян, кашу, пиво, гул голосов, взвизгивание волынок…
Сижу на красном бархате музейной скамейки… Справа от меня – «Охотники на снегу», сзади – не помню… Ну, ладно, «Охотники» потом…
Одет я соответственно: самое лучшее, как и должен быть одет советский человек, не роняющий на гнилом Западе достоинства Страны Советов, – тонкие кримпленовые темно-зеленые штаны с раструбами, красная футболка с короткими рукавчиками – махровая, в рубчик! Ботиночки ярко-желтые! Одним словом, попугай. Что поделаешь – ничего другого поприличнее пятая секция Гостиного Двора, где наша знакомая Нина Ивановна достала мне все это по блату, не было! Зато все новенькое! А в старом – в Вену?
Питер Брейгель – старший с ужасом глядел на меня из своего шестнадцатого века – он-то добился такой гаммы цвета, такого слияния в прекрасное единство всех цветов спектра в своей «Свадьбе», а тут какой-то петух видом своим портит все дело!
Народу в гигантском зале – никого. Запах натертого паркета. Пусто, тишина.
Но вот скрипнул громко наборный паркет в дальнем конце громадного зала.
Входят трое: высокий загорелый блондин – голубая джинсовая рубашка, рукава закатаны, сильные загорелые руки, джинсы, кроссовки, на загорелом лице с ковбойскими складками – ярко-голубые глаза. Рядом, видимо, жена – стройная брюнетка – и дочь лет двенадцати в маечке, в джинсовых шортиках, небрежно обрезанных – нитки во все стороны, в шлепанцах каких-то…
– Оу!
Мужчина увидел Брейгеля и потянул своих к нему, взмахивая руками, громко заговорил, указывая то на одного, то на другого персонажа, по-английски говорит, а я английский «со словарем», а вернее, ни бум-бум! Понимаю только отдельные слова. Например, «вейдинг» – это свадьба, «оутмил» – это овсянка, каша… Что-то говорит о феодале, в черном, со шпагой, с собакой рядом, а потом показывает рукой на толпу у дверей – «пор пипл», небогатые, дескать, теснятся у дверей… Подводит дочку к левому углу картины, к девочке, жадно обсасывающей свой палец в каше, – видимо, нечто нравоучительное, не знаю, но что-то вроде… Потом, полусогнув ноги и вытянув вниз руки, изображает, наверное, человека, несущего носилки с кашей…
Вижу, очень, очень нравится ему, давно он влюблен в эту картину, и вот – долгожданная встреча с подлинником… И хочет своих порадовать…
Замолчал, остановился. Подошел к моей бархатной скамье:
– Кен ай?.. – И рукой на скамью показывает.
Ну, это я понимаю: присесть хочет. И я:
– Йес, йес, конечно! Оф кос!
Сидим, молчим. Вдруг он, неожиданно обернувшись ко мне и указывая загорелой рукой на картину, говорит:
– Грейт, е?
То есть «здорово, да?».
– Да! – говорю я. – Грейт!
Я-то давно знаю и люблю эту картину, не только эту, а всего Брейгеля. Еще Симолин в студии МХАТ нам показывал и объяснял по репродукции, да и потом попадалась она мне в разных альбомах, и вот сегодня здесь, в Вене, наконец – свидание, вживую!
Долго сидим. Смотрим.
Неожиданно он:
– Ю а свидиш?
Опять я понял: не швед ли я? Видимо, мой попугайский вид натолкнул его на мысль о моей шведской принадлежности.
– Ноу, – говорю, – ай эм русиш, рашен то есть.
– А-а-а! Рашен, рашен, карашоу! Энд ай эм зе пэйнтинг оф Юнайтед Стейтс оф Америка. Тэксас.
Ну, это-то все понятно: художник из Техаса, из США… И я ему на это:
– Энд ай эм русиш, рашен то есть, актер, шаушпилер по-немецки… Эктор!
А он:
– А!!!
Протягивает мне руку – ладонь сухая, сильная. И опять на картину:
– Грейт, е?! – Хорошо, дескать, им там, на свадьбе! И опять по-английски: – Зей а итинг оутмел! Энд дринк. – Выпивают, дескать, кашу едят.
Вдруг показывает на феодала в черном бархате:
– Зис из Брейгель! Пит! Грейт мастер!
Сидим. Молчим. Любуемся.
Тишина.
Вдруг он, ни слова не говоря, энергично вывинчивает из джинсов здоровенную флягу, обтянутую коричневой кожей, снимает крышечку-стаканчик граммов этак, наверное, пятьдесят, и наполняет его из фляжки.
И – мне:
– Лете хэв э дринк виз ол оф… фор зе вейдинг! Е?!
То есть я догадываюсь: давайте-ка выпьем вместе с ними на этой свадьбе! А?
Это я уже и без переводчика бы понял.
Я говорю:
– Давайте! Оф кос!
Он протягивает мне стаканчик, правой рукой с флягой показывает на феодала в черном бархате:
– Итс Питер! Шенк ю, Питер!
И машет своим: идите, дескать, догоню! Чокаемся. Он:
– Чирз! – И бульк! из фляги.
А я – из стаканчика – бульк!
И постепенно жарко стало, тепло, шумно. И зашумела свадьба, загудели волынки, загалдели люди, девчонка чмокает, облизывая палец… кто-то показывает пустой кувшин: «Налей! – кричит. – Не видишь, все выпили! Наливай мне! Еще!» И он опять наливает:
– Чирз! – Бульк! бульк!
А вот несут кашу! Кашу несут: кому еще?! Народ в дверях рвется, чего-то там кричат: «А мы что, хуже, чего нас не пускаете?»
Шум, гам, волынки гудят, духотища…
Сидим мы все вместе на этой свадьбе, жизнь!
– Фенк ю, Питер.
– Спасибо, Питер!
– Гудбай, эктор!
– Гудбай, пэйнтер! Грейт!
…Как-то, будучи депутатом, я спросил Егора Гайдара, какие шаги должны быть предприняты государством для сохранения и развития культуры?
Гайдар ответил:
– Не знаю…
И развел руками. Это был честный ответ, и незнание это, думаю, было продиктовано трагически напряженным периодом российской истории, необходимостью начать реформировать экономический и политический строй жизни, ибо бездействие или попытка помочь выжить старой советской системе – неминуемый крах всего государства, его гибель. Ситуация усугублялась яростным сопротивлением большинства съездовских депутатов-коммунистов, ибо реформы в случае успешного их завершения неизбежно приведут к потере их никем не контролируемой власти… Грубо говоря, отлучение от кормушки.
Какая там культура… Как сказал один врач детский моей бабушке на ее вопрос, не полезны ли будут ее больному внуку витамины:
– Не до витамину, быть бы живу…
Так и здесь. Не до культуры.
Но, к моему удивлению, через несколько дней Гайдар подошел ко мне:
– А что, если выступить с законодательной инициативой: обсуждение бюджета России можно начинать только лишь после принятия бюджета по культуре? Принятие такого закона и обсуждение его приведет к возможным дискуссиям, в результате которых может родиться истина…
Я ухватился за это предложение, но… По ряду причин – в первую очередь после многочисленных консультаций с депутатами других комиссий – понял, что возможность принятия этого закона нулевая. «Не до витамину…» Несмотря на попытки, дело даже не дошло до внесения этой инициативы в список…
Вот если бы написать декларацию о культуре – о значении культуры не только в жизни страны, но и всего человечества, было бы дельно. Но… нужна опытная, талантливая рука литератора, человека, глубоко чувствующего проблему!
В итоге вышел на глубокочтимого мною литературоведа, автора замечательных, глубоких исследований творчества Достоевского, к тому же человека ярких демократических убеждений – я видел его выступления на съезде народных депутатов СССР, читал его статьи, – на Юрия Федоровича Карякина.
Встретились в ресторане Дома литераторов. Усталый, погруженный в себя… Долго говорим. В основном – я. Пытаюсь «достучаться». Оказалось, «достукиваться» и не требуется – Карякиным владеют те же чувства и мысли, что и мною. Правда, показалось мне, размышления его окрашены были налетом пессимизма, что удивило меня – оптимиста, уверенного в солнечном будущем.
Расстались союзниками. Но… не была написана декларация… Болезнь, усталость, масса других обязательств помешали Карякину.
Однако необходимость чего-то подобного, видимо, витала в воздухе. Вскоре появилась декларация о культуре, написанная замечательным ученым, светлым человеком, к мнению которого я всегда внимательно прислушивался, академиком Лихачевым.
Он, несомненно, понимая настоятельную, жгучую необходимость появления именно в этот переломный момент российской и мировой истории подобного документа, написал свою декларацию – блистательное доказательство необходимости, неотвратимости сохранения и развития русской и общемировой культуры, и главное – обозначил пути реализации этого сохранения и развития.
Заседание, посвященное вопросам культуры. Прошу слова.
И вот стою я на трибуне в гигантском, сияющем белоснежным мрамором Тронном зале Зимнего дворца на трехсотлетии Санкт-Петербурга. Позади меня – алый с золотом трон Российской империи, в руках у меня – тоненькая книжечка Лихачева, декларация. По периметру зала – гигантское количество народа: министры, губернаторы, начальствующие лица… Во главе – президент Российской Федерации.
Опираясь на лихачевскую заключительную фразу: «Существование государств и даже народов вне культуры бессмысленно», пытаюсь хотя бы приоткрыть простую истину – государство гибнет, хороня своим небрежением культуру во всех ее формах, самых разнообразных, порой противоречащих друг другу даже, ведь именно она, культура, является этим цементирующим составом, превращающим миллионы индивидуальностей, совершенно разных, в народ – в массу людей, объединенных одним нравственным чувством, народ, трудами которого и создается государство. Культура есть главное, что дает жить и развиваться тому, что мы называем государством… И если бы все присутствующие на этом высоком собрании прочли бы эту лихачевскую декларацию, то многие вопросы отпали бы сами собой.
Закончил. Бурные аплодисменты.
Ну, думаю, кончится это заседание, пойдут они ко мне – губернаторы, начальники, министры: дайте-ка, дескать, почитать эту вашу декларацию, интересно!
Кончилось. Жду.
Никто не подошел.
Да это и понятно – дела, заботы… Государственные. «Не до витамину».
Кремлевский холм… Колокольня Ивана Великого… Слепящие взор золотые купола на синем небе…
Там, внизу, – Москва… Далеко видно… Люди, словно букашки, суетятся внизу… Еле слышен снизу шум автомобилей. Вон они – ползут друг за другом… как муравьи…
А здесь, в Кремле, – шик… мрамор, позолота… Георгиевский зал…
Нога утопает в мягком ворсе ковров. Походка становится грациозной. Спина выпрямляется. Взор приобретает осмысленность и твердость.
Еще бы! Легкое нажатие кнопки на пульте голосования – и судьбы людей, этих букашек там, внизу, сотен, миллионов букашек, могут измениться в любую – и в хорошую, и в плохую – сторону. Все зависит от тебя! Одного!
А ты – светел, прям, элегантен!
В твой лексикон вползают слова, не совсем тебе понятные, но выдающие твою приобщенность к высшим сферам: «консенсус»… «финансовая стабилизация»… «реструктуризация»… «детерминизм»… «инвестиции»…
А уж до чего ласкает слух слово «коллеги»…
– Обращаю ваше внимание, коллеги, на следующий факт…
Ведь там, внизу, эти букашки-таракашки как обращаются друг к другу? «Эй, мужчина!» или «товарищ». В основном – «товарищ».
А тут, на кремлевских холмах, среди золота куполов, утопая в коврах, мы – «коллеги»! И в наших руках ваши судьбы, букашечки вы наши милые!
И сходим мы постепенно с ума, и кажется нам уже, что мы – высшие существа, что законы, принятые нами, – для вас, букашечки, это вы должны соблюдать их, а мы, «коллеги», подчиняемся лишь консенсусу, детерминизму и высшему разуму.
И ласкает наше тело белье от «Фраскатти», костюмы от «Беллини», рубашки от «Веспуччи» и туфли от «Модерато».
И сияют наши лица, круглятся фигуры. И ослепляют вас вспышки мигалок на наших «мерседесах», и летим мы по Москве с дикой скоростью с треском и ревом, и мелькают мимо нас сотни тысяч автомобилей с букашечками и таракашечками, часами выстаивающими в безнадежных пробках в ожидании нашего стремительного пролета по безотлагательным, важнейшим, «невашегоума» делам.
Так сходят с ума.
И кажется нам, что мы незаменимы.
И кажется нам, что сказанное нами – истина. Единственная.
Что сделанное нами – благо.
«Пусть отдельные ошибки, пусть! Но зато – как трепещут эти флаги, эти стяги! Поют сердца!..»
Тихо стало за окном… Темно…
И больница затихла. Дежурный врач прикорнул где-нибудь в «комнате медперсонала»… одетый, ботинки рядом валяются…
Выключаю свет. Перекрестья оконные снова стали черными.
Не спится.
…Вот она – наша московская коммунальная кухня. Озарена солнцем. К вечеру, значит, время идет…
У окна, за широким подоконником, – два силуэта: бабушка и Ася… Смеются и говорят что-то громко…
Дощатый, из толстых и широких некрашенных досок, кухонный пол в темных кружочках бывших сучков, отполированных временем, блестит на солнце…
При входе на кухню один сучок, чуть выдающийся над общим уровнем, особенно любим мною – сворачивая с коридорного паркета на кухню, мой трехколесный велосипед, натыкаясь на него, чуть подпрыгивает и издает мягкий стук, совсем как на стыках рельсов в метро… У станции «Комсомольская»…
Дровяная плита…
Мне шесть лет. Я сижу на велосипеде и, задрав голову, смотрю на Жору, который стоит рядом, – шинель, перетянутая туго кожаным ремнем, звездочка на пилотке… Курсант!
Жора что-то громко говорит, смеется, блестя цыганской улыбкой… бабушка и Ася смеются вместе с ним…
Вдруг он как-то очень ловко круто разворачивается на своем командирском каблуке, распахивается задний разрез шинели, обнажая целый ряд маленьких сияющих золотых пуговичек со звездочками… Вот, дескать, каков я теперь!.. Треплет меня по голове…
Рука сухая и теплая…
Пока! Бухает дверь.
Темно. Чуть поблескивает кафель. Медленно плывет по потолку пятно света от далеких автомобильных фар. И видно – за окном торжественно и тихо идет снег.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



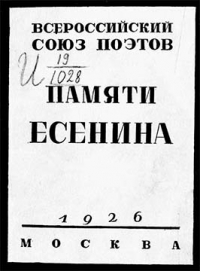


Комментарии к книге «Палата № 26. Больничная история», Олег Валерианович Басилашвили
Всего 0 комментариев